Антология советского детектива-7. Компиляция. Книги 1-11 [Юрий Николаевич Авдеенко] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Сергей Абрамов «Граждане, воздушная тревога!»

1. Москва. Октябрь 1941 года
До сих пор меня все зовут Вадиком, почему-то забывая об отчестве и даже фамилии, хотя я уже перешагнул свое двадцатипятилетие, и юридический факультет уже давно позади. Выдали на руки свободный диплом, но кому нужен юрист в прифронтовой Москве, когда полгорода уже эвакуировано. В армию не взяли, потому что левая нога у меня от рождения короче правой. Вот я и работаю в одной из неэвакуированных московских газетных редакций, где меня даже военкором ни на один фронт не посылают: где тебе, с детства увечному, по окопам мотаться, а хороший правщик и в редакции требуется. А какой я, извините, увечный, когда на одном сапоге только подошва чуть потолще нужна, и никакой хромоты не заметно. Но с врачами что ж поделаешь, разделся, и готов: вчистую, милок, вчистую! Ну и правь чужие корреспонденции, если своих писать не дают. Ни старшины, ни просто красноармейца Глотова нет и не будет, а есть глубоко штатский заведующий отделом информации Глотов Вадим Андреевич, короче говоря, Вадик, или, из уважения, Вадим. Живу я в редакции на казарменном положении, сплю на раскладушке возле письменного стола рядышком с телефоном — на случай экстренного вызова к редактору. Но такие вызовы редки, и я могу ночевать и дома, благо ночной пропуск всегда при мне вместе с ненавистным билетом об освобождении от воинской повинности. Ходу от Чистых прудов до Кузнецкого моста всего полчаса, а поужинать вместе с матерью и старшей сестрой в домашней обстановке куда приятнее, чем грызть на ночь черствую булку в пустом редакционном кабинете, прислушиваясь к радиоприемнику: вдруг объявят тревогу. Сейчас радиоточка пока молчала. Зато неожиданно звякнул телефон. Звонили не по внутреннему, а по городскому аппарату. Из дома, подумал я, и не ошибся… — Вадик, — услышал я голос матери, — завтра с утра Леночкин театр эвакуируют. Она сейчас в бухгалтерии оформляет все нужные бумаги и деньги. Может, ты подойдешь и поможешь мне уложиться? Багажа так много, что одной не управиться… — Бери только самое нужное. Не на дачу переезжаешь. Куда, кстати? — В Куйбышев. Сказали, что все уже там для нас приготовлено. — Значит, порядок. А глаза вытри. Не время плакать. — Неужели Москву отдадим? — За Москву будем драться. Выдержим. — Голос у меня преувеличенно бодрый. Ни единого сбоя. — За комнатами я послежу. Все будет цело… Сейчас же иду домой. Не волнуйся, если опоздаю… С минуты на минуту следует ждать тревоги. Спускайся тогда в бомбоубежище. Комнат не запирай: без вас никто не зайдет… Наша многокомнатная коммунальная квартира обезлюдела: часть жильцов уже эвакуировалась, комнаты их опечатали. Зато все оставшиеся как-то сдружились в эти трудные дни, вон даже двери перестали запирать, замки бездействуют… А завтра наш сплотившийся коллектив потеряет еще двух человек, и комната матери и старшей сестры перейдет ко мне на охрану. Предупредив секретаря редакции о том, что сегодня ночую дома, я вышел на улицу. Этот час светомаскировки в Москве для меня самый тяжкий. Я не силен в так называемой ориентации в темноте и даже дома по ночам хожу ощупью, чтобы не задеть случайно передвинутый стул или кресло. Куриная слепота, как говорили в детстве. А на улицах я не различаю ни затемненных домов, ни теней прохожих на тротуарах, бреду почти впритирку к фасадам, спотыкаясь на перекрестках, когда тротуары кончаются. Улицу же переходить просто страшно: не вижу затемненных машин, а движение их определяю только по слуху. Конечно, по знакомым, давно исхоженным улицам идти сподручнее, но и тут я гляжу не вперед, а на небо. Не могу без волнения, без сердечной боли глаз от него оторвать. А небо в октябре сорок первого само светится, хотя и не освещает улиц, скованных затемнением — без единого просвета, без единой щелки в шторах. Только небо пылает, сверкающие клинки прожекторов режут его плотную массу, рассекают, скрещиваются, тают и снова вспыхивают. Вот встретились два луча, и в их пересечении, в пятнышке света как бы застыла черная птица. Она движется, схваченная световыми клещами, вдруг вздрагивает, кренится набок и, объятая пламенем, летит вниз, исчезая в темноте московской октябрьской ночи. Сбили! Значит, я не слышал тревоги, объявленной по радио, когда после разговора с матерью пошел к лифту… Теперь наверняка остановят и загонят в какое-нибудь убежище. Тротуары были пусты, чужих шагов я не слышал. Но тут же в переулке в полуразрушенном бомбой доме вдруг очень ярко засветилось окно. Почему? Ведь в доме теперь никто не живет, а если я ошибаюсь, окна должны быть зашторены. Я огляделся и увидел направляющийся ко мне комендантский патруль. — Товарищи! — закричал я. — В этом разбитом доме осветилось окно. Только что. Буквально на глазах у меня осветилось. Патрульные уже заметили где. Двое бросились в подъезд, а третий остался со мной. — Проверь у него документы, — крикнул на бегу один, — и жди нас. А если кто-нибудь из дома выскочит, берите его. В темноте я был беспомощен и к тому же невооружен. Но на всякий случай остался. Предъявленные мною ночной пропуск и редакционная карточка вполне удовлетворили патрульного. — А почему не в убежище? — строго спросил он. — У нас в редакции никто не ходит в убежище. У нас работают, — огрызнулся я. А из подъезда, минуя нас, действительно кто-то выскочил и побежал вперед, сливаясь с окружающим мраком. Не чудо ли, взрывная сила прозрения или обостренность всей нервной системы позволили мне увидеть этого человека. Коренастый, но для своей комплекции, пожалуй, слишком уж юркий, он бежал зигзагами по мостовой, очевидно понимая, что вслед ему будут стрелять. Не сговариваясь, мы оба бросились вдогонку, и я догнал его первым, обошел и бросился под ноги. — Стой! — крикнул, выхватывая наган, патрульный. — Стрелять буду! Стой, тебе говорят. Но бежать нарушитель не мог: я держал его за ноги, а тем временем подоспели те двое. — Документов пока разглядывать не будем — возьмем так. В разрушенной квартире сигнальную лампу поставил на подоконнике. Без абажура, в пятьсот свечей. Могли бы и на месте кокнуть, но пусть лучше в штабе разбираются. А вам, товарищ, военное спасибо: какого хищника помогли задержать. Сигнальщика сначала обыскали, потом увели. Ну а я побрел дальше, глубоко потрясенный тем, что и у нас в столице могут жить и работать глубоко затаившиеся и хорошо замаскированные пособники врага. На Кировской улице у меня снова проверили документы и все-таки загнали в ближайшее убежище: тревога еще не кончилась. Зычно и часто гремели наши зенитные батареи, где-то поблизости установленные, и небо по-прежнему рассекали прожекторные лучи. Вражеских самолетов я не разглядел, но их, наверное, было немало: ведь именно по ним и били зенитки. Спускаюсь в подвал. Дверь тяжелая, хорошо пригнанная, да и сам подвал большой, с бетонными перекрытиями. Здесь полутемно и душно: людей много — сидят, стоят у стен, стиснутые, как в пригородном автобусе. Место выбираю себе на ступеньке, поближе к выходу, чтобы скорее добраться до дому в уличной черноте. На ступеньках за порогом тоже тесно и странно тихо: люди почему-то говорят шепотом. Только прижавшие меня к стенке трое мужчин громко выражают свое недовольство. — Чего стоишь у выхода? Места внизу не нашел? — А кому я мешаю? — раздражаюсь я. — Места здесь не нумерованные. Над нами фонарь — рядом с черной тарелкой громкоговорителя, и я отлично вижу всю троицу. Один в ватнике и лыжных штанах, другой в синей драповой куртке, а третий в распахнутом грязном плаще. Из-под пиджака у него видно горлышко винной бутылки. — Можешь и синяк схлопотать, фрайер. — Чур без «музыки», — останавливает его дальний, в лыжных штанах. — Сыми-ка ты его часики, — вмешивается в не очень любезный наш разговор человек в драповой куртке. — Не играй с парнишкой, — откликается его собеседник в лыжных штанах, — не для того мы здесь. Я уже давно понял, с кем имею дело и о какой «музыке» идет речь. «Блатная музыка» — воровской разговор шпаны. Конечно, в этом подвале моим часам действительно ничего не угрожает. Тут тебе не одесский «толчок». Да и сами они сразу же от меня отодвинулись, перешли на шепот. Знают бывалые хитрованцы, что в бомбоубежище опускаешься с самым тебе драгоценным. И действительно, в подвале чемоданов полным-полно. Так на что же эти бандиты рассчитывают? Решение принимает старший из них, стриженный под машинку человек в лыжных штанах и ватнике. — А зачем нам ночной пропуск? Кто-кто, а мы-то знаем, что есть и целиком эвакуированные квартиры, — слышу я. — Отбой! — возвещает голос диктора в черной тарелке. Дверь открывается, и старик в кожаной куртке кричит с порога: — Выходить строго по очереди, не толпиться и не спешить, а главное, крепко-накрепко держать свои вещи. Мои блатные знакомцы исчезают первыми. А я на всякий случай позвоню в угрозыск: может, там и заинтересуются. От управдома — им оказался тот самый старик в кожаной куртке — звоню на Петровку, 38. К телефону подходит начальник отдела — так он мне представился — Стрельцов. Рекомендуюсь и рассказываю о заинтересовавшем меня инциденте. — Сразу видно журналиста, — говорит он. — Почему? — Уж очень точны у вас словесные портреты. Ворье, конечно. Если попадутся, возьмем. Я начинаю злиться. — А если не попадутся? — Попадутся. Для чего им в Москве сидеть, когда город эвакуируется? И есть действительно такие квартиры, из которых все жильцы выехали. Кстати, вы ко мне от управдома звоните? — От управдома. — Тогда скажите ему от моего имени, чтобы он завтра же вместе с участковым обошел все брошенные квартиры и опечатал их. Передав управдому приказ уголовного розыска, ухожу наконец домой. Дверь открывать своим ключом не приходится, мать уже вернулась из убежища.2. Новые жильцы
Мать в заплаканными глазами проводила меня к себе в комнату. Леночка лежала на кровати неузнаваемо похудевшая: волнения, волнения. Как-никак, а эвакуация — это далеко не праздник. На круглом большом столе было навалено все, что мать собиралась увезти с собой. На три чемодана примерно. Я, как главный упаковщик, сразу же начинаю отбор. — Ты не спорь, мама, Вадик знает, что нам понадобится, — говорит, не вставая, Леночка. — Театральные мои вещи у нас — в общем багаже вместе с декорациями. Ну а личное все, что нам может понадобиться, Вадим отберет. У меня жесткий курс упаковки. Постельное белье? Хватит двух комплектов. На одном спите, другое стирается. Все шерстяные вещи прежде всего: зима в Куйбышеве тяжелая. На лето тоже немногое нужно. А это что? Сервиз? Хватит двух фаянсовых кружек и одной эмалированной для заварки. Двух глубоких тарелок достаточно, а может, и они не понадобятся, в столовке кормиться будут. Кухонную посуду сократить вдвое по той же причине. Через час большой, а по-моему, даже слишком большой чемодан готов. Мать плачет, Лена молчит, а я ухожу от греха подальше. Курят у нас в передней — огромной и захламленной чьими-то сундуками и корзинами. Сейчас тут двое: портной Клячкин и оркестровый музыкант Мельников. Клячкин прозевал эвакуацию: мастерская его попросту разбежалась кто куда, а он решил твердо: из Москвы ни шагу! Стар, мол, для фронта, а рабочие руки и здесь пригодятся. — На интендантский паек хоть сейчас иди. Портных, оказывается, и тут маловато. Фронт близехонек, а шинельки да ватники очень требуются, — ухватил я его реплику, — да и моя Анна Власьевна по специальности — брючница. А штаны кроить — что штатские, что солдатские, не все ли равно? — Ну а мне не все равно, — откликнулся его собеседник. — Сейчас я в оркестре Большого театра, составили все-таки из оставшихся. Работаем по соседству — в Экспериментальном. И оркестр играет, и публики — полон зал. А что будет, когда наши к Мазилову отойдут? — Не отойдем мы к Мазилову, Михал Михалыч, — вмешиваюсь я. — У нас в редакции два военспеца сидят. Они бы вам объяснили, что фронт под Можайском, а не в полуверсте от Москвы. Тысячи самолетов к Москве рвутся, а пропускаем мы их только поштучно. Да еще сбиваем где-нибудь на окраинах города. — Был случай в истории, когда Москву сдали, Вадик, — мнется музыкант. — Страшно мне. По-соседски говорю: страшно. — А вот до такой степени пугаться не следует: сквозь закрытую дверь слышно. — Это выходит из своей комнаты, присоединяясь к курильщикам, седой, коротко стриженный человек в морской тельняшке. Это командир ремонтирующегося в Мурманске бронекатера, приехавший по командировке в Наркомат обороны. Семья у него где-то в эвакуации. — Не пугайтесь, дружище, — повторяет он, — я и без Вадиковых военспецов вам скажу, что к Москве они не прорвутся. История редко повторяется, да и стратегическая ситуация сейчас совсем другая, чем в годы Кутузова. Что было целесообразно тогда, не годится теперь, и наше военное командование хорошо знает об этом. Раздался звонок. Протяжный и длинный, как звонят обычно почта или милиция. Я впустил участкового и двух его спутников: мужчину лет сорока, а может, и больше, к тому же давно не бритого, и женщину чуть помоложе. Оба — с чемоданами. В том, что это муж и жена, никто из нас не усомнился. Да и одеты они были почти одинаково: он — в черной кожанке, она — в матовом черном плаще, волосы от дождя мокрые. Но смотрели мы все не на них, а на участкового. Зачем он? — Где тут у вас комната Пахомовых? — спросил он. Я указал на левую дверь по коридору с краю: — Так она же опечатана. — Я ставил печати, я и сыму, — сказал участковый. — Вот, новых жильцов к вам привел. Их дом сейчас разбомбили. Он уже снимал сургуч с двери. — А законно ли это? — усомнился я. — Вернутся же когда-нибудь и Пахомовы. Не на фронт поехали, а на Дальний Восток. И все вещи их здесь. — Не вернутся Пахомовы, — нахмурился участковый. Он смотрел не на нас, а себе под ноги. — Сожгли их эшелон под Москвой — две бомбы, одна за другой. И вещички их никто не востребует. Мы молчали, пока новые жильцы размещались в комнате: где-то ведь надо жить. Когда участковый ушел, новый жилец вышел в переднюю. — Обычно так бывает: все соседи по квартире или друзья, или неприятели. И нам бы хотелось, чтобы вы приняли нас как друзей, — сказал он. — Прошу любить и жаловать, как говорят в таких случаях. Фамилия моя Сысоев, а зовут Павлом Филипповичем. Специальность — главный бухгалтер, работаю в промысловой кооперации. Иринка моя там же, только в другом отделе. На кухню не претендуем: обедаем в столовке, а завтрак и ужин можно и на электроплитке согреть. Возвращаемся запоздно, никого не побеспокоим. Иногда и дома сидим, если работы, как говорится, по горло. Людей-то меньше половины осталось, за троих приходится лямку тянуть. Вот такие-то пироги, друзья. — Запоздно возвращаться — ночной пропуск надо иметь, — сказал Клячкин. — И пропуска есть, и в темноте ходить научились. — А с военной службой как? — спросил капитан. — Забронирован по месту работы. — Ну так до конца войны и проживете здесь. Соседи у вас все нестроевики. Один на флейте в оркестре играет, другой военные шинели шить собирается. А третий и хотел было в рай, да грехи не пускают. Только меня, может быть, вы в последний раз видите. — Я так и понял, что вы человек военный. — Березин, — назвал себя капитан. — В командировке здесь. — Страшновато все-таки в Москве оставаться, — сказал Сысоев. — Столько пережито — не расскажешь. А бои все идут, и с боями все дальше отходим. Капитан пожевал губами, будто какие-то нужные слова подыскивал. Щеки его еще глубже запали. Я все ждал, ждал этих слов и дождался: — Верно, отходим. Так ведь и пружина, если давить на нее, сжимается. Я в наркомате со многими специалистами говорил. И ни один не сомневается: именно здесь, под Москвой, мы разобьем гитлеровские армии «Центра». Они к нам разведчиков забрасывают. Пусть! Не так уж страшно. О чем сообщат им эти разведчики? О том, что Москва на осадном положении живет и работает. А когда осадное положение объявляется? Когда город штурмом брать надо. А вот силенок на такой штурм у пресловутого «Центра» нет. Тут за каждый километр битыми дивизиями расплачиваться приходится. И распрямится наша сжавшаяся пружина, да так распрямится, что придется им далеко от Московской области зимовать. И летать тогда над вашими домами их самолеты не будут. И о воздушной тревоге забудете. Усомниться в такой истовой вере в разгром Гитлера под Москвой никто не отважился. Наш собеседник ушел устраиваться на новом месте, а я оглянулся на дверь наших двух смежных комнат. Светящаяся полоска под дверью исчезла: мать и сестра уже легли спать. Встал я с ними в четыре утра, чтобы проводить обеих до поезда. Но не пришлось: в поданном театром автобусе не нашлось места для провожающих. Проститься едва удалось здесь же у подъезда, махнуть рукой и проследить взглядом за автобусом, сворачивающим на углу у Петровки. И тут мне пришла в голову одна мысль: а не попытаться ли мне еще раз попроситься на фронт. Ведь говоря о свежих дивизиях, капитан подразумевал и дивизии добровольцев. А я знал, что штаб одной из таких дивизий находился на аэродроме. От Кузнецкого моста это было совсем не близко, но досыпать утренние часы уже не хотелось. И я, надев ватник и кепку, зашагал через весь город пешком: подходящего транспорта не было. В октябре сорок первого года Москву было трудно узнать. Не холодная осень, сменившая сентябрьское бабье лето, не ледяной шквальный ветер, метавшийся по безлюдным утренним улицам, так неузнаваемо преобразили привычный их облик. Другое — белые бумажные кресты, наклеенные на оконные стекла: люди говорили, что это предохраняет стекло от взрывной волны. Грузовики, покрытые брезентом, выкрашенным желто-зелеными пятнами. Мешки с песком, уложенные штабелями у магазинных витрин, — и это годилось для укрытия окон от возможного артиллерийского обстрела. «Слоны» на бульварных перекрестках — так прозвали в Москве большие брезентовые аэростаты, которые ночами поднимались на защиту города от вражеских самолетов. Все это я видел по утрам, когда уходил на работу в редакцию. Но сейчас осознавал эти изменения, будто видел их в первый раз. В воздухе невыносимо пахло гарью: это эвакуируемые жгли ненужные им архивы и письма. Ветер уносил разбросанные по мостовой и тротуарам обрывки жженой бумаги. У книжных магазинов шла разменная торговля букинистическими книгами. Книги безжалостно обменивались на продукты и курево. — «Пещеру Лехтвейса» переплетенную отдам за три пачки махорки. — А «Рокамболь» есть? — Могу достать, только за муку или грузинский чай. — Двухтомник сказок Андерсена — за полкило сахару. — Есть полный Дюма в издании Сойкина. Откровенно говоря, я пожалел, что у меня нет при себе табаку или махорки. Прошел, даже не взглянув на книги. А улицы тянулись одна за другой — уже окраинные, не асфальтированные. Прохожих мало, да и никто никуда не спешил. Изредка встречались ополченцы, шедшие повзводно строем, но еще не получившие даже винтовок. Штаб их я в конце концов нашел. А моя редакционная карточка, предъявленная при входе, сразу привела меня к командованию. В комнате было четверо: двое военных и двое штатских — в таких же ватниках, как и я. Не зная никого по должности или по званию, я крикнул с порога: — Не могу больше так жить. Прошу зачислить меня рядовым в состав рабочей дивизии! — Ваши документы, — тихо сказал один из военных. Я опять предъявил ту же редакционную карточку. Военный прочел, оглядел меня молча, должно быть определяя мой возраст по внешности. — Вы, вероятно, забронированы по месту работы? — Никто не помешает мне отказаться от брони. Место у меня в газете было действительно забронировано. Только при моей негодности к военной службе броня, понятно, была мне не нужна. Военный улыбнулся и наклонился к старику в ватнике: он, как потом выяснилось, был председателем медицинской комиссии. — Если ограниченная годность невелика, — сказал старик, — мы его, пожалуй, возьмем. А ну-ка подымите левую ногу, молодой человек. На заказ туфли шьете? — засмеялся он и добавил, обращаясь к военному: — Какая же это ограниченная годность, это полная непригодность к военной службе. Что же вы думаете, и в армии вам сапоги по заказу будут шить или в этих туфельках по окопам прыгать станете? Похвалим, товарищи, его за отвагу и сообщим в газету о том, что он нас хотел обмануть. — Ладно, пусть на службу идет, — сказал военный. — А работать для армии можно везде. И в тылу, и на фронте. Попросите редактора, чтобы военкором послал. Вот так.3. Листовки
Я писал по заказу редакции большую публицистическую статью о гитлеровской клике и, естественно, предпочел писать ее дома. Дверь в мою комнату была приоткрыта, и я услышал, как по коридору танцующей походкой пробежала Лейда, напевая на знакомый мотив что-то совсем незнакомое. Лейда, вероятно, была гадким утенком в детстве, некоей худенькой феечкой, длинноногой и не знавшей туфель на высоких каблуках, а сейчас в свои семнадцать лет оборачивалась этакой царь-лебедью. Стройная, с красивым профилем, ростом почти с меня… Когда я шел вместе с ней в булочную или в молочную, неоднократно и не без зависти видел интерес в глазах встречных мужчин, сумевших сразу же оценить ее по достоинству. Каюсь, и я сам часто на нее заглядывался, хотя, как мне казалось, она обращала на меня внимания не больше, чем на портного Клячкина. Подумаешь, сосед, ну и что из того следует? Тут, к счастью, я ошибся: просто с соседями в театр не ходят. А вот первый же пропуск на два лица, полученный ею от оркестранта Мельникова, она предложила мне, как наиболее подходящему компаньону… Появилась Лейда в нашей квартире недавно, родом из Риги, там же окончила десятилетку. Сбежала, когда немцы уже подходили к городу. Родители ее отказались от эвакуации. Укатила с последним поездом в Москву к бабушке, которую звали Евой Михайловной. Комната у нее была отличная, имелись и сбережения, да еще и приработок: помогала хозяйствовать ныне погибшим Пахомовым. А сейчас и я хотел попросить о том же: привык к материнской заботе о чистой комнате, выстиранном белье, и по-домашнему приготовленных завтраках и ужинах. Лейда не возражала… Звонко хлопнула дверь и минуту спустя опять открылась, и Лейда бегом уже без всякой песенки пробежала на кухню. Забыла что-нибудь, подумал я, прислушался. На кухне о чем-то взволнованно говорили, только не мог разобрать о чем. Затем голос Клячкиной: «Из всех мужиков один Вадим дома. Пошли к нему!» И в комнату без стука ворвались жены всех оставшихся на «осадном положении». Даже Ева Михайловна стала на пороге. — Посмотрите-ка, что сейчас принесла Лейда, — сказала Клячкина, протянув мне листок бумаги с отпечатанным текстом. Это была листовка — одна из тех, что фашисты разбрасывали в городе. — Где и от кого ты это получила? — строго спросил я Лейду. — Ни от кого. Эта бумажка была в ручку наружной двери засунута. Вот уже и действует засланная к нам вражеская разведка, подумал я. Хорошо бы обнаружить разносчика этих пасквильных писем. Оно, конечно, не последнее, за ним появятся и другие, столь же глупые, сколь и мерзкие. Но как? Может быть, подежурить ночку на лестнице: вдруг попадется. Пока же надо подготовить соседей. — Все это гнусная ложь и клевета, — сказал я. — Гитлеровцы ничем не брезгают и никого не жалеют. Уж если обманывать, так похлеще! Чем лживей, тем лучше. Коммунистов они не наказывают, а вешают. И никакого пайка вам не дадут, а голодом заморят. Да они спят и видят, чтобы до Москвы добраться, только они ее даже в бинокль не увидят. А листовки хранить не нужно, они никому из вас не понадобятся. Чего немцам хочется? Чтобы тылы наши ослабить, наших защитников оклеветать, лживыми обещаниями панику посеять. Женщины молчали. Я подумал, что говорю с ними обычным газетным языком. Житейская речь проще. А может, вот такая листовка кое-кого и смутит. Но я ошибся: окружали меня люди, для которых ложь — это ложь, а грязь есть грязь, которая может душу испачкать. — А что же нам с этой бумажкой делать? — спросила Ева Михайловна, придерживая открытую дверь. Начали гадать. — Сжечь и выбросить в мусорное ведро. — Снести в милицию. — Можно и в газету написать, чтоб не старались. — Стараться-то они все равно будут. — А ты бы, Вадим, комиссару отдал, — сказала до сих пор молчавшая жена Мельникова. Комиссаром у нас прозвали жильца из соседней квартиры, который жил здесь с восемнадцатого года. Его называли иногда и чекистом: он работал еще вместе с Дзержинским. Был он худ, сед и тонок в талии, коротко стригся и всегда ходил в штатском, даже кожаной куртки не носил. По утрам за ним приезжала машина — старенькая черная «эмка», на которой он иногда подвозил меня до Лубянки, как по привычке оговаривались старые москвичи, подразумевая улицу Дзержинского. Вот я и зашел к нему, памятуя, что вчера еще встретил его на лестнице и он с гримасой боли сообщил мне, что заболел, а болеть ему нельзя, в отделе каждый человек на счету. На вопрос, что с ним, ответил сквозь зубы, что у него острый приступ радикулита: ни согнуться, ни разогнуться. В квартире он жил один, все комнаты напротив и рядом были опечатаны. Когда я позвонил, никто не вышел. Только послышался его голос: «Входите, не заперто». Он лежал на диване — прямо в галифе и старенькой гимнастерке без знаков отличия. На выбеленной стене над ним висел большой портрет Ленина. Еще один портрет — Дзержинского стоял под стеклом на письменном столе. Я приблизился: на фотокарточке чернела размашистая подпись Феликса Эдмундовича. — У меня к вам дело, товарищ комиссар… — начал было я, но он сразу же оборвал меня: — Я знаю, что у вас в квартире все называют меня комиссаром, но такого звания у меня нет. Скажите лучше чекист, это точнее. А вообще у меня есть имя и отчество. Югов Иван Сергеевич, к вашим услугам. Я молча протягиваю ему листовку, свернутую трубочкой. — В ручку двери ночью засунули. Я вернулся домой в час ночи. А ее еще не было. Мой собеседник усмехнулся и почему-то, даже не прочитав ее, поднял к носу: — Тот же запах. — Важен текст, а не запах, — сказал я чуть обиженно. — Текст я знаю. Обычная вражеская мура о чудесной жизни в захваченных Гитлером городах. Точно такую же мерзость я нашел у себя в почтовом ящике. Разносили ее действительно ночью, может быть, даже во время воздушной тревоги, чтобы ни с кем не встретиться. Забрасывали, вероятно, во все почтовые ящики или, как у вас, совали в дверные ручки… Я тоже понюхал листовку. Она действительно чем-то попахивала. Чем-то вроде душистого крема для рук или одеколона. — Чуешь? — засмеялся Югов. — Будто из парикмахерской. И притом отпечатана на одной машинке и размножена на стеклографе. — Возможно, живет где-то поблизости, — сказал я. — Не обязательно. — А зачем ему, скажем, с Пятницкой на Кузнецкий мост топать? — Логично. Только почему «он», а не «она»? — Ноги у мужиков крепче, все подъезды обойти, по всем лестницам прогуляться. Вверх — вниз, вверх — вниз. Для женщины туго. — Тоже логично, — сказал Югов. — Так вот мой совет: приглядывайся к людям. И у себя на квартире, и на работе в редакции. Время осадное. Совсем не обязательно то, что эти листовки вам немец разносил или, допустим, завербованный немцами дезертир. Есть в городе людишки, что немцев ждут и гитлеровских вояк с цветами встретят. Есть, парень, есть и такие, которые наворованным рублям счет ведут, а истратить боятся. О капитализме еще не все забыли. В дворницкой живет, черствой булкой питается, а мечтает о том, чтобы свой магазин открыть. Приглядывайся, Вадим, и прислушивайся В такие дни, как сейчас, застегнувшие свою душу на все пуговицы возьмут да и расстегнутся. И что там на донышке — увидишь. А когда еще раз встретиться со мною захочешь, предварительно позвони. Вот я записал здесь мои телефоны, один служебный, другой домашний. Только я дома почти не бываю Говорил ведь тебе, что нельзя мне болеть, денек здесь пролежу, а к ночи машина за мной приедет… Я ушел в раздумье. Ни портной, ни оркестрант, ни бухгалтер не стали бы разносить столь глупые и клеветнические листовки. Не годились для этой цели и жены их, вся жизнь которых от молодости до зрелости при Советской власти прожита. Приглядываюсь, заочно, конечно, к личности капитана. И что-то не верится… Может быть, Ева Михайловна? Религиозна, по праздникам ходит в костел, к жизни в Москве хоть и привыкла, но многое ей не нравится. Но предположение это мысленно отвергает не Югов, а я сам Засунуть листовку в дверь она, конечно, смогла бы, но кочевать от подъезда к подъезду с больными ногами явно не в силах. А может быть, девушка? Одна такая в квартире есть. Лейда. Отец у нее русский, латышка — мать. В доме говорили и на том и на другом языке — у родителей было маленькое кафе, где по вечерам сидели за кассой то Лейда, то ее мать. Вспоминает об этом Лейда с раздражением: потому, говорит, и в Москву сбежала. В школе немецкий язык ей давался легче, чем русский. И немецкую литературу она знает лучше, чем русскую. А из советских писателей помнит только Шолохова: других, говорит, прочесть не успела. И наконец, самая главная опора подозрению: родилась и выросла она все-таки не в Советском Союзе, а в капиталистической Латвии, пионерского галстука в школе не носила… Я подавляю в себе сентиментальное восхищение хорошеньким личиком, и на крючок контрразведчика-любителя попадает и Лейда.4. Убийство
Сегодня ночью во время воздушной тревоги мы с Лейдой дежурим на крыше. Стоим в центре, чтобы видеть всю крышу и, в частности, тлеющую зажигалку, пока она не вспыхнула ярким пламенем. — Вот он! Прямо над нами. Вражеский самолет, снизившись, шел на небольшой высоте Он прошел над улицей, сбросив несколько зажигательных бомб. Только две из них попали к нам на крышу с противоположных ее краев. Мы бросились к ним, я с ведром песка, Лейда с большими клещами. Она оказалась проворней меня, и, пока я тушил свою, Лейда уже возвращалась, легко сбросив добычу с крыши. Как ряд маленьких взрывов загрохотали зенитки, и самолет сразу рванул вверх и растворился в темноте неба. Однако его тотчас же нашли прожекторы и повели на юго-запад. — Теперь собьют, вероятно, его уже заметили истребители, — сказал я. Как сбили самолет и где сбили, мы уже не видели. Но то, что он был сбит, не сомневались. — У нас есть свои асы, — сказала Лейда. — С одним даже знакома. Почему она так радуется сбитому немецкому самолету, подумал я. Искренне или играет? И откуда это знакомство с летчиком? И я говорю с вызовом: — Ликуешь, что зажигалку сбросила и что фашистский самолет сбит? — Так война же идет. Вот и радуешься каждой маленькой, но все же победе. — А где с летчиком познакомилась? — Зашел как-то к нам в сберкассу. Не получается из меня следователь, и я, смотря ей прямо в глаза, отрубаю: — А как ты вообще к Советской власти относишься? — Так же, как и ты. Жду победы. — Так собственного кафе у вас не будет, — замечаю я не без ехидства. — Оно уже в сороковом государству перешло Мать так и осталась кассиршей, отец же кондитером в ресторан на побережье перешел А если б не война, я все равно бы с бабкой в Москве жила. У отца с матерью каждый день ругань, а здесь тишина. Конечно, оклад у меня мизерный, но, когда война кончится, доучиваться пойду. — И замуж выйдешь? — Ты себя имеешь в виду? — Хотя бы. Чем я хуже других? — Работа у тебя скучная. Из неграмотных строк грамотные делаешь Романтики нет. Права чертовка Романтикой у нас в редакции и не пахло Разобьем под Москвой гитлеровские армии, опять военкором попрошусь. Ответственный секретарь обещал. А с Лейдой, кажется, ничего не получается, нет у меня программы допроса. Попробую с другой стороны подойти. — По ночам, когда ложишься спать, ты руки одеколоном или кремом протираешь? Она удивлена. — Одеколона в продаже нет: весь выпили, а кремом зачем? Не люблю жирных рук. — Руки вымыть потом можно. — А почему ты об этом спрашиваешь? Не дожидаясь ответа, она сняла перчатки и понюхала обе руки. Я перехватил одну и тоже понюхал. Потом вдруг поцеловал длинные, как у пианистки, пальцы. Руку она вырвала. — Девушкам рук не целуют. — Не могу же я ждать, когда ты состаришься. Руки у нее ничем не пахли. И я решил вывести Лейду из круга подозреваемых. Югов меня высмеет, когда узнает об этом псевдодопросе. Воздушная тревога продолжалась почти до рассвета. Вражеские бомбардировщики шли волнами с юго-запада, должно быть, из Наро-Фоминска, а прорвавшись к Москве, рассеивались над городом. Видели мы три взрыва крупных фугасок и как запылали взорванные ими дома, видели и виновников этих пожаров — паривших над городом больших черных птиц, нащупанных прожекторами. Лейда насчитала семь, громко называя каждую цифру. Семь вспышек пламени от расстрелянных в воздухе самолетов врага, семь клубков дыма, растворившихся в темноте неба И только когда уже начинало светать, установленный на крыше громкоговоритель прогремел нам свое лаконичное: «Отбой!» Я спустился с крыши уже после того, как закончила свое дежурство Лейда. Спустился по черному ходу и пошел к нам в подъезд. Народ из убежища уже разбрелся по квартирам. Только четверо стояли внизу у лифта, из-за войны, понятно, не действующего. Четверо мужчин из нашей квартиры: портной Клячкин, бухгалтер Сысоев, оркестрант Мельников и капитан Березин. Все они знали, что я с дежурства на крыше, и потому первым же адресованным мне вопросом был уже привычный и не удивляющий: — Скольких сбили? — Семерых. Лейда считала точно. И по-моему, даже не в Москве, а под Москвой. — А скольких пропустили? — спросил капитан. — Мы три взрыва видели. Кто успел сбросить бомбы, тех и сбили. Две фугаски — должно быть, на окраинах города, а одну где-то поблизости. — Что-то твоего чекиста не видно в убежище, — сменил тему Клячкин. — У него острый приступ радикулита, — пояснил я. — Врагов настоящих надо искать, а не хватать первого, кто под руку попадется, — зло сказал Мельников. — Знаете, что у нас вчера в театре было? Проходим по служебному входу в оркестр. Ну а караульный вдруг спрашивает у альтиста: что, мол, у вас в футляре? Тот отвечает, в шутку, конечно: бомба. Тут же его и взяли. — А что было в футляре? — спросил Сысоев. — Скрипка. Он ее и показал. Все равно взяли. — С чекистами шутить не рекомендуется, — усмехнулся Сысоев. — На Лубянке ему форменный допрос учинили. Футляр от скрипки исследовали. — А откуда вы это знаете? — поинтересовался я. — Он вернулся ко второму акту. Все засмеялись. Я задумался. Для кого и зачем этот рассказ Мельникова? Для того, чтобы прощупать нас, или для того, чтобы нам открыться? С кем он в осажденном городе: против нас или с нами? Завербованный врагом антисоветчик или просто сплетничающий обыватель? Югов посмеялся бы надо мной и сказал бы, что я изучаю под лупой то, что видно простому глазу. — Давай прощаться, — протянул мне руку капитан. — Через час уезжаю. — Завидую, — сказал я. — Одним хорошим офицером в действующих войсках будет больше. До свидания. — Если только оно состоится… Он ошибся. Оно все-таки состоялось. Я нашел тело капитана в пустом подъезде, когда вернулся вечером домой. Нашел там же, где мы стояли: у дверей бездействовавшего лифта — в том же морском кителе, с кровавым пятном на груди. Короче говоря, его убили.5. Следствие
Я поднялся к себе и позвонил из комнаты сестры на Петровку, 38. — У телефона Стрельцов. Еще один знакомый у меня в Наркомате внутренних дел. — Беспокоит вас, если помните, журналист Вадим Глотов… Я вам сигнализировал о подозрительных личностях в бомбоубежище на Кировской улице. Вы обещали их найти, если они вам попадутся. — К сожалению, должен вас огорчить. Пока они еще не попались. — А теперь я звоню, чтобы вас огорчить еще одним делом. Сейчас я нашел у себя в подъезде труп жильца нашей квартиры капитана Березина. Застрелен. — Ваш адрес? — мгновенно спросил Стрельцов. Я рассказал. Кто-то тихонько постучал в дверь костяшками пальцев. — Открыто! — крикнул я. Дверь скрипнула, и в комнату заглянул Клячкин. — Я тоже видел его, — проговорил он шепотом. — И это я положил его на спину. У него сквозная рана в области сердца. Так, кажется, говорят медики? — А почему вы тут же не сообщили в угрозыск? — спросил я. — И как давно это было? — Телефон в коридоре не работает, а березинская комната была уже заперта, — объяснил он. — Спустился вниз потому, что не мог заснуть после этой тревоги. Тут-то я его и нашел. Не понимаю, почему его убили. Хочу с вами посоветоваться… — О чем? — Приедет милиционер из уголовного розыска, будет допрашивать. Так ведь он и нас может заподозрить. Ведь капитан с чемоданом ушел, а чемодана рядом и не было. — Откуда вам это известно? — Так я же с ним и прощался. Через час после тревоги. В подъезде его, должно быть, и хлопнули. — Вы никого не видели на лестнице? — Никого. — И выстрела не слыхали? — Нет. Что же мне говорить следователю? — Правду. Все как было, так и рассказывайте. Клячкин ушел и минут через десять вернулся вместе с сотрудником уголовного розыска. Только лет на десять старше меня, но уже светится лысинка. Одет по форме. Аккуратист. Почему не на фронте? Вероятно, недостаток работников в аппарате. Прошелся по комнате, сказал: — Значит, ты и есть журналист Вадим Глотов. А я Стрельцов. Однако тебя, оказывается, не было здесь после воздушной тревоги. Кто это может подтвердить? — Пятеро из архитектурных мастерских на втором этаже. Вместе были на раскопках засыпанного взрывом убежища. Я назвал имена. — Я отправил убитого в морг. Врач говорит, что убийство произошло ранним утром. Убили его, должно быть, на улице, а труп потом перенесли в подъезд. Вы его там и нашли? — обратился он к портному. — Именно там, товарищ. — А зачем перевернули тело? — Думал, что еще жив. — Говорите, что он ушел с чемоданом? — Точно. — Ни чемодана, ни документов при нем мы не нашли. Кто может подтвердить, что это Березин? — Мы все, — сказал Мельников. Он только что проснулся и без стука вошел с накинутым на плечи пледом. — Кто кроме вас разговаривал с ним возле лифта? — Бухгалтер Сысоев. — Дома он? — Наверное, уже на работе, — сказал Клячкин. — Где он работает? Оказывается, никто этого не знал. — Он переселился к нам дня два назад из разбитого фугаской дома. С женой, — ответил я. — Сегодня на рассвете я видел ее на улице. Проходила мимо наших раскопок. Я могу подтвердить ее алиби. Честно говоря, ни одного из присутствующих нельзя обвинить в краже документов и денег у покойного. Тем более в убийстве. — А куда и зачем уезжал Березин? — В Новороссийск. В Мурманске он был командиром бронекатера. О новом назначении я не спросил. — Ну, пока достаточно, — задумался Стрельцов. — Бухгалтера я вызову к себе на Петровку, а с тобой, журналист, пройдемся еще в одну квартиру. Кажется, мы нашли одного из твоих приятелей. Пригодишься для опознания. И возьмем его вместе, если понадобится. Есть? Нужный Стрельцову дом находился неподалеку — в Столешниковом переулке. Шли молча, только у самого дома Стрельцов спросил: — Оружия, конечно, у тебя нет? — Откуда? — Может и понадобиться, — он вынул револьвер из кобуры и переложил в карман шинели. — Думаю, что вашего капитана убили, когда он с чемоданом выходил на улицу. Втащили в подъезд и обыскали. И пистолет, если он был при нем, и деньги, и чемодан с вещичками с собой увели. К одному из таких мы сейчас и заявимся. В квартиру на третьем этаже мы позвонили. Долго ждали отклика, пока чей-то хриплый голос не спросил нас: — Кто? — Снегиря не узнал, сволочь? — несвойственным ему басом спросил Стрельцов. Дверь чуточку приоткрылась. Я сильно рванул ее на себя и тотчас же узнал в стоявшем на пороге того человека в драповой куртке, что покушался в подвале на мои дешевенькие часы. Стрельцов вошел, подтолкнул его револьвером и громко крикнул: — Руки! Человек поднял руки над головой. — В чужой квартире устроился, гад, — сказал Стрельцов и, не глядя на меня, спросил: — Он? — Он. — За что? — спросил в свою очередь ворюга. — Я в этой квартире ничего не взял. — А в квартире на Пушкинской тоже ничего не брал? — продолжал допрос Стрельцов. — Там я только в долю вошел, а работал Снегирь. — С нами пойдешь, — заключил Стрельцов и, не оборачиваясь ко мне, добавил: — Подойди к окну, Вадим, не пришла ли машина: я ее сюда вызвал. Водитель знает. Я обошел взломщика чужих квартир и, войдя в комнату, приоткрыл шторы. Машины не было. — Ну что ж, — вздохнул Стрельцов, — поговорим пока с Криворучкой. Он не оратор, конечно, но кое-что рассказать может. — Разрешите хоть руки опустить, гражданин начальник, — сказал Криворучка. — Ладно, — разрешил Стрельцов. Стоя у окна позади Криворучки, я вдруг заметил, что рука его тянется в задний карман брюк. — Стрельцов! — крикнул я. — Он с оружием! Бандит действительно успел вынуть браунинг. Но поздно: Стрельцов выстрелил первым. И Криворучка грохнулся на пол. Стрельцов подошел и посмотрел на лежащего. Большое красное пятно расползалось по лбу. — Готов, — сказал Стрельцов. — Он мог бы рассказать и о других, — пожалел я. — Их трое было. На письменном столе стоял телефон. Начальник отдела взял трубку. — Работает, — удовлетворенно проговорил он и набрал номер. — Товарищ полковник, Криворучку нашли. Сожалею, что не мог взять живым, моя вина. А вот с другим делом хуже. Личность установлена свидетельскими показаниями соседей по квартире. Кое-кого уже допросил. Есть подозрение. Еду. Потом он набрал другой номер и распорядился, чтобы увезли труп и опечатали комнату. — Слушай, Стрельцов, — сказал я, — ты доложил, что кого-то подозреваешь в убийстве капитана Березина. Кого, если не секрет? — Вообще-то секрет, но тебе, думаю, сказать можно. Подозрителен мне ваш военный закройщик Клячкин. Он провожалкапитана до двери и видел, что у того чемодан. Кстати, и деньги ему могут пригодиться. — Не согласен, — возмутился я. — Честнейший человек. Он работал в ателье, имел и частный приработок. Никогда не занимал даже пятачка у соседей. Тем более не обвинишь его и в убийстве. Он трус и паникер, верно, но не убийца. — А может быть, у Березина была с собой крупная сумма денег и ваш Клячкин узнал о ней? — Он все лишние деньги переводил из Мурманска жене и теще. Какие суммы у капитана бронекатера? Убийцами его могли быть такие же субъекты, как этот бандит. — Ладно, проверим, может, ты и прав. Пощупаем и бухгалтера, который тогда не ночевал дома. Узнаем, где он сейчас работает. Проверим его ночной пропуск. Боюсь только, что и его виновность сомнительна. — Пришла машина, — сказал я. На этом и кончился наш разговор с начальником отдела с Петровки.6. Бухгалтер и его наган
Еще одна ночь, и еще одна воздушная тревога. Еще один налет вражеских «хейнкелей» и «мессершмиттов». Враг бросает на Москву тысячи истребителей и бомбардировщиков. И странное дело, Москва уже привыкла к тому, что она — это фронт. Люди работали и жили, не считая часов и ожидая только одного: разгрома гитлеровских полчищ у стен Москвы. Названия знакомых подмосковных железнодорожных станций, упоминаемых в сводках Совинформбюро, повторялись в разговорах без страха. И к воздушным тревогам даже привыкли: были уверены, что из сотни вражеских самолетов к городу прорвутся лишь единицы. Паники не было, хотя сомнения и множество вопросов возникали постоянно. — Что-то в сводках уже не упоминается Жуков, — говорил Мельников. Я принес из своей ближайшей к передней комнаты номер «Правды». — Вот послушайте, если не читали. Это из постановления Государственного Комитета Обороны. И я прочел: — «Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100–120 километров западнее Москвы, поручена командующему Западным фронтом генералу армии тов. Жукову». И дальше о введении в городе и примыкающих к нему районах осадного положения. Слушайте: «Нарушителей порядка немедленно привлекать к ответственности с передачей суду военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте…» Одного такого пособника врага мы вчера расстреляли. — Кто это мы? — спросил Сысоев. — Начальник отдела из МУРа. И я при этом присутствовал, — не удержался, похвастался. — Значит, это вы на меня накапали: завтра на Петровку вызывают. — Я сказал только, что ничего о вас не знаю. Даже где вы работаете… — Я же пояснил вам, что работаю бухгалтером в промысловой кооперации. — Это не учреждение. — Тогда конкретнее: группа управления Центросоюза Правление эвакуировано, небольшая группа осталась. А об убитом здесь в подъезде я ничего не знаю, так же как и о вас. Кстати, кого это вы кокнули? — Не я, а оперативник. Я ездил с ним для опознания. Это бандит из грабительской шайки. Я видел троих в бомбоубежище на Кировской. — И сразу решили, что это бандиты? — По некоторым признакам. Не хочется рассказывать. — Кстати, воздушная тревога уже началась, а мы в подвал не спускаемся, — вмешался в разговор Клячкин. — Стоит ли? — усомнился я. — Может быть, в подъезд спустимся? — А может, в картишки перекинемся? — предложил Мельников. — В подкидного, а? Мы согласились. Надоело в сырой подвал спускаться, а стоять в подъезде управдом не позволяет… Вот мы и усаживаемся иногда за карточный стол. Хочется хоть немного отвлечься от фронтовых тем. Я, как журналист, информирован лучше моих соседей по квартире. Часть наших газетчиков — военкоры. Приезжая в редакцию, они порой рассказывают больше и картиннее, чем сводки ТАСС и Советского информбюро. Поэтому, когда я ночую дома, меня обычно спрашивают, а я отвечаю. Сейчас же мне хочется не отвечать, а спрашивать. — А почему вас, — спрашиваю я Сысоева, — так тревожит повестка из уголовного розыска? — С чего вы взяли, что тревожит? Спросят — отвечу. Как наш дом разбомбили — пожалуйста. Как к вам вселили — извольте. С капитаном же я и двух слов не сказал, почему и кем он убит — понятия не имею. И эта повестка, по-моему, лишь проявление служебного рвения вашего оперативника. Ничего нового он не узнает. А убит капитан, думаю, какими-нибудь дезертирами или ворами в законе. Вы не рассказали нам, как встретились с ними, а работнику угрозыска, вероятно, дали, как это называется, детальный словесный портрет? — Допустим. — Или разговор их подслушали? — Может быть. — Ну и пусть ищет убийцу среди таких вот подонков. Чемодан ведь они сперли? Сперли. И документы тоже. Все ясней ясного. Я промолчал. Прав был бухгалтер: ничего нового Стрельцов не узнает. Бывших воров, дезертировавших из армии, он найдет в Москве предостаточно. Ищи в пустых квартирах, допрашивай управдомов. Может быть, и найдешь среди новых жильцов убийцу нашего капитана. — А как ты встретился с ними в убежище? — спросил Клячкин. — Стояли рядом. Слышал их болтовню. Блатные словечки, разговор о пустых квартирах, — нехотя сказал я. Перекидываемся картами. Помалкиваем. Сысоев на минуту выходит в уборную В комнате тепло от рефлектора, и пиджак Сысоева висит на спинке стула. Чуть-чуть сползает, и я поправляю его. Он необычно тяжел, что-то оттягивает его правый карман. Клячкин заинтересованно ощупывает его. — Наган, — говорит он. — На ощупь, по крайней мере. В эту минуту входит Сысоев. Заметил сразу клячкинский маневр с пиджаком. — Наган, — повторяет он. — Вы не ошиблись. — Сысоев вынимает его из бокового кармана. — А почему не сдали? — Скорее: почему на службе не оставил… Верно, виноват… А вообще-то, мне оружие по должности положено: с деньгами дело имею. — Как новенький выглядит, — говорю я только для того, чтобы заполнить паузу. Револьвер вновь погружен в карман пиджака. Бухгалтер сдает карты. Я молчу. Ох и не нравится мне Сысоев. Где-то в подсознании у меня все еще тлеют угольки неприязни и недоверия. Наблюдателен и высокомерен, привык иметь дело не с людьми, а с цифрами. И почему он остался во фронтовой Москве, хотя по возрасту могли и его эвакуировать? Неужели только потому, что в городе есть еще промысловые артели? Трусоват? Да и Клячкин не мушкетер. Но почему я Клячкину доверяю, а Сысоеву нет? Видимо, я в чем-то несправедлив, ведь и в редакции есть люди, неприязнь к которым сильнее доверия. Но Стрельцову в угрозыск я все-таки позвонил на другой день. — Был у тебя Сысоев? — Был, ну и что? — отвечает он почему-то равнодушно. — У него есть наган. Он всегда его носит. — Потому что он не только бухгалтер, но и кассир. Разносит по артелям зарплату. И потом дело об убийстве капитана Березина теперь не у меня, а в органах безопасности. Тогда я позвонил Югову. Называю себя, напоминаю о нашем разговоре и говорю: — Я по поводу убийства капитана Березина. — Знаю. Слышал… Кстати, ты почему не уведомил меня об этом? Я объяснил, что позвонил в угрозыск. Обыкновенное убийство с кражей документов и чемодана. — Ты сам так думаешь? — Так все думали. — Зайди-ка вечерком ко мне. Пропуск я закажу. Разговор у нас долгий будет. Я не спросил его о чем. Просто удивился, не зная, что удивление мое вечером обернется радостью, и не малой.7. Югов
Кабинет у Югова генеральский. К письменному столу приставлен длинный стол под красным сукном в окружении стульев с прямыми спинками. Югов начал не с убийства капитана. — Я все знаю о тебе как о человеке, — сказал он. — Тебе двадцать семь лет, ты кандидат партии. От военной службы освобожден. Почему, я тоже знаю. Два раза просился на фронт, но не пропускала медкомиссия. Один раз даже пытался ее обмануть, проскочив в ополчение. Но опять не вышло. А попасть на фронт хочется. Правда? — Точно. — Вот я и могу помочь тебе в этом. — Югов хитренько улыбался. — Хочешь перейти на работу к нам, на борьбу с врагом внутренним, с его агентурой? Многие на фронт ушли. Сейчас новичков набираем. Ты нам подходишь. У тебя высшее юридическое образование. Я добывал его заочно и знаю, как оно важно. Ты вроде сообразителен и не трус. Наслышан о твоих подвигах. — Ну, каких там… — засмущался я. — Ладно, не скромничай. Давай решай. — Но я еще не в партии, только кандидат. — Кончится кандидатский стаж, примем тебя у нас Кстати, с вашей партийной организацией все уже согласовано. А беда с твоей ногой нам не помеха. Ходишь нормально и выглядишь нормально; здоровый парень. Повторяю: не раздумывай, а решай. — Я уже решил, — прошептал я — даже не от волнения, а от радости превеликой. Югов закашлялся — то был застарелый кашель курильщика — и задумчиво проговорил: — Прежде всего мы — чекисты. — Понимаю, — проговорил я неуверенно, — но меня беспокоит другое: никакого опыта розыскной и следственной работы у меня нет. — Опыт придет. Первое время будешь чаще консультироваться со мной… Югов встал из-за стола, подошел к электроплитке, на которой разогревался небольшой никелированный чайник, налил себе в кружку, а мне в стакан темно-коричневой жидкости, достал из ящика стола два куска сахару и маленькие щипчики для расколки и, вздыхая, сказал: — Вприкуску будем пить, зато чай настоящий, а я пью крепкий. Незаменимое средство от сонливости, когда спать некогда. Что ж поделаешь, если работы по горло, а людей у меня — кот наплакал… Я молчал, прихлебывая действительно крепчайший чай и ожидая, что Югов еще скажет. А сказал он нечто меня удивившее. — Мы затребовали из угрозыска дело об убийстве капитана Березина не потому, что они плохо работают. Может быть, они и нашли бы убийцу, но искать его — наше дело. В угрозыске исходят из того, что Березин был убит на улице, а потом его втащили в подъезд, обыскали и ушли с деньгами, документами и чемоданом. Хотя в то утро и выпал первый снежок, но скрыть кровавые следы он бы не мог, а крови, как показала экспертиза, было много. Убили его в подъезде, где и нашли. Но дело даже не в этом. Врагов у него не было, семья в эвакуации, жильцы квартиры вне подозрений, значит, иного мотива, чем случайный грабеж на улице, в угрозыске не увидели. Мы проверили: Березин ни с кем из довоенных знакомых не встречался. Да и дел у него по горло. Так и провел командировку: наркомат — дом. Надо, брат, крепко в вашем доме пошукать… Ты после моего совета присмотрелся к соседям? Я вспоминаю об именном нагане Сысоева, о его таинственных ночных прогулках по городу и о своих не слишком определенных подозрениях. — Отпадают все, кроме одного, — говорю я. — Кого именно? — Бухгалтера Сысоева. Их семью вселили в комнату эвакуированных стариков Пахомовых после того, как был разрушен его дом. Работает якобы в промысловой кооперации, но где именно, не говорит. У него наган. Всегда носит его с собой. Имеет и ночной пропуск. И жена у него какая-то странная… — В чем же ты их подозреваешь? — спросил Югов. — В том, что они оба не наши, не советские люди. — Эмоции, а не доказательства. Я перехожу от защиты к атаке. — Я уже говорил с управдомом о том, скольких к нам вселили из разрушенных бомбежкой домов. Оказывается, только Сысоевых. По ходатайству кого-то из Центросоюза. А из нагана тоже можно убить человека. Вот вы рассказывали, что мотивов для такого убийства как будто нет. А вы знаете, мотив-то есть. Я вспоминаю, что сказал Березину на прощание: «Одним хорошим офицером в армии будет больше». Сысоев при сем присутствовал. Вот вам и мотив: одним хорошим офицером в нашей армии будет меньше. Конечно, всех офицеров, случайно находящихся в Москве, не перестреляешь. Но почему бы лишний раз не нажать курок, если позволяет ситуация? — Темна вода… — протянул Югов. — Хотя отбрасывать версию не стоит. — Конечно, не стоит, — обрадовался я. — Кстати, старый наган, якобы нужный ему по должности, может быть тоже орудием маскировки. А исчезновение чемодана — инсценировка для дураков. Личного мотива для убийства нет, значит, ограбление с убийством. А ведь избавиться от чемодана, который может служить уликой, проще простого. Сдай чемодан в камеру хранения на любом вокзале и забудь о нем. — Кассиром Сысоев действительно работает, — сказал Югов, — и наган ему по службе положен. Тут Стрельцов проверил, без ошибки. Другое дело: как он на эту должность пристроился?.. Впрочем, этим тоже займемся… А тебе — первое задание, когда переход к нам оформишь: обойти все камеры хранения, какие в Москве находятся. Ты чемодан этот видел? — Конечно. Он на стуле в комнате капитана стоял, — вспомнил я. Югов скрутил самокрутку, но мне не предложил. Только сказал: — Ты молодой. Еще рано накуриваться. Легкие побереги. Я промолчал, а он продолжил: — И еще. Найди управдома или коменданта того дома, из которого вам вселили Сысоевых, и узнай: жили когда-нибудь они в этом доме? Помнит ли он их и сможет ли опознать? Я уже вхожу в роль. Сначала розыск. С чемоданом, конечно, придется повозиться. В Москве девять железнодорожных вокзалов. Прибавь сюда камеры хранения вещей, забытых в метро, автобусах, трамваях. Чтобы объехать все, потребуется неделя. С управдомом или комендантом проще: всего одна справка. Но и тут Сысоевы не отпадут, даже если они числились в списке жильцов. Он мог быть заброшен и до войны, она тоже. Придется искать их друзей и знакомых, а главное, сферу их окружения. Вот что мне хотелось сказать Югову, но я не рискнул. Подумал, что это не солидно: я сам должен соображать что к чему… А Югов спросил: — Ты сейчас куда? — В редакцию. Там ребята уже завтрашний номер доделывают. Сказать им, как мы условились, о моем уходе… — Действуй, Вадим. И докладывай мне регулярно. На этом мы и расстались.8. Бомба
Наша газета выходит вечером. А ближе к ночи половина работников редакции, живущих близко, уже расходится по домам. На месте остаются лишь те, кто находится на казарменном положении или работает над завтрашним номером. Дежурная стенографистка записывает по телефону срочные корреспонденции с фронта. Беспрерывно стучит телетайп, передающий вечернюю хронику ТАСС. В кабинете ответственного секретаря редакции Меркулова тесно. Слушают рассказ Фоминых, фотокорреспондента, только что вернувшегося с подмосковного фронта. Я едва успеваю занять последний свободный стул. — С какого направления? — перебиваю я рассказчика. — С Можайского, — откликается он. — Опоздал? Так слушай и не мешай, — останавливают меня. — В третьей роте осталось всего шесть человек, — говорит Фоминых. — Три противотанковых ружья и по два бойца в расчете. Причем все напарники — ополченцы. Некоторых даже стрелять из таких ружей не обучили. А у немцев здесь шестнадцать танков. Первые две роты, потеряв больше половины состава, отошли на новый рубеж обороны, а мы, шестеро и я, седьмой, остались. И вдруг два танка прорвались на шоссейную магистраль. Первый танк расчет подбил с одного попадания, а другой двинул вперед по шоссе. Ну, бабахнул, конечно. Но снаряд его прошел над ними, даже моя «эмка» уцелела — без единой царапинки. Ну, мне и говорит старшина Кузьмичев: «Садись-ка ты, журналист, на свой рыдван и дуй от греха подальше вслед за прорвавшимся сучьим танком. Наши его к тому времени, надеюсь, уже ликвидируют». «А вы?» — спрашиваю. «Мы тоже отойдем, если обстановка потребует». И я поехал. А прорвавшийся немецкий танк уже горел. Подожгли его наши. — Успел заснять его? — спросил Меркулов. — Обязательно. Все негативы уже в лаборатории. — Посмотри-ка сам, может, уже готовы? Фоминых вышел, а Меркулов, разглядев меня среди слушавших, сказал со вздохом: — А ты, говорят, уходишь? Я смущенно кивнул. — Куда? — В прокуратуру. Там я буду полезнее. — Жаль, конечно. Ты и в газете на своем месте сидел. Я понял, что Меркулову все известно. А тут уже появился Фоминых с еще мокрыми фотоснимками. Снимки были отличные. На одном — подбитый немецкий танк, на другом — сгоревший, на третьем — шестеро бойцов третьей роты и отдельно — портрет Кузьмичева. — Все в цинкографию, — распорядился Меркулов. — Вместо корреспонденции дадим длинную подпись под снимками… — Граждане, воздушная тревога, — сказал голос диктора из черной тарелки радиоприемника. — Двое на крышу, — скомандовал Меркулов. — Остальные работают. Я захожу в пустую комнату и, не зажигая ламп, приоткрываю штору и гляжу на небо, перечеркнутое прожекторами. Два вражеских бомбардировщика уже над городом. Один летит в луче прожектора прямо над нами, скрываясь за облаком. И вдруг я слышу свистящий звук, неожиданный и очень знакомый. Потом — удар по крыше, будто сбросили на нее огромный камень, и тут же — треск и грохот ломающегося бетона и дерева где-то очень близко от меня в нашем здании. Сколько это продолжалось? Секунду? Две? Три?.. Я уже понял, что это значит: сейчас, именно сейчас последует взрыв… Но опять секунда бежит за секундой, а взрыва нет. С ослабевшими ногами я выхожу в коридор, где уже застыли все наши ребята, как восковые фигуры в музее. — Где? — спрашивает, ни к кому не обращаясь, действительно восковой по цвету Меркулов. — Должно быть, в холле или в лифтовой шахте. — Так бежать же надо, бежать, — срывается с крика на шепот его заместитель Гольдман. — Цыц! — останавливает его Меркулов. — Если взорвется, все равно не успеешь. В холле пусто и никаких разрушений нет. Почему мне пришла в голову лифтовая шахта, не знаю, но именно ее и пробила насквозь немецкая бомба. И как аккуратно пробила — срезав часть лестницы так, что по ней все еще можно было спуститься вниз… Я заглянул в отверстие, как в колодец, на дне которого в подвале покоилась невзорвавшаяся бомба, похожая сверху на рыбий хвост. — Вызывай саперов, Глотов, — сказал мне ответственный секретарь. — Мы спустимся узнать, есть ли жертвы. Но жертв не оказалось, и даже ни одна из типографских машин не была разрушена. Прибывшие тотчас же саперы прежде всего потребовали очистить здание, и я, возблагодарив Саваофа за дарованную мне жизнь, вышел вместе с толпою на улицу. Саперы довольно быстро извлекли фугаску и — несколько медленнее — ее обезвредили. — Почему она не взорвалась? — спросил я у одного из них. — Всяко бывает, — ответил он. — Может, и друзья наши постарались… Я говорю о настоящих друзьях. Ведь есть и такие в Германии. Не все Гитлеру молятся. Через Телеграфный переулок я выхожу на Чистопрудный бульвар и сворачиваю налево на Кировскую. Воздушная тревога еще продолжается. Темнота и тишина. На улице — ни одного прохожего, ни одной автомашины. Только впереди в конце бульвара и поближе к метро то и дело мелькает огонек обращенного к небу электрофонарика. Вспыхнет и погаснет, погаснет и снова вспыхнет. Еще один сигнальщик… И снова все повторяется. Голос патрульного останавливает меня. — Гражданин, ваши документы! Молча предъявляю свой ночной пропуск. — Кто-то здесь сигналит карманным фонариком. Выворачивайте карманы, гражданин. Впереди снова вспыхивает огонь фонаря. Свет его — довольно мощный для карманной электролампы — вполне может быть замечен с самолета. — Не теряйте времени, ребята, — говорю я патрульным. Их двое. — Разделимся. Один — сзади, а мы вдвоем атакуем в лоб. Возьмем гада в клещи… Сигналила врагу женщина в черном пальто и черном берете. Ее я не разглядел: не успел, потому что «атака в лоб» не удалась. В лицо нам ударил пучок света, а вслед за ним прогремел пистолетный выстрел. Мой напарник упал, но второго выстрела не последовало: подкравшийся сзади солдат успел выбить оружие из рук стрелявшей. Пока он связывал ей за спиной руки, я подобрал брошенный фонарь и пистолет — «вальтер». — Хочу посмотреть на нее, — сказал я, включая фонарь. Женщина зажмурилась, но я сразу узнал ее. Холеное, без единой морщинки лицо, узкие губы, высокий лоб, наполовину прикрытый челкой. Жена Сысоева! — Какая приятная встреча, Ирина Владимировна, — усмехнулся я. — Не вызванная ли вами бомбочка пробила здание нашей редакции? Так заплачьте: ни единой жертвы. Взрыва не состоялось. Сысоева не реагировала — ни удивлением, ни яростью. — Ты ее знаешь, что ли? — спросил солдат. — В одной квартире живем. — Отведите ее на улицу Дзержинского. Здесь близко, — послышался позади меня голос второго патрульного. — Ты живой, старшина? — обрадовался его напарник. — Еще повоюем, малец. А ты пока «скорую» вызовешь. Метро рядом, а там автоматы есть… Скажешь, что ранен… Пока солдат вызывал «скорую», мы постояли малость с Ириной Владимировной. Молчали. Допрашивать ее я не имел права: допрашивать будет Югов. Но она спросила сама: — Меня, наверное, расстреляют? — Вполне возможно. — Возможно, но необязательно? — Это зависит от вас. — Как это понимать? — Говорить правду. — Но вы взяли меня, как говорится, с поличным. — У вас есть сообщники. — Все равно войну вы проиграли. — Мы так не думаем… Появился запыхавшийся патрульный. Винтовку он снял с плеча, держал в пятерне. Вероятно, она помешала ему втиснуться в автоматную будку. — Дозвонился? — спросил я. — Порядок. Сейчас скажу старшине, чтобы ждал… — Если выживет, — сказала Сысоева, — у меня одним преступлением будет меньше. — И засмеялась: — Черт с вами! Хотите правду, ешьте правду. — Это вы скажете на допросе. И не мне. — Я обернулся к солдату: — Отведем ее на Дзержинку… Из пропускной я позвонил Югову. — Вадим Глотов говорит. Мы с патрульным комендатуры — фамилии его я не спросил — сейчас внизу, вместе с задержанной нами сигнальщицей. Это жена Сысоева. У меня ее сигнальный фонарь и «вальтер», из которого она стреляла в другого патрульного. — Убит? — спросил Югов. — Ранен. Да, в полном сознании. Мы уже вызвали «скорую». — Патрульного отпусти и передай трубку дежурному. — Идите без пропуска, — сказал дежурный, выслушав Югова. Не опуская пистолета, я повел ее по лестнице наверх.9. Допрос
— Развяжи ей руки, — поморщился Югов. — Кто это придумал? — Солдат из комендатуры. Он завязал так крепко, что я с трудом распустил узел. Сигнальный фонарь и «вальтер» Югов положил перед собой на стол. — Садитесь, — предложил он Сысоевой, — и ты тоже, — кивнул он мне на ряд выстроившихся у стены стульев. Мы сели. Она — прямо перед Юговым, я — позади, в сторонке. — Мне хотелось бы знать ваше настоящее имя и где вы научились так хорошо, как мне рассказывали, говорить по-русски. Она помолчала минуты две, прежде чем начать. — По паспорту я Сысоева Ирина Владимировна, но это фальшивка, изготовленная в абвере. А подлинное мое имя Хельга Мюллер. Я шарфюрер СС по званию, а русский язык знаю с детства: у меня была русская мать. Мой отец имел собственную аптеку на Тверской и одновременно был нашим резидентом у вас в Москве. Поэтому после революции он не вернулся в Германию и поступил к вам фармацевтом. Здесь он и женился, здесь я родилась и проучилась у вас до двенадцати лет, когда нас отозвали в Германию. Эмигрировать тогда было трудно, помогли агенты белополяков, с которыми отец имел кое-какие связи. В Германии я доучивалась… — Год рождения? — спросил Югов. — Девятьсот двенадцатый. — Значит, вы бежали в двадцать четвертом. Расскажите об этом подробнее. — Подробности я плохо помню: отец многое скрывал от меня и матери. Часто бывал у нас некий Кульчицкий, бывший агент Пилсудского, как мне сказали потом. Он и организовал наш побег. Помню, что выехали мы с Белорусского вокзала все вместе, сошли где-то близ станции Столбцы, это был уже район, непосредственно примыкающий к советско-польской границе. Долго шли по лесу, даже переправлялись через болото с двумя провожатыми. Нас предупреждали, что переход будет трудным, граница охраняется и путешествие сопряжено с риском. И действительно при переходе через границу одному из провожатых пришлось застрелить пограничника. Но, в общем, перешли… Примерно все, что мне запомнилось. — Как вас перебросили в Москву? — Как беженку. Вышла к Дорохову, а оттуда на автомашине в город. Какой-то военный добряк нашелся. — А дальше? — Мне дали явку на улице Чехова. На вопрос: «Кто?» — я должна была ответить: «Привет от Ганниева». Отдельная квартира в две комнаты. Фамилию хозяина не знаю. По-моему, он зубной врач из районной поликлиники, если судить по плакату в передней: открытый рот и надпись «Берегите зубы». — Номер дома и квартиры запомнили? — Нет. Но, если пойдете со мной, найду… Этот зубник не зубник и свел меня с Сысоевым. Вон парень, — она обернулась ко мне, — знает, о ком я… «Похоже, правду говорит, — думал я. — Хо-очет жить… А может, и впрямь надеется на приход немцев? Надеется, надеется! И вся ее правда распрекрасная — только оттого, что подсчитала: мы не расстреляем, немцы выпустят… Хотя ведь должна понимать: поверят ли ей немцы?.. Вряд ли… Но этого она не хочет понимать, ей сейчас любая зацепка за жизнь подходит…» — Сысоев ждал вас? — спросил Югов. — Да. У меня был паспорт на другое имя, но Сысоев сказал, что его легенда лучше. — Разрешите вопрос, Иван Сергеевич, — вмешался я. — Спрашивай. — Дом, где вы с Сысоевым жили, действительно разбомбили? Она вновь обернулась ко мне: — Вы знаете, да… Потому мы и попали в вашу квартиру. Не повезло… — Кому как, — философски сказал я, но Югов прервал меня, возвращая допрос в жесткое русло: — Ваше задание? Хельга Мюллер отвечала быстро и точно: — Честно говоря, эти задания не для специально подготовленного разведчика. Командование рассчитывало лишь на мою искренность, веру в победу и отличное знание русского языка. Я должна была сеять панику в дачных поездах, на вокзалах и рынках. Словом, там, где легко можно завязать беседу и найти слушателей. Выглядеть и казаться продавщицей или домохозяйкой. Важно было, чтобы мне верили. Это — во-первых, а, во-вторых, в часы воздушных тревог я должна была сигнализировать нашим бомбардировщикам. Для этого меня снабдили специальным фонарем, легким и небольшим, но с очень яркой световой вспышкой. Не думаю, однако, что я в этой роли принесла много пользы нашей разведке. Из сотен самолетов в небо над городом пробивались единицы, да и тех в большинстве случаев сбивали ваши зенитки и самолеты-истребители. — Кроме вас в Москву были заброшены и другие сигнальщики, — сказал Югов. — Вы кого-нибудь знали из них? — Я знала об их существовании, но ни с кем, кроме Сысоева, не была связана. Впрочем, некоторых можно найти по двум-трем явочным квартирам, адреса которых я знаю. И она тут же продиктовала адреса. — А почему вы раскрываетесь так откровенно? — полюбопытствовал Югов. — Что руководит вами? Страх перед неизбежным наказанием или разочарование в победе фашистской Германии? — Жить хочу, просто жить, — впервые улыбнулась она. — Да и не утратила я веры в нашу победу. Армия фюрера лучше организована, не уступает вам по численности и до сих пор воюет с успехом. Я убеждена, что не сегодня-завтра Москва и Ленинград будут в наших руках. И танков и самолетов у нас хватит, чтобы отбросить вас за Урал. Что ж, я был прав… — У нас другое мнение. Но спорить не будем. Поживем — увидим, — сказал Югов и замолчал. Интересно, думал я, на что рассчитывал Сысоев, уверивший ее, что его легенда лучше?.. Хельга Мюллер, казалось, прочла мои мысли. — А Сысоева вы не возьмете, — сказала она, не скрывая, однако, своего безразличия к его участи. — Возьмем, — впервые улыбнулся Югов. — Пусть это вас не беспокоит. — Меня сейчас ничто не беспокоит, пока я уверена в конечной победе немцев. — Сысоев тоже немец? — вдруг спросил Югов. — Нет, — с ноткой презрения ответила Хельга. — Он, вероятно, русский, и если и немец, то одесский или прибалтийский. Наверно, старый абверовец… Я должна была во всем подчиняться ему… — Сысоев — это его настоящая фамилия? — рискнул спросить я, и рискнул небезрезультатно, потому что ответ ее кое-что прояснил. — У него десяток таких фамилий, а подлинной я не знаю. Он заслан сюда для убийства и диверсий. Я же никого не убила. Не из жалости, конечно, а потому, что убийства не входили в мое задание. Мой выстрел в патрульного был единственным, да и то я его только ранила. — А почему вы так уверены, что мы не возьмем Сысоева? — продолжал я. — Адрес его известен… — Он больше не вернется домой. — Почему? — Потому что у нас была договоренность: каждую ночь после тревоги мы должны были встречаться у памятника Пушкину. Если кто из нас не пришел на встречу, другой обязан немедленно сменить крышу. Сысоев связан с крупной воровской шайкой, действующей по его приказам. — Каким? — спросил Югов. — Убивать, взрывать, поджигать… Сообщникам предоставлялась возможность обогащаться. А что будет со мной? — спросила Хельга Мюллер. — Дело ваше пойдет в трибунал, — ответил Югов и вызвал конвойных. — Уведите, — распорядился он и, когда ее увели, обратился ко мне. — Чему она радуется? — Надеется, что немцы возьмут Москву, а мы расстрелять ее к этому времени еще не успеем. — В трибунале будут решать, — сказал Югов. — А падения Москвы не одна она ждет. Вот прочти. Это был приказ верховного командования немецкой армии Восточного фронта:«Солдаты! Перед вами Москва! За годы войны многие столицы пали под вашими грозными ударами, знамена многих армий склонились у ваших ног. Вы, доблестные сыны Германской империи, с победой прошагали по площадям побежденных городов. Вам осталось захватить Москву. Заставьте ее покориться, покажите ей силу вашего непобедимого оружия, и вы также пойдете по ее площадям. Москва — это конец войне. Москва — это отдых и возвращение на родину. Вперед! И только вперед!»Я молча возвращаю приказ Югову. — Среди захваченных ими европейских столиц Москвы не будет, — говорит он. — Немецко-фашистское наступление на Москву остановлено в пределах восьмидесяти — ста километров. Но они готовятся к новому. Для него и выпущено это пышное обращение к солдатам. А в переводе на цифры оно означает свыше пятидесяти дивизий, в том числе восемнадцать танковых и моторизованных, и тридцать три пехотных. — А у нас? — Ежедневно подбрасываются подкрепления из резерва. Не только выстоим, но и разгромим. В общем, считай, что ты уже работаешь у нас. Тоже на фронте. Понятно? Удостоверение твое уже готово: с сегодняшнего дня ты — наш сотрудник… Кстати, потому я тебе и разрешил на допросе присутствовать… А сейчас — на обыск к Сысоевым. Напарника я тебе дам, а понятых подберешь на месте. Все ясно? — Все. — Ну а потом займемся Сысоевым. Если эта стерва говорит правду, я думаю, что он прочно залег в подполье. При его связях с воровской бандой сделать это ему нетрудно В таком случае объединимся с угрозыском. Там — подходящие ребята…
10. На Петровке, 38
Я проспал два часа после разговора с Юговым. Меня разбудили три звонка — мои «позывные» в коммунальной квартире. Вошел человек в свитере под горло, в старенькой кожанке, чуть постарше меня. — Безруков Павел, — представился он, — оперуполномоченный из МУРа. Я провел его в свою комнату. — Извините, если я оденусь при вас, — сказал я. — Мне Стрельцов приказал: так, мол, и так, пойдешь напарником к Глотову… И давай бросим это «вы». Никто никому не начальство. — Ладно, — согласился я. — Пошли будить понятых. Я постучал к Мельникову. Оба они с женой уже встали. Я представился им — в новой уже роли, показал удостоверение. Замок у Сысоевых пришлось взломать: ключей у нас не было. В комнате чисто. Мебель стояла, как прежде у Пахомовых. Прибавилась только пишущая машинка. В ящике письменного стола нашли патроны к нагану Сысоева. И никаких бумаг, даже записей в блокноте не было… Словом, обыск ничего не дал, кроме пачки отпечатанных и где-то размноженных на стеклографе листовок… Результаты обыска, как я и предполагал, Югова не обрадовали. — Самого главного, мужички, не нашли — ниточки, которая привела бы нас к Сысоеву. — А листовки? — спросил я. — Прямая улика для Хельги Мюллер. На допросе же она об этом ничего не сказала. — Улик против нее и так достаточно, дело уже в трибунале. А листовки эти я передам прокурору. Они, кстати, так же пахнут, как и та, которую ты приносил мне… У нас в квартире после обыска у Сысоевых все жутко перепугались. Пустить в дом фашистских разведчиков — все равно что кобру откуда-нибудь из Каракумов. Да и ко мне отношение соседей несколько изменилось. Не то чтобы меня стали бояться, но вели себя более осторожно и сдержанно. Разговоры о положении на фронтах при моем появлении на кухне или в «курилке» вдруг смолкали, или говорившие меняли тему разговора. Наш понятой Мельников даже сказал мне наедине: — Послушай, Вадик, а зачем ты переменил профессию? Я понимаю, что это почетно, но страшновато все-таки. — А я рад, Михаил Михалыч. В газете я работал не по специальности. Ведь я юрист по образованию, вы знаете. Кончил юридический. Естественно, что работа следователя НКВД меня больше устраивает. Одна Лейда восторженно оценила мою новую роль. Она даже обняла меня и поцеловала в щеку. — Поздравляю, Вадим. Теперь у тебя настоящая профессия — героическая и романтичная. Глаза ее при этом лучились нескрываемым ликованием… …Стрельцов принял нас сразу. — Забавная вещь получается: ваши дела к нам идут, наши — к вам… Наверно, сейчас так и должно быть. Значит, и силы нужно объединять… С Безруковым тебе хорошо работаться будет, — сказал он. — В Москве сейчас воровское отребье оживилось. Некоторых мы расстреливаем на месте, если ловим с поличным. А некоторых сами ищем… Так вот, есть у нас свой человек, он нам сообщил: готовится ограбление районного отделения Госбанка. Да то ли сам он не поспешил, то ли узнал поздно, но к ограблению мы не успели. Водитель и кассир застрелены, машина с деньгами исчезла… — С концами? — спросил Безруков. — Один кончик есть. Кассир сумел, пока жив был, одного из бандитов подстрелить. Не насмерть. Ну, разговорился, когда в себя пришел. Клянется, что в банду случайно попал, дружок его затащил. — Какой дружок? — Некий Сидоров Иван по кличке «Тьма». Личность нам и до войны знакомая. Карманник. А вот теперь, как видите, бандитизмом занялся. Наш подстреленный с этим Сидоровым примерно с полгода в одном лагере провел, пока того не перевели А здесь, говорит, встретились как раз накануне налета. Тыла и уговорил его… — Врет, — убежденно заявил Павел. — Может, и врет, — легко согласился Стрельцов. — Да не в том суть. А суть, братцы мои, в том, что этот врун, как ты. Паша, считаешь, кончик нам и дал. Сообщил, что бандиты встретятся в субботу для дележа госбанковской выручки. И адресок не скрыл. Там мы их и постараемся взять. — Можно мне участвовать в операции? — спросил я. Спросил и подумал: а что скажет Югов? Еще одна мальчишеская выходка… А Стрельцов словно подслушал мои мысли. — Я-то не против, — сказал, — да только у тебя другое начальство. Я ему, конечно, доложу о твоем рвении, а уж он пусть решает. Уяснил?.. Лады… А вот насчет Паши Безрукова есть у меня иной план. Вот какой, слушай, Паша, внимательно. Орудует в Москве одна банда — специалисты по квартирам эвакуированных. Есть шанс внедрить в нее своего человека. Ну а Безруков, во-первых, человек с большим розыскным опытом, а во-вторых, его в воровском мире никто не знает. У нас есть один бывший дезертир на примете. Он хочет вернуться на фронт, но мы пока его задерживаем. Он и введет в банду нашего человека. А им может быть и Паша Безруков. Безруков с места подал реплику — всерьез, без улыбки: — Значит, я должен стать штрафником-дезертиром? — А что, трудна роль? — усмехнулся Стрельцов. — Я не о трудностях роли, а об ее подготовке. Во-первых, почему штрафник? Ну, скажем, к началу войны сидел в предварилке, как соучастник кражи. Придумать здесь можно. Затем — воевал в штрафной роте, и, мол, осточертела мне эта война. Во-вторых, я должен знать, кто был и кто сейчас комполка, кто кого сменил в штабе, кто политрук. Все это надо обдумать до мелочей. — Сделаем. Всю ниточку проверим, до последнего узелочка. Хорошо бы тебя, кстати, посадить как дезертира. Денька на два, а потом ты сбежишь, допустим, украв мотоцикл у зазевавшегося милиционера. Легенда для банды первосортная. А когда примут тебя как своего, начнешь операцию. Какое у тебя задание? Прежде всего узнать, связан ли с бандой ваш Сысоев, Так что, Паша, готовься к большому делу и держи связь со мной или с Юговым. А лучше всего с обоими, потому что дела наши переплетаются и заинтересованы в этой плетенке мы оба. Хорошо готовил свою плетенку Стрельцов, и не зря меня подключил к нему Югов… Потом мы предстали перед Юговым. — Поговорили? — спросил он. — Так точно, — щегольнул я военным оборотом. — Знаю уже. И далеко не все одобряю. Насчет Безрукова — тут сомнений нет: готовьте легенду. Приготовите, до мелочей разработаете — обсудим. Здесь, кстати, можно выйти на Сысоева — есть шанс… А с тобой, Вадим, хуже. Зачем тебе лезть на рожон? Пострелять захотелось?.. Стрельцова я понимаю, у него людей мало. А ты? — Иван Сергеевич, — зачастил я, — а вдруг там Сысоев будет? Именно там, а не по линии Безрукова, а? — Ну и что? В уголовном розыске люди опытные, не тебе чета. Возьмут твоего Сысоева, а ты его допросишь. Идет? — Не очень, — не стал я кривить душой. — Ладно, — неожиданно легко согласился Югов — Иди со Стрельцовым. Дело, в конце концов, общее: Москве легче станет, когда мы эту грязь выметем. Такую оперативность диктует, если хотите, приказ об осадном положении… Только, Вадим, одно условие: не лезь поперед батьки в пекло. Следи не только за живыми, но и за мертвыми. Бывают такие мертвецы, что и воскреснуть могут, если их на мушку не взять…11. Конец банды
Дележ награбленного, как сообщил Стрельцову раненый налетчик, должен был состояться на квартире некой Женьки Красотки в одном из проездов Марьиной рощи. Время — самое разбойничье: с вечера до утра. Женьке доверяли свято, потому что на допросах, которые до войны проводили сотрудники угрозыска, она никого не выдавала. Это Стрельцов подтвердил. «Чистая выходила, удавалось», — сказал. Квартира глядела во двор двумя слепыми окнами. Стекла в них были так грязны, что гляди не гляди, все равно ничего не увидать. Наша операция намечалась часа на два ночи, когда дым, как говорится, пойдет коромыслом и бандиты будут в большом подпитии. Оперативный план Стрельцова все это и предусматривал. Проникать во двор мы обязаны, естественно, незаметно, открывать огонь при малейшем сопротивлении. Главаря банды, если он уцелеет, лучше обезоружить и доставить живым на Петровку. Вот так все и началось. Мы вошли незаметно во двор паршивенького дома, бесшумно сняли двух выделенных бандой охранников. — Кляп в рот и наручники, — шепотком сказал Стрельцов, и мы вынесли обоих к ожидающим трем «эмкам» и старенькому «линкольну» и снова вернулись на место. Двое стали у затемненного окошка, а остальные со Стрельцовым беззвучно открыли дверь в тамбур дворницкой. «Тишина, тишина, и только тишина — вот что требуется при неожиданном налете. Чем внезапнее удар, тем выгоднее», — говорил нам Стрельцов. В полуоткрытую дверь все было слышно. Налетчик Стрельцова не обманул: бандиты праздновали удачу. Удачу ли?.. Мужские голоса: — Давайте о жизни. При таких деньгах кто как будет? — Сменяю фамилию. Михельса пришью, если рыпаться будет. У него сотенная за работу, а у меня сотни тысяч в кармане. Нужен он мне теперь, как гвоздь в пироге. — Не дело говоришь, Смирный. За свою жизнь он и тебя продаст. — Кто кого продаст, никому не ведомо. Другой голос чуть-чуть с хрипотцой: — Струсил, корешок? Я тебя понимаю. Михельсу еще в ножки поклонишься. Ведь твои сотни тысяч надо на марки по курсу переводить. А у них свой курс и своя цена марки. И много ли от твоих тысяч останется? — С Михельсом посоветуюсь, он и цену назначит. Поймет, что купить нас теперь — не деньги требуются. Натура у него широкая, не скупился. Мне, например, за одного парня, которого надо было по горлу стукнуть, две сотенных отвалил. А теперь мы сами с усами. Без нас он нуль без палочки. — А кто нам это яблочко подсказал? Нам — сумма, а себе ни рубля… Нет, друг Смирный. Мы и сейчас ему кланяться будем. Немцы придут вот-вот, и он в мундире штурмбанфюрера окажется. И поклонимся, если гестапо о нашем налете не задумается. — Рубли не марки. Зачем им? — Может, и незачем. А нам и рублик пригодится. Кстати, а где он? Ночь кончается, а денежки делить надо. — Здесь ваши деньги, у Женьки в одеяле зашиты. Тут по знаку Стрельцова мы и распахиваем дверь, не входим — влетаем в комнату. С другой стороны окно выбито, и оба оперативника держат свои автоматы наизготовку. — Сдавайся. Дом окружен. Руки за шею, — командует Стрельцов. Подымаются. Среди них — Смирный. — Глотов, отведешь их к машинам. Раненых заберите. Кондратьев, прощупай одеяло. Я отвожу троих через двор к автомашинам. Смирный, не отводя рук от шеи, бросает мне сквозь зубы: — Михельса вам все равно не найти. Значит, Сысоев стал Михельсом и фактически хозяином банды. А Смирный, похоже, адъютант у патрона. На Петровке он молчать не станет: жить всем хочется… Из дворницкой выводят еще четверых, среди них — две женщины. — Нашли деньги? — спрашиваю у Стрельцова. — Нашли, конечно. Смирного я допрошу и отправлю Югову. Он — поддужный Михельса, а тот не дурак, в грабеже не участвовал… На Петровке в угрозыске Стрельцов первым допросил Смирного. — Ну, кто есть кто? — начал допрос Стрельцов. — Интеллигентно разговариваешь, — усмехнулся Смирный. — Только тебе это не поможет. Не расколюсь. — Жить захочешь — расколешься. Если будешь говорить, учтем. А о делах твоих нам и без тебя все известно. Известен и соучастник ваш, на пирушке не присутствовавший. Лучше скажи, сколько в банде твоей осталось? — Двое, кроме меня: Погорелов и Хлумов, по-нашему — Пегас и Тетеря. Только скажу я тебе, никакого участия в ограблении машины с деньгами не принимал. Зря вы к нам с гранатой сунулись. — А чьи деньги мы в одеяле нашли? — Это вы у Женьки спросите. — Думаешь, не скажет Женька? Скажет, ей жить хочется. Мы с Глотовым ваш разговор слышали, как деньги делить и как вы с Михельсом работали — все слышали. — Подслушанный разговор не в счет. — Улики найдутся, а дело, откровенно говоря, высшей мерой пахнет. В органы безопасности я твое дело передам, гражданин Смирный. Вот так. — Стрельцов позвал конвойных. — Уведите. А я поехал докладывать Югову.12. Как Сысоев стал Михельсом
Югов выслушал мой рассказ, по обыкновению, молча, не перебивая, позволяя мне делать любые отступления и гипотезы, и я чувствовал, что Длинная речь моя вызывает у него полное сочувствие и одобрение. То, что Сысоев стал Михельсом, его нисколько не удивило, он только удовлетворенно кивнул в ответ. Он, должно быть, так и думал, что это случится. Только дослушав рассказ, позвонил Стрельцову. — Стрельцов? Югов говорит. Глотов мне все доложил об операции в Марьиной роще. Ты дело Смирного мне не передавай: он у тебя глубже завяз. А о связи с Михельсом я допрошу его у тебя. Остальных допросишь сам: делали они что-нибудь по заданию Михельса или нет. И новая рация опять в эфире появилась, значит, еще забросили кого-то, а может быть, ее в специальной посылке Михельсу передали. Нет, запеленговать не успели, слишком короткая передача была. И шифр новый, пока разбираем. А дело ты провел славно. Одним, как говорится, ударом всю банду ликвидировал… Значит, договорились? С Глотовым приеду. Как-никак Смирный его первый знакомец и ниточка к Михельсу. — Спасибо, Иван Сергеевич, — сказал я. — Сам хотел вас просить об этом. — Только без фокусов. Никакого отмщения. Ну, ударил он тебя по шее. Прошло? Прошло. Главное — связь с Михельсом Жалеть он его не будет. Наверняка продаст. Самое важное он сам тебе сказал, что не возьмем мы Михельса. Значит, тот, гад, опять крышу переменил. Может быть, Паша Безруков что-то узнает. В своей шайке он прижился. Теперь он — Дементьев Пал Фомич. Пока ни одной ниточки к Михельсу… На другой день утром мы с Юговым поехали в уголовный розыск к Стрельцову. В его кабинет доставили Смирного из КПЗ. — Вопросы вам будут задавать представители органов безопасности. Отвечайте, Смирный. Это допрос. Смирный усмехнулся не без злорадства: — Я не антисоветчик, а сын трудового народа. — Ваши имя и фамилия? — сухо спросил Югов. — К чему лишний раз языком молоть. В деле они есть. — Профессия? — спросил Югов. Смирный охотно ответил. — Образование почти высшее, учился в юридическом, а профессия — вор в законе. — Почему же так изменился ваш жизненный путь? — Потому что профессия юриста скучна и пахнет канцелярщиной, а вор в законе — романтично и выгодно. — Где и когда познакомились с Михельсом? — В кабаке, за одним столиком. — Давно закрыты все кабаки, а то, что по блату и не по карточкам живете, вполне понятно… С Михельсом познакомились еще до войны? — Допустим. Летом познакомились, а осенью снова встретились. Я ему с крышей помог. — Вы знали, что он фашистский агент? — В октябре и узнал, когда ему опять крыша понадобилась: ну, я и опять помог за две сотенных. — Значит, тут вы и были завербованы? — Никаких бумажек я ему не подписывал. Просто знал, что он немцев ждет. Тут я уже три сотенных взял, когда чекисты на его бабу вышли. Ему и паспорт новый понадобился, и я еще за две сотенных ему новый провернул. Денег у него тьма-тьмущая. По-барски рассчитывался. — По его заданиям работали? — спросил я. — Какие ж это задания. Пустую квартиру найти сейчас дело нетрудное. Да и с паспортом тоже: есть у нас такие умельцы, что и паспорт, и военный билет на любую фамилию аккуратненько сработают. Никто не подкопается. Ну, конечно, все через меня. Тебе нужно — плати. — А людей по его заданию не убивали? — Чего нет — того нет. К политике он меня не принуждал. Я вор, конечно, с нужными связями вор. Могу и зашибить, если хлюпик какой попадется, вроде тебя, например. Сказал он мне «уйми этого», я по шее тебя и стукнул. Легонько так, ты и ожил вскорости. — А почему вы так уверены, что Михельса нам не взять? — вмешался Югов. — Он же не ваш брат уголовник, а, попросту говоря, шпион. — Так он опять крышу сменит. И людишки у него есть, чтобы в этом помочь, — Смирный говорил охотно и без жалости к Михельсу. — Вот мы и договорились с ним, что, если нашу банду возьмут и он об этом узнает, он тотчас же найдет другую крышу. Ему не впервой квартиру менять… Значит, опять искать, думал я, а незапеленгованная рация будет работать. Вероятно, она новехонькая, портативная, и с ней легко перебегать со двора во двор, причем в разных районах, и запеленговать ее трудно, потому что передачи короткие, а передавать неуловимому радисту, видимо, есть что, течет к нему откуда-то информация… После Смирного мы допросили еще двух участников шайки, Погорелого и Хлумова. Погорелов сказал, что никого не убивал ни во время ограбления машины, ни по заданию Михельса. Хлумов мрачно молчал, потом сказал, что Смирный соврал, шофера и кассира убили по его приказанию, кто — не помнит: большой шухер был. Ну а мне, говорит, скрывать нечего: про украденные деньги Смирный опять врет, сам же эти деньги в Женькино одеяло заштопал. Вот вам и правда. Все мы у Михельса работали и немало сотенных от него заимели. Жил он на Арбате в угловом доме, где гастроном… Протокол он подписал, не читая. Чуть позже я поехал к арбатскому гастроному. Ведь здесь именно жил Михельс. Только «жил» — в прошедшем времени, а не в настоящем. И что там у него осталось, не знаю. Вряд ли что важное. Так и оказалось. Ничего наводящего на след я у него в комнате не нашел. Никаких бумаг, ни оружия, ни рации, ни записной книжки с номерами телефонов, которые могли бы облегчить нашу работу. И вот я снова в кабинете Югова, куда явился, перевернув вверх дном очередной приют Михельса. И снова тревожный знак вопроса. — А что ты ожидал? — спрашивает Югов. — Записки с адресом? — Искал как положено. — Кем положено? Михельс опытный и умный разведчик. Следов не оставляет. Я так и думал. А разыскать надо. Хоть все пустые квартиры обыскивай, а найти придется. Подождем Пашу Безрукова. Может, ему повезет. Где-нибудь, да осел. А мы пока время теряем… — Это меня и мучает. — Здесь эмоции не помогут… И еще: не можем никак запеленговать его рацию, работает она у него слишком коротко. Шифр мы уже распознали. Преимущественно сообщает о числе вышедших из ремонта танков… Придется тебе по ремонтным заводам походить. Может быть, там и найдем конец ниточки. — Предлагаю дополнение, — сказал я. — Какое? — Михельс не колдун и не телепат. Он просто использует полученную им информацию. Надо бы все госпитали обойти и с главврачами поговорить. Но мы с Юговым и не представляли, как все это трудно. В середине ноября немцы начали новое наступление на Москву. На Киевском направлении им удалось прорваться за Нару, на Можайском уже шли бои у Кубинки, на Волоколамском они были остановлены у Крюкова, за немногие десятки километров от Москвы. Гитлер уже видел в мечтах свои бронетанковые части, громыхающие по Красной площади, но свежие части, вступившие в бой у подмосковных железнодорожных станций, остановили новое наступление. Прибывшие из сибирских резервов советские войска не только отбросили врага, но и сами перешли в наступление. После этих ожесточенных боев переполнялись московские госпитали, а выздоравливающие рвались вернуться в свои части, гнать врага подалее от любимой столицы. В самой Москве было спокойно: верили истово, что ее не сдадут. А мы с Юговым искали врага — особенно страшного, когда его соотечественники рвутся в Москву. Мы решили, что он — скрывший это даже от Хельги Мюллер — немец, долго проживший или учившийся в Москве — в старой, николаевской, но не советской. Привык к старым названиям улиц. Улицу Горького, говорят, называл Тверской, улицу Кирова — Мясницкой, а улицу Дзержинского, самую ненавистную ему, — Лубянкой. Город он знал отлично и отлично владел русским языком с его московским «аканьем», легко отыскивал себе пустые квартиры, благо полгорода эвакуировано. И список таких адресов у него был, потому что воровские шайки легко находили их, подкупая бесчестных управдомов, а с воровскими шайками Михельс прочно связан, не жалел денег для своих террористических вылазок. Но люди, знавшие о нашем розыске, настойчиво помогали нам, не пугаясь и не щадя сил своих. Одной из таких помощниц оказалась и моя соседка Лейда.13. Лейда
Передаю ее рассказ так, как я его слышал, со всеми подробностями, не пропустив ни единого словечка, а памятью, как говорится, меня бог не обидел… «В конце ноября я как-то была в костеле. Не потому, что я верующая, а просто по старой привычке: ведь в буржуазной Латвии закон божий был для нас обязателен. Сижу с краешка, а у нас в костеле молятся сидя, и вдруг вижу чуть впереди меня Сысоева. — Теперь он Михельс, Лейда, переменил фамилию, — прерываю ее я. — Не перебивай меня, Вадик, а то собьюсь и забуду. Тебе ведь все равно: Сысоев он или Михельс, а мне так удобнее. Сидит он тоже с края, вероятно для того, чтобы скорей уйти, потому что в религиозность его я ни капельки не верю, и оглядывается, словно кого-то ищет. Меня он видит отлично, но не узнает, забыл, вероятно, мельком в передней видел, не взглянул даже, а я-то его запомнила. И наконец, догляделся. Сидит сзади такой мордастый со шрамом на лице и тоже кого-то глазами ищет. И наконец, они друг друга нашли. Оба тотчас же сели рядом, благо в костеле народу немного. Теперь они были совсем близко от меня, даже шепот их слышен. „Походим по городу сначала, — услышала я слова Сысоева, — поглядим, нет ли хвоста за нами“. „Ладно“, — сказал другой. И оба тотчас же вышли, ну а я, конечно, за ними: очень хотелось новую крышу Сысоева найти. Идем. Они впереди, я чуточку сзади. Не дай бог в метро пойдут, я всегда в метро путаюсь, не знаю ни входов, ни выходов, ни пересадочных станций. Пошли прямо по улице Кирова, оба оглядываются, а на меня даже не смотрят: не такой хвост себе представляли. Дошли до метро и — туда. Я за ними… Спустились по эскалатору, сели в поезд. В один вагон. Только на каждой станции до „Комсомольской“ или до „Красносельской“ оба выходили, а в последний момент обратно в вагон. Очень боялась, что их упущу, каждый раз, когда выходили, за ними тыркалась и тут же возвращалась, понимала, что это они хвост проверяют. А одета я была простенько, незаметно, пальтишко у меня старенькое, платок на глаза повязала, мать родная бы не узнала. В Сокольниках оба вышли, и я опять за ними. И тоже как будто случайно, какой же я сыщик на вид, так, девчонка с улицы, продавщица или заводская, поди разберись. Ну и не разобрались. Никакого внимания. На улице той, названия я уже не помню, даже не читала, кажется, иду за ними, прохожих много, и опять они ничего пугающего не разглядели. Наконец и дом нашли, новый кирпичный пятиэтажный. Тут я, конечно, держалась подалее, все-таки в конце концов приметили бы. Так и до цели дошла: оба в крайний подъезд шмыг и стоят, словно ждут кого-то. Потом пошли тихонько по лестнице. Лифта в доме нет, а мне это только на руку. Дверь ключом открыли на третьем этаже, квартиру я запомнила. Все найду — и дом и квартиру… Спросила у дворничихи, кто в квартире живет. А никто, говорит: эвакуировались хозяева. Ничего не объясняла дворничихе, знакомых, говорю, ищу». Весь этот рассказ, подсократив его малость, я и передал Югову. — Что делать будем? — спрашиваю я Югова. — Брать, конечно. — А если опять сбежит? — Тут уж оба в ответе будем. Но все равно сбежать теперь ему из Москвы трудно. Немцев от города отбросили со всей их техникой. Воздушные налеты редки. Послушаем Пашу Безрукова: он звонил мне, что новости есть не только для уголовного розыска, хотя в банде сплошь дезертиры и уголовники. А Михельс по-прежнему остается главным, так как денег он не жалеет. Отсюда и его так легко сменяемые квартиры… А Лейда твоя поистине — золото. Не пренебрегай ею, дружище. Я покраснел. Такой рекомендации я еще от своего начальства не слышал. Михельса она выследила, а нам остается только взять его. Брать решили сейчас же, как только посланные наши наблюдатели сигнализируют, что немецкий разведчик вернулся домой. Но наблюдатели молчали. И понятно почему. Одного из них мы нашли заколотым в лифтовой клетке, другой был застрелен на улице возле дома. Вот и пришлось нам с Юговым держать ответ. Каким образом угадал Михельс, что раскрыли его обиталище, не могу понять. Прошли каких-нибудь два часа после моего разговора с Лейдой. Может быть, ей только показалось, что ее не заметили, но не думаю. Михельс, похоже, не узнал ее. Иначе такой матерый волчище давно сумел бы от нее оторваться. Зачем ему еще раз менять квартиру, когда о ней не знали мы с Юговым? Скорее, наших людей он заметил… И конечно, при обыске ни оружия, ни рации мы опять не нашли… А ранним утром мне позвонил Стрельцов. — Приходи, — говорит, — к девяти, не опаздывай. Пашку слушать будем. Банду его ворья, куда он был заслан, этой ночью взяли. Всю взяли, только твоего Михельса нет. Три жулика с ним связаны были. Как раз самые мелкие, его денежки их и купили. Да и выполнить его задание никто из них не успел: комиссионный на Садовой их больше прельстил. Двенадцать участников шайки взяли, только Пашке нашему удалось «бежать»: он на стреме стоял, вот и успел… А дело-то большое, десятками тысяч пахнет. Придешь? — Приду, — говорю. Люблю утреннюю Москву, когда на работу идешь. Тихий и пустой город, только очереди у магазинов стоят. Чистый город, говорят — самый чистый в мире. Весь мусор подобран, ни бумажки брошенной, ни стружки, ни окурка. Только мешки с песком у зеркальных витрин, надолбы на окраинах, толкучка у магазинов перед открытием, когда всем без очереди проскользнуть хочется. Да и приземленные аэростаты по-прежнему темнели на бульварах, как лежащие, поджав ноги, слоны.14. Павел Безруков и другие
В кабинете у Стрельцова собрание уже началось. Говорил Паша Безруков, подробно говорил, как он в банду попал и что там делал. Главой ее был мой старый знакомец Снегирь, которого я видел еще в октябре в бомбоубежище, куда сгоняли с помощью комендантских патрулей всех случайных прохожих. — В шайке нас было примерно человек десять, а то и двенадцать, причем далеко не все принимали участие в операциях: так Снегирь называл налеты на улицах и ограбления квартир. Он, можно сказать, был не просто главой или паханом, как его называли сообщники, но и ведал всем хозяйством банды, был ее финансистом и организатором. Каждому давалось свое задание: кому подыскивать добычу, кому сторожить, кому охранять порядок в деле, кому связь поддерживать… У Паши вдруг горло пересохло, воды попросил и рассказ продолжил: — Меня взяли сразу, даже не проверяя. Может быть, и была проверочка, только я ее не заметил. Дезертир, мол, до войны сидел за спекуляцию в рыбном магазине, потом штрафная рота, а когда немцы к Москве подошли, из части бежал, украв мотоцикл у гаишника. Мотоцикл этот я Снегирю сразу же отдал и за него, я думаю, меня без проверки и взяли. Товарищ Стрельцов оказался прав, мотоцикл жуликам действительно был нужней нужного. «А у кого сейчас твой мотоцикл?» — спросил кто-то из шайки, но Снегирь ему сейчас же рот заткнул. «Где нужно, там он и стоит, — буркнул он. — Сыпь далее, Пашка, рассказывай, а кличку тебе сообща придумаем». И придумали, конечно: из Павла Безрукого стал Пашкой Дезертиром. В общем, мне повезло. На мотоцикле ездили по заданию Снегиря, только каждый раз номер меняли. И я ездил добычу подыскивать. Потом Стрельцову, конечно, звонил. А перед «операцией» из квартиры заранее убирали все мало-мальски ценное. Снегирь определенно кого-то подозревал, но не меня, а своих информаторов… Такими уголовными проделками я не очень-то занимался, в пустых квартирах ворье работало, а меня на стреме держали. Но вот однажды кто-то из наших жуликов подходящий комиссионный магазин нашел, с директором сговорился, что тот все как украденное спишет: видно, полагал, что на этом деле можно самому крупно заработать. Снегирь всю шайку собрал, всем задания выдал, кто где стоять будет, кто что из готового платья заберет, кто кассу очистит, куда все это везти и где хранить наворованное. Словом, всю банду мобилизовал, и день подходящий выбрал. На орграсходы деньги, понятно, потребовались, так он их у Михельса занял. Тот сразу согласился, когда еще по телефону согласовывали, и себе ничего взамен не потребовал, кроме десятка пустых квартир. Квартиры добыть Снегирю — раз плюнуть. Вот и собралась вся банда под одной крышей… Ну, была и стрельба, конечно, парочку бандитов ухлопали, да и своим тоже досталось — к счастью, только легкие ранения… — Хорошо поработал Пашка Дезертир, — сказал Стрельцов. — На тебя, — кивнул я в ответ. — Не только, — нахмурился Безруков. — Один хозяин был у московских бандитов. По профессии разведчик, последняя фамилия Михельс. Все из шайки за деньги продались, только один денег не брал: бывший врангелевец князь Невядомский, а ныне вор. С татуировкой на теле. Никогда не раздевался при всех, в грязной рубахе ходил, чтоб только наколку у него прочесть не смогли. Надпись там, говорят, малоцензурная… И еще: рация у Михельса портативная, легонькая, системы «Эри». Теперь у него десять адресов, по крайней мере, — не без горечи усмехнулся Безруков. — Всю зиму проищем — не найдем. — Найдем, и думаю, что скоро, — особой решительности в моем голосе, однако, не было. — Как? — спросил Павел. — Усердием, — сказал я уже увереннее… — Одного усердия мало. — Есть еще и смелость, ловкость и наблюдательность. Молчал Безруков, не нашел ответа… А ночью, когда трех бандитов к нам отправляли, бежал Невядомский, по кличке «Князь». Одного конвоира убил сразу, а второй растерялся и упустил убийцу. Темная была ночь, тучи, как из свинца выплавленные, все небо затянули, а светомаскировка, пока еще не отмененная, облегчила побег. Однако едва ли бандит нашел укрытие. Всем комендантским патрулям был дан приказ искать по городу раздетого, в одной лишь рваной нательной рубахе. На патрульных Югов не очень надеялся и, совсем расстроенный, отложил допрос на утро, точно знал, что грабителя все же найдут. И нашли. Отмененный Юговым допрос позволил мне отдохнуть вечерок у себя дома. На кухне даже собрание устроили с попыткой выжать из меня все интересующие квартиру подробности о моей работе в НКВД. Новостей, однако, я рассказать не мог: не позволяла профессия. Больше всех расспрашивали заядлые курильщики — портной Клячкин и музыкант Мельников. В городе стало тихо, воздушных налетов не было. Зато появилась новая тема: помощь союзников, никого не удовлетворявшая. Второй фронт был нужен Европе, а союзники медлили Женщины на кухне все больше о продовольственных трудностях говорили. Даже Лейдочка приуныла. Скучно живем — вот была ее тема… Опять о Сысоеве спросила: — Где ж он скрывается? Я пожал плечами: — Пустых квартир в Москве много. А сам думал: разве нельзя обойти их все? Может, где и зацепишься. Видимо, можно, конечно, но пока мы будем искать в одной, он отсиживается в другой. Ему это проще. Только квартиру сменить, а нам где людей взять, когда все молодые чекисты на фронтах бьются? Что доступно той горсточке чекистов, оставшейся в городе чужую разведку вылавливать? Не так уж и много, если такие инвалиды, как я, работают. Оттого и провалы, что людей не хватает; оттого и побеги таких изуверов, как Невядомский…15. Князь Вадбальский
Работа у нас была — не то, что в редакции: свободного времени порой даже на сон не оставалось. И все же я ухитрялся иной раз посидеть в архиве: захотелось знать больше о новой профессии. Иной раз есть час — так не спать иду куда-нибудь в пустой кабинет, на сдвинутые столы, а в архив. Югов шутил: это от молодости, сил девать некуда. А я чувствовал: нравилось ему, что я старыми делами интересуюсь. Помнил я его фразу: плох тот чекист, который назад не любит оглядываться; время — лучший учебник… Вот и листал я этот «учебник», урывками листал, не знал даже толком — зачем, а вышло удачно… Попало ко мне тридцатилетней давности дело, зафиксированное в архиве как «Дело князя Вадбальского». Князь этот существовал, а может быть, и существует поныне, бывший поручик сначала деникинской, а потом и врангелевской армии; эмигрировать ему не удалось, занялся обыкновенной уголовщиной, сменил пяток фамилий и осел на дне с почетным для уголовника званием вора в законе. Я вспомнил о Невядомском и задумался: а вдруг «стрельцовский князь» — это не кличка, а титул, ставший кличкой по воле ее обладателя? И мотив есть: не хотелось родовое имя пятнать уголовщиной. Ведь и у горьковского Барона, рожденного на сцене Художественного театра, тоже было настоящее имя, быть может скрытое по замыслу автора из тех же соображений. А родовое имя Вадбальского, его подлинное имя тогдашние чекисты сумели открыть. Я сообщил это Югову. Он усмехнулся и сказал: — Допроси. Ты нашел, тебе и разрабатывать. У нас не спорят, а выполняют. Да и самому было интересно. Может быть, Невядомский, а может быть, Вадбальский. Вот и поговорим. Привели его. Седоват, худощав, виски впалые, небрит и грязен. Отстреливался профессионально. Если что ему и мешало, так это пара тусклых восковых свечек, так как в подвале магазина электричества не было. Потому и пули его «вальтера» только царапнули наших, но не убили. Я с удовольствием сообщил ему об этом. — Военные? — спросил он. — Конечно. Сержант и радист. К вашему сожалению, быть может… — Вы правы. Жаль, — сказал он, вздохнув. Потом замолчал, подумал и спросил уже с явной насмешкой: — А ведь я догадываюсь, почему вы это сказали. — Почему? — Порылись в архиве? — Допустим. — Тогда вам и спрашивать нечего. Мой первый допрос у следователя читали? — Все ваши «дела» читал. — Тогда процитируйте мне ту часть протокола, в которой говорится о моем титуле и фамилии. Я достал из письменного стола пухлую папку «Дела князя Вадбальского», нашел нужный протокол и прочел: — «Убил я его прежде всего потому, что он дворянин и штабс-капитан, а во-вторых, потому что Вадбальский — родовое имя, без титула не произносящееся. Я действительно князь, и до уголовщины довела меня судьба». — Сколько вам лет? — вдруг перебил он меня. Я ответил. — Вы еще в пеленках брыкались, когда я с маршевой скоростью почти до Курска дошел. Веселое было времечко. — Потому я и хочу о нем послушать. И как вы обратно к югу уже не шли, а бежали. И как вас на Турецком валу разбили, и как Станислав Вадбальский, настоящий князь, не из оперы, веселенькую наколку на спине сделал. В старых романах князья этаких штучек не вытворяли. — И не воровали князья в старых романах, — добавил, усмехнувшись, Невядомский. — Воевали, а не воровали. И когда я первый раз квартиру ограбил, настоящий князь Вадбальский умер. Живет подонок по фамилии Невядомский, а что же князю-то оставалось? Только фамилию сменить. Кто родился тогда вместо Вадбальского, не помню. Ну а князя сохранить было можно. Он и сохранился, как воровская кличка. Спросите какого-нибудь блатного. Снегиря, например: был ли у него настоящий князь в банде — так он хохотать будет. Может, какой-нибудь Вадбальский и был настоящим князем не в законе, конечно, а при царе или у Деникина… Что, гражданин следователь, рассказать вам о том, как случилось все это со мной?.. Он смотрел как бы сквозь меня, и мне казалось, что видел он жизнь свою, смрадную и срамную — от путча юнкеров Александровского военного училища до деникинского лагеря, дроздовского, до врангелевского Крыма… — И думаете, научился чему-нибудь? Ничему, гражданин чекист, ни одной полезной профессии не приобрел, только стрелять по-снайперски, да скакать на какой-нибудь кобыле, порой без седла даже. А когда в Советскую Россию вернулся, думал, что на родину, а на родине-то работать надо. Не трудящийся да не ест. А есть-то хочется. Тут и родился мой Князь, умеющий только грабить и убивать. Ищите и обрящете, говорят попы, и я искал и нашел. С появлением в моей жизни Михельса, можно сказать, профессию приобрел. Я больше его не расспрашивал. То, что рассказал он мне, было подло и страшно. С искалеченной психикой человек. Воровал из-за денег, а убивал из мести. О чем же спрашивать такого? Да в любом Снегире больше человеческого, чем в этой злобной карикатуре на человека. Патетическая речь его осталась безответной. Я молча написал протокол допроса о преступных связях Невядомского с Михельсом, об убийствах, совершенных Невядомским по заданию гитлеровского разведчика, выделив преступления, подведомственные уголовному розыску, и молча же дал прочесть обвиняемому. Он бегло пробежал их и расписался четко и безоговорочно. — Уведите, — сказал я конвойным. Как только увели Невядомского, вошел Югов. — Я только что допросил еще двух из стрельцовской тройки. Все, что они делали для Михельса и с Михельсом, уже готово для прокуратуры. А вот твой диалог с князем хотелось бы почитать. Полностью записал? — То, что нас касается. Остальное пусть Стрельцов дописывает. Я снова, но уже вместе с Юговым пробежал запись допроса. — Интересно, почему он передо мной разоткровенничался? — Ты его старое дело читал. Любопытно ему стало: перед юнцом порисоваться… А в сущности, что он теряет? Он — Вадбальский?.. В «деле» нет отпечатков пальцев, ста-арое дело-то, верно? — Верно, — кивнул я. — Значит, не доказано, что он — Вадбальский. — А наш разговор?.. — Допрос?.. Откажется. Он — Невядомский. Князь — кличка. И — все. Во время схватки с милицией Невядомский никого не убил, а от связи с Михельсом откажется. Кто нам эту связь подтвердит, пока Михельс на свободе?.. То-то и оно, Вадим. И передаст суд дело на доследование. — Где будет слушаться дело? — спрашиваю я. — Невядомского и его двух сообщников будут судить вместе с остальными участниками грабежа, — с сожалением говорит Югов. — А у нас их дело будет рассмотрено, когда возьмем Михельса. Сначала — террорист, а за ним — и его соучастники. Дел у нас, Вадим, много, а результат — ноль. Самое главное сейчас — запеленговать радиста. Уходит он от нас… Изловчившимся так долго уходить от нас радистом занимался Безруков, а на моей шее по-прежнему висели Михельс и Невядомский. Вечером я опять вызвал его на допрос, но теперь он был уже совсем другим человеком — насмешливым, когда можно было поймать на ошибке допрашивающего, и замкнутым, когда следователь требовал откровенности… Начал он с категорического отрицания всего, что было сказано им на утреннем допросе. Личность князя Вадбальского зародилась только в его воображении… Наврал, конечно, не без этого: очень уж хотелось оправдать кличку «Князь» и глупую наколку, сделанную им в годы молодости. Сейчас ему уже под пятьдесят, в гражданской войне он, конечно, не участвовал, воровать приучился с детства и ничем другим не занимался. В банде Снегиря он уже три месяца, дезертировал из штрафной роты вместе с Кашкиным, который тоже участвовал в грабеже и перестрелке с милицией, а других он даже не знает. И о Михельсе понятия не имеет, слыхал о таком, знал, что в банде есть его люди, но кто именно, ему неизвестно. — Вы что, на каждом новом допросе собираетесь сочинять новую историю? — спросил я, стараясь не раздражаться. — Захочется — буду, не захочется — нет. Можно и что-нибудь старенькое вспомнить. — Утренняя история была интереснее. — Тоже вранье. — А зачем? — Жить скучно, гражданин следователь, вот и хочется порой пошутить. — Шуточки-то у вас со смыслом. Ну, допустим, что Вадбальский — это вранье, хотя и очень круто заверченное. Но Михельс — не шуточка. Немецкий шпион ваш Михельс, а вы еще признались в том, что стали его агентом. — Разве признался? — Мне же врать незачем. — Слыхал где-то эту побасенку, ну и поднес ее вам, как соус «пикан». А про шпиона — тоже болтовня. Вам, чекистам, только про шпионов и сочинять. — Рация у него есть? — Чего? — Переносный радиопередатчик. — С новостями техники не знаком. Про отмычку могу. Я решил перейти к серьезной атаке. — Кстати, под тем, что вы рассказали о Михельсе, ваша подпись есть. — И под протоколом, который вы сейчас напишете, моя подпись тоже будет… Задумался, зачем друзей будоражить? Решил правду говорить. — Так вы же утром ее сказали. — Не-е. То вранье было классическое. — Ну что ж, посидите еще в одиночестве, придумаете новенькое. На прощание он мне подмигнул: все еще полагаешь, мол, что со мной справишься?16. Радист
Сегодня по милости Югова смог ночевать дома. Ох и смеялся же он, когда рассказал я ему о вторичном допросе Князя. — Вот тебе, мил друг, и «княжеские» шалости. Чего же ему бояться, когда дружок его на свободе. Мы так ничего и не докажем, пока щуку покрупнее не выловим. Поезжай-ка завтра с утра на ремонтный завод и пощупай там. Вдруг да обнаружишь связного. Уже несколько дней, вернее, ночей молчит Михельс, если только радист — это он… Я понимал, конечно, что Югов имел право смеяться, когда я ему о допросе рассказывал. Тут хоть головой о стенку бейся, а Невядомского не «расколешь». Фантазия у него богатая, и время для нее есть. А ведь мне протоколы, а не детективы писать. Ну и пришлось идти к себе на Кузнецкий. Холодно там, хорошо еще, что Клячкин вторым тулупом обзавелся: есть что на ночь занять. А может быть, и дровишки у кого есть, чтобы выкупаться. Колонка-то у нас дровяная, не газовая. Ну вот и пришел домой, и махры принес для друзей-курильщиков. Набросились, понятно… Собрались в передней, свернули козьи ножки. — Есть новости? — Что-то застопорились у нас дела. — Есть малость. Только у наших солдат еще один союзник есть. Хорошо помогает, лучше англичан с американцами. — Ты о ком? — О морозе. Говорят, еще хлеще будет. — То-то у нас сейчас на полушубки заказы. — Сысоева хоть поймали? — Ловим. И в это время зазвонил телефон. Клячкин трубку снял, послушал, протянул ее мне: — Тебя… — Слушаю, — сказал я и услыхал смешок Югова. — Хорошо слушаешь?.. Лады. Кончай ночевать, быстро — в управление. — Что-то случилось? — Случилось. Давай поскорее… Не вышло дома ночевать. Размечтался… Оказалось, что радисты сумели поймать пеленг, а Безруков, на счастье, был в одном из передвижных радиопеленгаторов. Везение, конечно… Но ему еще больше повезло в том, что до запеленгованного объекта ехать было три минуты ровно. С арбатского двора, из-за мусорных баков передача велась. Двое их там было. Одному удалось уйти, второго Паша ранил. Из управления отправились в тюремный госпиталь. Накинув на плечи белые больничные халаты, мы с Юговым и Безруковым идем сначала в кабинет главврача. Фамилия Рольного Бук — так в паспорте значится. Мы прежде всего справляемся, можно ли с ним сейчас разговаривать. Оказывается, можно. Больной ранен в правую ногу, но кость не тронута. Сейчас Бук сидит в кресле, листая только что вышедший номер «Огонька». Никакого удивления при нашем появлении он не проявляет. — Откуда вы родом? — начал допрос Югов. — Из бывшей республики немцев Поволжья, — четко произнося каждую букву, отвечает Бук. — А каким образом очутились в Москве? — Был призван в Красную Армию, дезертировал с целью действовать по заданию абвера. — Что значит «действовать по заданию абвера»? — Я радист. До войны работал в Саратове в радиомастерской, в штабе дивизии тоже действовал как радист. В Москве у меня была явка к резиденту. — Имя и фамилия резидента? — Отто Михельс. — Это он был с вами во дворе? — Да. Только, как я понял, ему удалось уйти?.. Югов не отвечает, да Бук и не ждет ответа: сам все видел. До сих пор он говорил правду. А Югов уже спрашивал: — Где вы получили эту явку? — Под Наро-Фоминском. Мне дал ее тоже агент абвера Макс Зингер, работник штаба той же дивизии. — Расскажите подробнее. — Подробнее не могу: не знаю. Зингер — где-нибудь в дивизии или бежал. Михельс действует здесь, в Москве. — Адрес явки? — Большая Молчановка, двадцать три. Только едва ли вы там сейчас кого-нибудь найдете. Если провалена явка, то резидент тотчас же находит другую. — В такой же квартире жили и вы? — собирал по крохам свою информацию Югов. — Да, там же поместил он и меня… Я слушаю агента и все более убеждаюсь, что он заваливает абверовца с откровенным удовольствием. Может быть, потому, что его бросили раненного, даже не оглянувшись. Несомненно, что он решил смягчить свою участь. Даже оправдаться пытался. — Ни одного русского я не убил, да у меня и оружия не было. Передавал радиошифровки, и все. А вы не скажете, будут ли меня судить? — Обязательно будут, — согласился Югов. — Значит, прямо в Сибирь? — Это уж как трибунал решит. А может быть, и здесь останетесь. Подождем, когда Михельса изловят. Для разоблачения его понадобитесь. Допрос еще продолжался, когда меня позвали к телефону. Звонил Стрельцов. Ничего не объясняя, просил приехать. На Петровку я пошел пешком. От нас это недалеко. Не видно ни очередей у магазинов, уже и следа не осталось от той спешки, беготни, распродажи вещей прямо на тротуарах и той напряженности, в атмосфере которой жила Москва во время эвакуации. Уже никто не спрашивал, выдержит ли город прорыв вражеских танков. У Стрельцова я застал в кабинете облаченного в чистенький ватник Смирного, уже подписывающего протокол допроса, по-видимому законченного. — Поздно приходишь, — недовольно проговорил Стрельцов, — машину, что ли, не мог взять? Знал ведь, если Стрельцов звонит, то не зря, а по делу. Теперь можешь сам допрашивать. Кое-что о связях с Михельсом, которого вы никак поймать не можете. Садись прямо на мое место и записывай, если он что-нибудь новое для вас скажет. Наш допрос мы уже провели. — Значит, еще протокол подписывать? — неохотно протянул Смирный. Я усмехнулся, подумав, что для меня тоже не сладко раскапывать чужой мусор. — Придется. — О Михельсе, что ли? — О нем, — кивнул я утвердительно. — Не хотелось мне раньше его выдавать, но ведь своя рубаха малость поближе к телу. — Полбанды вашей немецкий шпион купил, — сказал я. — Троих он купил, тех, что вашему ведомству передали. А я отказался. Ей-богу, не могу на мокрые дела отзываться. — Значит, все-таки знали, что он из абвера? Смирный пожевал губами, потом сплюнул в пепельницу. Явно не радовал его наш разговор. Я, признаться, даже не понимал его верности воровскому долгу. — Знать-то знал. Но не идти же мне стучать. Кто тебе помогает — не капай на того. Ведь это он нам адрес магазина дал, даже сказал, кто вахтером будет. Правда, засыпались мы в этом магазине, но Михельс ни при чем. Не он выдал. — А когда познакомились с Михельсом? — спросил я. — В самом начале войны, в ресторане «Москва». Невядомский туда тоже ходил, он меня и свел с Михельсом. Мы, говорит, хорошо платим. Но если по правде, не из-за войны я отказался. Не моя война, и на фронт не хочу. Нам и без войны работы хватит. Отказался я из принципа. — Какого? — Мокрых дел не люблю. За них слишком большие сроки дают. Да и в этом деле, которое уголовка раскрыла, никого не убил, хотя и стрелял. Лучше сказать, отстреливался. Очень уж не хотелось влипнуть. — Что же обещали Михельсу взамен? Связь-то у вас сохранилась. — Ну, нашел ему подходящих ребят. Вот и все. — А оказались неподходящие. Знали, что обманываете? Смирный долго молчал, потом с хитрецой ухмыльнулся. — В деле-то их не видел. Скрозь не смотрел. Потому и не дал проверенных. Я уже знал, что Смирный исчерпан. Ничего более путного от него не услышу. Но все-таки спросил: — А откуда вынырнул Невядомский? Ведь он не в законе? — Если бы. Ты спину его видел? Он и сам мог паханом быть. Смелости необычной, честности тоже, умения редкостного. В карту с десяти метров ножом попадает. А наган его посмотри. Чистенький, смазанный. Спрашивать Смирного, где живет в настоящее время Михельс, было наверняка бесполезно: со времени ареста его банды прошла, наверное, неделя, да и что Смирный мог сказать об этом, если он встречался с ним где-нибудь в подворотне. Я предпочел обходный маневр. — А где бы мы смогли найти его, скажем, завтра или послезавтра? — Трудно сказать. Называл он как-то Невядомскому один адрес. Кажется, Садовая-Кудринская, номер дома не помню. Или он там бывает, или живет. Москву он знает назубок. Жил здесь или учился. У нас связь с ним поддерживал Невядомский. Смирный подписал даже не прочитанный им протокол допроса и вышел вслед за конвойным. — Доволен? — иронически спросил Стрельцов. — Придется еще раз допрашивать Невядомского, — вздохнул я. — Единственная связь с Михельсом. …Но с Невядомским меня ожидал сюрприз. Югов хмыкнул, а Паша почему-то не отрывал глаз от моих сапог. — Бежал Невядомский, — сказал он, отвернувшись. — Из больницы? — вырвалось у меня. Я тут же вспомнил о своих опасениях, когда мы все трое встретили в больничном саду Невядомского, разгребавшего снег на дорожках. — Конвойные были рядом, — сказал Паша, — а эта сволочь сумела перелезть через стену. Выяснилось, что за стеной уже дожидалась машина. Конвойные открыли стрельбу по машине, но не попали. Машина ушла, а нам теперь двоих искать надо. Что же вы молчите, Иван Сергеевич? Югов ответил не сразу. Казалось, он мысленно собирал что-то, взвешивал, раздумывал, словно задачу решал. Я так ему и сказал. — Ты, несомненно, прав, Вадим: именно решал задачу со многими неизвестными, — ответил Югов. — И решили? — спросил я не без иронии… — Где найти их сейчас? — сказал задумчиво Югов. — Конечно, нет. Я обобщал. И начал с Михельса. Первое, что мы о нем знаем, это то, что он давно живет в Москве. Вероятно, кончил здесь какое-нибудь высшее учебное заведение. Прочно, подсчитывая и анализируя, он собрал список пустующих в настоящее время квартир. Прежде чем вселиться, всегда узнавал точно: все ли жильцы уехали. Как он нашел Невядомского, не знаю, но возможность связаться с уголовным подпольем явно подсказал ему бывший врангелевец. Это сразу же расширило агентурную сеть Михельса. И думается, что побег Невядомского — дело его рук. Уголовное подполье, как ни почистил его Стрельцов, все еще существует. Дезертиров, верно, стало поменьше. Многие из бежавших вернулись в свои части, но кое-кто и остался. Я как-то, ребята, съездил на Тишинский рынок. Вот где раздолье для жуликов и скупщиков краденого. Там и развлечения есть: гадалки, качели, можно и в картишки перекинуться. Я заинтересовался, почему не закрывают рынок? Пожилых милиционеров много, но ни один ничего путного не сказал. Дают наряд на рынок, и лови, кого заметишь. И все. А пока он есть, у Михельса всегда найдутся желающие помочь…17. Макс Зингер
Назавтра, едва я пришел на службу, — звонок. Югов. — Явился? В самый раз. Будем говорить с Невядомским. Взяли его на Казанском. Хочу его о Зингере расспросить. — Зингер… Зингер… Что-то знакомое… Убей — не вспоминается… Югов сказал с сожалением: — Везет мне на работничков. У одного с сообразительностью неважно, у другого — с памятью… То ли это его ехидное сожаление меня задело, то ли все само собой выплыло, но только я уже знал, что ответить Югову. — Я вспомнил, кто такой Макс Зингер, Иван Сергеевич. Протокол показаний Бука. Кажется, кто-то из штаба нашей дивизии под Наро-Фоминском. Даже воевал у нас, не скрывая своей немецкой фамилии. Югов неодобрительно пожевал губами. — Почему раньше не вспомнил? — Вы не давали никаких заданий по этому имени. Я был убежден, что вы сами выясните его судьбу в штабе той же дивизии. — Без вести пропал, когда мы отходили от Наро-Фоминска. Таковы официальные сведения. Я лично думаю, что ему нужно было попасть в Москву. Видимо, пропавший без вести Зингер и нашелся в Москве. Думаю также, что в этой абверовской шайке хозяин — он, а не Михельс… Допрашиваем Невядомского днем. Вопросы задаю я. Югов только присутствует. — Как будем именовать вас в протоколе допроса. Невядомским или Вадбальским? — Честно? — У нас с вами разные понятия о чести. Я говорю об имени в протоколе допроса. — Поскольку Вадбальский юридически уже умер, остается Невядомский. Спрашивайте. Может быть, еще и уйду от вышки. Князь знал точно, что, если он поможет нам в розыске обоих агентов, высшую меру наказания ему могут и не дать. Какой-то шанс на житие есть. Значит, прикрывать Михельса с Зингером он не будет. Но здесь уже другая игра пойдет: придется ли нам прикрывать его от них? И Михельс и Зингер теперь в какой-то мере будут зависеть от его показаний. Ему известно, конечно, далеко не все, связанное с предстоящими операциями. Но кое-что, несомненно, известно. Так не проще ли заткнуть ему рот таким же воровским способом, каким была передана записка? Но прикрыть его мы, конечно, прикроем. Пусть только решит, что ему выгоднее: быть честным с нами или с абвером? Все это я последовательно излагаю Князю. Он ни о чем не спрашивает, только на губах блуждает этакая понимающая усмешка. — Я уже догадываюсь, что меня ждет до заседания трибунала или военной коллегии соответственной судебной инстанции. Значит, одиночка, одиночные прогулки на тюремном дворе. Может быть, даже пасьянсы дадите возможность раскладывать? Я смотрю на Югова, он улыбается. — У нас это не принято, — говорит он. Допрос продолжается. И опять его веду я. — Вы давно знали, что Зингер — тоже агент абвера? — Знал… — Какие у него намерения? — Подготовить с блатными крупный диверсионный акт. — Где именно? — Ну, скажем, взрыв на продовольственных складах в Сокольниках. — Предложенный план акции был Зингером уже подготовлен в деталях или предлагалось это продумать вам? — Предлагалось продумать мне с участием Михельса. — Значит, резидентом стал Зингер? — Нет, после удачной акции он намерен вернуться в абверовский центр на Западном фронте. — Вы подписывали какой-либо документ как агент абвера? — Нет. — Ну а теперь адреса, явки, квартиры. Что помните. На этом пока и закончим. — Снегиря,который меня из тюремной больницы вывез и у себя поселил, я вам не выдам. Его дела с Михельсом — только мой побег. А немцев ищите в пустующих квартирах на Таганке. Поближе к бывшей шашлычной. Где-то там скверик есть, на котором они околачиваются. А со мной, что ж? Зовите конвойных. Оревуар, как прощались когда-то в хороших барских квартирах.18. Арбатский рынок
Снегиря я не искал. Для того чтобы найти его, нужен был всего лишь один телефонный звонок в уголовный розыск. И вот — последовавший телефонный разговор. — Стрельцов? Это Вадим Глотов говорит. Ищу вора по кличке «Снегирь». Он работал на Михельса, вернее, один раз сработал, подготовив побег Невядомскому из тюремной больницы. — Ох и зол я был на вас за этот побег, — сердито прерывает меня Стрельцов, — но тебе определенно везет, счастливчик. А Снегиря твоего я знаю. Ищи его в полуподвале углового дома в Столешниковом. На хлебах у Мокея-мойщика в Сандуновских банях. Больших дел у Снегиря давно не было. А о малых можно потолковать. Есть о чем… Снегиря застал я сразу в его полуподвале в Столешниковом, точно следуя описанию Стрельцова… Снегирь собирался обедать и охотно угостил меня воблой в неограниченном количестве, узнав, что я пришел к нему от Стрельцова. Югова он не знал, а со мной, оказывается, встречался. Было это в прошлом месяце, иначе говоря, в октябре, когда сестра с матерью уезжали в эвакуацию, а меня, возвращавшегося вечером из редакции, загнали в бомбоубежище на Кировской улице. Снегирь был одним из трех мужчин, примостившихся у выхода из убежища, словесные портреты которых я по окончании воздушной тревоги сообщил по телефону Стрельцову. Немолодой, с глубокими морщинами у губ, Снегирь казался самым хладнокровным и рассудительным из тройки, от которой я и узнал о существовании множества опустевших московских квартир. Взгляд у него был цепкий, пронзительный, сразу запоминающий виденное. Одет хорошо: почти новый, видимо недавно купленный, свитер, синий — под стать глазам, туфли на толстой резиновой подошве, брюки темно-серые, прилично отглаженные, даже и не заметишь, что владелец их только что валялся на койке. — У меня глаз точный, не ошибусь, если запомнил, — сказал он, говоря о нашей первой встрече. — Что же Стрельцов от меня хочет? Завязать мне или подождать лучшего случая? — Помощи твоей хочет: где взять обоих немчиков? — Кто брать будет? — Скажем, я. — Тебе их никогда не взять. Молод да и горяч слишком. — Может, хоть дом укажешь. — В том и загвоздка, милок, что адресов у них много. Знал бы, не стал молчать. — Для Невядомского же сразу нашел. — А я и не искал. К себе привез, у себя и поселил. Пока не вызнали. Князя ты взял? — Точнее — мы. И Михельса возьмем. Только бы адрес, как ты говоришь, вызнать. — Рад бы помочь, да не знаю. Честно говорю, не знаю. Скрывать бы не стал. Что мне Михельс? На него не работаю. Князь — другое дело. Свой. Да и то не жалею. Раз на дно идешь, там и сиди, а не льстись на тыщи. — А ты на что льстишься, когда хлебный паек у рабочего человека из кошелька изымаешь? — вспомнил я отрепетированное со Стрельцовым мое «интервью» со Снегирем. Он засмеялся: — Знаю теперь, почему ты ко мне сегодня от Стрельцова пришел. Карточки я ему отдал, спасибо сказал, однако понимаю, что из спасибо шубу не сошьешь… — он вынул из ящика стола три одинаковых английских ключа и протянул мне. — Вот передай Стрельцову. Пусть своих красоток шлет, мои девицы там не подойдут. И шлет пусть без боязни — чисто все… — Пошлем, — медленно проговорил я, осененный внезапным «открытием». Это «открытие», как и весь разговор со Снегирем, требует пояснений. Дня три назад ребята Стрельцова взяли Снегиря с поличным, когда он в трамвае у балетного артиста Рышкова продуктовые карточки вытащил. Привезли к Стрельцову. Они — знакомцы старые, разговорились, и между прочим Снегирь поведал, что один «купчик» ищет «приходящую девочку» — по магазинам ходить, в очередях толкаться. Дескать, самому «купчику» это несподручно: засвечен сильно. А просил он о том Снегиря как человека, сами понимаете, уважаемого и солидного. О том просил и еще об одном: ключики по образцу выточить. Ба-альшой мастер по железной части наш Снегирь. Вот он и выточил, а отнести их «купчику» та «приходящая девочка» и должна, если, конечно, это интересно гражданину Стрельцову. Гражданину Стрельцову это показалось весьма интересным. Настолько, что он даже отпустил Снегиря, тем более что карточки уже вернулись к хозяину. А интересным это показалось Стрельцову потому, что прослышал он через «надежных людей», будто кто-то из окружения Михельса и впрямь ищет приходящую девчонку. А Снегирь тот слух подтвердил. Ключ новоявленная «домработница» должна принести на Арбатский рынок торговцу старыми книгами Смирдину, однофамильцу владельца пушкинской книжной лавки. Снегирь, правда, не знал точно, кому потребовалась «приходящая девочка». Заказ на нее и на ключ передал ему знакомый уголовник. Но Стрельцов был уверен: Михельсу. Стрельцов вообще многое знал из того, что творится в военной Москве. А всех воров, которые так или иначе касались дела Михельса, он передавал нам. О «домработнице» — речь особая. Сначала я удивился: на кой черт Михельсу или там Зингеру — кому из них? — нужна была посторонняя свидетельница, пусть даже из воровского мира? А потом понял, что резон в том есть. Есть-пить им надо? На рынок ходить, в магазине ворованные карточки отоваривать? Чем меньше они станут появляться в людных местах, тем меньше шансов попасться нам на глаза. Михельс не дурак, понимает, что его ищут — пусть по словесному портрету. Хотя, если быть честным, все-таки неосторожен умный Михельс с этой «домработницей» из блатных… Ну, это уж его дело, и, похоже, нам на руку. Таким образом, мое «открытие домработницы» произошло не случайно. Мысль об использовании Лейды в розыске агентов абвера, которым удалось просочиться в Москву, пришла мне в голову потому, что Лейда, хотя и косвенно, все же принимала участие в нашей погоне за Михельсом. Нужно было только согласие Югова, ибо в согласии Лейды я не сомневался. Но когда я рассказал об этом Югову, тот не ответил. — Я полагал подобрать для этой роли какую-нибудь девушку из нашего аппарата, — наконец сказал он с оттенком недоумения. — Твоя Лейда не москвичка, Арбатского рынка не знает и найти там торговца крадеными книгами едва ли сумеет. — Но ей именно потому и поверят, что она не из Москвы, а из Риги. Значит, ни в угро, ни у нас не работает. И для Зингера хорошенькая рижанка — надежная гарантия в том, что его не обманывают. — Но она жила бок о бок с Михельсом в вашей квартире. — Михельс ее не помнит, уверен. Сколько он у нас прожил? Всего ничего. А Лейда из своей сберкассы только по вечерам и приходила, и сразу — к себе. Как, впрочем, и Михельс: тот тоже из своей комнаты носа не показывал. Да и вы же знаете: она следила за ним, а он даже ее и не узнал. А для вашего успокоения я сам провожу ее на Арбатский рынок. — Тебе нельзя даже показываться с ней на рынке. Только на расстоянии, в стороне. Потолкайся, если Михельса не увидишь. А если увидишь, знай, что следит он именно за Смирдиным. Что же, рискнем, — наконец согласился Югов. — Полагаю, что на рынок он не пойдет. Нечего ему там делать. А Лейду даже не пришлось уговаривать. Согласилась сразу. — Только какая же из меня домработница? Супа не сварю, с тестом возиться не умею. — Зингер нанимает не повариху, — сказал я. — Зингер нанимает надежного человека, который в НКВД не донесет. Ты ему нужна, чтобы вместо него выходить на улицу и покупать продукты по краденым карточкам. Тебя еще проверять и проверять будут. А твое дело как можно скорее сообщить нам адрес его квартиры. Может быть, за тобой кто-нибудь из блатных ходить будет. Следи. Не доходя до Арбатского рынка, я пропустил вперед Лейду, оглядываясь по сторонам, нет ли знакомых лиц. Арбатский рынок был сравнительно новым для Москвы по тогдашнему времени. Размещался он бок о бок с кинотеатром «Художественный» на не слишком большой площадке как раз за старой станцией метро «Арбатская», линия от которой проходит по мосту через Москву-реку. Новая, глубоко залегающая линия метро и новая арбатская станция тогда еще не существовали. Частично рынок был крытым, частично покупатели толпились у лотков под открытым небом. До войны здесь торговали только продуктами, а война, конечно, внесла и сюда свои коррективы. Ларьков с продуктами стало поменьше, а стихия меновой торговли захлестнула и когда-то чистенькое арбатское торжище. Теперь это было действительно торжище, чем-то напоминающее старую Сухаревку. Продавали и обменивали здесь действительно все — от старой юбки до пачки табаку, полученного по сухому пайку, от кулька с солью до солдатских обмоток. Краденое тоже продавалось, но, как говорится, из-под полы или за пределами рынка. Тут же в сторонке торговали и старыми книгами, чаще всего тоже крадеными. Купить, однако, можно было многое, небезынтересное для любителя книг. У одного продавца я нашел «Жизнь животных» Брэма, у другого «Русские ночи» Одоевского, у третьего «Русскую мысль и речь» Михельсона. Все это были редкости, которых в книжных магазинах уже не увидишь. Но где же Смирдин и найдет ли его Лейда? От Стрельцова я знал, что он торгует книгами, иной раз крадеными из квартир эвакуированных или просто бежавших из Москвы. Но книжки было трудно спрятать за пазуху, а в портфель или чемоданчик может здесь заглянуть любой милиционер. Лейду я сразу потерял: она скрылась в поисках книжного торжища. На всякий случай спросил у одного из букинистов, не видал ли он Смирдина? — А разве он воскрес? — ответили мне под общий хохот. Тут были действительно букинисты, для которых имя Смирдина чужим не слышалось. И вдруг я услышал позади чей-то шепот: — А вам что-нибудь от него нужно? Спрашивал какой-то «блатяга» в старом ватнике и ставших теперь модными байковых лыжных штанах. — Надо посмотреть, — сказал я уклончиво. — Подождите полчасика, он только что был здесь и ушел с какой-то девушкой. Значит, Лейда нашла все-таки Смирдина и ушла вместе с ним. Затаенное беспокойство защемило мне сердце. Тревожила судьба девушки. Как она передала ключ? Что сказал Смирдин? Суетились ли поблизости блатные наблюдатели? Как прошло первое свидание с Зингером?.. Оставалось только ждать ее звонка, если ей удастся позвонить.19. Звонок Лейды
Лейда позвонила только через два дня. Должно быть, за ней следили, не оставляя ее одну. Видимо, поэтому и разговор был сверхкратким. — Большая Молчановка, двадцать три. Сегодня в десять вечера, — и повесила трубку. — Будем брать, — сказал Югов. — Ты с Пашей и двое оперативников. Он положил свой ТТ в карман куртки и вызвал машину. Мы молча пошли за ним. Дом на Большой Молчановке под двадцать третьим номером когда-то был дорогим барским пятиэтажником. Нужная нам квартира помещалась на втором этаже. — Черного хода нет? — шепотом спросил Югов. — Нет, я проверял, — ответил Безруков. Позвонили. Дверь открыла Лейда. За ней сзади стоял здоровенный мужик, очень похожий на тех, кого я видел на рынке. В руке у него был «вальтер», но выстрелить он не успел: Югов тотчас же из пистолета перешиб ему руку. В комнате были двое: Зингер в ватном халате и Михельс в грязном ватнике. — Руки! — крикнул Югов. Зингер поднял руки, но Михельс, отступая, успел юркнуть в соседнюю дверь. Тут же послышался звон разбитого стекла. Я с револьвером бросился вслед, но Михельс уже выпрыгнул из окна, выбив плечом раму. Я подбежал к окну, рассчитывая, что приземлиться со второго этажа благополучно он едва ли смог, но Михельс уже прыгал с крыши примыкающего к дому сарайчика. Я выстрелил, но в темноте двора промахнулся. — Сколько метров до земли? — спросил меня Югов. — Там сарайчик под окном. Опять сбежал Михельс… — Зато Зингер уже у нас, — очень довольный, проговорил Безруков… Зингера допросили по прибытии в управление. — Я скажу вам всю правду, потому что надеюсь, что меня сочтут за простого военнопленного, — начал он. — Это уж как решит трибунал, — сказал Югов. — Значит, трибунал неизбежен? — Для вас — да. Вы же разведчик, а не военнопленный, к тому же добровольно не сдавшийся. — Я сдался добровольно. — Когда мы вас накрыли с другим шпионом. — Я расскажу вам и о нем. — Что ж, трибунал, надеюсь, это учтет. Вы что, работали у нас в стране? — спросил Югов. — До войны я окончил университет в Ленинграде. — Потом абверовскую школу в Германии? — Специальный курс. Для командных должностей в русской армии. — Где вас перебросили через линию фронта? — продолжал допрос Югов. — Под Смоленском. Под фамилией Голубева с соответствующей легендой. Был в аппарате штаба дивизии под командованием генерала Карельских. — А затем во время боя вы пропали без вести и перебрались в Москву, где у вас была явка к Михельсу? — Точно так. Я взглянул на Югова: — Разрешите вопрос? — Давайте. — Какие сведения вы сообщали абверу во время боев под Смоленском? — спросил я. — Почти ничего. Вы отступали тогда, и мои сведения абверу особо не требовались. Моя задача была пробраться в Москву, передать Михельсу новую рацию взамен испорченной и устроить перед возвращением крупный диверсионный акт. На этом особенно настаивал представитель гестапо в абвере. — Где намечалась эта диверсия? — Намечались продовольственные склады в Сокольниках, но уголовные агенты Михельса отказались от этой акции даже за очень крупную сумму денег. — Кто был ваш агент на ремонтном заводе, от кого вы получали и передавали по рации сведения об отремонтированных танках? — снова включился в допрос Югов. Зингер молча взял папиросу из открытой на столе коробки «Казбека» и засмеялся: — Я уже к вашим папиросам привык, хотя в Германии у нас курят только сигареты. На фронте даже выучился курить махорку. — Вы не ответили на мой вопрос, — напомнил Югов. — А у нас не было агентов на заводе. Михельсу при всем желании не удалось найти человека. Мы просто считали отправляемые на фронт танки на железнодорожных путях Один раз чуть не попались на этом, выручила находчивость Михельса. — Это его настоящая фамилия? — Не знаю. Под этим именем он был представлен мне в абвере. — Кто же из вас был старшим? — По званию я. Но он был связан с уголовным миром города, имел нескольких послушных агентов. — Вы его адрес знаете? — К сожалению, нет. Он почему-то скрывал от меня адреса свободных квартир. — Вы Снегиря знаете? — спросил Безруков. — Кто это? — не понял Зингер. — Я вообще не знаю кличек его агентов, даже тех, кого он приставил следить за моей домработницей. Не напрасно, между прочим. Я теперь понимаю, кому мы обязаны вашим налетом и моим арестом. Славная девочка-латышка. Меня это и подкупило, но Михельс ей не доверял. На этом допрос Зингера был закончен, протокол его, с которым Югов собирался идти к генералу, был подписан, но сначала мы пригласили давно уже ожидавшую нашего вызова Лейду. — Я буду рассказывать с самого начала. — Лейда торопилась, и от этого ее акцент стал заметнее. — Рынок сам по себе очень занятный и в другое время меня бы более заинтересовал, а здесь я торопилась скорее выполнить поручение. И тут же, конечно, потеряла Вадима: мне вообще не хотелось, чтобы меня провожали. Потолкалась в рядах, где дамское белье продавали, прошла к старым картинам и нашла наконец книжки. Спросила Смирдина: все смеются, умер, говорят, еще в прошлом столетии. Потом меня какой-то оборванец остановил и шепотом спросил, что мне у этого Смирдина нужно. Я показала ему ключ, и он тут же схватил меня за руку и повел куда-то за рынок. Там в одном невзрачном домишке я и нашла этого Смирдина, который, как мне потом сказали, был просто скупщиком старых краденых живописных полотен, которых у него было действительно много. — Найти этот домишко поможешь? — перебил я ее. — Конечно. А тебе зачем? Ты же государственных преступников ловишь? — Я Стрельцову сегодня же сообщу. Продолжай. — Продолжаю. Смирдин посмотрел на ключ и сказал, что это, кажется, тот же самый, какой он передал Снегирю для дубляжа, но лучше всего, конечно, проверить. Потом приказал босяку, который привел меня к нему, отвести меня на Большую Молчановку. Только спросил при этом: «А она сама была у Снегиря?» «Говорит, что была», — подтвердил босяк, а это я ему наврала, конечно, сказала так, как научил меня Вадим. Ну а на Большой Молчановке встретилась сразу с обоими, с Зингером и Сысоевым, который, оказывается, Михельс. Зингеру я сразу понравилась, по его глазам это поняла, а расспрашивать меня он поручил все-таки Михельсу. Тот посмотрел на меня внимательно и говорит: «Лицо знакомое. Где-то я ее видел». А я не смутилась, потому что к родственникам переехала на это время немножко пожить, и говорю: «Наверное, близ костела. Я часто туда хожу. Я католичка». Михельс же, записав мой адрес, тотчас перешел к форменному допросу. «Адрес проверим. А теперь подробно о том, что вы делали в Риге до советской оккупации и во время ее?» И я в точности рассказала о нашем маленьком кафе, где папа орудовал на кухне, мама сидела за кассой, а я подменяла по возвращении из школы нашу дневную официантку Эмму. «Доходное кафе?» — спросил он. «Очень», — подтвердила я и соврала, конечно, потому что мы чуть не прогорели, по уши в долгах у поставщиков сидели. «А когда провозгласили Советскую власть, и кафе и доходы ваши, конечно, стали собственностью государства?» — ехидно спрашивает Михельс, на меня посматривая. «Обидно было, конечно», — говорю я. «Что-то большого огорчения я в ваших словах не чувствую, — сразу же подмечает Михельс и спрашивает уже строже: — И кто же надоумил вас бежать из Риги накануне освобождения ее от Советской власти?» «Мои родные, которые звали меня в Москву: подальше, говорили, от войны будешь». Тут оба они захохотали, и мне даже самой стало смешно, только я сдержалась. Пусть думают: сидит, мол, глупая девчонка, которая ни в жизни, ни в политике ничего не понимает. Неважная артистка из меня, но с ролью домработницы, думаю, справлюсь. А они оба вдруг начинают говорить по-немецки, считая, что я их не понимаю, но у нас немецкий проходили в школе и в буржуазной Латвии, и при Советской власти, да и среди наших гостей в кафе было немало немцев. «Возьмем, — говорит Зингер, — посмотрим. Лучше, чем какую-нибудь выдрессированную комсомолом советскую девку брать». «Смотреть надо, да повнимательнее, — откликается Михельс. — Я своего Серого к ней приставлю» — это он о том босяке, который привел меня на эту Молчановку. И вдруг настораживается и обращается ко мне по-немецки: «А ты знаешь немецкий язык?» Я не растерялась и отвечаю: «Простите, не понимаю». Он тут же спрашивает, но уже по-русски: «А какой язык у вас проходили в школе?» «Латышский и русский, — отвечаю я. Действительно, в некоторых школах у нас проходили русский язык в качестве иностранного. Я соврала, рискнув, что он проверять не будет. И при этом добавила: — Кроме того, у нас в семье говорили по-русски. Ведь мать же у меня была русской и родилась в Москве, только в Риге перешла в католичество». Так я начала работать у Зингера. Но Михельс меня тут же предупредил, указав на Серого: «Вот этот человек будет всегда с тобой на кухне и на улице. Будешь звать его Серый. К телефону не подходить». И ушел. Зингер действительно не знал его адреса, а когда ему требовался Михельс, он просто приказывал Серому: «Найди мне его к такому-то часу». Серый даже собрался спать в одной комнате со мной. Тут уж я не вытерпела и пожаловалась Зингеру, и тот приказал ему лечь на полу возле моей двери. Так продолжалось несколько дней, и Серый всюду ходил за мной — в булочную и продуктовый магазин, где я покупала массу продуктов: карточек у меня было много. Ко мне Серый не приставал, хотя я ему нравилась, просто он чего-то боялся и только два раза выходил куда-то вместе с Михельсом. К телефону я подойти не могла. Лишь один раз повезло: Серый застрял в уборной, и мне удалось сообщить вам по телефону адрес. Больше ничего не успела: услышала шаги Михельса и Зингера, которые вдруг появились вместе. Хорошо, что я в это время накрывала на стол, но Михельс взъярился: «Ты почему одна?» «Торопилась накрыть стол, а ваш Серый в уборной сидит», — говорю я, а он продолжает с этакой подозрительностью: «По-моему, ты по телефону разговаривала?» «Мне и звонить-то некому», — говорю. Ну, обошлось без последствий, только он на Серого накричал. А вечером и вы все появились. Я очень испугалась, когда Серый револьвер вынул. — Спасибо, Лейда, — сказал Югов. — Ты нам здорово помогла. Вечером мы были дома. Югов отпустил меня до утра. О наших чекистских делах, как и всегда, разговора не было. К моим ночным отсутствиям давно привыкли, а вот Лейду все расспрашивали о ее свободной от бабушки жизни в Милютинском переулке. Лейда отчаянно и разнообразно врала. — Вольная импровизация, — сказал я ей, когда мы остались одни на кухне, — можешь считать себя почти писательницей.20. Диверсия
Вор-дезертир по кличке «Серый» пришел к своему корешу Митьке Замятину, который тоже ютился в брошенной жильцами квартире. — Водки принес? — спросил Митька. — А то нет? Чистый грузинский тархун. Четыреста рублей пол-литра. — Ну а у меня закусь, черный хлеб с воблой. Карточки новые выдали. Не удалось вынуть? — Ну сядем тогда. Дело есть. — Давай. — Чужому нужно где-нибудь на путях под Москвой мину поставить. Товарный эшелон с танками по Ярославской пойдет. Танки заправлены. Взрыв. Пожар. Половина эшелона — под откос. — Значит, в Пушкине хочешь? — Ясно. Там у тебя тесть в депо работает. Поможет. — За что? — За пару косых тебе и тестю. Ну и мне кое-что останется. Замятин подумал и вздохнул: — Тестю я говорить не буду: выдаст. Самим придется возиться. А я, честно говоря, не люблю в политику лезть. Мне и в России жить неплохо. Да и твой Чужой мне не нравится. Я лучше подумаю. — Думать некогда. В четверг эшелон пойдет. В шесть часов утра к Москве подходит. — Боязно, — протянул Замятин, — тут же не с уголовкой дело иметь придется, а с чекистами. Если влипнешь — вышка. — И чекистов обмануть можно, — убеждал Серый своего собеседника. — А России все одно не будет. Мне один тут из Минска русскую газету привез. Пишут, что зимнее наступление задерживается из-за ранней зимы. Ведь с октября закрутила. А весной новое наступление начнется, и Москве все равно конец. Чужой у своих нас всегда поддержит. — Не знаю, — опять нерешительно протянул Замятин. — Сделано, — успокоился Серый, — подберем пару людишек, выберем место и засядем подале. Умно сделаем, все выйдет. — Чужой тоже будет? — Непременно. Там же и расчет. Об этом разговоре я услыхал от Замятина: он сам явился на Дзержинку и сидел у Югова. — Вот тебе и диверсионный акт, о котором говорил Зингер, — обратился ко мне Югов. — Нашелся честный человек: предупредил. Так говоришь, завтра? — Завтра после пяти утра. Мину устанавливаем крупную, новехонькую. А мы будем в кустах под откосом сидеть. Там у Пушкино большущий откос, а кусточки реденькие. Устанавливаем, как только тесть мой из депо пройдет. Сам-то он ничего не знает. — Михельс будет наверняка? — Мне так сказали. Мы его Чужим зовем. — Обязательно должен быть. Может, где-нибудь в сторонке. Придется весь этот участок пути оцепить. Московский гарнизон поможет. — Югов засмеялся: — А тебя, милок, тоже за живое задело? Не захотел немецким шпионам помогать? — Не могу против своих, — Замятин опустил голову. — Я думаю, тебе все равно придется на фронт возвращаться… Хвоста за собой не оставил? — Нет. Мне доверяют. — Так иди переулком да посматривай, если что… Когда он ушел, Югов распорядился: — Значит, завтра в пять у пушкинского депо. Вы с Безруковым придете пораньше и наблюдайте за всеми, кто появляется у железнодорожных путей. А с начальником Московского гарнизона я сам свяжусь. Вся местность будет оцеплена. На этот раз Михельса мы должны взять. — Я тоже этого боюсь, — вслух подумал Безруков. Раннее утро. Еще нет пяти часов, темно, но на востоке небо уже розовеет. Размещаемся в стороне друг от друга, чтобы быть как можно незаметнее. В ближайшем перелеске — наши люди, а к шести утра вся местность кругом уже будет оцеплена. Мы ждем почти час, так что у меня даже закрадывается сомнение: будет ли сегодня уложена мина. Но вот над откосом у насыпи появляются какие-то люди. Их трое. Двое несут железный ящик, небольшой, но тяжелый, судя по их усилиям. Третий осторожно шагает сзади, все время оглядываясь по сторонам. Все трое похожи на ремонтных рабочих. Михельс обдумал все очень точно. В конце концов мина поставлена. Псевдоремонтники спустились под откос, не увидев ни одного из чекистов. Югов ничего не говорит, он только делает рукой знак, означающий одно: — Взять! Взяли всех. Пытался бежать только Михельс, пришлось стрелять. Стрелял Паша. Стрелял прицельно: в ногу. Промазать было невозможно: Михельс не успел далеко убежать…21. Михельс выходит на авансцену
Трудно нам будет с Михельсом, считает Югов. И я с ним согласен. Паша Безруков, наш «стрелок», третий день сидит у его койки после операции колена. Доктор уже разрешил допрос — пока накоротке, не утомляя больного. Но Михельс как бы отключился от окружающего мира. Ничего не видит и не слышит. Покидает койку лишь по необходимости, бредет на костыле вдоль стены. Паша — за ним. Так и возвращаются в палату. Ни одного слова не произнес с тех пор, как его перевели сюда из операционной. Что это? Шок? Психологическая реакция на провал или просто желание оттянуть время расплаты?.. Вызванный к нему психиатр долго осматривал его, что-то пытался спросить. Безуспешно. В глазах равнодушие, пояснил он, полное отключение от жизни в больничной палате. Очень похоже на симуляцию, когда симулирующий уже ни на что не надеется. Вероятнее всего, врач не ошибся. На что мог надеяться Михельс? На побег, подготовленный оставшимися на свободе уголовниками? Это невозможно, и он знает отлично, что это даже немыслимо. На помилование? Но слишком много крови на его руках. И об этом знает Михельс, хоть и не считал убитых им советских людей. Но мы-то считали. Оттянуть допрос можно, но суд не оттянешь, и на суде этом может быть вынесен только один приговор. Но почему же молчит? Мы-то ждать можем, а ему какой смысл в ожидании? Слишком много улик у нас, они перевесят любую попытку солгать или отмолчаться. На допрос Михельса Югов взял меня. Михельс начал разговор первым: — Прошу учесть, что я не просто Михельс, а фон Михельс. Представитель старого дворянского рода в Западной Пруссии. Не терплю здешнего военного быдла. Так что же вас интересует? — Имя. Оно настоящее? — Мне нет смысла лгать. — Но вас забросили в Москву под именем Сысоева. — Я вернул себе свое настоящее имя, когда провалилась фрейлен Мюллер. Под именем Сысоева я вербовал уголовников. Национальность свою я уже не скрывал. Поверившие в победу Германии профессиональные бандиты и воры шли ко мне очень охотно. Стоило это мне не дешево, но денег на организацию террористических и диверсионных акций абвер не жалел. — Много ли осталось в Москве ваших сообщников? — Я не отвечу на этот вопрос. — Боитесь, много знают? — Я никого и ничего не боюсь. Но предателем никогда не был. Обо всем, что касается лично меня, расскажу. Я не Зингер и хочу умереть честно. — Неужели вы считаете честным все содеянное вами в прифронтовой Москве? Михельс равнодушно пожал плечами. Видно, у него было совсем другое понятие о честности. Так и оказалось. — Я воевал во вражеском тылу, как и мои соотечественники на фронте. — Капитана Березина убили вы? — Я спускался по лестнице вслед за ним. Примерно на расстоянии метра я выстрелил ему в спину. А чемодан его забросил в подвал, мне он был не нужен. — Интересно все-таки, почему вы так спокойны? Ведь все записывается. — А что мне грозит, кроме пули? — Да, смертную казнь вы заслужили, конечно. Только памятника вам никто не поставит. Живой Зингер, приказам которого вы подчинялись, многое рассказал нам и об организации абвера, его людях. Нам, в сущности, больше допрашивать вас не нужно. Не о чем. — Значит, приговор уже вынесен? — усмехнулся Михельс. — Приговоры выносит суд, а в данном случае военный трибунал, — сухо пояснил Югов. — Мы только расследуем ваше дело. Оно еще не закончено, и вы не раз понадобитесь нам, когда будут разбираться дела ваших уже пойманных или еще гуляющих на свободе сообщников. Впрочем, долго это длиться не будет, и те, выдавать которых вы не хотите, с лихвой рассчитаются с вами. А теперь я думаю, что на этом можно бы и поставить точку. С этими словами Югов встал и кивком головы показал мне на выход. С делом Михельса было покончено.22. 31 декабря 1941 года
Сегодня я провожаю ушедший год и встречаю новый. До прихода гостей еще далеко, но календарь уже доживает последние часы. Время подытоживать год или искать рубеж, пересекающий жизнь. У меня этот рубеж прошел в октябре, когда Москва стала фронтом. Жизнь круто повернула со встречи с Юговым. Я стал чекистом… Хорошо размышлять в согретой рефлектором комнате, обычно у нас в нетопленном доме температура не подымается выше пяти градусов тепла, но я с помощью электроприборов нагрел ее до девятнадцати. Стол накрывает Лейда, собрав все принесенные ей пайки. Слышу ее голос в коридоре, приветствующий Югова. Он явился на полчаса раньше одиннадцати. — Спасибо за доброе слово, девонька, — отвечает ей Югов. — Хорошо, что мы с тобой встретились, когда никого нет в коридоре. Приходи-ка завтра ко мне в управление в первой половине дня. Надо с тобой поговорить с глазу на глаз. — Какое-нибудь поручение, Иван Сергеевич? — Не поручение, а предложение. Потому и секретничаю, что у нас хороший разговор получиться может. Югов, постучавшись, входит ко мне. — Извини за то, что раньше других пришел. Кстати, и уйду в первые же минуты нового года. Встречу его с вами и уйду на дежурство. Сменю Безрукова, который сейчас дежурит. Я весь отдел отпустил на эту ночь. — А зачем вам Лейда в управлении понадобилась? — Подслушивал. — Просто слышал. Вы же ее у моих дверей приглашали. — Хочу ее к нам взять. Скромна, находчива, не болтлива, умна… А ты против, что ли? — Не знаю, Иван Сергеевич. Годится-то она годится. Но все наши петухи, как павлины, хвосты распустят. — Некогда им будет. — Югов нахмурился. — Учти, что Михельс не последний шпионский ас. Вчера из Серпухова звонили, что местный патруль задержал человека, якобы вернувшегося из оккупированной зоны. Документы, вероятно, липовые. Вот и поезжай завтра в Серпухов и на месте выясни: кто есть кто… Каким-то он будет мой первый день в новом году, на пороге второго года войны? Мы все уже сидим за столом, мои соседи по квартире, которых чуть-чуть пугает моя новая профессия; уже пробили двенадцать раз часы на Спасской башне Кремля и хлопнула открытая бутылка шампанского, припасенная для меня бережливой матерью, и Югов, подняв бокал, сказал свой новогодний тост. Я запомнил в нем только следующее. — …И еще несколько слов о хозяине нашей новогодней встречи. Я учил его, как учил меня легендарный Феликс Дзержинский, и учил, конечно, не с тех высот, но с тем, чтобы Вадим знал и запомнил его завет о том, что должно быть главным в чекисте. Война еще не кончена, осадное положение в Москве не снято, и враг будет еще не раз забрасывать к нам своих агентов, одного из которых вы знаете под именем Сысоева. Не осторожничайте с Вадимом, он же заботится о нашей безопасности. Пусть в тылу, но он солдат, человек с ружьем, защищающий вашу жизнь и свободу… Окна замерзли, едва можно было разглядеть в них бесснежный туман, и мечи прожекторов пока не рассекали небо. Шел январь второго года войны.Сергей Абрамов ДВА УЗЛА НА ПОЛОТЕНЦЕ
Повесть посвящена работникам уголовного розыска.

В старом доме
1
Дом этот действительно старый, построенный еще в начале века, одноэтажный и односемейный, стоял на выселках в Заречье, где доживали свой век заштатные соборные клирики. Сложили его давным-давно из корабельного леса шестивершковой толщины, и выглядел он старик стариком. Только несколько бревен под крышей, видимо подгнившие, были заменены так, что старик этот красовался щеголем, напялившим на лоб не по возрасту светлую шляпу. Окна по фасаду были распахнуты, и из них доносилось на улицу негромкое жужжание электродрели. Михеев сверлил стену, стоя на стремянке. Востоков внизу придерживал лестницу. — Насквозь, — вздохнул Михеев, вынимая из дерева сверло. — Третью дырку сверлим — и хоть бы что. Никакого следа металла. — Можно еще раз простучать, — сказал Востоков. — Ведь бревна изнутри дубовыми досками обшиты. Так что тайник до потолка можно оборудовать. Богатые купцы золотую утварь дарили. Только где она столько килограммов металла ухитрилась запрятать? Столько раз дом обыскивали и стены прощупывали. — Сказка это твое «сокровище». — Будем точны, Василий Иванович: легенда. А когда легенда оборачивается былью, нужен поиск. Куда эта ведьма могла клад засунуть? Сколько лет ищем — в доме нет. В земле у дома или под домом? Так она дар своего попа в землю не спрячет. Земля для мертвых. Земля еси и в землю отыдеши. Значит, в стене, где бревна перекладывали. В таких бревнах, да еще в дощатой набивке, лучше всего тайник оборудовать. Тем более не задаром, для церкви. Какой плотник жене протопопа откажет? Вот она и расстаралась. Одна — соседей нет, свидетелей нет. Вы с Катькой в Ливадии загорали, а я в колонии срок отбывал. Да и плотников захочешь потом сыскать — не сыщешь: перекати-поле, шабашники. Михееву сверлить не хотелось. В протопоповский клад он не верил. Уголовный розыск клады находит, а кладоискатели нет. А не окрутила ли их старуха? Ей что? Лишь бы Христу угодить. — Во-первых, не старуха: ей всего пятьдесят с гаком, — откликнулся снизу Востоков. — Я свой полтинник восемь лет как разменял, а старость еще не схватила за горло. Поживем всласть, когда ценности из стены вынем. А что они там есть, у меня документ имеется. Читал ее письмо протопопу? — Это не я читал, а ты вслух трубил. — В чужие руки таких документов не дают. Слушай еще раз внимательно: «Дар бесценный твой, отец, сама Катерине отдам, когда вырастет и созреет, и коли в хорошие руки попадет, когда замуж выйдет. Только крута она нравом: в тебя пошла, отче. Девчонка она еще, а матери так и выложила, не ищи жениха мне, мать, сама найду, кто приглянется. Я смолчала, только запомнила и решила, что надо ждать. Славно все-таки, что ты о девчонке позаботился, а не о недоумке своем, что в колонии сидит. Только меня сумление берет, угоден ли дар твой господу богу нашему: очень высоко, говоришь, его оценили — большой урон для власти мирской будет. Вот я и подумала пока держать его ото всех втайне. Спрячу наглухо в стенке. Плотник Ефимыч такой тайничок мне вырезал: ни глазу постороннему, ни лапам чужим не добраться. Сто лет проживет, если сама не выну». — Ну а дальше ерунда пойдет, сплетни семейные, — заключил Востоков. — Ты, Василий, поторопись, а то теща соизволит с обедни вернуться. Время — деньги, это про нас сказано. Сверли, пока не досверлишься. И досверлил: дрель нащупала металл. — Останови, — сказал Востоков. — Неужто золото? — Может, и серебро. Я уже тебе говорил, что золотая утварь тоже была. Специально хранилась для особых служений, когда, скажем, наезжий митрополит всенощную или обедню служил. Да и на сабашниковских иконах золотые ризы были. — Это ж какие такие сабашниковские? — удивился Михеев. — Был такой купец при Николае Втором. Так он здешнему собору иконы только в золотых ризах дарил. Отец рассказывал. А после революции было изъятие церковных ценностей. Вот я и думаю, что папахен мой, как настоятель собора, к этому золотишку руку вовремя приложил. И ценности сдал, и себя не обидел. А письма тещи твоей и моей мачехи мне на днях вернули в соборе. Золотили иконостас, а под образом в золоченом окладе тайничок с письмами. Среди них я и нашел счастливый для нас документик. У Михеева в васильковых его глазах, из-за которых незамужние девки когда-то передраться готовы были, засветился огонек не интереса, а страха, пожалуй. Рассказанное Востоковым его явно обеспокоило. — Что стоит твой документик, если по всему церковному причту его назубок выучили? — Ни-ни, — покачал головой Востоков. — И отец давно умер, и старых клириков почти не осталось. А новых не занимают сердечные дела покойников. Да и старичок реставратор как нашел письма, так мне их и передал: увидал меня в окно, когда я проходил мимо. Все ведь знают, чей я сын и кого могут заинтересовать эти письма. К тому же письма лежалые, нетронутые, резиночкой перетянуты, а на запылившемся верхнем конверте крупными буквами выписано: «Его преосвященству, отцу Серафиму лично в руки». Не унывай, Васек, кроме нас с тобой, о сокровище никто и не ведает. — Так-то оно так, — усмехнулся Михеев и почему-то подмигнул собеседнику. — А ты к чему? Чужая собака к ничьей косточке тянется. Только косточка не для нее припасена. Наследство-то Катьке оставлено. — Было оставлено. А сейчас без меня вам делить его не удастся. Мой пай — половина. По-честному. А не согласны — государству отдам. Михеев присел на перекладине стремянки. Если по-деловому, значит, без Востокова не обойдешься. Только почему половина? На троих делить надо. — Не выйдет, — сказал Востоков, поймав на лету мыслишку Михеева. — Будет все как задумано Вы с Катериной одна половина, я — другая. И без меня вы ни грамма из стенки не вынете.2
Тут-то и вернулись домой Марьяна с дочерью, не достояв ранней обедни в соборе. Марьяна уже не пела в хоре, давно потеряв голос, пела Екатерина, усвоив навыки матери и ритуал утренних и вечерних церковных служб. Но в этот день она только стояла у клироса, даже подпевать не могла: до хрипоты сорвала голос, глотнув поутру ледяного кваса из холодильника. Возвращение жены и тещи Михеева застало обоих врасплох. Михеев едва со стремянки не упал, даже дрель не успел спрятать. Востоков тоже заметно смутился. Но именно с него и начала свою язвительную увертюру Марьяна. — Что-то я не звала тебя в гости, пасынок. Ты на черном ходу живешь и черным ходом к себе пройти можешь. — Значит, по-вашему, я и к Василию зайти не могу? — с отменной вежливостью заметил Востоков. Андрей Серафимович не любил скандалов и давно знал, чем может окончиться разговор с полоумной бабой. А она не унималась. — У Василия своя комната есть, а ты у меня гостишь, родственничек. В моей комнате. Может, оценить мои вещи пришел, товарищ оценщик? Так ваша комиссионка на них не позарится, да и я продавать не собираюсь. — Я попозже к тебе зайду, Васек, — сказал Востоков и, не прощаясь, вышел. Наступило неловкое молчание. Поступь главы семьи и хозяйки дома была тяжелой и гулкой. — Что это у тебя в стене торчит? — спросила она зятя, не повышая голос. Электропровод от застрявшей в бревне дрели извивался по полу, как бечевка. — Дрель, — откликнулся робко Михеев. — Зачем? — Сверло застряло. Там металлическая прокладка, должно быть. — Зачем сверлил, херувим, спрашиваю? От неловкости у Михеева даже лицо вспотело. Он действительно походил сейчас на потолстевшего ангела. Нетрудно было понять, почему он приглянулся Екатерине, когда она еще ходила в невестах. — Зачем же так с родней разговаривать, Марьяна Федоровна? — Феодоровна, — поправила она с ударением. За «фео» она боролась со всеми, кто проглатывал эту гласную, несмотря на то, что произносить так привычное русское отчество было не легко и не верно. Но именно так и называл ее покойный сожитель, протоиерей Серафим. — Что вы искали с Андреем, я догадываюсь. Так вот послушайте, — прибавила она с вызовом. — Эта «металлическая прокладка» останется в стене до моей кончины. А если вы изымете ее вопреки воле моей, я тут же извещу уголовный розыск. Государство сумеет о сем позаботиться.3
Андрей и Василий, заранее сговорившись, встретились в кафе, где водки не подают. Для трезвого разговора сухой закон требуется. — Может, коньячку возьмем? — Плохой здесь коньяк. Сухого грузинского стребуем. Грамм триста. С пастилкой. — Не люблю я эту кислятину. Зачем? — Разговор у нас длинный будет. И трудный. Его сивухой не облегчишь. — Что ж, послушаем. — А задумывался ли ты, Васек, как мы с тобой дальше жить станем? Ты до пенсии будешь тянуть физкультуру в школе, если мускулы к шестидесяти не ослабнут, а я оценивать мебель в комиссионке. Зарплату нам не прибавят, а выгнать могут, если проштрафимся. Деньги со сберкнижки мы распылим, новых сбережений не вложим, что ж останется? Играть в спортлото до получения «сокровища» после смерти твоей Кабанихи? Только она, по-моему, умирать не собирается. Может, с тещей твоей в открытую поговорить, без ругани, по-хорошему? Вдруг снизойдет? — Не снизойдет. Катька вчера уже пробовала. — И как? — Никак. Дар протоиереев, мол, дар опасный, богом не освященный, государству противный. А что за дар, не говорит. Помолчали. Подумали. Каждый по-своему понимая, что надо искать клад умеючи, с воображением, с выдумкой. — Вот что, Васек… а не приходила тебе в голову мысль о том, что это препятствие можно, в конце концов, и устранить? — Приходила. Только риск большой. Страшновато. — А ты помозгуй. Конечно, зверь баба, вся улица знает. Только отец с его иезуитской хваткой и мог с ней совладать. И вот что может получиться: значит, поссорились. Вошла колом в горло слепая ярость. Не сдержался и — нокаут, как говорят на ринге. И не надо считать до девяти. Финиш. — Что-что? — «Конец» по-латыни. Преставилась. С одного удара. — Это с твоего-тоудара? — Почему с моего? Я боксу не обучен. — Значит, мне — в тюрьму, а ты с кладом останешься? — Клад в стене будет до твоего возвращения. Катерина проследит. А ты сразу с повинной. Ну, посидишь малую толику. По сто шестой статье Уголовного кодекса — за неосторожное убийство. От одного до трех лет. Суд все учтет: и неумышленность убийства, и добровольное признание, и отличную характеристику с места работы. Плюс зачет срока следствия и хорошее поведение в колонии. Больше года не просидишь. Еще помолчали. Один — нахмурясь, с опущенными глазами, другой — с настырным, обжигающим собеседника взглядом. — С одного удара, Андрей, даже на ринге не выйдет. Не убьешь. — А ты зажми в кулаке что-нибудь металлическое. Хотя бы медную наковалешку с комода. Будто сгоряча схватил — что под руку подвернулось. Ты с Катериной поговори предварительно. Усек?Преступление
1
Михеевы спали на широкой двуспальной кровати, еле втиснутой в четырехметровой длины пенальчик, как называл Василий свою комнатку, выкроенную из большой трехоконной комнаты тещи. Но в эту ночь ему не спалось. Разговор с Востоковым щемил сердце. — Ты так ворочаешься, что всю простыню из-под меня вытянул, — жена проснулась. — Задумался. — О чем? — Так, всякая муть в голову лезет. — А тебе идет: строгий ты с лица в задумчивости. Не зря тебя мать херувимом зовет. — Я ведь о ней все время и думаю. Вот она где у меня сидит, — Михеев показал на горло. — Не канючь, — остановила его Катерина. — Я тоже с характером и тебя ей в зубы не дам. Михеев растерянно посмотрел на жену. Говорить или не говорить? Все-таки старуха ей — мать родная. Связь кровная, а о том, чего Андрей добивается, даже вслух произнести не решишься. — Ты о кладе поповском забыла, Катя? — спросил он ее с укоризной. Катерина вздохнула уступчиво — без надежды, даже без сожаления. Будто смирилась с необходимостью ждать. — Клад у нее в стене замурован. Отдать его нам она не захочет. А силой возьмешь — государству выложит, как пригрозила. Вот ты в безбожниках ходишь, а я верующая. И как верующая скажу: блаженны нищие духом. Ты даже не знаешь, что это одна из заповедей Христовых. Только блаженства у нас давно нет, обнищали мы духом, ни воли его, ни силы убеждения уже не осталось. А ведь отец, бывало, одним словом мать укрощал, а мы, нищие духом, только казнимся. Терпеть да ждать — вот наш удел, Василий. Нет, думал Михеев, рассказать ей о черном замысле никак невозможно. Придется стерпеть эту муку-мученическую в одиночку, пока терпится. Что такое нокаутирующий удар — он знает. Лежишь на полу, а судья над тобой всю роковую десятку отсчитывает. Можно и совсем не встать от удара — как ударить. Он всегда помнил об этом, когда ходил в тяжеловесах и не помышлял, что станет когда-нибудь рядовым учителем физкультуры. А если рискнуть? С одного удара, без предварительной подготовки. Размахнись рука, раззудись плечо. Чистенькое неосторожное убийство. Ни одна живая душа, кроме Андрея, знать не будет, что оно спланировано. А не выйдет, так не выйдет. Пусть Андрей додумывает. Михеев погасил ночник и закрыл глаза.2
Отверстия, высверленные электродрелью в двойных стенах дома, снизу не видны и не замечены никем из присутствующих. А присутствуют многие — во главе со старшим инспектором капитаном милиции Саблиным. Они сидят здесь уже второй час, заканчивая первые протоколы допросов по делу. Тело убитой уже отправлено в морг. По словам ее дочери, убийство произошло в одиннадцать утра, что и подтверждено медицинским экспертом во время осмотра трупа. — Смерть, судя по ссадине на виске, — сказал врач, — последовала от удара кулаком, нанесенного убийцей с большой силой. Об этом же свидетельствуют и сбитая кожа на суставах правой руки убийцы, и запекшаяся кровь на его пальцах. Это удар боксера-тяжеловеса, который в данном случае оказался смертельным. Эксперт-трассолог высказалась еще короче: — Все отпечатки пальцев в комнате принадлежат троим: убитой гражданке Вдовиной, ее дочери продавщице магазина «Мясо — рыба» Михеевой и обвиняемому в убийстве Михееву, преподавателю физкультуры средней школы номер тринадцать. В комнате у черного хода — она сейчас заперта — проживает еще один член семьи убитой, сводный брат Михеевой Андрей Востоков, оценщик комиссионного магазина на Белой горке. — Как свидетель Востоков пока отпадает: его не было дома во время убийства, — резюмирует Саблин. — Пригласите Михеева. Входит Василий. Он испуган и удручен. Облизывает сбитую кожу на пальцах. — Я же вам уже объяснил все. — А мы сейчас это и запротоколируем, — откликается следователь прокуратуры. — Повторите, как все это произошло. — Все начало со ссоры. — Из-за чего? — Мы тратим сто пятьдесят на стол. Я с женой вношу сотню, а она добавляла пятьдесят. Сегодня же утром вдруг отказалась: больше тридцатки, говорит, не дам. Я, мол, и ем меньше, и разносолов не требую. Убеждаю ее, как умею, у меня, говорю, все подсчитано, а она свое: зверь-баба. — А дальше? — Говорю же, зверь-баба! С кулаками на меня… Ну, меня как повело, в глазах помутилось. Замахнулся сплеча, стукнул, она и упала… Сначала решил: притворяется. А Катерина к ней бросилась, кричит: убил, убил! Не смотрел я, куда ударил, а оказалось — по виску попал. — Михеев всхлипнул, растерянно осмотрел свой кулак. — Ручищи-то у меня… Забылся… — Он опять всхлипнул, что странным казалось: бугай здоровый, чуть не плачет. — Виноват, кругом виноват. А все характер мой дурацкий. Катерина сколько раз твердила: сдерживай себя, дурак, сдерживай… Вот и сдержал. Как по закону положено, так и отвечу… Следователь прокуратуры Глебовский приглашает жену Михеева. Она сквозь слезу подтверждает все сказанное мужем. — А не было ли у него корыстных побуждений? — спрашивает Глебовский. — Не понимаю. — Ведь ссора-то произошла из-за денег? — Василий считал, что все члены семьи должны вносить на жизнь поровну. — Может быть, у вашей матери были солидные сбережения? — Ну какие же заработки от пения в церковном хоре? Да и покойный муж ей почти ничего не оставил. — У меня больше нет вопросов, — заключает Глебовский. — Других свидетелей, видимо, тоже нет. — Есть, — говорит Саблин и обращается к участковому: — Введите гражданку Хижняк Марию Антоновну. Входит немолодая некрасивая женщина с большой рыночной сумкой. Глебовский берет новый бланк протокола, заполняет паспортные данные, спрашивает: — Каким образом вы оказались свидетельницей убийства? Вас же в комнате не было. — Я мимо на рынок шла, а окна у них были настежь открыты. И они так кричали, что на другом конце улицы было слышно. — О чем же они кричали? — Ругались, как на базаре. Всячески обзывали друг друга. В три голоса орали: две бабы, один мужик. Я постояла, послушала, да разве поймешь, когда люди собачатся. — Все-таки постояли и послушали. Что же дошло до вас? — Брех один. Шурум-бурум семейный. Они что-то хотели от старухи, а она отругивалась. Какую-то мелочь требовали: не то десятку, не то двадцатку. А потом мужик старуху по морде как звезданет! Она сразу бряк на пол. Молодка нагнулась к ней, потрясла ее, по щекам похлопала и кричит, мужу должно быть: «А ведь ты убил ее, Васенька!» Тут я нашего участкового увидала: навстречу по улице шел. Он разобрался во всем и задержал меня как свидетельницу. Вот я и сижу здесь второй час, не обедамши. — Ничего не добавите? — А что добавлять, ругань? Хотя погодите: словечко одно неподходящее слышала. Сокровище. Это старуха сказала, а к чему, не помню. Екатерина Михеева, уже уходившая и остановившаяся в дверях, немедленно откликается: — Это мать так иронически о Василии говорила: «Убила бобра Катька, нашла сокровище».Розыск
1
Служебные совещания начальник уголовного розыска подполковник Князев любил проводить с утра, поэтому дело Михеева после его ареста обсуждали на следующее утро, когда заключения экспертов и протоколы первых допросов обвиняемого и свидетелей были уже в папке, поименованной как «Дело об убийстве гражданки Вдовиной Марьяны Федоровны». Да и следователь прокуратуры не торопился с расследованием: слишком уж ясным казалось ему это дело. Подполковник не терпел опозданий, и с утра уже все были на месте: оба эксперта — врач и трассолог, следователь прокуратуры, два инспектора угро Саблин и Веретенников и секретарь-стенографистка Верочка. — Дело я просмотрел, — начал Князев, перелистав немногочисленные ею страницы. — Все проведено, по-видимому, вполне добросовестно. Я говорю о предварительном расследовании… — Ошибки потом обнаружатся, — сказал Саблин. — Вы думаете, они допущены? — Бывали случаи. — Дело поручено вести мне, — вмешался Глебовский, — и никаких ошибок я не вижу. Свидетелей и задержанного Михеева допросили. Экспертизу провели. Соседи Михеевых утверждают, что скандалы в доме были и раньше И до рукоприкладства дело доходило: Михеев вообще сдержанностью не отличается… Михеева показывает: он замахнулся, а старуха отшатнулась, так что удар неожиданно в висок пришелся. А Михеев — бывший боксер, тяжеловес. Не то что больную женщину — быка уложит. Арифметическая семейная ссора, где алгеброй и не пахнет. Саблин решил поспорить со следователем: — Любую задачу можно упростить до арифметической. Только выиграет ли от этого математика? — У вас есть свои соображения? — заинтересовался Князев. — Нет, спор чисто теоретический. — Тогда слово — следователю прокуратуры. — Скажу кратко, — начал Глебовский. — Поскольку обвиняемый тут же сознался в преступлении, а рассказ его полностью подтверждают и медицинская экспертиза, и свидетели, предлагаю считать следствие законченным и дело передать в суд. — Есть возражения, — предупредил решение подполковника Саблин. Стало тихо, как бывает, когда на собрании кто-то вдруг выступит с поражающей неожиданностью. — Я возражаю, — сказал Саблин, — против слишком уж поспешной передачи дела в суд. Следствие, по-моему, еще не закончено. — Почему? — спросил Князев. — Позвольте, я объясню это попозже. — Тогда разрешите вмешаться и мне, — сказал Глебовский. — Саблин, вероятно, настаивает на дополнительных версиях. Конечно, проработка версий — необходимое условие нашей профессии. Но ведь они возникают не сами по себе. Их создают обстоятельства преступления, мотивированные подозрения, сравнение и сопоставление обнаруженных деталей, прослеженный путь розыска. Но какие же версии в деле Михеева? Их можно придумать, конечно, искусственно выстроить, но все они опровергаются сразу. — Может быть, вы сформулируете все-таки свое мнение о следствии? — поинтересовался Князев. — Я бы хотел это сделать наедине. — Хорошо, отложим пока решение. Зайдите ко мне минут через десять.2
— Явился по вашему приказанию, Матвей Георгиевич, — отрапортовал Саблин. — Садитесь, Юрий Александрович. Что у вас? — Меня заинтересовал допрос свидетельницы Хижняк, вернее, ее слова о сокровище. По-моему, о них стоит подумать. — Но я же читал запротоколированное замечание Михеевой. Слова эти относились к ироническому высказыванию убитой об обвиняемом: «Это мать так иронически о Василии говорила: убила бобра Катька, нашла сокровище». — Екатерина Михеева умна и находчива: эти слова ее могли быть и прикрытием правды. — В таком случае, Михеева, по-вашему, сообщница? Не слишком ли? Ее мать убита… — Может, и слишком… — Саблин пожал плечами. — А все ж слова о сокровище выкинуть из головы не могу. Не имею права, пока все не проверим. — Проверка, конечно, не помешает… А не затянем ли дело? — Постараемся не затянуть. — А Глебовский? — Что Глебовский?.. Он мужик умный, не первый раз с ним работаем. Согласится. — О каком же сокровище, по-вашему, могла идти речь? Саблин задумался. Как потолковее объяснить все это начальнику? Ведь у него — только предположения, основанные на одной-единственной реплике. Ведь Михеева могла сказать правду: ироническое издевательство старухи над ненавистным ей зятем — и только. И тогда весь воздушный замок, построенный им, разлетится в дым от улыбки начальника. Но рассказать все-таки надо. — В квартире живет еще и третий жилец, Андрей Востоков. Это пасынок убитой Марьяны Вдовиной и сводный брат Екатерины Михеевой, сын от первой жены покойного протоиерея Серафима Востокова, бывшего настоятеля городского собора. Сокровище, о котором шла речь, быть может, и существует. Из истории Советского государства мы знаем, что в период тяжелых хозяйственных трудностей, которые переживала страна, было произведено изъятие ценностей у церкви. Серафим, тогда еще молодой протопоп, не мог, конечно, избежать этого изъятия, но вполне возможно, что сохранил кое-что и для себя. Такие случаи были, и отмахиваться от них нельзя. А если допустить как раз такой случай, значит, можно допустить и наличие каких-то ценностей, по закону принадлежащих государству и посему оберегавшихся убитой. А вот мы и получаем совсем другое дело об убийстве, может быть, даже коллективно задуманном, отнюдь не случайном и обусловленном вполне корыстными мотивами. — Но вы же производили осмотр… — Только поверхностный и только в доме. Ни подвальных помещений, ни двора, ни сада мы не осматривали. А такие ценности, наличие которых можно предположить, надо искать не в доме. Есть и погреб, и не разбиравшиеся поленницы, и колодец, почему-то засыпанный, и бездна других возможностей спрятать похищенное. У меня есть предложение, Матвей Георгиевич. Получим санкцию — поручите обыск Веретенникову, а я думаю совершить экскурс в прошлое. — Конкретнее. Что именно? — Узнать, как и какие изымали ценности в нашем соборе. Познакомиться с личностью отца Серафима: его, наверное, в храме хорошо помнят. Выяснить, сохранились ли какие-нибудь документы этого времени. Поинтересоваться частной жизнью отца Серафима: ведь убитая Вдовина была его сожительницей, вторичные браки священникам запрещены церковным уставом. А в этой частной жизни было многое, что нас может заинтересовать. Прежде всего — наличие сводных брата и сестры, проживающих, кстати, до сих пор в одной квартире: их взаимоотношения следствию пока неясны. Словом, есть многое, что можно разглядеть в лупу времени и сопоставить с нынешним днем. Князев долго молчал. Конечно, мысли Саблина более чем спорны, но отвергать их — нерасчетливо и даже неразумно, и в конкретных предложениях старшего инспектора многое заслуживает внимания. В частности, и тщательный обыск, и расследование личной жизни настоятеля собора Петра и Павла отца Серафима могут не только помочь следствию, но и решительно повернуть его, изменив статью и меру взыскания. — Убедили. Юрий Александрович, — наконец вымолвил он, — начнем следствие заново, а версию вашу проследим до конца.В церкви
1
С утра Саблин пошел к обедне. Перед этим он долго раздумывал: идти ли ему в форме? Штатское для такого посещения давало свои преимущества: он бы не выделялся, не привлекал внимания. Появление милиционера в форме во время богослужения — зрелище, вероятно, не частое. Зато форма сразу определяла цель посещения. Маскироваться ему было незачем: он шел по служебному делу — получить необходимую ему информацию, и форма лишь упрощала задачу. Богослужение на страстной неделе носило особый характер, но Саблину было все равно: он шел в церковь впервые. Пришел он рано, встал у клироса, даже не зная, как называется место, где он стоит, а встал здесь потому, что рядом была площадка для хоровой капеллы, а пение и музыку он очень любил, хотя с церковными напевами и мелодиями знаком не был, вырос в семье, знавшей церкви только музейные. Но торжественная напевность хора его заинтересовала, он вслушался, тем более что во время богослужения ни за какими справками обратиться к причту было нельзя. Служебное дело, которое привело его сюда, приходилось временно отложить. И Саблин стоял, с любопытством оглядываясь. Все ему было занятно: и монотонное чтение протоиереем главы из Евангелия — пудовой книжки в серебряном окладе, возложенной на высокую подставку, и парчовые ризы дьякона и священника. «Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою…» — пел хор, пел красиво, чисто, и Саблин, даже не зная церковнославянского, с интересом слушал. Обедня уже кончалась, и назойливое внимание к милиционеру в форме постепенно таяло; народ начал расходиться. Саблин шагнул на ступеньку клироса, как вдруг заметил, что ему дружелюбно улыбается дьякон. — А ведь я узнал вас, — сказал он. — Не имею чести, — холодно возразил Саблин: дьякона он видел впервые. — Забыли. Давненько виделись, — усмехнулся тот. — Вы у нас были, когда я в театре служил, в опере. Вы тогда совсем молоденький кражу у нас расследовали. Саблин вспомнил. — А как же вы из театра здесь очутились? — спросил он. — Бас-то у меня не сильный, ну и зарплата здесь малость повыше. Вот и соблазнился. Я и прежнего нашего участкового знаю. — Я не участковый, — сказал Саблин. — Я из уголовного розыска. — Значит, сигнал был? — заинтересовался дьякон. — Никакого сигнала не было. Просто справки кое-какие хочу у вас получить. Кстати, меня интересует не сегодняшний день, а давнее времечко. Тогда еще протоиереем у вас был отец Серафим. Знали такого? — Ну, как же не знать. Еще мальчишкой у него в стихаре при богослужении прислуживал. Отчасти это и повлияло на мой уход из театра в церковь. И обедню и всенощную знал назубок. А почему вы заинтересовались отцом Серафимом? Ведь он уже десять лет как богу душу отдал… — Меня интересует более старое время, — пояснил Саблин. — В первые годы Советской власти был такой декрет об изъятии церковных ценностей. Может быть, у вас в соборе есть люди, которые это время помнят? — Я-то не помню, конечно. В то время еще не родился. Но люди такие есть. И прежде всего протоиерей наш, отец Никодим. Вы подождите немного, он сейчас из алтаря выйдет. Тут я вас и представлю…2
Саблин сидел в гостиной у отца Никодима. Познакомившись, протоиерей тотчас же пригласил его завтракать, и отказываться было неудобно, потому что протоиерей после обедни шел именно к завтраку, а старший инспектор рассчитывал на долгий и содержательный разговор. Протоиерей был высокого роста — почти как Саблин, не сгорбленный старостью, худощавый лицом, с тщательно расчесанной седой бородой. Ему даже восьмидесяти не дашь, думал Саблин, так — лет семьдесят с лишним, и руки у него не венозные, а сухие и гладкие, с длинными, аккуратно ухоженными ногтями. Дома он был в шелковой темной рясе и мягких тапочках, говорил чистым московским языком, как говорили в дни его молодости, не злоупотреблял славянизмами, отвечал сразу, не переспрашивая. Саблин начал разговор не с деловых вопросов, а с чистосердечного признания: он-де впервые в церкви и ему было небезынтересно увидеть службу. Ответа он не получил, сразу отметив, что отец Никодим умен и отлично понимает, что с инспектором уголовного розыска следует говорить не о церковных делах. Но деловых вопросов протоиерей не задал, терпеливо ожидая их от Саблина. И тот спросил: — У меня к вам любопытное дело, отец Никодим. Небольшой экскурс в прошлое. В первые годы Советской власти появился декрет об изъятии церковных ценностей. Может быть, и вам пришлось тогда с отцом Серафимом работать? — Пришлось. Был священником, в звании, как у вас говорят, немного пониже. Все это происходило при мне, я сдавал ценности вместе с отцом Серафимом. А что вас, собственно, интересует? Саблин помолчал. Как объяснить отцу Никодиму свои подозрения, высказанные полковнику Князеву? В лоб нельзя: для отца Никодима это прозвучало бы оскорбительно. Надо было заходить со стороны, говорить о времени и его особенностях в связи с заинтересовавшим уголовный розыск делом. Так он и поступил, стараясь обойти скользкие обстоятельства. — Мы ведем следствие по одному делу, среди свидетелей — бывшая сожительница протоиерея Востокова Марьяна Вдовина, ее дочь от отца Серафима Екатерина Михеева и пасынок, сын от первой жены протоиерея Андрей Востоков. Дело сложное, и не о нем речь. Меня интересует лишь время, когда проходило изъятие церковных ценностей, и как все это в вашем соборе было. Отец Никодим разгладил бороду и понимающе улыбнулся: — Давайте уж говорить прямо, не вводя друг друга в заблуждение. Город наш хоть и считается районным центром, но, по сути дела, провинция: все из ряда вон выходящее тут же становится известным каждому. Так что позвольте вас поправить: Марьяны Вдовиной уже нет в живых. Она убита в семейной ссоре зятем своим Василием Михеевым. Извините за поправку, но она, полагаю, для дальнейшей беседы необходима. Вас, как и меня, товарищ старший инспектор уголовного розыска, интересует только правдивая информация. Густо покрасневший Саблин, однако, тут же нашелся: — Извините меня, отец Никодим, я никак не думал, что любое уголовное событие в городе тут же становится известным даже лицам вашего звания. Я не счел нужным информировать вас о деле, вас не затрагивающем, и потому только ограничился упоминанием лиц, о которых придется, может быть, вскользь коснуться в нашей беседе. Меня действительно интересует не сегодняшний день, а очень давнее время, когда меня и на свете не было. И опять улыбнулся отец Никодим, иронически даже улыбнулся: — Я стар, молодой человек, но не глуп и связать невысказанный ваш вопрос даже при очень большой натяжке с изъятием церковных ценностей, хотя прошло с тех пор более шестидесяти лет, тоже сумею. Проследить мысль изобретательного следователя не так уж трудно. Да и удовлетворить ваше любопытство тоже очень легко. Был я тогда молодым священником, помогал отцу Серафиму и полностью, что называется, в курсе дела. Кампания по изъятию ценностей у нас в соборе прошла, как говорится, без сучка и задоринки, все документы сданного можете проверить у нас в архиве, да и ценная церковная утварь, не говоря уже о ризах с икон, так велика, что их запросто и не спрячешь, тем более что изъятие проходило у нас, как и везде, внезапно, без предупреждений. Сдачей руководил отец Серафим, и ни единая ценность утрачена не была. Документы, повторяю, вы можете сегодня же проверить. Сказано это было сухо и официально. Саблин понимал, что протоиерей отлично сознает, что имеет в виду инспектор уголовного розыска и что разговор «о времени и его особенностях» не удался. Ответ был достаточно исчерпывающ и точен. И Саблин поспешил, не отказываясь от своих предположений, сразу же переменить тему. — Вы не поняли меня, отец Никодим. Я отнюдь не собираюсь проверять у вас какие-то давно зарегистрированные ценности. И мысль моя была, скорее, мыслью не следователя, а историка, интересующегося не тем, что изъяли, а тем, что осталось. Ведь у нас не было Ренессанса, а были свои двенадцатое и последующие столетия, не было Рафаэля и Леонардо да Винчи, а были Рублев и Феофан Грек, историческая ценность которых едва ли ниже. — То, что осталось, трудно счесть ценностью, — уже значительно мягче сказал соборный протоиерей. — Ни Рублева, ни Грека в соборе не было, купцы, дарившие нам иконы, интересовались дорогими окладами, а не древней живописью. Каюсь, и я по молодости лет больше соблазнялся надетым на них серебром и золотом. Да и сейчас возьмите: иконопись знаю, пожалуй, неплохо, а собирать иконы — не собираю. Художники куда дальше меня пошли: мой иконостас ценностями не блещет. Не увлекаюсь. А коли вы увлекаетесь, то я вам не завидую. По-моему, дело это не ваше. Ну, марки, монеты, значки — это я понимаю, но ведь иконы собирают в большинстве глубоко равнодушные к религии люди. А что такое икона? Прежде всего религиозный символ, раскрытие верующего ума и сердца. Разве можно предположить, что Феофан Грек не верил в то, что создавал своей кистью? У любого, даже посредственного иконописца были, конечно, свои модели, но гениальная живопись немыслима без вдохновляющей ее веры… Саблин выслушал протоиерея, в свою очередь убежденный в том, что гениальная иконопись вдохновляется не верой в бога, а талантом иконописца, но спорить не стал. — Боюсь, что вы опять не поняли меня, отец Никодим, — сказал он. — Я интересовался временем и обстоятельствами, а не изъятыми у вас соборными ценностями. А икон я тоже не собираю. Так что будем считать, что мы друг друга не поняли, а потому позвольте откланяться и поблагодарить вас за дружескую беседу. Отец Никодим встал все с той же не сходящей с губ иронической улыбкой. — Разрешите один вопрос, старший инспектор уголовного розыска? — К вашим услугам, отец Никодим. — А все-таки, какое же отношение может иметь к нашей беседе то, что произошло в доме Михеевых? — Никакого, — пожал плечами Саблин и, поклонившись, вышел из комнаты.Саблин упрямится
1
Саблин привык с утра взвешивать и оценивать все происшедшее накануне. Что узнал? Что сделал? Успех или неудача? Заштатный оперный бас в роли дьякона — мелочь, конечно, но знакомство все же полезное для дальнейших розысков в администрации здешней епархии. Протоиерей Никодим, несомненно, умен, сообразителен и находчив, судя по тому, что и как им сказано во вчерашней беседе. Дело было даже не в глупом промахе Саблина, не в неудачной попытке вывернуться из него, сославшись на «тягу к истории». Запомнилось другое. Настоятель собора заранее знал, зачем пришел к нему инспектор уголовного розыска, что именно интересовало его в этой встрече, и откровенно поспешил его об этом уведомить. Что же могло заинтересовать его? Само по себе убийство в доме Михеевых? Едва ли. Конечно, смерть ревностной прихожанки, к тому же хористки, должна была привлечь внимание протоиерея, но интерес к беседе с инспектором угрозыска был вызван не только единством веры и близким знакомством с Марьяной Вдовиной. Тут было что-то еще. Из кабинета Князева вышел Веретенников, усталый и огорченный. — Старик еще под утро вызвал, как с обыска вернулись. Тебя еще не было, — объяснил он. — Как с обыском? — заинтересовался Саблин. — Плохо. — Почему? — В доме никаких следов ценностей. В подвале и погребе — аналогичная картина. Поленницу разобрали — не нашли. Весь двор вскопали. Ничего не нашли и на огороде. — С миноискателем?— Конечно. — Какие-нибудь ключи обнаружили? — В подвале и погребе все проверено. — А в комнатах? — Тоже. Все ключи на местах. И ни одного спрятанного. — Что сказал Князев? — Рекомендовал пошарить по всем камерам хранения. Проверить, не хранила ли что-нибудь убитая Вдовина и не сдавал ли кто-нибудь из членов семьи ящика или чемодана в ближайшие дни после преступления? — Ну что ж, действуй. Пощупай вокзал, пристань и аэропорт. К полковнику Саблин не пошел, решил: понадоблюсь — вызовет. А в кабинете его уже поджидал Глебовский. — Ищем новую версию? — спросил он. — Зачем? — сказал Саблин. — Еще старая не прослежена. — А то есть одна. Убила, скажем, Екатерина Михеева, а муж взял вину на себя. На нескрываемую насмешку Саблин не реагировал. Ответил сдержанно: — Такую версию слишком легко опровергнуть. Несерьезно, Виктор Петрович. Тут уже Глебовский взорвался: — А ваша серьезнее? Обыск же не удался… — Знаю. Не удался и первый визит в собор. Изъятие церковных ценностей прошло, по-видимому, без отклонений. — Проверили лично? — Для чего? Соборные архивы, если они сохранились, ничего не покажут. Регистрация приема и сдачи? Что она скажет? Меня интересовали условия процедуры и настроения причта. Об этом я и беседовал с новым протоиереем отцом Никодимом. — Что-нибудь подтвердилось? — Ничего. Новый настоятель собора тогда был священником. Сдавал ценности вместе с Серафимом Востоковым. Обман или мошенничество полностью исключает. Саблин видел, что его сообщение вполне удовлетворило следователя. Но добавил: — Но мой экскурс в прошлое отца Серафима еще не завершен. Никаких подробностей о нем от нового протоиерея я не узнал. Но кое-что заметил. Во-первых, кто-то его информировал об убийстве Марьяны Вдовиной, он знал о нем до моего посещения. Во-вторых, он заинтересован в окончании следствия. — Почему? — Хотя бы потому, что Михеева — его прихожанка. О «сокровище» он может и не знать, но к судьбе ее небезучастен. — Вы все еще не отказались от версии о «сокровище»? — Нет. И намерен продолжать розыск. Глебовский провел пальцем по коротко подстриженным усикам, взял «дело» в картонной папке, пошел к двери. Уже на пороге обернулся, бросил: — Ох, не верю я в ваше «сокровище». Но коли версия возникла, проверить обязаны. Действуйте, Юрий Александрович, как говорится — бог в помощь. Подходящая терминология для «церковного» дела? — Не очень, Виктор Петрович. Бог — помощник никакой. Проверено веками. А вот слуги божьи…
2
Андрей Востоков слез со стремянки, вытер испачканные замазкой пальцы. — Теперь прочно замазал. Под цвет. И хорошо, что с миноискателем они прошлись только по полу. — И во дворе, — задумалась Екатерина. — А может, все это лучше вынуть из стенки? Второй раз с обыском не придут. — Кто их знает, — замялся Андрей. — Лучше потерпим еще месячишко. Ценности в стенке сохраннее. И нам спокойнее. А Василий к тому времени уже свой срок получит. Полтора-два года — больше не потянет. А мы к тому времени уже покупателя найдем. Носа не вешай. — Я не вешаю. — Странная ты баба, Екатерина. Все ж мать убита, а ты хоть бы слезу уронила… — Мать? — Екатерина усмехнулась. — По паспорту. Много ли я от нее добра видела? Мать… Она, кроме бога и папашки моего липового, никого не любила. Бог, бог, будь он неладен. — Не богохульствуй, красавица. Он тебя кормит. И неплохо. — Кормит, — согласилась Екатерина. — А она мне лоб расшибла, чтоб я в него верила. Знала, что не верю, потому и не любила меня. — А ты ее? — И я ее. — Ай-яй-яй, как нехорошо — о матери-то. — Ты бы лучше помолчал, жалетель… Подумал бы, что милицейские подозревают. — Другой версии у них нет, Катя. А обыск они сделали для проформы. Это им тетка, стоявшая за окном, сболтнула о сокровище. — Я же им все объяснила, Андрей. — Правильно. Но у них ведь служба такая: проверить надо. Ну и проверили. Убийство неумышленное, мотива нет. Отцовские бумаги они у меня взяли, но ведь в них ничего нет. Марьянино письмо отцу о его «бесценком даре» у меня в бумажнике. — Так ведь это улика, Андрей. Востоков порылся в карманах пиджака, достал из бумажника пожелтевшее от времени письмо мачехи и, помахав им перед глазами сводной сестры, сказал с кривой усмешкой: — Единственная улика, сестричка А сейчас и ее не будет. Щелкнул зажигалкой, подождал, пока злополучное письмо не сгорит, вздохнул облегченно: — Теперь нам уголовный розыск не страшен. Даже если они за нас возьмутся. Екатерина вздрогнула: — Уже думал об этом? — Милицейские с высшим образованием — люди дошлые, Катька Смотря кто из них и как дело поведет. — Мне этот милиционер что-то не нравится. — Который со следователем приезжал? — Нет, теперешний. Молчун. — Этот не страшен. Службист. Приказали обыск сделать — сделал. На рассвете нас поднял, ключи к замкам проверил, двор вскопал. Не-е, меня больше первый интересует. О котором рассказывала. Капитан. Видно, по его думке и обыск делали. В первый раз не додумался, по второму кругу пошел. А это, если не пугает, то озабочивает.Второй экскурс в прошлое
1
Саблин подошел к белому одноэтажному домику, спрятанному за узеньким палисадником. Впереди, в конце выложенной кирпичом дорожки, чинил крыльцо человек в цветной ковбойке и холщовых брюках, вправленных в резиновые сапоги. Саблин кашлянул. Человек обернулся, вгляделся и надел брошенную рядом на куст выгоревшую досветла домашнюю рясу. — Не обессудьте, отец дьякон, — сказал Саблин. — У меня есть и к вам разговорчик. Длинноволосый, с подстриженной бородкой соборный дьякон показал на вкопанный за кустами дощатый столик: — Садитесь, товарищ инспектор. Почту за честь. Не узнал вас без формы. Саблин, расстегнув пиджак, присел к столу. — Мое дело вас не касается, отец дьякон… — начал он, не зная, как лучше повести разговор. — Давайте по-светскому, без духовного диалекта, — остановил его дьякон. — Вас как зовут? Юрий Александрович? Не удивляйтесь, что ведаю: справился у нашего участкового. А меня — Аким Васильевич. Так что слушаю и внимаю. — Вы слышали что-нибудь об убийстве Марьяны Вдовиной, бывшего регента вашего хора? Дьякон понимающе усмехнулся, словно он именно этого вопроса и ожидал. — Она хористкой была, а регентом сейчас ее дочь, Екатерина Серафимовна. Из самодеятельности к нам пришла. И про горе ее знаю, хотя, честно сказать, не сладко ей было с покойницей. А Василия просто жаль. Тихий мужик, не скандальный. У тещи по струнке ходил. А вот довела-таки до смертоубийства. — Вы его хорошо знаете? — В одной школе учились. Даже дружили тогда. Он мои певческие вылазки к отцу Серафиму покрывал: в школе никто не знал, что я церковным пением болею. А то мне бы житья не было. — Сейчас встречаетесь? — Иногда. С Екатериной чаще. У нас много общего: петь любим. — В квартире Вдовиной есть еще один жилец: сын вашего покойного протоиерея. — Востоков. Его знаете? Дьякон ответил не сразу, поразмыслил, и вдруг что-то мелькнуло в глазах его, как сигнал из далекого прошлого. — Тоже в нашей школе учился, — вздохнул он, словно на этот раз принадлежность к единому школьному братству не вызвала в нем ни дружелюбия, ни симпатии. — Только на семь классов нас обогнал, мы поступали, а он уже к концу десятилетки тянулся. Не дружили тогда: разнолетки, понятно, а знаю я о нем все, как и про всех, кто с нами на одной улице жил. Только ведь прошлое это, а вам небось настоящее подавай. — А меня как раз прошлое занимает больше, чем настоящее, — сказал Саблин. — Хотелось бы знать, каким он рос в семье и каким вырос в людях. — До уголовщины, полагаю, не дошел, да и работенка у него не пыльная: заработать можно, государство не обкрадывая. Но уж если вы заинтересовались им, вопросов не задаю, расскажу обо всем, что спрашиваете. С характером в люди вышел парень, весь в отца — те же гены. В церковной семье вырос, а в церковь только до школы ходил, когда отца нельзя было ослушаться. В школе, говорят, сразу же директору на отца жалобу подал: не хочу, мол, ни молитвы читать, ни Евангелия, ни говеть, ни к иконам прикладываться. Ну, вмешались, конечно, и освободили парня, как вы говорите, от религиозного дурмана. А отец не простил. Невзлюбил сына. Только мать и воспитывала мальчишку, пока не умерла от инфаркта. Когда же в доме мачеха появилась — ее отец Серафим из хора в экономки взял, Андрей добровольцем на фронт ушел. — Раз добровольцем на фронт ушел, значит, человек порядочный, да? — полувопросительно заметил Саблин. — Вроде бы. Действительно — вроде. На фронт ушел — где-то при штабе устроился. От маршей освободился — плоскостопие. С войны вернулся — под суд попал. Из колонии пришел, в Москву уехал, да, слыхал я, там чуть в грязное дело не влип, вот и пришлось домой воротиться. Теперь Оценщиком в здешней комиссионке работает. Чисто, говорят, работает. — Как же он на квартиру к мачехе попал? Отец его, что ли, там жил? У дьякона даже глаза блестели от умиления собственным рассказом. Должно быть, любил поговорить по душам бывший служитель Мельпомены. — Нет, — сказал он, — отец Серафим в доме при церкви жил. Там сейчас нынешний протоиерей живет. А тут бывший дьякон хозяйничал — ныне в Верее под Москвой священствует. Здесь-то самое интересное и случилось. За год до войны родила Марьяна дочку. Разговоры. Шире, дальше — скандал в епархии: экономка экономкой, можно глаза закрыть, ладно, а дите от кого? Вызывали в Хомутовку к самому архиерею. Что там было, не могу знать, но вернулся отец Серафим смурной и, говорят, даже еще более похудевший. Марьяну с дочкой сразу к дьякону выселил и ни днем к ней, ни вечером никогда не ходил, чтоб разговоров не было. Да разве рты людям заткнешь? К тому же Марьяна-склочница втихую жить не хотела, только Серафима и слушалась, а дома — черт чертом. Из-за нее, говорят, и дьякон в Верею перевелся: священником после его рукоположения мог бы и у нас в храме остаться. Ну, дьякон уехал, квартира освободилась, Катька росла, сызмальства в хоре пела, не мне чета: на педагогическом совете на своем праве на церковное пение настояла — подходящей самодеятельности, мол, для нее нигде поблизости нет. А потом и дома свой характер показала, когда против желания матери за Василия Михеева замуж вышла, и второй раз, когда сводный брат, которого она даже не помнила, из Москвы приехал, сумела прописать его в бывшей комнате матери. Вот вам и весь жизненный путь Андрюшки Востокова. Многие подтвердят: ведь у нас в городе, как в деревне, все про всех знают, только рассказать попроси. У старшего инспектора уголовного розыска оставался еще один нужный вопрос, и он его задал. — Значит, эти брат с сестричкой — в добрых отношениях? — Точно. Теперь одной семьей будут жить. А вернется из колонии Васька Михеев, втроем будут кроссворды отгадывать. Востоков, думаю, не женится: не тот возраст.2
Саблин не мог знать всех последствий беседы отца Серафима с архиереем — их не знал и сам дьякон, — а ведь где-то здесь и был ключ к михеевскому «сокровищу». А было так. Отец Серафим, как уже сказано, вернулся из Хомутовки туча тучей. Молчал. Ходил из угла в угол по комнатам. Отказался от ужина. Марьяна тоже молчала, сидя у постели годовалой дочери. Она догадывалась о многом, но не прерывала раздумий протоиерея. Ждала его слова. И услышала. — Разъехаться нам надо с тобой, Марьяна. Будешь жить у отца дьякона, у него есть лишняя комната. — Из-за Кати? — сдерживаясь, спросила Марьяна. Протоиерей взорвался: — Из-за всего! Из-за того, что ты у меня живешь! Из-за того, что ребенок от меня! Из-за того, что прихожане шушукаются. — Я могла бы и аборт сделать. — Не виню я тебя. Я хотел ребенка. Я и его преосвященству так сказал. Признался. — А он? — сквозь зубы процедила Марьяна. Пустые холодные глаза ее, казалось, навсегда затаили отчаяние. — Сначала он хотел перевести меня в другой приход. Да пожалел, видно. Только переехать ты должна сегодня же. Когда стемнеет. Собери белье и все носильное. Посуду с дьячком пришлю. А мебель у дьякона есть. Марьяна молча пошла в спальню, но ее тут же остановил голос протоиерея: — Сядь. Я еще не сказал о самом главном. Встречаться будем, но не скрытно и не долго, чтобы лишних разговоров вокруг церкви не было. Будешь приносить Катю ко мне на благословение. Не часто. Зато часто пиши. Письма-исповеди обо всем, что бог сердцу подскажет. С дьяконицей не ссорься, она баба не вредная. — Безбожница! Смущает людей живых. — У нее муж — лицо духовное. Его и забота. А ты характер свой сдерживай, смиряйся, если понадобится. Ты верующая, вот и терпи, уповая на господню волю Мне ох как нелегко было на архиерейском подворье. И не смотри так пронзительно, я не проповедую, а по-отечески наставляю: жить ведь придется по-разному, по отдельности друг от друга, за советами не побежишь. Ну а о достатке не беспокойся — серебреники будут. А для Кати на будущее, когда в жизнь войдет, я подарок приберегу. До гроба ее обеспечит. Не думай, что от государства утаенное, я церковные ценности по декрету все сдал. Это мое собственное, бесценный отцовский дар.3
— Все? — спросил оперный дьякон. — Нет, не все еще, Аким Савельевич, — Саблину хотелось выжать из него максимум информации. — Хорошо бы еще раз покойного протоиерея вспомнить. Вы застали его? — Последние недели только, когда он из больницы прибыл. Он уже не совершал церковные службы. У себя и умер. — От чего? — Сердце. — Какие-нибудь документы оставил? — Тексты проповедей и письма Марьяны. Святыми он считал эти письма. Мы и нашли их в тайничке в алтаре во время ремонта. Совсем недавно нашли. Андрюшке и отдали: он в это время мимо церкви шел. — Кто-нибудь был в квартире, когда наступила смерть? Марьяна или еще кто? — Марьяна потом пришла. А с ним псаломщик был. Лука Лукич. Он вместо хозяйки за ним присматривал. Тоже кое-что об отце Серафиме рассказать может.Глебовский передумал
1
Саблин шел в управление пешком, сквозь мелкий моросящий дождь — не такой уж он был пронизывающий, чтобы пережидать его где-нибудь под крышей, и тщательно перебирал в памяти только что услышанное от дьякона. «А что мне дал этот необязательный разговор? Немного. Даже просто мало. Биографию не совершавшего преступления, но вполне подходящего преступника Если бы Вдовину убил Андрей Востоков, я бы не искал мотива: „сокровище“ было бы уже у него. Он не глуп, предприимчив, коварен и аморален. Только он убил бы не столь примитивно: во-первых, скрытно, а во-вторых, не оставляя следов. Однако он не убивал Марьяну. У него стопроцентное алиби. Убил другой, неподходящий для роли убийцы, нечаянно убил, без мотива. А я все-таки ищу этот мотив вопреки всем экспертам и убеждению следователя прокуратуры Смысл есть, если есть корысть. А корысть есть, если есть „сокровище“. Мы пока не нашли его, но я вправе задать себе вопрос: почему убийство произошло только теперь годы спустя после смерти протоиерея? Ответ подбросил мне отец дьякон, когда упомянул о пачке писем Марьяны, врученной проходившему мимо собора Андрею Востокову. Может, именно в этих письмах он мог найти упоминание о ценностях, где-то запрятанных его мачехой? Могло так быть? Могло. Я могу себе это представить, но не могу доказать. Письма Вдовиной, вероятно,уже сожжены: Востоков не будет хранить их. Что же делать? Продолжать поиск? А где искать, у подруг Марьяны, если они у нее были? Можно попробовать. Только вряд ли человек с ее характером будет прятать ценности у подруги. И еще несколько безответных вопросов Кому принадлежали эти ценности, если они существуют? По утверждению отца Никодима, при изъятии церковного золота или серебра ничто не пропало. Может быть, пресловутое „сокровище“ было личной собственностью отца Серафима? И уже от него перешло к Марьяне? Тогда почему же она не вручила его Екатерине в день ее совершеннолетия и даже ничего не сообщила ей, продержав его в неизвестном никому тайнике до своей нечаянной смерти? Из-за недоверия к Василию Михееву или Андрею Востокову? Из опасения, что кто-нибудь из них будет претендовать на часть серафимовского наследства? Трудно ответить однозначно — никто не сознается. А заочно не проверишь: свидетелей нет. Остается единственная надежда — псаломщик, принявший протопопово хозяйство Марьяны Вдовиной. Последние дни покойного прошли на его глазах. Может быть, протоиерей перед смертью передал что-то Марьяне или сказал что-либо о судьбе подарка…» Саблин думал. До последних ступенек управленческой лестницы.2
В кабинете Саблина поджидал Глебовский. «Принесла нелегкая, — подумал инспектор. — Придется выложить информацию…» И он пересказал все, что услышал от дьякона. — Ничего существенного, — подытожил следователь. — Беспредметная болтовня. Ваш оперный дьякон, вероятно, считает, что Вдовину убил не Михеев, а бывший фарцовщик Востоков, колоритная фигура для дешевого детектива. Как теперь ваш пыл, товарищ инспектор, не остыл? — Пыла уже нет, — вздохнул Саблин. — Только уголек тлеет. Вошел Князев в сопровождении Веретенникова. — Какими новостями порадуете, Юрий Александрович? — спросил подполковник. — Нет хороших новостей, Матвей Георгиевич. Есть негативная характеристика Андрея Востокова. Можно, конечно, вызвать его для «прощупывания». Только я думаю, ничего нам этот вызов не даст. Приклеить Востокова к убийству Вдовиной пока просто нельзя. — Пока? — вопросительно подчеркнул Князев. — А может быть, вообще нельзя? Биография, говоришь, негативная, но сейчас он чист — Веретенников проверил. В комиссионном им довольны. Да и твои епархиальные экскурсы пока безрезультатны. Пожалуй, соглашусь с Глебовским: надо заканчивать следствие и передавать дело в суд. — Повременим, — осторожно сказал Глебовский. Подполковник даже не понял — так удивился он реплике следователя. — Как повременим? Зачем? — У Саблина еще тлеет уголек надежды, Матвей Георгиевич. Впрочем, Юрий Александрович, объясните подполковнику все сами. Саблин взглядом поблагодарил Глебовского. — Когда Вдовина покинула дом отца Серафима, — начал он, — услужать ему стал псаломщик. В церковной иерархии это — дьячок. Готовит церковь к утренней и вечерней службе, помогает священнику и дьякону при богослужении, поет псалмы, когда хору петь не положено, обходит молящихся с шапкой по кругу, иначе говоря, с тарелочкой для пожертвований — что-то вроде «шестерки» в причте. Этот псаломщик после Вдовиной ближе всех стоял к протоиерею. Тот и умер у него на руках. Так вот: сейчас он еще жив и, по словам дьякона, довольно бодр, несмотря на свои восемьдесят с лишним. Уж если он ничего не слыхал о «сокровище», сдаюсь. — А я не настаиваю на сдаче, Матвей Георгиевич, — сказал следователь. — Саблин проник в закрытый мир и от одного к другому в этом мире может что-нибудь узнать об интересующих нас ценностях. Версия его соблазнительна, и не стоит отказываться от нее.Дневник отца Серафима
1
Дверь Саблину открыл дряхлый высокий старик, костлявый, но годами не согнутый, заросший седыми космами, торчащими из-под черной скуфьи. Одет он был, несмотря на припекавшее летнее солнце, в вывороченный дубленый полушубок, древний, как и его владелец, насквозь вытертый и заштопанный, неопределенного грязного цвета. Открыл он дверь одноэтажной дворницкой каморки с топившейся русской печью. На Саблина пахнуло затхлым и жарким пылом. — А ведь я к вам, отче, не знаю, как именовать вас. Послал меня отец дьякон. Поговорить надо. — Это можно, — сказал старик. — Я с властями в мире живу. Он вышел на улицу, указав на стоявшую под окном дворницкой такую же доживающую свой век скамью — покосившуюся, щербатую. — Жарковато тебе будет, товарищ начальник, у меня в идоловом капище. Я его сейчас под баньку сотворяю. — Я вас ненадолго задержу, отче, — извинился Саблин. — Так и зови, — подтвердил старик. — Для отца Панкратия рылом не вышел: звание не то. А Панкрашкой вроде бы и неловко: все-таки дьячок. А ты хорошо говоришь, товарищ начальник. Вежливо. По-церковному. — А почему вы меня называете «товарищ начальник»? Я же не в форме. — Я тебя и в форме видел, когда ты в собор приходил. На участкового непохож. Значит, начальство. — Память у вас хорошая? — Как скажешь. Что в старину было — помню. Что вчера — могу и забыть. — Отца Серафима помните? — Еще бы. И службы его, и домашность. Каждый денек, с ним проведенный. Бывало, придем с обедни, он перед трапезой и мне свое слово скажет. Церковь, Панкрат, мол, не только молитвенное здание. Она так зовется, потому что всех созывает и объединяет. И я от него и говорить по-евангельски научился, а проповеди свои он при мне писал и мне читал их, всегда спрашивая: от ума или от души? Вот отец Никодим не спросит: у него все от ума. Жесткое слово у него, монашеское. А отец Серафим в миру жил. Бога славил, но и людей не забывал. — Тяжело было ему с Марьяной расстаться? — спросил Саблин. — Страдал. Что ж поделаешь, когда указ его преосвященства был таков. Наш архиерей — старых дум человек. Но человек. И быть бы отцу Серафиму в другом приходе, ежели бы владыка не сжалился. — Хороша жалость, — усмехнулся Саблин. — С любимым человеком порвать, отца у ребенка отнять, а ему что? Молитвы да одиночество! — Не может священник вторично жениться — не дозволяет устав. Был грех у попа? Был. Ну и пришлось отмаливать. — А на чей счет Марьяна жила? Запевала в церковном хоре — не велики доходы. А ей ребенка растить. — Вырастила. Я каждую неделю то подарки, то деньги возил. — Дорогие подарки-то? — Не дешевые. Не любил дешевки покойный. Ребенку игрушки или носильное, ей подчас сережки или перстенек. А ежели часы, то с браслетом. Не жалел денег протоиерей. — Он, говорят, и умер у вас на руках? — Воистину так. Исповедался у отца Никодима и за Марьяной послал. А ее дома не было — где-то в очереди стояла. И Катюшка из школы еще не пришла. Ну и потопал назад, чтобы еще живым человека застать. Прихожу, а он уже кончается. Приподнял я его, поцеловал в лоб по-христиански, он и умер у меня на руках. — А он не советовался с вами, как дочь свою обеспечить? Псаломщик задумался, вспоминая. В старческих глазах его с большими зрачками — должно быть, болел глаукомой — отразилось радостное сочувствие. — Был разговор, припоминаю, — сказал он. — Даже два. Один раз, когда Марьяна приходила, он при мне ей сказал: о деньгах, мол, не тревожься, я свой вклад на сберкнижке откажу на твое имя в завещании. Ну а кроме того, подарок на будущее, может, бесценный подарок-то. Вот в Загорск съезжу… — Почему в Загорск? — перебил Саблин. — К профессору какому-то. Ведь духовная академия у патриарха в Загорске. Старик рассказывал так медленно, что Саблин опять не стерпел — прервал: — А зачем к профессору? — Посоветоваться. О чем? Не знаю, не спросил. Неловко было в чужую душу с назойливыми вопросами лезть. А второй разговор об этом был уже в преддверии смертного часа его. Начался сердечный приступ. Я ему горчичники на грудь и на спину поставил, капли от сердца дал. Отошло. Выпил он холодного чаю с лимоном и говорит: есть у меня сокровище, Панкрат. Так и сказал: сокровище. Никому, говорит, не открываю — что. И тебе не открою, хоть ты и человек верный. Но Катю я на всю жизнь обеспечу. А я его все хозяйство знаю: нет у него никакого сокровища. Думал, гадал о сем — так и не догадался. Саблин дрогнул, как от удара. Сокровище! Вот откуда попало оно в язык Михеевых, от которых услышала это слово проходившая мимо окон свидетельница. Значит, прав он, предполагая корыстный мотив преступления. Значит, «сокровище» все-таки существует, где-то далеко и хитроумно запрятанное. Но, чтобы найти его, надо прежде всего знать или хотя бы предполагать, что это такое. — Может, подружки Марьяны знают? — вырвалось у Саблина. — Не было тогда у нее подружек, — погасил эту надежду старик. — Отец Серафим не любил бабьего трепа. — А ездил протоиерей в Загорск? — словно ощупью пробивался к загадке Саблин. — Ездил. Месяца за два перед смертью. Довольный приехал. Даже веселый. — Не рассказывал вам о своей поездке? — Не. Даже вроде бы совсем затаился. — И вы не расспрашивали? — Мое дело маленькое. Я не духовник. Да и у отца Серафима, ежели он молчит, слова не выпросишь. Строг и взыскателен ко всему причту был. К тем, кто причислен. — А я к вам за этим и пришел, отец Панкратий, — со вздохом высказал Саблин. — Чтобы побольше узнать о «сокровище». Кто хранит, где хранит, что хранит и зачем хранит. — Марьяна же и хранит. А зачем — не знаю. — И я пока не знаю. — А ты самого протопопа спроси. — Серафима? Нехорошо так шутить, отец Панкратий, — укоризненно сказал Саблин. — А я не шучу. Последние месяцы перед смертью покойный начал дневник вести. Каждый денек в школьную тетрадь записывал. — А где дневник? — У нового протопопа спроси. У отца Никодима. По воле покойного я тому эти тетрадки и отдал.2
Протоиерей встретил Саблина сухо, даже не поднявшись с кресла. Он читал. Не улыбаясь, отложил в сторону книжку и снял очки в золотой оправе. — Перечитываю классиков, — признался он, — в данном случае Алексея Толстого. По телевизору показывают «Хождение по мукам». Это, по сути дела, фильм о прошлом нашего государства, каким его видят авторы фильма. Вот мне и захотелось вспомнить, каким оно выглядит в первоисточнике. — Каждый человек по-своему видит прошлое, — заметил Саблин. — Мне тоже иногда хочется на него взглянуть. Для этого я и пришел. — Объяснитесь. — Ваш предшественник, отец Серафим, за несколько месяцев до смерти завел дневник. Мне удалось выяснить, что сохранилось несколько школьных тетрадок и что находятся они у вас. — Допустим. — Я должен изъять их у вас. — Вы из милиции? — Из уголовного розыска. — Протоиерей Серафим никогда не был и, к счастью, уже не будет под следствием, — повысил голос протоиерей. — А если под следствием кто-то другой, кого могут уличить или оправдать эти записки? — Не вижу таких в его окружении. Нет о них ни слова и в его дневнике. — Я прочту ею и соглашусь с вами, если вы правы. — А если я не дам вам эту возможность? Саблин улыбнулся: — Вы служитель церкви, отделенной от государства, — сказал он, — но, как гражданин этого государства, вы обязаны оказывать ему всяческое содействие. Отец Никодим, не отвечая, подошел к стенке с книжными полками и с верхней вынул втиснутые меж книгами три школьных тетрадки. Ему было явно жаль расставаться с ними. — Не понимаю, — проговорил он недоуменно, — зачем вам понадобились записки священника? По какому делу вы собираетесь ворошить прошлое? Ведь это же чужой вам личный мир, свои радости и печаль, свои заботы и прегрешения. Я читал их, как исповедь покойного, а тайна исповеди для меня священна. — Но у него есть еще сын и дочь. — Они недостойны этой исповеди. Сын — очень плохой человек, а дочь — пустышка без сердца. Даже траур по матери не надела. Регентша нашего хора, а поет без веры в господа бога нашего и без уважения к религии. — Обещаю вам, — сказал Саблин, — что я прочту эти записки без веры в бога, но с уважением к написанному.3
Из трех школьных тетрадок отца Серафима Саблин сделал всего две странички выписок. Вот они. «20 апреля. Возвратился из Хомутовки на свое пепелище. Родные стены не радуют. Владыка был хмур и строг. Грех мой простил, но соизволил настоять на разлуке с Марьяной. Тяжко мне сие, даже непереносно. Потихоньку думаю отпроситься за штат. Вечером с почты принесли письмо из Загорска. Профессор Смиренцев заинтересован и готов посмотреть мной привезенное». Примечание Саблина: «Выяснить, работает ли в Загорске проф. Смиренцев и организовать встречу». «7 мая. Житие мое одинокое: я да Панкрат. А соборный клир где-то в тумане. Сегодня Марьяна порадовала: пришла с Катенькой. Расцеловал и благословил. А „сокровище“ мое не по сердцу греховной подруге моей: слышать не хочет о церковном подарке. Не знаю, говорит, как нажито и кем нажито — богобоязненная она. Отцово наследство, говорю, а он господу человек верный. Взять, обещает, возьму и до совершеннолетия Катерины спрячу. Так и порешили. Смиренцеву покажу, посмотрит, оценит, и за будущее Катеньки у нас тревоги не подымется. Смиренцеву я и завещаю открыть ей правду о „сокровище“ сем, когда она уже в летах к нему обратится. А сына моего, от бога ушедшего и христианскую честь свою потерявшего, я не жду у смертного ложа своего — пусть ищет утех в страстях греховных. По уходу Катеньки задумался Почему я тайно пишу о „сокровище“ и не говорю, что и откуда. Ведь дневник — это исповедь, разговор наедине с богом. А записывать его полностью не хочу: школьную тетрадку может взять и прочитать любой мытарь, без расчета живущий». «12 июня. В жизни человека по промыслительной воле господа иногда происходят события, наполняющие душу восторгом и ликованием. Такое переживание охватило меня, когда профессор Смиренцев, принявший меня в патриаршей духовной академии, сам назвал мой перл настоящим сокровищем. Я не ошибся, значит, сохранив эту драгоценность для будущего любимой дочери моей. Теперь можно уйти за штат и отдать ключи от храма новому настоятелю и ключарю».«Сокровище»
1
Саблин докладывал. Слушали начальник угрозыска и следователь прокуратуры. Слушали, не перебивая, позволив тем самым старшему инспектору зачитать не только выписки из дневника отца Серафима, но и свои собственные ремарки. — Все? — спросил Глебовский. — Все, — был ответ. — Признаюсь: был не прав, когда настаивал на неумышленном убийстве, — продолжал следователь. — Теперь другая версия и другая статья обвинения. Что ж, могли и мы ошибиться в столь хитро задуманном преступлении. А Саблин доказал, что задачку-то можно решить. — К сожалению, пока еще не решили, — сказал Князев. — Полностью не решили. Мы знаем, что «сокровище» существовало и, может быть, существует поныне. Только неизвестно, где оно и что собой представляет. Саблин откликнулся с большой долей самоуверенности. Он был убежден, что находится на верном пути. — Многое выяснится в Загорске, Матвей Георгиевич. — Ты сначала узнай, жив ли этот профессор Смиренцев. — Уже узнал. Жив и по-прежнему читает лекции в духовной академии. Он значительно моложе отца Серафима и пока умирать не собирается. — Ну что ж, тогда поезжай в Загорск. Тем более что это недалеко. — А я тем временем допрошу Михеева, — сказал Глебовский. Князев усомнился: — А не спешишь, Виктор Петрович? Для этого мы еще недостаточно вооружены… — Почему? Когда я сообщу ему об изменении статьи обвинения, шоковое состояние его почти неизбежно. Рушится вся система защиты. В таких случаях сдаются, Матвей Георгиевич. «Молод еще, неопытен и самонадеян, — думал Князев. — В таких условиях, говорит, сдаются. Ну а если шокового состояния не будет, эмоции, скажем, притуплены или характером крепок — тогда что? Михеев неглуп, сообразит, что Глебовский всего не знает, только нащупывает путь к решению загадки, значит, можно, как говорится, тянуть волынку. Может, и было „сокровище“, скажет, а может, и нет, что вы о нем знаете? А старый протопоп мог и рехнуться на склоне жизни. Только я о его дарственной ничего не знаю, да и жена с Андреем не знают. Вызовите их и спросите. Вот вам, Глебовский, и шок, на который вы рассчитываете». — Провалишь допрос, — сказал полковник. — Твой Михеев — не перепуганная девочка. На дневнике отца Серафима его не сломишь. — Можно и повременить, — согласился следователь. — Только очень уж я завидую Саблину. Он, как подводная лодка, сквозь океанскую толщу прошел, а я и ног не замочил. Теперь из розыска Саблина мы знаем, что Востоков добыл письма Вдовиной своему сожителю. В одном из них, вероятно, говорилось о том, как был спрятан ею подарок протоиерея… — Почему же она не отдала его дочери? — Она ненавидела Михеева. Мечтала о расторжении брака. — Дальше? — Дальше — проще простого. Справедливо полагая, что спрятанное «сокровище» ему одному не достанется, Востоков сговаривается с Михеевыми. Установить, где спрятано это сокровище, им не сложно: письмо Марьяны, допустим, все объясняет. Разделить его они не могут: живая Марьяна не позволит. Значит, надо ее устранить. Исполнителем избирается Михеев: ему это проще, чем соучастникам. Одним ударом, как мы видели, он может замертво свалить человека. Подбирается подходящая статья Уголовного кодекса и соответственно ей инсценируется картина неумышленного убийства. Саблин прав. — А вдруг «сокровище» уже вынуто из тайника? — Не думаю, Матвей Георгиевич. Если и вынуто, то перепрятано. Без Михеева они делить не будут.2
Саблин сошел на конечной остановке — в Загорске. Со станционного перрона он двигался в людской толчее в одном направлении — к недалекой горе Маковец, будто осевшей под тяжестью многоцерковной, узорчатой, сверкающей золотыми куполами соборов белостенной Троице-Сергиевой лавры. Подходя ближе, он уже видел ее бойницы и башни с высоченной пятиярусной колокольней в центре. Детище четырнадцатого века, этот древнерусский монастырь-крепость хранил предолгую память о многом. И славился он не только всенощными и обеднями, акафистами и молебнами — они звучат и сейчас, но и великим мужеством монахов-воинов. Ведь это из их среды вышли запечатленные в летописи герои Куликовской битвы Пересвет и Ослябя… Саблин задержался, оглядев догоняющего его молодого монаха. Спросил, чтобы только завязать разговор: — Это все экскурсанты небось? — Они, — охотно ответил монах. — Каждый день народ валом валит. — А на что смотреть-то? — с хитрецой спросил Саблин. Ему очень хотелось разговорить монаха. — Как на что? — обиделся тот. — Одни соборы чего стоят! Успенский, Троицкий, Сошествия святого духа. Стенные башни, трапезная… А иконостасы в соборах! И музеями мирскими Загорск славен. Зри и ликуй. — Почему вы говорите «зри», а не «смотри» или «гляди»? — Потому что я знаю русский и церковнославянский. Последний, мне кажется, здесь наиболее уместен. Интеллигентно говорит, подумал Саблин. А может быть, он и Смиренцева знает? Спросил: — Вы всех здесь знаете? — Не всех, конечно. Но многих. А кто вас интересует? — Скажем, профессор Смиренцев. Духовная академия. — Отец Макарий! — возликовал монах. — Так это же мой профессор. Он у нас курс иконописи ведет. Я его с семинарских лет помню. Чудо-ученый! — Как найти его, не подскажете? — Он сейчас, наверное, в Успенском соборе обедню стоит. Летом каждую обедню отстаивает. В академии занятий нет: каникулы. А вы кто по специальности? Искусствовед? — Немножко, — слукавил Саблин. Помолчали. Врата Успенского собора были открыты. Он показался Саблину знакомым, а сопровождавший его монах поспешил пояснить: — Провинциальная копия Успенского собора в Московском Кремле. Только тот построен в конце пятнадцатого века Аристотелем Фиораванти, а этот скопирован суздальскими «содругами зодчими» почти на сто лет позже. Хотите взглянуть на усыпальницу Бориса Годунова, она здесь же, снаружи, у западной стены? — Не успею. Тут еще смотреть и смотреть, а у меня времени мало. Вы лучше помогите мне найти вашего отца Макария… Второе знакомство с церковью не поразило, а подавило Саблина. Подавило своим пространственным пафосом, узостью своих высоких, почти готических окон и позолоченными рамками уходящего в далекую высь пятиярусного иконостаса. Монументальность окружающих стенных фресок дополняла впечатление. Хотя молящихся и любопытных кругом было достаточно, он чувствовал себя как Гулливер в чертогах Бробдиньяга. Монах, осторожно обходя молящихся, подошел к коленопреклоненному профессору, стал рядом с ним и что-то шепнул. Тот окинул взглядом стоявшего поодаль Саблина и указал жестом на выход. — Простите меня, профессор, что я позволил себе нарушить вашу молитву, — почтительно сказал Саблин. — Бог простит, когда в моей помощи человек нуждается, — ответствовал Смиренцев. — Вы откуда к нам прибыли? — Из Подмосковья, недалекий сосед ваш. — Вы священнослужитель? — Никак нет. По специальности очень далек от русской православной церкви. Инспектор уголовного розыска Саблин Юрий Александрович, — представился он. Профессор взглянул на него с видимым интересом. — Ну что ж, поговорим дома. Дело, очевидно, важнее, чем я помыслил.3
Дома профессор остался в том же аккуратном черном костюме, застегнутом на все пуговицы, в каком был в Успенском соборе, только сменил уличные туфли на сафьяновые домашние тапочки. За это время Саблин успел оглядеть гостиную, где его приникал хозяин. Ему казалось, что он попал в маленький музей, собравший редкую старинную мебель. Вольтеровские глубокие кресла, обитые темно-зеленым плюшем, овальный столик красного дерева на бронзовой скульптурной основе, цветной ковер под ногами, широкий киот с трехъярусным расположением икон древнерусского письма, реставрированных любовно и тщательно, и несколько живописных портретов духовных лиц в узорчатых позолоченных рамах. Разглядел он и самого хозяина: высокий рост, худоба, длинные седые волосы, узкое, вытянутое, как на иконах, лицо, ухоженные бородка и усы. Но главное, что привлекло Саблина, это большие, умные, кажется — всепонимающие глаза. — Что же хочет от меня уголовный розыск? — Ответить на три вопроса, профессор. Саблин упорно называл Смиренцева профессором, хотя и выяснил у монаха-студента его церковное звание: протопресвитер. Однако красивое слово это ничего не говорило. Что за обращение ему долженствует? Ваше святейшество? Ваше преосвященство? Бог его знает! Профессор — куда привычнее. И Смиренцев, поняв это, помог. — Давайте без званий, Юрий Александрович. Для светских я просто Макарий Никонович. И отвечу, если смогу, с готовностью. — Вы помните покойного отца Серафима, настоятеля собора Петра и Павла у нас в епархии? — Припоминаю. Муж честный, строгий и не лукавый. Он приезжал ко мне… — Зачем? — За консультацией о ценности лично ему принадлежащей древнерусской иконы. Саблин обомлел. — Значит, это — икона? Только икона? А ведь он ее называл «сокровищем». — А она действительно сокровище, — сдержанно заметил профессор. — Иначе и не назовешь. А Саблин продолжал недоумевать. Несведущий в иконописи, он не представлял себе даже приблизительной ценности древней иконы. Неужели из-за обладания ею можно убить человека? — Должно быть, я ничего не понимаю, — признался он. — Сейчас многие собирают иконы, это даже модно, пожалуй. Знаю, что некоторые платят по двести, триста рублей для пополнения коллекции. Но о больших ценностях в любительских коллекциях не слыхал. Знаю, что есть и раритеты, конечно. Рублев, например. Но ведь такие в музеях. Их даже за границу вывозить запрещено. — Вывозят, — вздохнул профессор. — Недавно в одном американском журнале прочел, что в Нью-Йорке на аукционе икона богоматери в чисто рублевской трактовке, по свидетельству знатоков написанная в начале пятнадцатого столетия, была продана за сто тысяч долларов. Вот вам и сокровище для ее обладателя. Кстати, автор статьи считает, что оценка эта еще занижена. — Сто тысяч долларов! — растерянно повторил Саблин. — Значит, протоиерей Востоков не ошибся в оценке «сокровища»? — Я бы оценил его еще выше. Протоиерей Серафим привез мне редкостный раритет высочайшей ценности. Он сказал, что завещает его своей дочери. А я обещал ему найти покупателя. — Кого?! — Покупателем может быть и православная русская церковь. А где сейчас эта икона? — Где и у кого, мы пока еще не знаем. Но полагаю, что найдем. — Если ее украли, то не найдете. Много волков охотятся за такими сокровищами. Саблин задумался. Разговор получался явно официальным, утратив дружеские нотки. Не очень уверенно, но подчеркнуто холодновато прозвучала профессорская реплика о том, что покупателем иконы может быть и русская православная церковь. Конечно, протопресвитер ошибался: церковь не станет вмешиваться в мирские дела. Но в его настроении явно сквозило недружелюбие. Нет, надо менять смысл и тональность дальнейшей беседы. Пусть профессор почувствует, как важен для нас его авторитет и опыт в познании византийской и древней русской иконописи. Об этом он уважительно, с подчеркнутой надеждой на помощь и поведал Смиренцеву. Тот сразу оживился, его кажущееся недружелюбие как ветром смахнуло. — Конечно, я с удовольствием расскажу вам все, что помню об этой иконе. Вы видели иконы древние, писанные, скажем, в четырнадцатом и пятнадцатом веке? Только без оклада, конечно… — Видел Рублева в Третьяковке. И у моей бабушки были иконы в окладе выпуклом, повторяющем в металле тот же рисунок, что на иконе. Только лики святых прорезаны. — Ваша бабушка была состоятельной? — Папиросницей с асмоловской фабрики. Потом к нам переехала за детьми присматривать. — Значит, все ее иконы были изделиями привычного на Руси кустарного промысла. Расписанные наспех тусклыми красками без соблюдения традиций древнерусской иконописи липовые доски в медном окладе, наверно. Но если вы видели Рублева, то, конечно, вспомните свойственную ему манеру письма. Саблин неожиданно для себя обиделся за бабку-папиросницу: — Почему в медном? И в серебре были. Одну из бабкиных икон мы называли «Христос на полотенце». Там как раз серебряная риза изображала собранное по углам полотенце. Посреди его в круглой прорези виднелось писанное уже на самой иконе лицо Христа. Мать говорила, что будто бы есть такая легенда. В святцах, кажется. О том, что шел Христос в Вифлеем и захотел по дороге умыться. Вытер лицо поданным ему полотенцем, а на полотенце-то оно и запечатлелось. — В хорошей семье вы росли, Юрий Александрович, хотя и выросли атеистом. Да, есть такое предание. Только не в святцах оно описано и не в Вифлеем шел Христос. А все остальное верно. И называется эта икона «Спас нерукотворный». Сюжет ее общеизвестен. Он повторяется и в византийской иконописи эпохи Палеологов, и в древнерусской. Именно такую икону и привозил ко мне протоиерей Востоков. Только ваша икона едва ли раритет, а его — шедевр бесценный. И определить ее автора было не так-то легко. С первого взгляда — Рублев! Его манера, его краски, его тончайшее мастерство письма. А вгляделся — задумался. Рублеву ныне приписывается многое, для него характерное, но не им написанное. Вернее, не только им. Ведь и фрески, и бесценные свои иконостасы писал он не один, а с содругами. С Феофаном Греком, Прохором из Городца и с Даниилом Черным. Мы знаем и единоличные работы Рублева и Феофана Грека, а чернец Прохор и Даниил Черный, к сожалению, известны только в содружестве с Рублевым. Но оба, несомненно, писали что-то и для себя или для своих княжеских покровителей. Так кто же из них был автором иконы отца Серафима? Смиренцев замолк на минуту, вспоминая, должно быть, то, что сказал тогда протоиерею и что должен был сейчас повторить Саблину. А тот подумал: не витийствует ли профессор, будто с лекторской трибуны, потрясая своими знаниями академических слушателей? И тут же опять усомнился. Надо ли ему, Саблину, критически принимать профессорский пафос? Профессор есть профессор. Фанатик своей специальности. И знаний гора, вероятно, не только в иконописи. Так внимай, Саблин, признательно, познавай непознанное! Авось пригодится. — А может быть, Феофан Грек? — задумчиво продолжал профессор. — В этой иконе было что-то от его палитры. Та же резкость контрастов света и тени. Тот же высветленный воздух среды в подчеркнутой белизне полотенца. Та же узорчатая игра кармина и охры на обоих его концах. Та же чрезмерность чувств в трагическом лике Спасителя, доходящая почти до яростной напряженности. Словом, тот же «психазм», как называют господствовавшую тогда философскую школу в Византии. Я снова вгляделся в икону: нет, не то. Скорее еще не ощутившее себя или просто неосознанное подражание. Может быть, все-таки это Рублев, ранний Рублев, творение которого отредактировал кистью Феофан Грек? Нет, даже в годы их совместной работы у Рублева уже было свое лицо. Хотите взглянуть на него? Профессор открыл дверь в кабинет, достал с книжных полок альбом литографий и раскрыл его перед Саблиным. — Вот смотрите: ранний Рублев. Называется «Спас в силах». Иконостас Успенского собора во Владимире. Написано в тысяча четыреста восьмом году. Вглядитесь же! Разве не восхищает вас эта просветленность гармонии красок? А эта только ему присущая оригинальность композиции? Облик Спасителя в ромбовидном светлом пятне вписан в контрастный затемненный овал идеально правильной формы. А в лике Христа не трагическая напряженность, а светлая печаль, как зов к состраданию. Нет, не Рублев писал икону протоиерея! Не Рублев. А кто тогда? Кроме этой четверки, летописи не называют никого из их современников. Даниил Черный? Современные исследователи колеблются определить написанное им единолично. Но я считаю, что он сотрудничал с Рублевым только в росписи фресок. А вот старец Прохор, кажется, подходит, хотя его индивидуальное творчество тоже не найдено: о нем только гадают. Ну и я погадал. Ведь Спас на иконе протоиерея больше тяготеет к Греку, чем даже ранний Рублев. Скажем точнее: к четырнадцатому столетию, когда проникали в иконопись традиции византийской школы. Значит, именно чернец Прохор из Городца, первый учитель и содруг Рублева, скорей всего, мог написать эту икону. И от этого ценность ее лишь еще более повышается… Только найдете ли вы ее? — Найдем, — сказал Саблин на этот раз уже без сомнений.Снова розыск
1
Весь день просидел Саблин, склонившись над альбомами Феофана Грека и Андрея Рублева, которые достал в городской библиотеке у самой Полины Ивановны. Такие книги давались на руки только в читальном зале, да и то лишь близким к искусству людям. Но к Саблину премудрая Полина благоволила еще со школьных его лет, когда он приходил в библиотеку этаким скромным, тихим и застенчивым юношей. Читал он много, больше своих однокашников, а перечитывал обычно то, что они не читали: Лескова и Герцена, Шекспира и толковый словарь Даля, даже михельсоновскую «Русскую мысль и речь». Да и вернувшись домой после окончания областного университета, он тотчас же возобновил свои связи с библиотекой. Полина Ивановна никогда не спрашивала, почему ему нужна та или иная книга — только радовалась его жадности к знанию. Но сейчас, когда он попросил альбомы древнерусской иконописи, не выдержала и спросила: — Вы что, ушли из милиции, Юра? — Почему? — смутился Саблин. — Вы удивлены моим выбором? — Немножко. Да и непонятно, почему вдруг ваше стремление к познанию обратилось к иконописи? — Я расскажу вам об этом несколько позже. Мы сейчас расследуем дело, предметом которого может быть одна из таких картинок, — он раскрыл наугад альбом Феофана Грека. Сверкнули краски на картине, осветилось, словно изнутри, глубоко страждущее человеческое лицо. — Вот я и должен быть во всеоружии.2
Нагруженный альбомами, тщательно упакованными в бумажный пакет из-под почты, Саблин с видом победителя вошел в кабинет к начальству. Следом за ним шагал Глебовский. — Могу сразу же начать с ответа на итоговый ваш вопрос, — Саблин сделал паузу для эффекта. — Какое же сокровище оставил протоиерей Вдовиной? — Он повторил паузу и закончил: — Икону. — Икону? — воскликнул одновременно Глебовский и Князев. Одновременно, но в разной тональности: один разочарованно, другой с интересом. — Вы полагаете, Юрий Александрович, — недоверчиво спросил подполковник, — что из-за иконы можно убить человека? — Полагаю, Матвей Георгиевич. Из-за такой можно. — Какой такой? — присоединился к подполковнику Глебовский. — В золотом покрытии, что ли? Саблин не отказал себе в ироническом уточнении: — Риза на иконе зовется окладом. Оклад был, конечно. Вероятно — медный. Только продавать ее будут без оклада. Даже не реставрированную. — В прошлом году, — не удержался, чтобы не съязвить Глебовский, — судили фарцовщика Травкина за то, что он продавал краденные у коллекционеров иконы. А продавал он их по двести — триста рублей. Ну, повысим до пятисот, пусть даже до тысячи. Михеев не мелкий воришка, чтобы рисковать из-за такой суммы. — А если повысить ее, скажем, до ста тысяч. Рискнул бы? — Это оценка Смиренцева? — спросил Князев. — Его. Конечно, учитывая цены раритетов на мировом рынке. Недавно на аукционе в Нью-Йорке подобная икона была продана за сто тысяч долларов. А Смиренцев считает эту цену даже заниженной: — Не Рублев ли? — спросил Князев. — Я слышал, что именно он так высоко котируется. — Не он один. Ведь он не раз писал свои иконостасы в содружестве с другими мастерами. Был среди них и старец Прохор из Городца. Вот его-то профессор и считает автором иконы, принадлежавшей Востокову. А почему, я вам сейчас объясню. Саблин вынул из пакета альбомы и раскрыл их там, где лежали закладочки. То были цветные литографии: «Богоматерь» Феофана Грека и рублевский «Спас в силах». — Обе иконы начала пятнадцатого века, — пояснил он. — Русский Ренессанс. Музейная ценность. Но к той же эпохе относится и «сокровище» протоиерея Востокова. И Саблин почти слово в слово повторил лекцию патриаршего профессора. Глебовский, не отрываясь, смотрел на иконы, а Князев сказал, словно подвел итог: — Что ж, дело Михеева сейчас приобретает для нас особую важность. Похоже, что действительно убийство было спланировано заранее и что соучастниками его являются Андрей Востоков и Екатерина Михеева. Но чтобы доказать это, надо найти икону. Да и ее ценность для государства нас к этому обязывает. Следователь прокуратуры тут же заметил: — Не исключено, что они могут продать икону, пока вы будете заниматься поиском. — Не думаю, — откликнулся Князев. — За обоими установлено наблюдение, оба никуда не выезжали, новых знакомств не заводили. Андрей Востоков по-прежнему работает в своей комиссионке, а Михеева поет в хоре и хозяйничает у себя дома. Даже в кино не ходит. Видимо, ждут, когда мы снимем наблюдение. — А не повторить ли обыск? — предложил Саблин. — Если, скажем, мы не найдем ее в доме и на участке, тогда не поискать ли икону у старых подружек Вдовиной? Певчих, которые уже не поют. Все они верующие. У каждой в доме своя божница. Так почему бы не спрятать икону в такой божнице? А почему прятать? Да потому, что не достойна дочь такого подарка: замуж за битюга пошла, родной матери не послушалась. А подружка — человек верный, на чужое добро не польстится и молчать будет. — Мысль верная, капитан, — одобрительно сказал Князев, — так что и займитесь этим.3
Днем Саблин и Веретенников пришли к Михеевым. Прихватили с собой в качестве понятых соседей по этажу. — Опять с обыском! — раздраженно заметил Востоков. — Даже пообедать не даете. — А вы обедайте, — сказал Саблин. — Мы пока и без вас управимся. Он прошел в комнату Вдовиной. Открыл киот — треугольный шкафчик с иконами, прощупал обитые бархатом стенки и не торопясь снял оклады с икон. Все это были ремесленные поделки прошлого века. Тусклые краски, померкший лак. — Отставить, — сказал себе Саблин и прошел в гостиную, где Веретенников уже успел обработать миноискателем пол. — А если она без металла? — спросил Саблин, не объясняя, впрочем, что он имел в виду. Веретенников и не уточнял: — Коли в дереве, простучим пол. — Пройдись по стенам, — предложил Саблин. Веретенников прощупал миноискателем стены и наконец в простенке остановился. — Есть! — радостно воскликнул он. Саблин приставил к стене принесенную из чулана лестницу и заметил просверленные дрелью дырки в обоях. Именно здесь и просигнализировал миноискатель. Сняв метровый кусок обоев, инспектор тотчас же обнаружил выпиленный в досках, покрывающих бревенчатые стены дома, небольшой прямоугольник, забитый сверху тонким листом фанеры. Стамеской снял и фанеру. — Вот и все, — сказал Саблин и оглянулся на стоявших у лестницы людей. И сразу заметил: у Екатерины Михеевой даже лицо исказилось от волнения, а Востоков рванулся вперед, словно хотел свалить Саблина. Только Веретенников остановил его, схватив за плечо. Старший инспектор спокойно вынул из тайника плоский жестяной ящичек, по размеру похожий на портфель, в просторечии именуемый «дипломаткой», поставил его на стол и открыл. Плоская коробка была пуста. — Что здесь хранилось? — растерянно спросил Саблин. Михеева ответила так же растерянно: — Не знаю. Это мать что-то от нас прятала. Востоков, сжав зубы, угрюмо молчал. И Саблин, естественно, ни о чем уже не спрашивал. Понимал, что больше ему ничего не скажут. А обыск заканчивали тщательно, но уже без энтузиазма. Знали, что главное сделано: тайник обнаружен и было ясно — для чего он предназначался. Видимо, Вдовина в последний момент передумала. Доски выпилила, подходящую часть двух бревен выстругала, чтоб углубить тайник, забила его фанерой и оклеила стену обоями. Зачем? Может быть, испугалась, что тайник будет все-таки обнаружен. Не доверяла ни дочери, ни пасынку, если он к тому времени уже появился в квартире. Да и муж дочери был опасен. Так размышлял Саблин, уже догадываясь, что икону следует искать в другом месте. И ясно стало, что вся эта преступная троица, даже зная о тайнике, не ведала, что он пуст. И не открывала его, потому что обои были целехоньки. Уже уходя с пустым ящичком, Саблин как бы вскользь спросил Михееву: — А когда комнату переклеивали? — Лет десять тому назад. А может, и больше. Не спросил Саблин только о том, что взволновало их, когда он открыл в простенке тайник. И о дырках в обоях не упомянул.Охота
1
— Что ж теперь делать будем? — спросила Михеева, проводив незваных гостей. Востоков молчал. Ярость все еще клокотала в нем. — Может, щи подогреть? Ведь не обедали же. — Какой тут, к черту, обед! Я в себя никак прийти не могу. Как твоя мать нас надула! — А кто знал? Хорошо еще, что мы до милиции тайник не трогали! А если бы он был полон? — Где ж теперь искать ценности будем? В доме их нет. Два обыска было, и ни шиша не нашли. — Где-нибудь хранятся. Только где? Востоков постучал костяшками пальцев по столу. Такая у него была привычка, когда незадача в делах случалась. — Может, любовнику своему отдала? Поди ищи теперь! — Старая она. Какой уж в эти годы любовник. — А псаломщик? После смерти отца говорили, что он к ней шастает. Екатерина даже рукой махнула: — Ему уже сто лет в обед. Востоков молчал. Он думал. Искал ниточку. А следователи небось тоже ищут. И найдут, если он с Катериной промажет. — Значит, она пустую коробку спрятала, — наконец сказал он. — Нас, что ли, хотела обмануть? Или в последний момент передумала? Должно быть, так. Выходит, кому-то отдала на хранение. Мужику не отдала: пропьет. Значит — бабе. Были ведь у нее дружки-подружки? Задумалась и Екатерина. — С кем-то в хоре шушукалась. Васса, кажется, была — Огуревна по прозвищу. Нинка-молочница. Чувыриха-богомолка, не помню фамилии. Клавка-просвирница. Просвирки пекла и потом продавала. Я почти их не помню: в школу еще бегала. Да и не поют они уже. Какие голоса у старух? Даже в церкви никого не видала. Небось дома лампадки перед иконами жгут… У Востокова мысли роились быстрее. — Вот что, сестричка, — сказал он, загибая на руке палец за пальцем. — Адреса их всех завтра же вызнай. Спешить нам надо, пока угрозыск не догадался… — Я к Чувырихе пойду, адрес-то я ее знаю. Ей, пожалуй, мать могла довериться: десять лет назад они с матерью как друзья-неразлучники жили. — А если не доверилась? — Тогда по адресам пройду. У дьяконицы спрошу: где кто живет. Она все про всех знает. — Главное — поспешить, — повторил Востоков.2
Фамилия Чувырихи была Чувырина, а имя-отчество — Авдотья Тихоновна. Об этом сказала она сама — старушка годами за семьдесят, со сморщенным лицом и с жидкими, голубовато-седыми, скрученными в пучок волосами. — А я тебя, милочка, с малых лет помню, когда ты еще в детских платьицах бегала. Давненько не виделись. А за то, что о старухе вспомнила, спасибо скажу. Слыхала и о горе твоем. Жалко мать небось. Ведь ни за что ни про что отдала богу душу. — Мне и Василия жалко, — поставила Екатерина точку, снимая вину с Михеева. Но старуха не согласилась. — Убивец он, твой мужик. Яко зверь в нощи. — Да ведь нечаянно он, — смутилась Михеева. — В сердцах был. Ну и подвела рука. Думаю, и на суде это учтут. — Ты простила, а бог не простит. Все господь видит: и доброе, и злодейское. Не понравилось Михеевой такое начало встречи. Захотелось снять эту накипь. Не проповеди ждала она от Чувырихи, а доброго ответа на свой главный вопрос. Не здесь ли хранятся отцовские ценности? Прямо так и спросить? Обидится. Придется исподволь, издалека… — Что это с вами, Авдотья Тихоновна? Я что-то давно вас в церкви Не видела.Вот и зашла навестить: не захворали? Или случилось что? — Я, милочка, всегда к обедне хожу. Всенощную долго стоять приходится. А ноги не держат. — У меня к вам просьба есть. Не великая, но памятная. — В поминанье, что ль, записать? За упокой души? На похоронах я ведь не была: все ногами маюсь. А тебе стыдно! В хоре поешь, за здравие пишешь, а за упокой убиенной к богу не обращаешься. А я вот Марьяну-мученицу сразу же записала. И поминаю, конечно. — Спасибо, Авдотья Тихоновна. Другое у меня дело. Не оставила ли мать у вас отцовский дар, мне предназначенный? Старуха сразу умолкла, поджав тонкие без кровинки губы. И молчала так, должно быть, минуты две. А Екатерина ждала: скажет или не скажет. Только зачем ей держать церковную утварь, или кресты наперсные, или панагию с каменьями? Никакой корысти у нее нет, продавать не будет: верующая и богобоязненная. Но почему молчит? Чувыриха сомневалась. Вспомнила слова Марьяны: «Спрячь у себя в киоте. А дочери отдашь после моей смерти. Сейчас недостойна она: в соборном хоре поет, а в бога не верит». И спрашивала себя старуха: отдать или не отдать? А вслух спросила для верности: — На страстной седмице говела? — Из церкви не выходила. — И причащалась? — Я православная, бабушка. И крещеная, и богомольная. И в хоре по субботам пою на всенощной. Так уклонилась Михеева от ответа. Но старуха поверила. — Есть дар отца Серафима. Храню. И вынула из киота икону в окладе из серебра. Трудно описать смятение чувств, охвативших Екатерину. Было тут и горечь обманутой в своих ожиданиях женщины, и сдержанный гнев против фанатично религиозного отца и поверившей ему матери, и жалость к пошедшему на убийство Василию, и страх перед обманутым вместе с нею Андреем. — И это… все? — прошептала она, именно прошептала: голоса своего даже сама не слыхала. А где же панагии с бриллиантами, наперсные кресты в золотых окладах с драгоценными каменьями, где золотые чаши для причастия, большие блюда для пожертвования? — А разве этого мало? — нахмурилась Чувыриха. — Чудотворная ведь икона. Не сумлевайся. Из новгородского подворья твой дед отцу Серафиму привез. «Черта мне в ее чудотворности!» — хотелось крикнуть Екатерине. Но сдержалась. Провела рукой по выпуклой серебряной ризе. Хоть бы золотая была! А старуха все говорила и говорила, словно ворожея недуг заговаривала: — Древняя икона, девонька. Прадеды наших прадедов ее чтили и к ней прикладывались. И отец Серафим эту икону в Загорске у патриарха показывал. Только ты оклад не сымай — грешно. И Марьяна не сымала. Так для тебя и оставила. После смерти моей, сказала, отдашь дочери. Вот, значит, ее наказ я и выполнила. В превеликом страхе вернулась Екатерина домой. Андрей ждал. Икона была завернута. Старуха аккуратно упаковала ее. Но ведь это только икона. И даже в серебре, а не в золоте. — Вот все, что отец мне оставил, — произнесла шепотом — опять подвел голос. Андрей молча развернул икону. Так же молча оглядел серебряный оклад, посмотрел, как он прикреплен к доске и, осторожно вынимая ножиком гвозди, снял инкрустированную ризу с иконы. На белом полотенце, окаймленное позолоченным венчиком, виднелось только лицо Христа. На удлиненном, писанном охрой лике горели будто совсем живые глаза. Печаль страдальческая светилась в них, доходя почти до экстатического напора. Узлы скрученного по углам полотенца были повязаны лентами, писанными густым кармином. Краски потускнели, поблекли, словно высветлены в манере, присущей художнику, но все же сохранили свою первозданную красоту. Андрей, все еще не произнося ни слова, долго рассматривал икону, то приближая ее к лицу, то отстраняясь, наконец сказал как бы сам себе: — А ведь отец говорил, что это — сокровище… Может быть, и действительно так. — И ты в это веришь? — А почему бы и нет? — Серебро на десятки рублей считай. Больше не выручишь. — Почему? Раритеты в любом виде искусства есть. — Не понимаю. — Ну, раритет. Особо ценная вещь. Диковинка. — А кому ты продашь эту диковинку? Икона — икона и есть. Протоиерей и тот не возьмет. У него полный иконостас в Соборе. — Протопоп нам не потребуется. Я в Москву продавать поеду. Старые связи порастрясу. Помозгуем. — В Москву тебе не уехать. Узнают — следить станут. — А я без огласки. Потихоньку. Подумаешь, преступление! Екатерина молча взяла икону. Поразглядывала и так, и этак. Хмыкнула. Андрей с презрением взглянул на нее. — Ты когда-нибудь о Рублеве слыхала? — спросил он. — Ему в Третьяковке целый зал отведен. Я понимать, конечно, не понимаю в этом деле, но думку имею. Протопоп сокровищем лубок называть не будет. И еще. Мы теперь вроде чисты. Для милиции. Мы с тобой. Они ж сами видели: тайник не вскрывался, а там — пусто. Кто камень кинет, что из-за корысти мать прибили? Не было корысти. Случай был, как и задумано… А икону тебе Чувыриха сама отдала — как ей мать велела. Твоя она, и государству до нее интереса нет. Что хотим, то и сделаем. Хотим — продадим. Хотим — на стенку повесим. Для интерьера… — Так чего ж тогда скрываться, а, Андрюша? — робко спросила Екатерина. — Раз икона-то наша, законная, то мы и продать ее законно сможем… — Кому, дура? Музею? Много ль там за нее дадут? — Как положено… — Как положено, — передразнил ее Востоков. — Кто обещал Ваське ничего не предпринимать до его возвращения?.. А если узнает и заложит? — Дрянь ты, Андрей! Васька не такой… — Все не такие… Заложить, конечно, не заложит: это ему тоже боком выйдет. Но и мы о нем помнить станем. Дороже продать — вот что сейчас главное. — А кому? — Кому — подумаю. Для того и в Москву тронусь. И потом: где гарантия, что папаня эту икону в свое время от государства не утаил? Нет? То-то и оно…3
Чувыриху старший инспектор отыскал уже после того, как обошел Огуревну и Нинку-молочницу. Их ему назвал псаломщик, с трудом вспомнивший старых хористок. Нинку-молочницу Саблин нашел на рынке, где она торговала не молоком, а клубникой. Сначала она и говорить с ним не захотела — болтун, а не покупатель. А потом смягчилась и скороговоркой объяснила, что и в церковь она уже не ходит, и Марьяну сто лет не видела, и никаких икон та ей не давала. Второй визит оказался столь же безрезультатен. Васса — Огуревна в компании трех старух «забивала козла» в палисаднике и попросила его малость обождать, когда окончится партия. А узнав, что ему нужно, ответила примерно то же, что и Нинка-молочница. Только посоветовала ему к Чувырихе сходить, «ежели та не померла, часом с квасом». С таким напутствием Саблин и зашел к Авдотье Тихоновне: он уже знал от Вассы ее имя-отчество. И как говорится, попал в точку. Но ждало его здесь нечто совсем уже неожиданное. — Была у меня эта икона, сынок. «Спас нерукотворный» зовется. Все верно. Принесла мне ее Марьяна с благословения отца Серафима. Сохрани, сказала, ее у себя в божнице, пока живу. А после отдашь, когда я спрошу или дочь придет, если меня не будет. Вот так и случилось. И Марьяны нет, и дочь пришла за иконой. — И вы отдали? — Отдала. Вчера и отдала. Вечерком после всенощной. Когда сумерки полегли. Ничего больше Саблин не спрашивал. Да и незачем: ведь икона-то есть. И где находится сейчас, известно. Не могла же Михеева, гуляя по улице, тут же ее продать. В собор она не пошла. Да и кто из клириков рискнет приобрести эту музейную редкость? Все они, кроме протоиерея, живут не бедно, но и не так богато, как он. У нового протоиерея, может быть, и есть свободные средства, но древних икон он не собирает и даже осуждает это модное собирательство. Вероятно, икону получит Востоков, и он же постарается ее повыгоднее продать. Что же делать теперь ему, Саблину? Просить санкцию на арест Востокова и Михеевой? А на каком основании? За то, что у них в руках музейная редкость? А если эта редкость, будучи собственностью отца Серафима, вполне законно, как дар, перешла в собственность Марьяны Вдовиной, а от нее к дочери, Екатерине Михеевой? Тогда ты скажешь прокурору, что арестуешь их, как соучастников злоумышленного и заранее запланированного убийства Вдовиной. А есть ли у тебя, товарищ Саблин, достаточно веские доказательства такого убийства? Есть, товарищ прокурор, есть мотив заранее задуманного убийства. Из-за желания овладеть раритетом высокой, даже очень высокой ценности. В десятки, может быть, даже сотни тысяч рублей оценил ее патриарший профессор Смиренцев в Загорске. Тогда мотив не в самой иконе, Саблин, а в ее рыночной стоимости. Вот и проследи пока ее путь… С такими сомнениями и пришел Саблин к Михеевой. Ему долго не открывали, так что пришлось позвонить вторично и не отпускать кнопки звонка, пока не открылась дверь, застегнутая на цепочку. — А к вам и не попадешь, Екатерина Серафимовна, — сказал он, заглядывая в дверную щель. — У меня вопрос есть. — Не вопрос, а допрос, — ответили ему неприязненно, но цепочку с двери не сняли. — На допрос я вас повесткой вызову, а сейчас кое-что выяснить требуется. — Ну, входите, если за делом пришли, — сказала Михеева, открыв дверь и пропуская Саблина в комнаты. Он без приглашения присел у стола и проговорил со значением: — А я к вам от Чувыриной Авдотьи Тихоновны. — Дознались все-таки? — зло откликнулась Михеева. — Дознались, — согласился инспектор, — и разобрались, что к чему. Где у вас та икона, какую вы от Чувыриной домой принесли? — Обознались, товарищ инспектор. И у Чувырихи я не была и, не то что икону — рожу ее сейчас не помню. Саблин решил прибегнуть к нажиму: — У нас есть письменные ее показания: и о вашей матери, которая ей передала икону отца Серафима, и о вас, когда вы пришли к ней за этой иконой. Но Михееву не так-то легко было сломить. — А кто меня видел, как я к ней ходила и как икону домой несла? Есть у меня материна божница, вы ее видели. А чужих икон нет. Доверчивый вы человек, товарищ инспектор. Мало ли что Чувыриха могла вам набрехать. И письменным ее показаниям та же цена. Брехня! — А где ваш брат сейчас, Екатерина Серафимовна? — спросил Саблин. — В Москву уехал. Дружок на свадьбу пригласил. У Саблина даже горло перехватило: еще одна неудача…Московский розыск
1
В кабинете начальника уголовного розыска собрались Саблин, Веретенников, Глебовский и Князев. — Все прочли письменный доклад Саблина? — спросил полковник. — Все. Воцарилось настораживающее молчание. Каждый считал себя хоть частично, да виноватым: не уяснил себе, не подумал, не посоветовался, не подсказал. В результате сбежал преступник, которого никто из присутствующих не мог обвинить в том, что именно он был душой заговора. Саблин рассказал все — и не только о своих действиях, но и своих размышлениях, потому что виноватым считал только себя: слишком медлителен, чересчур осторожен и, пожалуй, даже труслив, потому что боится риска и не согласованных с начальством решений. Начал Князев, которому надоело это молчание. — Осторожничаете, товарищи, боитесь правды. Я читал твою записку, товарищ капитан. Слишком много на себя берешь. Не один ты виноват — все виноваты, и я в том числе. Первая ошибка: сняли наблюдение за Востоковым и Михеевой. Во-вторых, зря провели вторичный обыск в присутствии обоих: это показало им, где был тайник. И то, что пуст он, тоже им на руку. Они начали свой поиск и преуспели в нем раньше нас. А теперь за что нам Востокова задерживать? Икона — наследство. Они на нее по закону право имеют. — Он же ее продавать поехал! — не сдержался Саблин. — А куда? Вдруг в Третьяковку? — Да в какую Третьяковку! Что он — святой агнец? — Поднабрался ты, Саблин, терминологии… — усмехнулся Князев. — Конечно, Востоков не агнец и в Третьяковку икону не понесет. Будет искать связь со спекулянтами, пустит ее «плавать», как говорится. И может она таким образом «уплыть» за границу. Придется тебе, капитан, ехать в Москву, в Министерство внутренних дел. Есть у меня там друг, уже в генеральском звании. Давай, я ему прямо сейчас позвоню… Полковник соединился с Москвой и попросил к телефону генерала Стрепетова. — Пал Палыч, это Князев тебя приветствует… Ничего себе, помаленьку… Да нет, не для встречи, а по делу звоню. Твоя помощь потребуется… Да, «дорогое» дело… У нас в нем капитан Саблин задействован… Нет, не о том речь. Похищение иконы четырнадцатого века очень высокой художественно-исторической ценности. Есть предположение, что икона в Москве, и если мы прозеваем, может уплыть за границу. Саблин сегодня же выезжает в Москву и твое расскажет все, что ему известно. Подключи к нему кого найдешь нужным или его подключи к поисковой группе… Полковник положил трубку и заключил: — Все свободны, товарищи. А ты, капитан, оформляй командировку и выезжай с первым же поездом… Генерал Стрепетов тебя примет и поможет. Поспешай!2
Все произошло так, как и предполагал Князев. Генерал Стрепетов внимательно выслушал подробный рассказ инспектора о поисках редкой иконы четырнадцатого столетия, известной под названием «Спас нерукотворный». При этом Саблин добавил, что, по сведениям уголовного розыска, эта музейная редкость находится сейчас в Москве и не исключена возможность продажи ее какому-нибудь крупному спекулянту, связанному с зарубежными коллекционерами. Описал Саблин и саму икону, ее богатую палитру красок и художественную манеру ее живописца, близкую таким мастерам, как Феофан Грек или Андрей Рублев. — Откуда вам это известно? — спросил генерал. — Частично от профессора Смиренцева — я же был в Загорске, — а главным образом, изучал византийско-русскую иконопись. — Вы что, искусствовед по образованию? — вопрос прозвучал если не с уважением, то с удивлением наверняка. — Да нет, — улыбнулся Саблин, — юрист… А изучал иконопись сейчас, наскоро, в библиотеке сидел. — Похвально, — сказал генерал. — Князев умеет подбирать кадры. Ну а вас, товарищ капитан, мы подключим к поисковой группе тоже специалистов своего дела. И подключили. Таких специалистов оказалось двое: полковник Сербин и старший лейтенант Симонов. — Словом, четыре «С»: Стрепетов, Сербин, Саблин и Симонов, — пошутил генерал. — Мне докладывают, Сербин возглавляет группу в контакте с Петровкой и железнодорожной милицией, Симонов прощупает всех законспирированных фарцовщиков и спекулянтов, а Саблин устанавливает тождественность иконы. Не грех бы и вторично связаться с преосвященным профессором из Загорска. Совещание участников поисковой группы было недолгим, и полковник Сербин его подытожил: — Убийство и все с ним связанное — это ваше домашнее дело, — резюмировал он. — Вот и занимайтесь им по возвращении на место вашей работы. Сейчас же у нас с вами другая задача: найти икону и не дать ей уплыть за границу. Генерал сказал, что похититель ее вам известен. Следовательно, попадаться ему на глаза вам не годится. У вас есть его фотокарточка? Саблин извлек из бумажника два любительских снимка: Востоков на улице и он же за прилавком комиссионного магазина. — Кто это у вас так плохо снимает? — поморщился Сербин. — Снято во время наблюдения за этим субъектом. На ходу снимал. Торопился. — Ладно, сойдет, — согласился Сербин и передал снимки Симонову: — Покажешь Климовичу и Безрукову. Может быть, они опознают. — Надо их и Лысому показать. Без Лысого он на крупных фарцовщиков не выйдет, — сказал Симонов. — Кто же этот Лысый? — заинтересовался Саблин. Сербин загадочно улыбнулся, переглянулся с Симоновым и ответил: — Антиквар. Собиратель ценнейших редкостей. У него есть многое, в истории отмеченное. Я, например, видел у него и скрипку, сделанную самим Амати, и медаль, выпущенную в честь польского маршала Понятовского, и жемчужное ожерелье, подаренное Людовиком Четырнадцатым одной из своих фавориток, и еще кое-что, столь же редкостное. К нему, капитан, все фарцовщики бегут, когда услышат о какой-либо исторической редкости. Часть он приобретает сам, если цена позволяет. — А на какие же средства он живет? — На пенсию. Она у него достаточная для непьющего старика. Да и редкости свои продает помаленьку. Кто ж ему запрещает продать коллекционеру побогаче какую-нибудь не стоящую государственного внимания редкость? — А если не государственного? — Не знаю, как у вас на периферии, а в Москве приобретателей много. Все берут, если стариной пахнет. За хрусталем в очереди стоят, а у него от дедовского хрусталя полки в буфете ломятся. За екатерининский четвертак он тебе любую хрустальную вазу отдаст. Всех московских фарцовщиков поименно знает и о любой «плавающей» редкости в первую очередь узнает. И о твоей иконе, наверное, слышал. Так что своим сообщением его не удивишь, да, пожалуй, и не заинтересуешь: слишком умен для этого, а главное, осторожен.3
К Лысому поехали в первую очередь, благо он жил неподалеку в одном из новых домов на улице Горького. Поехали вдвоем — Саблин и Сербин, захватив с собой один из фотоснимков Андрея Востокова — другой остался у Симонова, отправившегося на поиски Климовича. Безруков же, названный третьим в списке поименованных Сербиным лиц, как выяснилось по телефону, отдыхал где-то на черноморских курортах. — Тоже фарцовщик? — спросил Саблин. — Еще не завязал, до пока не попался, — пояснил Сербин. — Потихонечку наблюдаем, как и за Лысым. Кстати, не называй его так в предстоящем разговоре. Это старая его кличка, под которой он значится в телефонных книжках фарцовщиков. А зовут его Одинцов Лев Михайлович, о чем и сообщит медная дощечка на входной двери. Дверь эту открыл им сам хозяин квартиры, может быть, и удивившийся, но сумевший сразу же скрыть удивление в радостном возгласе: — Всегда рад вас видеть, Илья Сергеевич. Надеюсь, вы не с дурными вестями? — А это мой коллега, капитан Саблин Юрий Александрович, — представил инспектора Сербин. — Если по костюму судить, вы не в добром здравии? Одинцов был в черном шелковом халате, подбитом ватином и перевязанном толстым шнурком с кисточками. Высокий, худой, не старый еще, но уже постаревший человек, чисто выбритый и с короткой стрижкой. Не Обломов, а Штольц, не успевший еще переодеться с утра. — Чем обязан? — спросил Одинцов, усадив гостей. — Не знаком ли вам этот человек? — Сербин протянул хозяину фотоснимок, на котором Востоков был снят, когда он прохаживался по улице. — Снимок неважный, но лицо видно отчетливо. Одинцов нагнулся над снимком, и Саблин увидел лысину у него на затылке. Небольшую, но круглую, как выбритая тонзура. Отсюда и прозвище, подумал он. — Нет, не знаком, — отрицательно мотнул головой Одинцов, возвращая подполковнику снимок. — Никогда не встречался с ним и, надеюсь, не встречусь. — Не убежден. Вполне возможно, что этот человек обязательно заглянет к вам. Он привез в Москву диковинку, которая, быть может, заинтересует и вас. А сейчас ею заинтересовались мы. — Сожалею, но помочь не могу. А что это за диковинка? — Очень редкая икона четырнадцатого века «Спас нерукотворный», — вмешался Саблин. — Не реставрированная, но краски еще сохранились. — Рублев? — Почти… Возможно, его учитель, Прохор из Городца. — Значит, не просто редкость, а суперредкость. Кто-нибудь видел эту икону? — Профессор иконописи духовной академии. — И оценил, конечно. С такой иконой надо в Третьяковку идти. Или в Русский музей в Ленинграде. — А она дорого стоит, эта диковинка? — спросил Саблин. Ему очень хотелось, чтобы Лысый назвал ей цену, но тот почему-то увильнул от ответа. Только заметил неопределенно: — Тряпичные фарцовщики икон не берут. Джинсы проще продать и купить. Рыночная цена известна. Десяткой больше, десяткой меньше — ни продавец, ни покупатель спорить не будут. Не разбогатеют и не разорятся. А для икон счет особый Для коллекционеров-любителей он уже на сотни идет, а бывает, что и на тысячи, смотря какая диковинка. Только думаю, что она у вас краденая… Тогда продавец к знатоку не придет. Или рискнуть побоится, или способ найдет, чтобы ее за границу сплавить. Ну а если ваш молодчик ко мне нагрянет, я все выясню: кто и что, куда и откуда. Когда тема исчерпана и разговор иссякает, приходится прощаться с хозяином. Так и поступили гости, ничего не выудив у хитреца Лысого. Теперь их интересовал только Симонов, поехавший на встречу с Климовичем. Встретились ли они и опознал ли Климович Востокова? Оказывается, опознал; Но Востоков не показал икону Климовичу. Рассказал, но не показал. А тот, естественно, не захотел даже приблизительно оценить «кота в мешке». — Жук он, твой Востоков, — сказал Климович Симонову. — Привез товар — покажи. Мы же не телепаты. А заочно только Чичиков мертвые души скупал. Так я ему и сказал. А он в ответ: хочу, говорит, эту икону заокеанскому гостю показать. Только он, мол, настоящую цену даст. А у наших фарцовщиков, дескать, кишка тонка. — А кто вывел его на Климовича? — спросил Симонова Сербин. — Какой-то дружок его, а кто именно, не сказал. Я хоть и завязал, говорит, но своих не продаю. Ищите сами, сами же и ловите. Это вам не подонок с иконой. Я лично на нее и не зарюсь. Денег больших у меня нет, а валюты тем более. Саблин слушал в раздумье. Молчал и Сербин. Долго молчал, что-то обдумывая. А потом заговорил: — Востокова-то мы найдем. Проверим гостиницы, поспрошаем в ресторанах: где-нибудь он же обедает. Но вот что меня беспокоит. Почему он не показал икону Климовичу? Может быть, потому, что выход был пробный: искал покупателя побогаче? Допустим. Однако можно предположить и другое. Кто-то вывел его на первого же покупателя только потому, чтобы узнали и заинтересовались тем, что в Москве «плавает» редкостная древнерусская икона. Правда, мы сами пустили этот слушок через Лысого. И я сделал это сознательно потому, что все еще не верю ему. Затаился мужик в ожидании крупной аферы. Тройная игра: нам информация, а ему комиссионные с продавца и покупателя. Проиграют только последние, а у него чистый выигрыш. Продавца посадят, зарубежного купца-антиквара вышлют, а икона у нас останется, где ей и положено быть. Ну а его комиссионных никто не взыщет. Поди докажи — свидетелей не было, а деньги уже в сберкассе лежат. Значит, товарищи, так: всю троицу под наблюдение взять…Востоков действует
1
Востоков обогнал Саблина на двое суток. Это открывало ему свободу действий. Все дело в том, какой срок эта продажа потребует. Не дай бог, не дни, а недели. Тогда только на телеграмму Катьки и рассчитывай: сразу примчусь, если шум пойдет. Остановился он в «Киевской» в двух шагах от вокзала. На отдельный номер рассчитывал твердо: старый приятель-администратор обещал, что не подведет. И не подвел, получив четвертную за услугу. Сговорились, правда, и о другом. Востоков просил свести его с кем-нибудь понадежнее из спекулянтов-фарцовщиков. И это было обещано. Так Востоков в тот же день еще ближе подошел к задуманной им афере. Ей предшествовал всеисчерпывающий деловой разговор за обедом. Угощал Востоков. Кабинетно. Не прижимисто, но и без купеческого размаха. К разговору приступили, как только вышел получивший заказ официант. — Ты приехал продавать или покупать? — Продавать. — Краденое? — Нет. Личная собственность, полученная в наследство. — Годится просто коллекционер, или нужен собиратель редкостей? — Кто лучше разбирается и больше заплатит. — Потребуется экспертиза. А это уже гласность. Рискнешь? — Один профессор духовной академии оценил ее как сокровище. Так и называли ее в нашей семье. Но мачеха, религиозная баба с придурью, почему-то скрывала икону от нас. Сейчас мы с сестрой ее обнаружили. Словом, древняя фамильная легенда. Долго рассказывать, да тебе и не интересно. Требуется, в общем, знаток иконописи. — Есть и такие, Андрей. Назвать не могу, но знаю, что есть. И с деньгами. Есть такие, кто за Рублева, например, целый капитал выложит. Но есть-то есть, да не про мою честь. Б знатоках не хожу, и клиентура у меня преимущественно «нательная». Джинсы, дубленки, меха. Если бы ты мне сейчас норковое манто предложил, я бы в два счета нашел покупателя. С любой надбавкой. А в твоем деле, по-моему, надо бы так: пробный выход устроить. Выйти на купца запросто, без товара. Но информацию о нем точную выложить, как объявление в «Вечерке». А он твое «объявленьице» как верный слушок продаст. И поползет оно по Москве медленно, но верно, как клоп поползет, пока нужного тебе купца не укусит. — Нельзя мне долго ждать, корешок. Седмицу еще смогу, как, бывало, отец мой говаривал, а больше не вытяну. — А я тебе больничный лист устрою. Скажем, сердечный приступ. Сойдет? Официант уже накрывал на стол, а Востоков еще не дал ответа. Подождал, когда официант снова исчез. — Рискнем, пожалуй. — А на Климовича я тебя все-таки выведу. Тут даже пробный визит тебе не повредит. — Что это за птица, твой Климович? — Синичка-невеличка, но то, что нам нужно, сделает… Востоков вздохнул. Он рассчитывал на большее.2
Климович, тотчас же опознавший Востокова на предъявленном ему любительском снимке, рассказал инспектору уголовного розыска Симонову об этой встрече далеко не все и не так, как это происходило в действительности. А было так. Недовольство пробным, «бестоварным» визитом Востокова было искренне, но не столь откровенно. Внешне он держался сдержанно, даже с холодком, но предложение клиента его заинтересовало. Хотя он и подтвердил Симонову, что с бизнесом все покончено и ему уже обещано «назначение, соответствующее его образованию и способностям», но этому не поверили ни Востоков, ни Симонов. Авантюра клиента пахла тысячами, может быть, десятками тысяч, упускать ее явно не стоило. Тут с одних комиссионных богачом станешь, если провернешь это дело разумно и осторожно. Нет товара — понятно. Значит надо начинать с серьезного разговора. И он его тут же начал: — А откуда у вас такое богатство? Не обижайтесь, но если это музейная ценность, то каким путем она стала вашей? Востоков рассказал об иконе все, что знал, и почти без вранья. Помолчал минутку-другую и про заокеанского гостя добавил: хорошо бы, мол, такого гостя найти. И спрашивать ни о чем не будет и настоящую цену даст. Тут и родилась у Климовича идея, о которой он Симонову даже не упомянул. Найдет он такого гостя. Только обождать надо. Так он и сказал Востокову. Тот поморщился: — Время не ждет, деляги. — Подождет, ежели не поскупимся. Не минуты считать будем и не часы. Процент будем считать. Ему один, мне два-три, коли не пожадничает. — Если счет на рубли пойдет, я выключаюсь, — вмешался портье. — Ну и дурак, — сказал, как отрезал, Климович. — Это с сотни рубль не деньги. А с тыщи — уже десятка. Ну а если с десятка тысяч, пахнет сотенной. Такая арифметика уже подходит. Верно говорю? Как на исповеди. Только о процентах пока не договариваемся. Серьезный разговор пойдет, когда покупатель появится. На этом и порешили. А проводив гостей, Климович задумался. Не обманул ли его клиент своей сказкой о древнерусской иконе, якобы полученной им в наследство от протопопа — отца? Не украдена ли она в каком-нибудь периферийном музее? И не подделка ли это, сварганенная каким-нибудь искусным мазилкой под византийскую старину? Экспертиза, конечно, потребуется, негласная, но безошибочная, экспертиза профессионала и знатока… Такой человек у него есть: не профессионал, правда, но знаток. Хитрец, но не обманщик, человек, настроенный дружественно, а не враждебно. Словом, человек подходящий. Климович поискал в записной книжке его номер телефона, еще раз продумал все уже обдуманное и позвонил. — Лев Михайлович? — начал он, услышав ответное «алло». — Вас Климович приветствует. Кли-мо-вич. Я вам сейчас напомню. Мы познакомились у Королькова за ужином. Рядом с вами сидела моя жена, далее я. Припоминаете? Да, да. Совсем еще молодая брюнетка. Вы ее серьгами заинтересовались. Китайские, да. Старина-матушка, чистый антиквариат… А почему вам звоню? По делу, конечно. Вы ведь знаток и ценитель редкостей. Такие байки выдавали — дух захватывало. Так вот: выплыла сейчас в Москве икона. Не собираете? Знаю. Только мне ваш совет нужен. Что за икона? Старинная, древнерусская. Нет, не Рублев. Не то его учитель, не то ученик… Посмотреть можно, но собственник пока ее не показывает. Знаток требуется. Не телефонный разговор? У вас? Конечно, могу. И сейчас могу: машина во дворе стоит. Где живете, знаю. На улице Горького. Через полчаса буду у вас. Все это происходило за два дня до приезда в Москву Юрия Саблина. И опознать Востокова по предъявленному ему фотоснимку Одинцов, конечно, не смог. Но о разговоре с Климовичем он своим гостям из уголовного розыска ничего не сказал. А разговор был для них небезынтересный. — Такая икона, если не подделка, больших денег стоит, — сказал Одинцов. — У вас таких денег нет. И покупателя тоже нет. На комиссионных работаете? Скрыть это от Лысого Климович, конечно, не мог. И без антиквара найти даже теоретически возможного покупателя он тоже не мог. Пришлось обойтись без вранья. Одинцов выслушал, улыбнулся и сразу же не по-дружески, а по-барски перешел на «ты». — Тут, если собственник — не вор в законе и даже не мелкий жулик, а просто фраер, тебе и полпроцента на банкет хватит. А фраер твой все одно на меня выйдет. Так что будь доволен тем, что я тебе еще полпроцентика отвалю. А приведешь ты его ко мне, скажем, через неделю. И не криви морду, красивей не будешь. А твой иконовладелец без меня своего покупателя не найдет, потому что на Огарева меня знают и уважают. Я, друг ты мой, никогда и нигде ничего не украл ни у государства, ни у частника. А если и вызывают меня повесткой, то лишь для консультации: я многое знаю и многих знаю, и могу государству помочь, когда оно в том нуждается. Ну а если и грешу иногда — кто ж из нас без греха живет? — то грех этот закона не нарушает. О нем даже знать могут, и не наказывают, поскольку даже грех мой иногда полезнее, чем круглая безгреховность. На этом и поладим, коллега, а через недельку и завершим задуманное. Любил Лысый такие задушевные разговоры и даже свое название для них придумал: в баньке попариться. Так попарился в баньке и Климович, не знавший, как ноги унести от такого банщика.3
Но поехал он не домой, а в гостиницу, где, как полагал, жил хозяин иконы. Число участников завязавшейся вокруг нее авантюры с появлением Лысого увеличивалось. Изменялся и характер самой авантюры. В общем, следовало бы обсудить: сумеют ли они обойтись без Лысого, который нахально обещает провернуть это дело в неделю максимум. Максимальной тогда будет и надбавка к цене иконы, а точнее — их комиссионные, которые теперь придется делить уже на троих. При этом делить будет Лысый, а они только поддакивать. Отказываться неразумно, так как Лысый берет все на себя, в том числе и риск, и хлопоты, и необходимую экспертизу. Когда Климович добрался до гостиницы, отельный холл был уже пуст. Только портье говорил по телефону. Говорил не сдерживаясь, и первые же услышанные Климовичем фразы буквально подкосили его. — …Ничем не могу вам помочь, товарищ полковник. Он прожил у нас три дня и выбыл… Куда? Не знаю. Может быть, из Москвы уехал, а может, снял где-нибудь комнату… Я понимаю, конечно, но мы таких вопросов нашим постояльцам не задаем… Нет, нет, товарищ полковник, не обратил внимания. Обыкновенная «Волга» серого цвета. Похоже на такси, но точно сказать не могу. А номером просто не заинтересовался. Да это и не входит в мои обязанности. Портье положил трубку и тотчас же поднял другую, от телефона внутреннего. — Андрей, — сказал он тихо, — собери все свое барахло и дуй вниз с чемоданом. Быстренько, быстренько… Идиот! На кой черт я буду тебя разыгрывать! Звонили из МВД… Какой-то мент интересовался, проживаешь ли ты у нас. Ну а я ответил, что ты уже выехал. Да уж куда-нибудь пристроим. Есть идейка. Самое главное для тебя сейчас — немедленно уехать из гостиницы. Он огляделся вокруг: холл был по-прежнему пуст. Он мигнул Климовичу: подойди ближе. — Ты с машиной? — спросил он шепотом. — И жена все еще на курорте? — Все точно, — шепнул в ответ Климович. — А дальше? — Посели его у себя пока. А там видно будет.Экспертиза
1
Уже двое суток провел, не выходя из дому, Востоков, равнодушный к метражу и наимоднейшей обстановке трехкомнатной квартиры Климовича. Прожил и сблизился с хозяином. Их сблизила общность интересов и судеб. Оба писали в анкетах: «Высшее не закончил», и у обоих склонность к приобретательству переросла в алчность. И окончательно сблизила их схожесть работы: оба стояли за прилавком комиссионных магазинов. Но Климович действительно стоял сейчас у такого прилавка, Востоков же числился в отпуске. Он лениво бродил из комнаты в комнату, тщетно подыскивая себе какое-нибудь занятие… На книжных стендах он не разбойничал: Климович собирал только старые книги, преимущественно приложения к дореволюционным журналам «Вокруг света» и «Родина», а также пятикопеечные выпуски «Нат Пинкертон» и «Пещеры Лехтвейса». Чтение, даже лубочное, не привлекало Востокова. Мучила неизвестность дальнейшей судьбы и его самого, и его сокровища. Страх перед тем, что затеяли Климович и портье из «Киевской», неведомая цена иконы и недоверие к новому поколению фарцовщиков. Старых он, правда, искал, еще живя в гостинице, но безуспешно: кто завязал, кто сидит. А здешние что-то тянут, из дому не выпускают, все уголовкой пугают. А что ему ментов бояться?..2
За дверью кто-то долго и пронзительно позвонил. Востоков струхнул: не за ним ли? Звонок повторился. Вспотев от страха, Востоков рискнул открыть. За дверью стоял начавший уже тучнеть человек с обвисшими, как у бульдога, щеками. — Вы — гость, — сказал он Востокову, окинув его острым всепонимающим взглядом. — А где же хозяин? — Обещал быть в четыре дня, — Востоков отступил, впуская незнакомца. Тот вынул из жилетного кармана старинные золотые часы с крышкой, открыл ее, сказал вполголоса: — Сейчас без четверти четыре. Я подожду у него в кабинете. Востоков, все еще недоумевая, пропустил его по-прежнему молча и остановился у двери. — Разрешите представиться, — проговорил тот, — Одинцов Лев Михайлович. Антиквар по профессии и коллекционер по склонности. А вы почему не рекомендуетесь? — Не успел еще. Я Востоков Андрей Серафимович. Одинцов вдруг почему-то обрадовался. — Значит, это вы икону принесли? — спросил он. — Я, — смущенно признался Востоков — Говорят, что у вас древние иконы высоко ценятся. — Смотря какие. Высоко, если не подделка. — Вы антиквар. Значит, и цену знаете. Минуточку, я сейчас покажу ее. Он выдвинул из-под кровати чемодан, извлек икону без оклада и поставил ее на стул. Одинцов тщательно оглядел ее, обошел кругом, легонько пощупал — не стираются ли краски и молча шагнул к Востокову. Потом опять оглянулся, вынул из кармана большую лупу и долго-долго рассматривал стершиеся углы. Пожевал губами и крякнул: — Тысчонок пять я бы за нее отвалил. От неожиданности Востоков даже не мог ответить. Язык прилип к небу. А Одинцов тем же ерническим тоном спросил: — Не слышу ответа, Андрей Серафимович. Так по рукам или нет? — Я каждый день оцениваю принесенные мне в лавку вещи. Не мальчик. Это что же, розыгрыш по-московски? Одинцов хохотнул по-актерски. — Не ошиблись, уважаемый. Между прочим, остроумно придумано: розыгрыш по-московски! Хотите настоящую цену? Так помножьте пять на три. Лысый, как говорят рыболовы, бросал подкормку. Покупать для себя он и не собирался. Он пробовал клиента на твердость. Востоков задумался. Одинцов, как ему показалось, уже не шутил. Неужели так оценивал свое сокровище и отец? Не верится. Значит, надо торговаться, как на базаре. — Не выйдет, — сказал он мрачно. — Бросовая цена, Лев Михайлович. У нас пока еще нет инфляции. — Биржи тоже нет, уважаемый. И рубль не падает. — А вы знаете, сколько за Рублева государство платит? Государство! И за сколько его за границей на аукционах оценивают? — Так ведь это не Рублев, а подделочка. Древнее подражаньице, согласен. Но все-таки подражаньице. А пятнадцать тысяч цена не малая. «Волгу» купите, если разрешение есть. — Вот и покупайте себе «Волгу», если у вас есть такая возможность, — отрезал Востоков и уложил в чемодан икону. — Не сторговались? — усмехнулся стоявший у двери Климович. Он уже несколько минут стоял так, прислушиваясь к разговору. — Я ему пятнадцать косых предлагал, а он морду воротит, — нашелся Одинцов. «Пятнадцать косых, — подумал Климович. — Для комиссионных нам и десяти процентов мало». Для фарцовки ни он, ни Лысый покупать икону не будут. Значит, и ему, Климовичу, и Лысому, и корешу из гостиницы выгодней завышать рыночную цену иконы и не настаивать на бросовой. Интересно — какую цену назовет сам Востоков. Этот вопрос задал Лысый. — Тысяч пятьдесят, по крайней мере, — ответил Андрей. Переглянувшись, все вдруг замолчали. Каждый думал о том же, что и сосед. Во-первых, требуется экспертиза, чтобы гарантировать нужную сумму. Для того, кто сможет снять с текущего счета такую или большую сумму. А тот, кто может дать пятьдесят тысяч, способен раскошелиться и на все шестьдесят. Для комиссионных такой расчет всех троих вполне устраивает. Следовательно, можно согласиться с Андреем и принять его условия. Ведь они ничем не рискуют. — Вот так, — оборвал молчанку Востоков. Любая пауза пугала и тяготила его. — Вы подумайте пока, а я пойду полежу. Устал что-то…3
Проводив Андрея в спальню, Климович вернулся. Лысый молчал по-прежнему. На хозяина дома он даже не взглянул. — Зачем ты ко мне притащился? — спросил Климович. — Полгорода на метро ехать. Ведь ты даже не знал, что Андрей у меня живет. — Моя удача, — отмахнулся Одинцов. — По крайней мере товар увидел и цену узнал. — А что молчишь? Цена не нравится? — Почему? Для комиссионных отличная. — Если покупатель найдется. Одинцов ответил не сразу. Два огромных зрачка его не подсказали мысль. Только пухлые губы скривились в улыбке. — Вот я и думаю о том, что выгодно мне. Последнее слово он подчеркнул в недружеской интонации. Перед Климовичем сидел не сообщник, а конкурент. — Не рано ли раскрываетесь, Лев Михайлович? — сказал Климович. — Что ж получается? Свой своего за рублевку продаст. — А если куплю я, за что вам комиссионные платить? Еще древние римляне говорили: хомо хомини люпус ест. Ты латыни не изучал, так переведу. Человек человеку волк. Вот и все, уважаемый. — Латыни я действительно не изучал. Но по-русски тоже изреченьице есть: с волками жить — по волчьи выть. И если двое выходят из игры, банк снимает третий. Я не личность имею в виду, а ведомство. — Понял. Что ж, и втроем поиграть можно… — Без экспертизы не поиграешь. — А если найдется? — Гайки подкручиваете. У вас таких денег нет. Ни в кармане, ни в сберкассе. — Но эксперт имеется. И комиссионных не потребует. Климович задумался. Кого Лысый имеет в виду? Безухова нет в Москве. Жук в свалку не полезет. Может быть, Король? Но Корольков после отсидки зимой и летом на даче прячется. Если и фарцует, то по-крупному и только наверняка. У Лысого связь с ним есть. Наверняка есть. Но возьмется ли он? — Не возьмется. Слишком запуган, — подумал он вслух. — Ты о ком? — вздрогнул Одинцов. — О Короле. Вы только о нем и думаете. — О ком же еще? Фирмач отменный. И доскарь к тому же. Если заинтересуется, лучшего эксперта по иконописи даже искать не нужно. — Есть только одно «но», Лысый… — Климович нарочно прибегнул к кличке, чтобы подчеркнуть их равную профессиональную ценность. И сделал паузу, чтобы проверить, как примет ее Одинцов. Но тот либо не заметил, либо сделал вид, что не слышал. Только спросил недовольно: — Чего тянешь? Какое «но»? — А не продаст? — Этот своих даже за тысячу не продаст. — А если за пять или десять? — Надбавка в перепродаже естественна. Хоть для своего, хоть для чужого. — Я о другом говорю. Если он в перепродаже валютой возьмет… — Нам-то что? С нами он по-свойски рублями расплатится. И для твоего Андрея рубли у него найдутся. А сам пусть фунты или доллары копит. Не страшно. Климович опять помолчал. Ему было страшно. — Рисковое дело, — наконец сказал он. — В сообщники попадем. — Не бей в колокола раньше обедни. Эксперт по доскам нам все равно требуется. Вот и заедем к Королю в Ашукинскую.Московский розыск продолжается
1
Дверь им открыла хорошенькая брюнетка лет тридцати на вид, а может, и меньше. Черные ее волосы были искусно подстрижены под мальчишку, в ушах голубели бирюзовые серьги, а на модном ее платье был наколот домашний передник. — Знакомься, — сказал пропустивший гостей вперед старший лейтенант милиции Слава Симонов, — мое начальство тебе уже известно, а это наш областной гость Юрий Александрович Саблин. По приказу полковника воинские звания наши во время обеда отменяются. Юрку можешь называть Юрой, а полковника просто по имени-отчеству. — А меня Ирой, а на официальных приемах Ириной Сергеевной Симоновой. Для знакомства скажу Юре: передний зуб вам надо менять. Он весь ваш фасад портит. И не возражайте. Я стоматолог и через час вас покину: у меня в три прием в поликлинике. А сейчас обедать, обедать, обедать. — А мы это учитывали, — усмешливо заметил Симонов. — В три часа у нас звания восстанавливаются, и мы открываем экстренное совещание нашей поисковой группы. Для этого и Юра приехал. — А что же вы ищете? — неосторожно спросила Ира. — Секрет, — мягко сказал Сербин. — Не обижайтесь, Ирочка, но женщинам иногда свойственна, я бы сказал осторожно, излишняя разговорчивость. Как-то мой предшественник ловил одного бандита и опрометчиво рассказал об этом жене. А бандит этот явился на прием к ней в такую же поликлинику. И в егоприсутствии, заканчивая свой разговор с медицинской сестрой, она назвала кличку разыскиваемого бандита. Естественно, его пришлось тогда разыскивать уже в другом городе. — Я не болтлива, — все же обиделась Ира и демонстративно повернулась к Саблину: — Как вам нравится моя кулебяка? — Божественно! — воскликнул Саблин. — У него интерес ко всему божественному, — усмехнулся Симонов. — Секретники, — засмеялась Ира. — Вот вы и проболтались еще об одном секрете. Вы ищете что-то связанное с церковью. Для этого и Юра ваш прикатил сюда со своей периферии. — Все не верно, — нахмурился Симонов. — Давай лучше о погоде, Эркюль Пуаро.2
— Вот мы и получили с вами, Слава, хороший урок от вашей жены, — сказал Сербин, только что проводивший Ирину к ожидавшей у подъезда машине. — При чем здесь вы, — нахмурился Симонов. — Это я сболтнул… — Ладно, боксировать будем по выходным дням… Вчера Востокова на Калининском видели, — начал Саблин. — Поел мороженого в кафе. Купил батарейку для карманного фонаря. По-моему, он так просто гулял. Иконы у него не было. — Я получил указание следить за Лысым, — подхватил Симонов. — В три часа он поехал к Лешке Климовичу. Час, должно быть, у него просидел. Потом Востоков ушел на ту прогулку, о которой рассказывал Саблин, а я поехал за Лысым. Знали бы вы, куда он помчался! — Догадываюсь. В Ашукинскую. — Как вы угадали, товарищ полковник? — А много ли в Москве крупных фирмачей осталось? Безухов на пляже в Пицунде пузо греет, Корольков на собственной даче отлеживается. Ведь осудили-то его без конфискации имущества. И оба уверяют нас, что завязали напрочно. А я ни тому, ни другому не верю. Саблин воспользовался наступившей паузой. — Разрешите вопрос, товарищ полковник. — Пожалуйста. — Где и как будет произведена развязка операции? — Думаю, на даче у Короля. Вместе с товаром и с деньгами.Король и его вассалы
1
Корольков встретил Лысого на терраске, откуда он командовал Полиной, домработницей, собиравшей ему с грядок доспевшую клубнику. Стоял он в одних трусах в позе штангиста-тяжеловеса, готового поднять рекордный вес. — Здоровеньки булы! — приветствовал он идущего от калитки Одинцова. — Ты один? — спросил Одинцов. — Кроме укротительницы Полины, мы одни в джунглях. — Есть разговор, — предупредил Одинцов. — Что ж, отправим Полину на кухню, а сами займемся клубникой. Она ускорит работу мысли. Он выслушал рассказ Одинцова об иконе, не перебивая и не комментируя, и только, когда тот умолк, спросил: — Где икона? — У меня. — Какой век? — Четырнадцатый. Начало пятнадцатого. — И конечно, Рублев? — Это прозвучало с сарказмом. — Неизвестный автор. Но есть что-то от Рублева или от Феофана Грека. — Вернее всего, подделка или позднейшее подражание. Воспользовавшись паузой, Одинцов рассказал о происхождении иконы, как она была пожертвована протоиереем своей сожительнице, как она попала в руки Востокову… — Значит, угрозыск в курсе? — Там о ней знают, но никто не видал. — Сколько он хочет? — Пятьдесят тысяч. В советских ассигнациях. Корольков усмехнулся, только в усмешливости уже не было недоверчивости. — Похоже на правду. Только ты почему-то умолчал о комиссионных… Сколько? — Процентов двадцать. — Почему ж так много? — Потому что я не один. — Сколько жуликов развелось. Как клопы к чужой крови лезут. — Хорошо жить всякий хочет. Корольков внимал серьезно, говорил серьезно, ироническая ухмылочка исчезла. — К тебе, Лысок, нет претензий. С липой или с каким-нибудь еще дерьмом ко мне не поедешь. Теперь жду с товаром. Кто еще в доле? — Климович и один его корешок из гостиницы. — Корешка можешь не привозить. С него и пятисотки достаточно. Климович жук покрупнее. Его возьми. И вашего попа с иконой. — Он не поп. — А мне все равно: я не верующий. В общем, завтра после обеда.2
Все приехали почти одновременно. Час в час. Все знали друг друга, знакомиться пришлось только Востокову. А чувствовал он себя неловко, даже страшновато, пожалуй. Апломб его как дождем смыло. Чемоданчик свой он поставил у ног и даже отойти боялся. Нашелся только хозяин. Присмотревшись к Андрею, он первым начал разговорное интермеццо. — Ну, чаи, товарищи, распивать не будем. У меня для знакомства старое бургундское приготовлено. Импортное. Востоков молча сел, без единой реплики отпил глоток бургундского, не глядя, подвинул ногой под стул свою «дипломатку», чтобы в любую минуту мог коснуться ее, и не сводил глаз с сидевшего рядом Королькова. Тот, конечно, заметил его маневр, но даже не улыбнулся и только мигнул Одинцову, как бы предостерегая его от грубости. — А вашу икону поставим на диван. Недалеко, и всем видно, — сказал он. Но когда свет из двух окон охватил икону, Корольков помрачнел и щеки его еще более опустились. Он вышел из-за стола, почти бесшумно на цыпочках обошел ее, подошел ближе, снова отошел. — «Нерукотворный Спас», — прошептал он. — Почему нерукотворный? — спросил Климович. — Не сотворенный руками, а чудом запечатленный. Так, по крайней мере, утверждает легенда. Помолчали, выжидая, что еще скажет Корольков. Он все не отрываясь смотрел на икону. Одинцов не выдержал. — Что скажешь? — взорвался он. — Ждем твоего заключения, мастер. — Не Рублев. Слишком резкая контрастность. И нет рублевских высветленных тонов. Больше похожа на феофановскую школу. Хотя и не подлинник… Скорее смесь Рублева и Грека. Подражание византийской палитре. На какой сумме настаиваете? Андрей спустил глаза, выпил вина. — Позавчера просил пятьдесят, — сказал он. — Но цены растут. — На сколько же они выросли? — На двадцать пять минимум. — Столько вам за эту мазню никто не даст. — Наши не дадут. Но можно найти подходящего клиента. — Иностранца? Так у нас с ними контакта нет. И вам его не рекомендую. По исправительной колонии скучаете? — Поставлю условие: не валютой. — Кому вы будете ставить условия? Если не возьму я, вы никого не найдете. И учтите. Вам еще придется выплатить двадцать процентов комиссионных. — Кому? Корольков показал на соседей: — Вот им. Полагаю, что они не из любви к вам покупателя подыскивали. — С какой стати я буду с ними делиться? — Заставят. Андрей все еще держал икону в руках. Положил на стол. Задумался. — Хорошо, — сказал он. — Комиссионные вы сами им выплатите. — Ладно. Мы не на рынке. Корольков, даже не взглянув на икону, положил ее в правый ящик стола. В последний раз блеснул солнечный лик Христа. На фоне всеобщего молчания открыл ящик, полный пятидесятирублевых купюр. — Считайте. Андрею было неловко считать у всех на глазах банковские тысячные упаковки. А Корольков, усмешливо наблюдая за ним, добавил: — Без ошибки. Вчера ровно пятьдесят с текущего счета снял. Ваш «атташе-кейс» не запирается? Так заприте. Не отвечая, Востоков сложил все банковские упаковки в свою «дипломатку», застегнул ее и встал из-за стола. — Я ваш «Москвич» возьму. Оставлю у подъезда. А вы с Климовичем доберетесь. И ни с кем не простившись, вышел. — Сколько ты в действительности снял с текущего счета? — спросил Одинцов у Королькова. — Шестьдесят. Десятку для вас. Делитесь дома. И без скандалов… — Удвоишь при перепродаже? — спросил Одинцов. — Мое дело. В чужом кармане выручку не подсчитывай. Гуд бай, фарцовщики. На терраске их ждали три «С»: Сербин, Саблин, Симонов. — К машине, граждане. Вы к фургончику. Вы, Король, не забудьте икону. А Востоков отдельно поедет. В одиночестве.Развязка
1
— На этом и разрешите закончить, товарищ генерал, — заключил Сербин. — Все версии отработаны. Спекулянты задержаны. А икону пока возьмет Саблин. Она еще нужна ему. — Хорошо поработал? — Отлично. — А не будете возражать, если мы отзовем его к нам из области? — Буду рад. — Одна помеха, товарищ генерал, — сказал Саблин. — Разрешите? — Слушаю. — Во-первых, Князев меня не отпустит, а, во-вторых, мне грустно уходить от подполковника. — Здесь у вас будет уже полковник. И если Князев вас ценит, он не будет мешать вам расти. А пока возвращайтесь домой, доводите дело до конца. Успеха вам.2
Князев вышел из-за стола. Прошелся по кабинету, обнял Саблина за плечи: — С приездом. — Спасибо. Как тут без меня? — Вчера сознался Михеев. Это была удача, которая меняла исход всего дела: теперь Востокову трудно будет устоять. — Сопротивлялся? — Не очень. Как узнал, что «сокровище» у нас и что это не золото и драгоценности, а «всего-навсего иконка паршивая» — его слова, — так веришь ли, заплакал. Это, по-моему, и сыграло главную роль. А потом признался во всем. Топит подельника почем зря. — Значит, с очной ставки и начнем…3
Катерина уже не плакала, просто терла сухим кулаком по воспаленным от слез и бессонницы глазам и не могла отвести их от мужа. Тот уже успокоился. Саблин внимательно следил за Востоковым. Тот сидел хмурый, безмолвный, поджав тонкие, злые губы. На что он надеется, взвешивал его судебные шансы Саблин. Даже если бы не существовало признания Михеева, приговор Востокову уже вынес бы сам Прохор из Городца. Ведь не торгуясь и не раздумывая, снял Корольков шестьдесят тысяч рублей со своего текущего счета. Он просто знал, что играет наверняка. Что еще есть против Востокова? Слова свидетельницы, слышавшей разговор о «сокровище». Показания Лысого, кому сгоряча открылся Андрей. Лысый станет топить всех: ох как не хочет он быть замаранным в перепродаже краденых ценностей!.. Сейчас у москвичей уже лежит акт экспертизы: цены «Спасу» нет, Третьяковка подтвердила. Нет, есть цена, думал Саблин, и высокая: увидят работу Прохора из Городца люди, займет она свое законное место в экспозиции. Два узла на белом полотенце… Саблин усмехнулся: два узла в деле. Один — сама икона. Другой — Востоков. Распутаны они, хотя и вязали их накрепко.
Сергей Абрамов Летная погода
Глава первая

В стороне от Профсоюзной улицы на лесном участке близ санатория «Узкое» трое мальчишек охотились за грибами. Стоял не по-летнему прохладный август, хотя солнце лишь чуть-чуть отклонилось к западу. Несмотря на близость городской окраины, здесь властвовала завораживающая лесная тишина. Пробиваясь сквозь мелкий молодой орешник, мальчишки, смолкнув, остановились: человек преградил им дорогу. Он висел на кустах, будто упал откуда-то сверху. Орешник не подпустил его к земле, низко согнувшись под тяжестью тела. — Мертвый, — испуганно сказал один. — Кровищи-то сколько! Всю спину залило. Двое других растерянно отошли от кустарника. — Айда в милицию. — Где ты будешь отделение искать? Пошли в «Узкое». Там у ворот милицейский пост. Минут через пятнадцать после вызова бригада МУРа уже прибыла. Возглавлял ее дежурный по городу капитан милиции Саблин. — Районщики уже здесь, — сказал водитель. — Им ближе ехать, — уточнил следователь прокуратуры Фадеев. Действительно, машина районного отделения внутренних дел только что припарковалась у табачного киоска на шоссейке, ведущей к санаторию. Местный оперуполномоченный вместе с начальником уголовного розыска, не оглядываясь, шагали к орешнику. Вызвавшие всю эту бригаду мальчишки указывали им путь. Вероятно, они чувствовали себя героями. К человеку, примявшему телом кусты, никто не подходил — ждали медицинского эксперта. Дежурный врач Лина Еремина не задержала экспертизы. Вывод ее был краток и категоричен. — Убийство. Глубокая ножевая рана в спине. Смерть наступила предположительно около часу назад. Убили его, должно быть, на дороге или на лужайке перед кустарником, а тело потом бросили на кусты. Помогите мне перевернуть его, — обратилась она к Саблину. Убитый был человеком лет шестидесяти с лишним. Чисто выбритое лицо его окаймляли две глубокие складки. Седые волосы, взъерошенные кустами, лезли на лоб. «Умер около часу назад, — подумал Саблин. — Может, еще ворочался на кустах, пытаясь подняться. Значит, до появления мальчишек убийца имел по крайней мере полчаса, чтобы скрыться». А эксперт-криминалист тем временем уже обыскивал тело. Ничего своего убийца не оставил, не нашлось и ничего, позволяющего определить личность убитого. Ни бумажника, ни документов, ни денег в карманах не обнаружили. Только два полтинника и мелочь вместе с грязным носовым платком, ставочный билет с ипподрома с большой цифрой 5 в боковом пиджачном кармане да фотокарточка какого-то молодого парня. — Дай-ка сюда снимок, Матвей, — заинтересовался Саблин. Интеллигентное лицо. Молод. Тридцати еще нет, наверно. Хороший костюм. Кто это? Убийца? Но убийца не оставил бы своей фотокарточки. На обороте отпечатки пальцев. — Оставь-ка пока мне эту карточку, — сказал он эксперту, осторожно засовывая снимок в целлофановый пакет. — Пальчики потом проверим. Да и щелкни разок «Поляроидом»: мне снимок убитого тоже понадобится. Эксперт снял крупно лицо убитого, камера автоматически проявила и отпечатала снимок. Саблин взял его вместе с ипподромным билетом. Спокойно сидевшая рядом немецкая овчарка Индус не выражала никакого интереса к происходящему: она покрутилась около кустарника, потом присела, подняв морду к хозяину, взвизгнула осуждающе. — Какие уж следы, — поморщился проводник, — когда кругом все затоптано. Начальник районного отделения угрозыска явно не без скрытой радости обменялся взглядом с местным оперуполномоченным. — Задачка сложная, — вздохнул он. — Дело, конечно, МУР берет? — Возьмем, — сказал Саблин. — Вы все возвращайтесь. Тело — в морг. А я здесь побуду немножко. Есть необходимость. Что за необходимость, у Саблина и не спрашивали. Только следователь прокуратуры лукаво заметил: — Сыщик проснулся? — Да он и не спал. Сейчас спросишь: дежурство? Да, дежурство. Вместе с тобой до завтрашнего утра. «В какую сторону убийца мог выйти, — думал Саблин. — К табачному киоску? Едва ли: слишком заметно. Но спросить все-таки надо». Киоскер был мрачен и молчалив. На Саблина он даже и не взглянул. — За истекший час мимо вас кто-нибудь проходил? — спросил Саблин. — Видел некоторых. А что? — Запомнился кто-нибудь? — Нет. Привык не вглядываться в прохожих. Даже тех, которые подходят ко мне, не помню. Свойство профессии. Вероятно, их было двое: убийца и его жертва, размышлял Саблин. Троих заметил бы даже нелюбопытный киоскер. Шли, видимо, по дороге к санаторию. Она же ведет в близлежащее Ясенево. Оттуда идти сюда смысла нет: там ведь лесной массив ближе, и убийце незачем было искать так далеко уединенное место. Дорога пустынна, прохожих и машин мало. Убийца мог отстать на полшага и ударить ножом сзади. Должно быть, это рослый и сильный человек, способный перенести тело от дороги в глушь и швырнуть его на кустарник. Но где он вышел? Ведь это не загородный, а московский лес, и встречи с прохожими неминуемы… Нашлись и прохожие. Минуту-две спустя из того же леса выбралась на лужайку немолодая женщина с рыжей собакой колли. Саблин представился и спросил, не видела ли она кого-нибудь. — Видела, — охотно откликнулась она, — трех мальчиков, грибы искали. Милиционера на мотоцикле: он часто объезжает лесок по дорожкам. И еще мужчину с портфелем. Возможно, шел к санаторию. А вы кого-нибудь ищете? — Ищу, — согласился Саблин, но о недавнем убийстве рассказывать ей не стал. Мужчину с портфелем он, быть может, найдет в санатории. Милиционер ждать себя не заставил, вырулил из-за церкви и сразу же остановился: Саблин был в форме. — Не знаю, товарищ капитан, — откозырял старшина. — Ничего не слыхал, был по ту сторону участка. — А кого видели? — Двоих, бок о бок шли. По этой дороге, от Профсоюзной. Лиц не разглядел, только взглядом окинул. Немолодые. Шли медленно, будто гуляя. — Где именно? — По той же дороге. Впереди, не доезжая киоска. — Еще кого? — Опять же парочку. Только это знакомые: дочь слесаря из жэка Катерину Смирнову с ее парнем. Учащийся из ПТУ. Да они близко. Сидят в старой беседке. Саблин знал эту беседку и нашел ее тотчас же. Парочка целовалась, не стесняясь прохожих. Но Саблина сейчас же углядели и отодвинулись друг от друга. — Мы никого не трогаем, — смутилась девушка. — Вижу, — сказал Саблин. — А кого вы видели, когда шли сюда и здесь сидели? — Никого, — отрезал парень. — Час просидел здесь, ее дожидаясь, — он указал на соседку. — А я видела, — вмешалась девушка. — Двух стариков обогнала. С Профсоюзной шли. Один, правда, помоложе, коренастый, рослый в серой болонье, другой ростом пониже в пиджаке. Лиц не запомнила. Да и, честно сказать, не вглядывалась. — В каком пиджаке? — спросил Саблин. — В темном? Светлом? — Боюсь обмануть, товарищ капитан, не помню. — Криков, стонов не слышали, когда сидели? Оба сразу сказали: — Нет.
* * *
Это было первое крупное дело Саблина с тех пор, как его приказом по министерству перевели в Москву. Успех капитана в розыске древнерусской иконы начала пятнадцатого века, украденной шайкой мошенников, обеспечил ему должность старшего инспектора Московского уголовного розыска. Загадочное убийство в одном из лесопарков Москвы и было именно таким делом, в котором майор Лиховец, непосредственный начальник Саблина, захотел проверить способности нового сыщика. Тем более что он в этот день был дежурным по городу. Майор едва ли ошибся. Терпеливый, внимательный, никогда и никуда не спешивший, тщательно проверяющий все узнанное и найденное, капитан Саблин был именно тем человеком, кто на вопрос: «Что за профессия — сыщик?» — отвечал, не задумываясь: «Это не профессия, это — призвание». Убийца мог уехать на другой конец города? Конечно. Но он мог вернуться домой, если жил по соседству. Есть ли жилые дома вблизи санатория? Есть. Надо проверить. Четыре жилых дома обошел Саблин, заглянув в каждое домоуправление с одним и тем же вопросом: — Знакомы ли вам эти лица? И показывал две фотокарточки: убитого и человека, фотоснимок которого был найден в его кармане. И слышал везде один и тот же ответ: нет. Дальше идти было некуда, дальше — лес. Но еще оставался санаторий, милицейский пост у которого и вызвал бригаду МУРа. — Кто-нибудь из отдыхающих или гостей проходил за этот час в санаторий? — повторил свой вопрос Саблин. — Проходил, — гласил ответ. — Сейчас же после появления мальчишек. Отдыхающий в санатории член-корреспондент Академии наук профессор Светлицкий. Повидать его можно. Только сейчас обед, и все отдыхающие в столовой. Беспокоить Светлицкого за обедом Саблин не стал, подождал в холле, со всех сторон увешанном подлинниками старых фламандцев, французов и российских передвижников: до революции здесь было поместье князей Трубецких, сохранившее кроме картин и образцы мебели прошлых веков. После своего увлечения древнерусской иконописью капитан с интересом рассматривал увиденное. За этим занятием и застал его профессор Светлицкий. — Вы меня ждете, товарищ? — спросил он. — Вас. Вы единственный, кто возвращался после полудня из города: мне сообщили об этом в милицейской будке у входа. Мы расследуем убийство, происшедшее в это время в здешнем лесу. Вы шли пешком. Может быть, слышали крик или стон и прошли мимо, не обратив внимания? — Ничего не слышал и никого не убивал. — Я не подозреваю вас, профессор, — усмехнулся Саблин. — Меня лишь интересует, кого вы видели на вашем пути. — Мальчишек, бегущих мимо, я видел, а еще раньше, у поворота дороги с Профсоюзной, встретил человека — седого, старого, но не дряхлого, даже чем-то напоминающего меня. Только я не выношу этих сизо-серых плащей. Они и от дождя не предохраняют, и уродски скроены. — Вы могли бы опознать его, если увидите? — Если он будет в том же плаще — да. Завтра опознаю, через неделю опознаю, а за больший срок не ручаюсь. «Один вероятный свидетель есть, — подумал Саблин. — Только вероятный, да и то с оговорками. Надо искать».Глава вторая
Утром, сменившись с дежурства, Саблин поехал на ипподром: все-таки шанс опознать убитого. Стоило подождать сводки происшествий: вдруг да появится пропавший без вести. Хотя тут ждать можно было долго: а вдруг у убитого родственников нет? А вдруг он пенсионер, на работе его не хватятся?.. Однако результат обнаружился уже в канцелярии ипподрома. — Наш конюх, Ефим Ильич Колосков, — сказала, едва глянув на карточку, секретарша. — На работе его, кажется, нет. Может, заболел? Справьтесь у конюхов… В первом же тренотделении, куда заглянул Саблин, все подтвердилось. — Наш, Ефим, — сказал один из конюхов, седой высокий старик. — А почему он так голову запрокинул? — Мертв, — ответил Саблин. — Не может быть! Я же его вчера здоровым видал, живехоньким… — Когда? — Говорю: вчера. Утром. С шести часов здесь торчали. — А в два часа его убили, — сказал Саблин. Здесь он мог раскрыться: убили не на ипподроме, а в шести километрах отсюда. — С кем он ушел? — продолжал Саблин. — Сейчас узнаем. Володька! — крикнул первый конюх. Из третьего стойла выглянул лохматый парень лет девятнадцати в клетчатой ковбойке и джинсах, заправленных в резиновые до колен сапоги. — Чего? — спросил он недовольно и не отходя от двери. Оттуда пахло сеном, конским потом и неубранным вовремя навозом. — Тебя участковый требует. Допрашивать будет, куда ты Ефима дел? — Ходил я к нему в обед, — сказал парень, по-прежнему не двигаясь с места. — Дома его нет, и дверь на замке. А за что это меня допрашивать собираются? — Я не ваш участковый, а инспектор уголовного розыска, — представился Саблин. — И никого допрашивать не буду. Просто спросить хочу кое-что, потому что веду дело об убийстве вашего товарища по работе, Колоскова Ефима Ильича. Володька подошел ближе, растерянный и недоумевающий. Сообщение Саблина его потрясло. Он даже ни о чем не спросил. Спросил первый конюх: — Где же это его прихлопнули? — Извините, товарищи, — сказал Саблин, — спрашивать буду я. Вчера с утра Колосков был на работе. Когда же и с кем он ушел? — После полудня его не было, — ответил уже Володька. — А ушел он один. Он всегда один уходит. Ни с кем не общается. — Значит, и друзей у него не было? — Нет, — ответили оба. — Ни в одном тренотделении, — добавил Володька. — А со мной вообще не считался. Командовал, как в строю. — А почему ему тобой не командовать? — сказал первый конюх. — Кто ты есть и кто он? Лучшим конюхом считался. И, честно говоря, по справедливости. Призовых лошадей вырастил: и Жар-птицу и Воронца. В этом году Огонька в дербисты вывел. Не дружил с ним, а скажу: не зря его из Одессы выписали. — Ну, допустим, друзей не было. А врагов? Конюхи, вспоминая, переглянулись. Помолчали. — А из-за чего враждовать-то? — пожал плечами старик. — «Козла» с ним не забивали, на троих не соображали, детьми не роднились. Да и не было у него детей-то. И ставку одну получал. Старый человек, тихий, неразговорчивый Никого не обидел, никому не грубил. А Володькой командовать умеючи надо: парень задиристый. — Где вы были вчера после обеда? Скажем, от часу до двух? — спросил Володьку Саблин. — Весь день в стойле был. Как и все здесь. — Что верно, то верно, — подтвердил старый конюх. — Может, из Одессы кто? Саблин насторожился: — Что — кто? — Приезжали как-то разок, другой. Наездники приезжали. Вы к главному зоотехнику наведайтесь. — А из наездников кто с его лошадьми работает? — Саблин прежде всего искал внутренние связи, внешними займется потом. — Сейчас Плешин Михаил Иваныч, — охотно откликнулся конюх. — Он и Фильку и Огонька тренирует. С одной конефермы жеребцы. Призовые. Еще одна линия, задумался Саблин: наездники, жокеи, конефермы, аукционы, лошади. Но раздумывать долго было нельзя. Спрашивать надо, пока отвечают с готовностью. Он и спросил: — А где мне повидать Плешина? — В больнице он. Пятьдесят первая, — подал голос Володька. — Аппендицит у него. — Давно лег? — Третий день уж лежит. Придется поехать, решил старший инспектор. Но еще на ипподроме не все было закончено. Он записал фамилии опрошенных и пошел через поле к трибунам.* * *
А кто может опознать человека на фотокарточке, найденной в кармане убитого? Ни в управлении, ни в конюшнях его не опознали. Посоветовали у кассирш спросить: может быть, завсегдатай? День был небеговой, и кассирш Саблин нашел в буфете. Кассирш было трое. Они пили кефир, закусывая его бутербродами с сыром. Взглянули на него с любопытством: что понадобилось от них франтоватому милиционеру с погонами капитана? — Я из уголовного розыска, — отрекомендовался он. — Ого! — сказала одна. — Чем можем помочь мы господину Мегрэ? — Только мы никого не убивали, — откликнулась другая. Третья смотрела выжидательно, молча отхлебывая кефир. Саблин вынул фотокарточку: — Не узнаете ли вы этого джентльмена? Может быть, примелькался вам на трибунах? Кассирши долго и пристально всматривались. Но ни одна из них его не признала. — Разве запомнишь их, мелькающих у окошка кассы. Может быть, игрок, может быть. Только не из тех, кто нам уже надоел. Молчавшая кассирша, допив кефир, вдруг вспомнила: — А вы у Зойки спросите. Она придет сейчас. По-моему, это ее клиент. Зоя Фрязина, лет двадцати пяти на вид, высокая, синеглазая, с круто взбитой платиновой прической, отчего она казалась еще выше, красивая даже в сером рабочем халате, действительно входила в буфет. — Поспеши, Зоя, — не очень дружелюбно позвали ее кассирши. — Тобой МУР интересуется. — Почему бы это? — спросила Зоя. Даже нотки удивления не было в ее голосе. Саблин протянул ей тот же фотоснимок. — Узнаете? — спросил он. — Откуда у вас эта карточка? — нахмурилась Зоя. — На работе спрашиваю только я. А я на работе, — настойчиво повторил, как и ранее в тренотделении, Саблин. — А если я не отвечу? — За отказ дать свидетельские показания я могу вас привлечь к ответственности. Такой оборот разговора кассиршам понравился. Они даже зааплодировали. — Не трещите, бабы! — оборвала их Зоя и обернулась к Саблину: — Вы шутите? — Нет. — Так что же я должна засвидетельствовать? — Вот эту личность, — Саблин еще раз предъявил фото. — Не вам чета. Тридцать лет — и уже доктор наук, Максим Каринцев. Старший научный сотрудник Института новых физических проблем. — Игрок? — Я бы не сказала. Играет нечасто и не в каждом заезде. Лошадей знает и редко проигрывает. «С вашей помощью?» — хотел было спросить Саблин, но не спросил. Зоя сама сказала: — Я не размечаю его программы. Это делает кто-то другой с ипподрома. Либо конюх, либо наездник. — У него здесь есть знакомые? — поинтересовался Саблин. — Многие. Только мне он их не назвал. — Недавно познакомились? — Не очень давно. Прошлой осенью в Кисловодске. Я подружилась с его приятельницей. Марина Цветкова, художница из Дома моделей. Зоя отвечала если не с испугом, то с повышенной осторожностью. Понимала, что заинтересованность инспектора уголовного розыска далеко не случайна. Откуда у него эта карточка? Может быть, нашел ее на трибунах? Но тогда проще было отдать ее ей, а не проявлять излишнее любопытство. Но Саблин продолжал задавать вопросы. — И вы часто с ними встречаетесь? — Нечасто, но встречаюсь. — Большая компания? — Не очень. — Ученые? — Возможно. Но я лично встречаюсь с Максимом обычно в компании с Дином. — А кто этот Дин? — Из американского посольства. Что-то там по культурным связям. Но превосходно говорит по-русски. Дин — это имя, а фамилия Хэммет. Вполне порядочный, по-моему, даже просоветски настроен. — Знаешь, Зойка, — вмешалась одна из кассирш. — На дерби я видела твоего Дина вместе с Колосковым из тренотделения. — Что ж, и ему, может быть, понадобилось разметить программу, — отрезала Зоя. Значит, еще не слыхали о гибели Колоскова, подумал Саблин, но информировать их не стал. Ему еще потребовалось зайти в отдел кадров, прояснить прошлое Колоскова. А прошлое это было небезынтересным. В краткой справке, открывавшей досье Колоскова, значилось: «В 1941 году не эвакуировался из Одессы. Якобы опоздал к отходу парохода, увозившего людей и лошадей с ипподрома. В оккупированной Одессе пошел служить полицаем 28-й одесской оберфельдкомендатуры. С гестапо связан не был. В 1948 году был осужден на десять лет в исправительно-трудовой колонии строгого режима. В 1953 году был освобожден по амнистии. С мая 1954-го — конюх Одесского ипподрома. В 1974 году по ходатайству наездников был приглашен на работу в Москву». «Следы ведут в прошлое», — вспомнил Саблин много раз читанную им реплику. Да, ведут. И, видимо, там, где оно начиналось, следует их искать. Но у инспектора еще не был закончен розыск в Москве.Глава третья
Продолжился он в коммунальной квартире на Беговой, где жил конюх. Старший инспектор явился с обыском вместе с экспертом научно-технического отдела Матвеевым и сержантом Дудко. В качестве понятых пригласил соседей по квартире, мужа и жену Захаровых, также работавших на ипподроме. Пока сержант вскрывал замок двери убитого, Саблин поинтересовался их взаимоотношениями с Колосковым. Давно ли они жили вместе с ним в общей квартире? Оказалось — давно. Ее предоставила им администрация ипподрома. — Трудный жилец? — Что вы! Тихоня. Слова лишнего не скажет, все молчком. Ничем не беспокоил. — Не грубил? — Никогда. Только угрюмый был, неласковый. Ни к нам не ходил, ни мы к нему не ходили. — Кто-нибудь ходил все-таки? — Наездник заходил. Плешин Михаил Иваныч. Больше, пожалуй, и никто. — Один еще заходил, правда, — вмешалась жена Захарова. — Ни Ефима, ни мужа дома не было. Только я одна и торчала на кухне. Высокий и в плечах широк. Бритый! Волос не видела, он не сымал шапки: дело зимой было. Чужой, не с ипподрома. Не наш. — Пожалуй, и я его на Беговой видел, — вспомнил муж. — У самого дома. Он в такси Ефима запихивал, а сам к водителю сел. Из окна, правда, смотрел… — Когда это было? — вздрогнул Саблин. — Да в тот самый день, когда Ефим не вернулся. После полудня. Минут не помню. — Опознаете, если встретите? — Может, и опознаю. — Да и я, пожалуй, не ошибусь, — сказала жена. А ведь это находка, задумался Саблин. В сопоставлении со Светлицким еще два неколеблющихся свидетеля. Только с мотивом будет труднее. — Готово, Юрий Александрович! — позвал Саблина эксперт. — Вскрыли без взламывания. Комната Колоскова полностью отражала характер хозяина. Два скаковых седла и беговая сбруя, подвешенные на свободной от окон стене, большая картина маслом, натянутая на подрамник, бесчисленное множество старинных олеографий и нынешних литографий в рамках-самоделах, а то и просто вырезанных из журналов и прибитых к стене ржавыми кнопками, без пояснений выдавали натуру и призвание профессионала-конника. Лошади, лошади, лошади, скакуны и рысаки, тренированные для рысистых испытаний и скачек конкура и выездки, отвоевали все пространство обоев. «Крепыш, Квадрат, Зейтун, Анилин, Ихор, Петушок», — читал подписи Саблин. Для бывшего хозяина комнаты снимки эти были иконами. — Все пальцы хозяйские, — пояснил эксперт, исследовав отпечатки на ручке двери, недопитом стакане с водой, на клеенке стола и дверцах шкафа, — а вот с окурками повозимся. Под столом было разбросано полкоробки недокуренных папирос. — Он всегда был таким неряхой? — спросил у Захарова Саблин. — Наоборот! — воскликнул тот. — Аккуратист. Вы только на стены поглядите. — Может быть, волновался, — подумал вслух Саблин. — Или курил не он? — Интересно получается, — заметил эксперт, — когда мы уезжали с места преступления, я увидел окурок. Даже машину остановил, чтобы подобрать. Тот же «Беломор», и так же изжеваны и смяты папиросы. Может быть, убитый курил или убийца. Обыск ничего не дал, только кратенькую записку на листке из блокнота: «Заходил. Не застал. Со здоровьем плохо. Врачи настаивают на операции. Придется в больницу лечь. Митрий». — Кого на ипподроме зовут Митрий? — спросил Саблин. — Плешина. Он сейчас Огонька работает. — Так он же Михаил Иваныч? — Давно это случилось. Когда еще поддужным у самого Рожкина был, так тот и повелел ему Митрием зваться. Сам-то он тоже был Михаил Иваныч. Чтобы не путали. Ну и повелось: Митрий да Митрий. Классный наездник. Призер.* * *
Накануне Плешину сделали операцию. Когда Саблин вошел к нему, набросив на плечи белый халат, он лежал на спине, сложив руки на груди. Саблин назвал себя, но удивления не вызвал. — Что сделал страшного? — спросил Плешин, не двигаясь. — Не вы, но кое-кто сделал. — С Огоньком что-нибудь? — С Огоньком все нормально, но конюх его убит. — Ефим? Саблин кивнул. — Как же так? Неужели лошадь? — Плешин даже попытался подняться. Саблин осторожно надавил ему плечо, прижав к подушке. Испуг перехватил наезднику горло. — Лежите, лежите. Сейчас все расскажу. Не лошадь. Не четырехногое, а двуногое. Человек. А кто, мы пока еще не знаем. Только ищем. — Где? На ипподроме? Саблин рассказал, где и как было обнаружено тело убитого. — Что я должен сделать? — спросил Плешин. — Рассказать о нем. Как можно больше и как можно подробнее. О его личности, личной жизни, о друзьях и недругах, о знакомстве и встречах. Играл или не играл. Помогал ли кому выигрывать. И не старайтесь его защищать или оправдывать. Это ему уже не поможет. — Что я могу рассказать о нем? — вздохнул Плешин. — Превосходный конюх, влюбленный в свое ремесло. Я бы даже сказал, искусство. С инстинктивным чутьем лошади. Даже в жеребенке почувствует будущего призера… Вы у него на квартире были? Ведь это не комната, а молитва о лошади. Он был по-своему даже религиозен. Только богом его был конь. Или орловский рысак, или чистокровный ахалтекинец. В любой конюшне мира ему бы цены не было. А вот о личности ничего не скажу. Не знаю. И никто на ипподроме не знает. Замкнутый, неразговорчивый, никогда ни о чем беседы не начинал, если вопросов не было. Уважительный, но, как бы вам сказать… — Неласковый? — Точно. С Володькой, подручным его, излишне строг был, потому что ревновал к нему любимую лошадь. Когда Володька Грацию отрабатывал, даже сердился. И, между прочим, напрасно. Володька к нам конюшенным мальчиком пришел, а сейчас у него такое же чутье лошади, как у Ефима. Я бы не Захарова к Огоньку конюхом поставил, как, наверное, главный зоотехник решит, а Володьку. Ему тоже скоро цены не будет. Володька не интересовал Саблина, но он выслушал. Только спросил: — А были какие-нибудь недруги у Ефима? — На ипподроме? Не было, конечно. Любить не любили — молчунов ведь в любом коллективе не жалуют, но ненавистников у него не было. Так что на ипподроме убийцу не ищите, таких гадов у нас нет. — А о прошлом его, Ефима, что-нибудь известно? — О прошлом он никогда ничего не рассказывал. Прошлое его известно только в отделе кадров. Ходили слухи, что он в оккупированной Одессе был, за что-то потом сидел, но, когда его спрашивали об этом, он молчал, как испуганный. А вероятно, все в порядке было, если его из Одессы на службу выписали. — Из Одессы, — задумчиво повторил Саблин. — А кто-нибудь с Одесского ипподрома к вам приезжал? — Бывало. Этой весной приезжал Глотов Иван Фомич, мой однокашник. Вместе у Карамышева азы проходили. Великий наездник был. Кстати, Ванька вместе с Линейкой приезжал. Хорошая резвушка. Ее Пятигорск купил. — Как он с Колосковым? — Никак. Ефим о нем и не вспомнил. Даже на испытания Линейки не пришел. Иван, понятно, обиделся. Так и уехал, не прощаясь. — Я объяснил вам, что меня интересует, — сказал Саблин. — Вы не учли двух вопросов. Первый: помогал ли он кому-нибудь выигрывать в тотализаторе? И второй: о его знакомствах за пределами ипподрома. Плешин ответил с виноватой улыбкой: — Отвечу на второй вопрос сразу. То, что происходит за пределами ипподрома, меня не трогает, не волнует, не задевает и не тревожит. Я говорю не о событиях в мире, а о житейских мелочах. Я не интеллектуал, а только лошадник. И это не ограниченность, а страсть. В этом смысле я похож на Ефима и потому не знаю ничего о его знакомствах. Да и были ли они, не убежден. Теперь отвечу и на первый вопрос. Вы, вероятно, имеете в виду разметку программ? Этим занимаются у нас все: и знающие толк в лошадях, и ни хрена не понимающие в них, вроде билетных кассирш. Занимаются и за деньги, и по знакомству. Размечал ли программы Ефим? Не знаю. Может, и размечал: почему же не заработать пятерку или десятку? Одно знаю точно: он сам, как и я, никогда не играл. Верующий лошадник не приемлет тотализатора. Ни Ситников, ни Насибов, выигрывая, не думали о денежных выдачах в кассах тотализатора. Их сердце согревал лишь тот счастливый миг, когда их кони проходили первыми призовой столб. Их лошади, а не они сами. И я так думаю, хотя далеко не всегда прихожу первым. Не осуждайте и не хвалите нас: мы, как буддисты, отдаем сердце одному богу без отца и без сына — коню. Саблину не хотелось уходить, хотя он и получил ответы на все предполагавшиеся вопросы. Он опять заглянул в то спортивное Зазеркалье, в тот волшебный мир вчерашних Крепышей и Квадратов и нынешних Абсентов и Анилинов, арабских скакунов и чистопородных орловцев, которое он видел в комнате Колоскова и в котором слово «Лошадь» пишется с прописной буквы. Но и этот допрос мало что дал Саблину. Может быть, ответ надо искать среди неизвестных знакомств Колоскова? Или в оккупированной Одессе? Или ответ связан с человеком, фотография которого найдена в кармане убитого?* * *
Из больницы Саблин поехал в Дом моделей к художнице Марине Цветковой. У нее он надеялся получить ответ на вопрос: почему фотопортрет физика Максима Каринцева очутился в кармане убитого? Да еще в день убийства и совсем новенький. — Да, я знаю этого человека. И знаю, что вы уже спрашивали о нем у Зои Фрязиной, — сказала художница. — Допустим, — согласился Саблин, отметив про себя, что Зоя рассказала подруге о его визите. — И давно его знаете? — С прошлого лета. Познакомились в Крыму. — Бываете на бегах? — Редко. Не увлекаюсь тотализатором. — А Каринцев играет? — Иногда. Он слишком занят для таких развлечений. — А если играет, то по размеченной программе? — Да. Он отдавал ее кому-то на ипподроме. — Фрязиной? — Едва ли. Зоя редко угадывает. — Может быть, Колоскову? — В первый раз слышу эту фамилию. Саблин очень надеялся на этот вопрос, но ответ разочаровал его. — Тогда скажем иначе. Ефиму? — вновь спросил он. — Кому? — Вы слышали это имя? От Каринцева хотя бы. — Никогда. — А почему его фотокарточка оказалась в кармане у Колоскова? — Понятия не имею. Кто этот Ефим Колосков? — Конюх, — улыбнулся Саблин. — Так почему же вы, старший инспектор уголовного розыска, идете ко мне, художнице Дома моделей, спрашивать о делах какого-то конюха? Что-то случилось на ипподроме? Допускаю. Но уверяю вас, что ни я, ни доктор технических наук Максим Каринцев не имеем к сему никакого отношения. Может быть, ваш конюх украл эту карточку или нашел ее на трибунах? Так идите на ипподром и задавайте там свои вопросы. «Значит, Фрязина ничего не рассказала ей ни об убийстве конюха, ни об этой злосчастной карточке, — подумал Саблин. — Интересно, почему? Очень интересно!..» — Тогда простите, — сказал он художнице. — Я охотно воспользуюсь вашим советом.Глава четвертая
Человек вошел в будку телефона-автомата, плотно прикрыл за собой тяжелую дверь, бросил в щель двухкопеечную монетку, сверяясь с клочком бумажки, набрал номер. — Але! — сказал он с хрипотцой, то ли естественной — простыл, то ли с намеренной. — Але! Дом литераторов? Там у вас рядышком дипломат сидеть должен. Американский. Есть такой? Кликните его, будьте ласковы, это с парка звонят, с таксомоторного… — подождал, переминаясь с ноги на ногу. — Але! Это вы? Тут какое дело: все утверждено, деньги выделяют… Ага. Ага… Ждать?.. Ладно, дело привычное, подождем… — повесил трубку, стукнул кулаком по автомату: монетка назад не выскочила, глубоко провалилась. — Дело привычное, — повторил он, ни к кому, впрочем, не обращаясь, вышел из будки, пошлепал растоптанными сандалетами по горячему асфальту.* * *
Гриднев выбрался из тесного зальчика Дома литераторов — Малого зала, как он именовался в пригласительном билете, закрыл за собой дверь и облегченно вздохнул: слава богу, отсидел свое на этой говорильне. На «говорильню» Гриднев обещал прийти, сейчас понимал: опрометчиво обещал, но слова не нарушил, даже выступил, сообщил миру пару «мудрых» мыслей. Тема «говорильни» — роль детективной литературы в идеологической борьбе — сама по себе интересна, и Гридневу было что сказать: любил он детективы, много и охотно читал, благо английским владел в совершенстве. Но, скучно начавшись, разговор скучно и продолжился. Чувствовалось: неинтересно было братьям писателям, тем более в ресторане раков подавали, случай здесь нечастый. Раки Гриднева не привлекали, честно говоря, не умел он их есть, побаивался живых, не видел вкуса в вареных. Посему решил позвонить на службу, вызвать машину, а до ее прихода посидеть в кафе, выпить чашку кофе, выкурить сигарету, народ посмотреть: какие они, писатели… Телефон был на столике администратора, женщины могучей и неприступной на вид. Гриднев двинулся было к ней, на ходу обдумывая, как бы свою просьбу покуртуазнее выразить, поджентльменистей, чтобы растаяла неприступная, как телефонзазвонил и администраторша взяла трубку. — Цедеэл, — сказала она баритоном и повторила раздраженно: — Ну, Дом литераторов, Дом литераторов. Кого вам?.. — выслушала, отстранила трубку, огляделась, увидела кого-то поодаль — аж засветилась вся: — Господин Хэммет! Дин! Вас к телефону… Хэммет?.. Гриднев с интересом взглянул на человека, который, вовсю улыбаясь, спешил к телефону. Интересный мужик, «фактурный», — говорят про таких. Не слишком высокий, так — роста среднего, элегантный, но не с иголочки, а чуть помятый, точнее — обношенный в самый раз. Галка, жена Гриднева, сказала бы: не одежда на нем, а он в одежде. Точно. Что еще? Легкая седина. Легкий загар. Легкая сутулость. Легкий акцент: — Откуда, Аленочка? — Вроде из такси, Дин, — неприступная администраторша растеряла всю неприступность: видать, любили здесь «легкого» иностранца, заочно Гридневу известного. — Говорите, — Хэммет взял трубку. — Слушаю… — помолчал, покивал невидимому собеседнику, подвел итог: — Значит, все в порядке?.. Ну, ждите. Ждите, я появлюсь. Он повесил трубку и посмотрел на Гриднева: — Вам позвонить? — Если можно. — Аленочка разрешит. Да, Аленочка? — Только недолго, товарищ, — по-прежнему улыбаясь, сказала администраторша. Гриднев позвонил в гараж и вызвал машину. Поблагодарив «неприступную», он подошел к Хэммету, рассматривающему витрину с фотографиями. — Спасибо за протекцию. Не будь вас, хозяйка телефона вряд ли бы допустила меня до него. Хэммет с готовностью, будто он только и ждал реплики, откликнулся: — Аппарат служебный. Но пользуются им многие. Аленочка только на вид строгая. — Хорошо вы говорите: Аленочка… — Неправильно? — Скорее: Аленушка… Но так тоже неплохо. Ласково. — Я еще много делаю ошибок в русском. — Англичанин? — Американец. — Работаете здесь? — Я дипломат. Служу в посольстве. Рядочком. — Рядышком. — Спасибо за поправку… А вы писатель? — Если бы!.. Бюрократ от литературы. — Это как? — Филолог. Специалист по англо-американской детективной литературе. — О-о! — явно обрадовался Хэммет. — Родственники души! — Родственные души, точнее. А вы любите детективы? — Кто их не любит? — Моя жена. — Женщины практичны. А детективы — дело романтиков. — Это вряд ли. Какая романтика в убийствах? — При чем здесь убийства? Романтика — в поиске, в отборе вариантов, в дедукции. Романтика, если хотите, в тайне, которой окутано преступление. — Тайна романтична, если романтична разгадка, итог поиска. А какой итог у преступления? Наказание. И в нем нет никакой романтики. — Знаю, читал: Достоевский, загадка русской натуры. — Русская натура здесь — пришей кобыле хвост. — Как, как? — Поговорка. Иначе: ни при чем тут натура. Разве в вашем Нью-Йорке за преступление не предусмотрено наказание? — Я из Чикаго. — Ну, в Чикаго, в Сан-Франциско, в Далласе… — Кстати, о Далласе. Не предусмотрено. Убийца Кеннеди так и не найден. — Убийца-то найден. И наказание предусмотрено — законом. Только между законом и жизнью бо-о-льшая пропасть. Кто за убийцей стоял, те скрыты. — И я об этом. Такова система. — Какая система? — Государственная. — Странный вы дипломат. Ругаете свою систему, ее же и представляя, ей же служа. — Кто вам сказал, что я ее ругаю? Я ею восхищаюсь. — Тем, что она позволяет убийцам быть безнаказанными? — Безнаказанными — нет. Недоказанными, непойманными — да. — Непойманный убийца — это слабость полицейского аппарата. — Полицейский аппарат не всесилен. Разве ваша милиция всех преступников славливает? — Ловит. Нет, не всех. Но у нас существует понятие: неотвратимость наказания. Карманный воришка может оказаться до поры везучим. Но повезет раз, два, десять, а на одиннадцатый он будет, как вы говорите, словлен. — Воришка… А убийца? — У нас убийство — самое страшное преступление. Оно — редкость, по сравнению со статистикой убийств в Соединенных Штатах. И конечно же ни одно не остается нераскрытым. Дело в сроках. — И конечно, здесь — заслуга вашей системы. Социалистической. — Не вижу повода для иронии. Да, заслуга. Это у вас Диллинджер или Аль Капоне — национальные герои. У нас бы они были врагами нации. — У нас, у вас… Мы — как на диспуте. Я правильно сказал? — Правильно. Так у нас и есть диспут. Мини-диспут. О преимуществах детективной литературы. Кстати, ваши лучшие писатели — детективисты очень озабочены поимкой преступника. И если он не ловится, то обвиняют они именно систему. — Не все. — Я же сказал: лучшие. Не Спиллейна же к ним причислять. — А чем плох Спиллейн? Его герой — сильная личность. — Мерзкая личность. Синдром вседозволенности. — Опять система виновата? — А то! Вон у нас, слышали, наверно, ходил один с топориком, сильная личность. Всем миром ловили. — Милиция не справилась? — Милиция и справилась. Людям тошно было: живет среди них гадина. Вот и помогали милиции, как могли. — Знаю: дру-жин-ни-ки… — Не только. Попроситесь по вашим каналам на Петровку, в музей милиции. Там вам расскажут подробности. — Спасибо, попрошусь. Так ведь не пустят? — А вы очень попроситесь. Скажите, что пишете диссертацию на тему, скажем, «Сравнительный анализ работы чикагской полиции и московской милиции в их связи с населением представляемых городов». Красиво? — Вы шутник, мистер филолог. — Я серьезен, как никогда. Благодарю вас за беседу, господин Хэммет. Мне пора. — А может, по рюмке водки? — Это бы можно, только мне и вправду пора. — Не смею захватывать. — Задерживать, господин Хэммет, задерживать…* * *
Забавный мужик, думал Гриднев, сидя в машине. Как он в простачка славно играл? Наша система, ваша система… Ай, Хэммет, ай, дипломат! Хорошо, что посмотрел на него, так сказать, своими глазами. Хоть известно теперь, с кем вести заочное сражение, проверить на практике теорию детектива. Кстати, а что он в Доме литераторов делает? Хотя, скорее всего, он не солгал: просто их «контора» действительно находится «рядочком», вот и бродит атташе, «родственников души» улавливает. Машина остановилась у подъезда. Гриднев машинально взглянул на свои окна: свет горит, значит, Галка дома. — Завтра к семи, товарищ полковник? — спросил шофер. — К семи, — кивнул Гриднев. — Спокойной ночи.Глава пятая
Гриднев просматривал очередную сводку МУРа у себя в кабинете на улице Дзержинского. Среди преступлений, зарегистрированных в сводке, одно привлекло его внимание: убийство конюха Московского ипподрома Е. И. Колоскова. Именно Колоскова видели в компании с Хэмметом в его ложе на трибунах во время пятого и шестого заездов. То, что Хэммет — агент ЦРУ, органам безопасности было известно давно. Но ни задержать, ни выслать его как персону нон грата пока не было оснований. Колосков, вероятно, подсказывал Хэммету, какую лошадь надо играть, — так, кажется, на жаргоне «тотошников», — но могло быть и другое. — Ну что ж, попробуем, — сказал Гриднев своему заместителю и другу майору Корецкому. Его он еще знал мальчуганом, подобранным воинской частью. — Что именно? — спросил тот. — А не взять ли нам дело об убийстве бегового конюха? — Знаю о нем. Его ведет в МУРе старший инспектор Саблин. — Вот с ним и возьмем. — Почему? Фамилия нравится? — Фамилия как фамилия. Звонкая. — Очень звонкая, — усмехнулся Корецкий. — Не понимаю. — Саблин был комбриг или начдив, участник бунта левых эсеров. Правая рука Спиридоновой. — Погубит тебя образование, Корецкий… Хотя, пользуясь твоими ассоциациями, могу продолжить: у меня был другой Саблин. Боевик из группы Седого в одесском подполье. — Ладно, сдаюсь, — засмеялся Корецкий. — Но объясни все-таки, почему мы вмешиваемся в дела уголовного розыска? — Хотя бы потому, что конюха Колоскова как-то засекли в обществе Дина Хэммета, — сказал Гриднев. — Тебя тоже засекли вчера в том же обществе. — Мы же знакомы, в конце концов. Вот и захотелось поспорить. И еще учти, что в сводке пометка есть: в кармане убитого найдена фотокарточка Максима Каринцева. — Ого-о, — протянул Корецкий. — Это уже информация к размышлению, как говаривал незабвенный Штирлиц. Стоит побеседовать с Саблиным? — Точно. Кстати, я уже его вызвал. В десять ноль-ноль. Он, наверное, в бюро пропусков сейчас… Но Саблин уже постучал в дверь кабинета. — Входите, — сказал Гриднев, оглядывая спортивную фигуру Саблина. — Не удивлены нашим приглашением? — Нет, — спокойно ответил Саблин. — Вероятно, из-за фото Каринцева? — Точно. Где-то здесь наши ведомства, может быть, и соприкасаются, кто знает. А проверить нелишне. Вот и будете работать с нами. С вашим начальством я договорился. Познакомьтесь: майор Корецкий, ваш напарник на время следствия. Покажите ему свое искусство. — Искусство? — удивленно переспросил Саблин. Гриднев пояснил: — У сыщика и следователя, разведчика и контрразведчика, у каждого все свое, но есть и общее. Это творчество. Убедил? Ну а теперь расскажите о вашем творчестве. Что выяснилось по делу Колоскова? Саблин рассказал. Гриднев слушал и, казалось, мысленно взвешивал все услышанное. Кое-где одобрительно кивнул, кое-где поморщился. — Опросы людей вокруг места преступления полезны, потому что отметают ненужные версии. Допрос наездника колоритен, но многого вам не дал. Только наметил личность убитого, но на след убийцы не вывел. Свидетелей, могущих опознать убийцу, вы нашли, но это поможет лишь тогда, когда вы предъявите его для опознания. Неудачна беседа с художницей Цветковой, как вы провели ее в Доме моделей. Вас сковал один вопрос: почему фотокарточка физика Каринцева оказалась в кармане убитого конюха? Оказалось, что она не знала ни конюха, ни о том, что он был убит. Все остальные вопросы ваши ни к чему не вели. Бывала ли она на бегах? Бывала. С Каринцевым? С Каринцевым. Играл ли он в беговом тотализаторе? Играл. Что вы узнали по сути дела? Ничего. — Я это понял уже во время допроса, — согласился Саблин. — Честно говоря, мне было стыдно. Так провалить разговор!.. — А вам понятно, почему вы его провалили? Потому, что не учли роли, какую в этих событиях мог сыграть Каринцев. Может быть, даже не по собственному желанию и воле. Не учли и взаимоотношений художницы и физика. О них следовало знать. Саблин, не обижаясь, слушал Гриднева. Ему нравился этот высокий полковник, чем-то похожий на Жукова первых военных лет, пожилой, но моложавый, чисто выбритый, коротко стриженный «под полечку», как стригутся обычно немолодые люди. — И еще кое-что, — добавил полковник. — Вам не приходила в голову мысль о том, что разгадка убийства конюха может быть скрыта в его далеком прошлом? Был ли он в плену или в оккупации? — В оккупации был. Служил полицаем в одесской комендатуре. После войны за службу у гитлеровцев был приговорен к десяти годам в исправительно-трудовой колонии. Через шесть лет освобожден по амнистии. — Выясняли по нашим каналам? — Нет. Меня информировали в отделе кадров на ипподроме. Я уже собирался ехать в Одессу. — Похвальное намерение. Обратитесь к полковнику Евсею Руженко. — Следовало бы еще раз поговорить с Мариной Цветковой, — виновато замялся Саблин. — Вам с ней больше общаться не надо: слишком начудили первый раз. С ней познакомится Корецкий. А вы езжайте в Одессу. Руженко поможет. Он в курсе всех оккупационных мерзостей. Во-вторых, поройтесь в судебном архиве: ведь суд, наверное, был в Одессе. В-третьих, разыщите Тимчука. Он крановщиком в Одесском порту работает, а был когда-то, как и Колосков, полицаем. Но вовремя в партизанское подполье ушел. Ведь и я тогда там был, а Колоскова-полицая не помню. Большая полицейская шайка была, но люди, конечно, разные. Кто поневоле втянут, кто из желания пограбить вдосталь, а кто и из гестапо послан был. На суде, конечно, могли и не разобраться: дело давнее. Ведь по горячим следам шли, кто-нибудь и уйти сумел. Или с немцами, или в глухомань. Уже тогда гитлеровцы к нам эту падаль забрасывали. И сколько их мы выловили!.. Свяжитесь с Тимчуком — не пожалеете.* * *
В Одесском управлении государственной безопасности Саблина принял полковник Руженко. — От Гриднева? Александра Романовича? — обрадовался он. — Звонил он мне. Значит, опять архивы подымать будем. — Меня интересует дело Колоскова Ефима Ильича, бывшего одесского полицая, осужденного в сорок восьмом году и амнистированного в пятьдесят третьем, — пояснил Саблин. — Помню, — сказал полковник. — Судилось трое: Колосков, Закирян и Лобуда. Я и следствие тогда вел. Посмотрите в архиве Одесского городского суда. Я позвоню. Только Лобуду судили заочно: бежал из-под следствия. Кто-то помог. Потом мы нашли кто. Заброшенный в Измаил гитлеровский агент Хребтов. На следствии он показал, что Лобуда погиб при попытке уйти за границу: утонул якобы, переплывая Дунай в районе Килии. Мы проверяли, но точно установить его гибель не удалось. Кстати, не понимаю, почему он бежал. С гестапо связан не был, как и его сотоварищи. Ну, получил бы свою десятку и — баста, мог бы жить честно. А суд, учтя бегство и два убийства при побеге, приговорил его к высшей мере. Однако за границей что-то о нем не слышно: может быть, затаился у нас где-нибудь, как затаились некоторые. Найдем в конце концов, отыщется след Тарасов. В архиве городского суда Саблин нашел искомое дело. Суд не установил связи подсудимых с гестапо. Ни Колосков, ни Закирян советских людей не пытали и не расстреливали. Им вменялась только служба в полиции, незаконные аресты, обыски. Даже прокурор не требовал более десяти лет заключения. «Подсудимые Е. И. Колосков и А. Г. Закирян выселили семьи Соболевых и Гринько, захватили их квартиры и все принадлежавшее им имущество, — читал Саблин в обвинительной речи прокурора Михайлика, — произвели незаконный обыск в квартирах Миронова и Кривоносова, отправили на принудительные работы в Германию всех учительниц бывшей школы-семилетки № 24 на улице Свердлова, врачей родильного дома на улице Бебеля Смирнову, Пепельную и Карасик, переплетчицу Владычину, домашних хозяек Наживину, Орлову и Клименкову…» Список незаконных арестов, обысков и высылок, учиненных подсудимыми, в одной только речи прокурора насчитывал десятки фамилий, названных свидетелями обвинения. Саблин скопировал также показания Лобуды, данные им следователю до своего бегства. «— Имя? — Павло Лобуда. — Возраст? — Родился в восемнадцатом. — Образование? — Ремесленное училище. — Специальность? — Слесарь. — Почему пошли работать в полицию? Разве слесари в порту не требовались? — Полицаем работать легче. — И выгоднее? — Это тоже учитывалось. — На сигуранцу работали? — Никак нет. В гражданской полиции. — А в гестапо? — Тем более. — Не лжете? — Найдите свидетелей. — Мертвые ничего не скажут. — Найдите живых. — Найдем в документах гестапо. — Говорят, их сожгли перед тем, как смыться из города. — А откуда вам это известно? — Слухами тюрьма полнится». Далее рукой следователя старшего лейтенанта Руженко было написано: «В найденных списках тайных и явных осведомителей гестапо имя Павло Лобуды не упоминается».* * *
Тимчука Саблин нашел быстро: он действительно работал крановщиком в порту. Пушистые седые усы его ничуть не старили. — Двухпудовой гирей помаленьку балуюсь, — похвастался он. Разговаривали они в «Гамбринусе», пивном баре на Дерибасовской, названном так в память купринского. Тимчук, только что закончивший смену в порту, пригласил туда москвича: — За кружкой пива и вспоминается лучше… Саблин не возражал: жара в Одессе держалась адская. — Гриднев сказал мне, что в дни оккупации вы были полицаем, — начал разговор Саблин. — Був, — сказал Тимчук и тотчас же повторил по-русски: — Чего же скрывать: был. Но только в первые дни, пока не вывел в катакомбы Александра Романыча Гриднева. Там и остался, в боевой группе Седого. — Меня вот что интересует, — продолжал Саблин. — Вы, конечно, и на процессе полицаев присутствовали? — На каком? Их несколько было. — Когда Колоскова и Закиряна судили. — Пришлось. Свидетелем вызывали. — Но я хочу вас спросить о том, которого на суде не было. О Лобуде. — Был такой зверюга. Знаю. В другой фельдкомендатуре служил. Незнаком, но слыхивал. — В частности, интересуюсь его работой в гестапо. В списках осведомителей его нет. Но ведь были и такие, которых гестапо использовало неофициально. Под кличками. — Чего не знаю, того не знаю. Знал бы, сказал на суде… Так он при побеге двух из нашей охраны убил. Все одно — вышка. — Кто убил — неизвестно. Может быть, их пристрелил его сообщник, тайком проникший в тюрьму, — вспомнил Саблин прочитанное судебное дело. — Може, и тот постарался. Только без Лобуды не обошлось. Классно стрелял, говорят…Глава шестая
К Марине Цветковой Корецкий проехал домой. — Господи! — раздраженно воскликнула Марина. — И опять о карточке Максима? — Опять, — послушно согласился Корецкий. — Что ж поделаешь, следствие. — Так я же не убивала вашего конюха! И Максим не убивал. А вы подозреваете! Корецкий выждал минуту и мягко, даже с виноватой улыбкой, вежливо пояснил: — Мы пока никого не подозреваем, но хотим избавить от подозрения хороших людей. Мы ценим и уважаем товарища Каринцева как выдающегося ученого, но нас, честно говоря, интересует эта загадочная связь с ипподромом. — Ничего загадочного, — отрезала Марина. — Я хожу на бега только потому, что меня приглашает Максим. А он — бывший конник-спортсмен, в детдоме воспитывался близ конефермы. К верховой езде приучен с детства. Вот и ходит на ипподром — больше смотреть, чем играть. Потому, может быть, знает и вашего конюха. Корецкий выслушал и осторожно переменил тему, вернее, чуть-чуть сдвинул ее. — У вас общая компания с Фрязиной и ее спутником? — С Динни Хэмметом? — Именно. — Опасное знакомство? — Нет, почему же? Пока неопасное, — подчеркнул Корецкий. — Трудное у вас ведомство. Все-то вы подозреваете… А вы не смотрите, что он из американского посольства. Умный, интеллигентный и, по-моему, порядочный человек. И отнюдь не враг. Я Даже удивляюсь, зачем его держат в посольстве. Ему многое у нас нравится больше, чем в Америке, например газеты. Сдержанная разумная информация, а у них рекламная свистопляска с антисоветским душком. Так он говорит. Я не знаю американских газет, но мне нравится его критическая настроенность. — И вы ему верите? — А почему бы нет? Многие американцы настроены критически к порядкам в Штатах. И если он один из таких, то почему бы нам не дружить? Зойка, конечно, тряпичница, вцепилась в него намертво. «Березка» ей, видите ли, нужна, бар валютный, парфюмерия из Парижа. Ну а мне и Максиму Хэммет интересен просто как собеседник. Много знающий и многое видевший. Надеюсь, я рассеяла ваши подозрения? — Допустим, что так, — подытожил встречу Корецкий.* * *
В эту ночь Гридневу не спалось. Не принимал снотворного, чтобы не втягиваться, но не спалось. Не знал — почему. Работы много, но ее всегда много. Есть, конечно, и неразрешенные еще проблемы, но ни одна из них не должна бы укорачивать ночь. А все ж ворочался, раздраженный. Думал о том, что тревожило последние дни. В поле зрения попал молодой талантливый физик Максим Каринцев. Тревожит, да — это точное слово, именно тревожит его неожиданная дружба с Хэмметом из американского посольства. Может быть, Каринцев — это первая карта разведчика? Необходимо обезопасить ученого. На работе и дома, в научных и личных контактах. Почему возникает связь с ипподромом? Корецкий нашел объяснение: Максим — бывший конник-спортсмен, привычка к лошадям с детства. Почему в дружеской компании Каринцева оказывается любовница Хэммета? Тоже можно объяснить: Зоя старая подружка Марины Цветковой. Почему фотокарточка Максима была в кармане убитого конюха? И это, вероятно, в конце концов выяснится. А тревога не проходит. Требует новой проверки, требует! И Гриднев с утра после бессонной ночи поехал в НИИ, где работает Каринцев. Принял его директор, профессор Боголепов, крайне удивленный тем, что одним из его питомцев заинтересовались органы безопасности. — Сейчас объясню, профессор, — сказал Гриднев. — Только один вопрос: имеет ли плановая разработка темы Каринцева оборонное значение? — Бесспорно. — Так вот, мы отнюдь не подозреваем Каринцева в каких-либо антисоветских акциях, а желаем предотвратить такие акции со стороны врагов нашего народа и государства. Сейчас Каринцев становится центральной фигурой вашего института и со своими исследованиями легко может стать объектом вражеских интересов. Профессор задумался. — А есть опасность? — К сожалению, есть. — Вы понимаете, в чем сложность? — вздохнул профессор. — Лазеры далеко еще не познанная полностью область физики. А Максим — новатор, талант с несметным богатством новых идей. Да и биография его привлекательна: сирота, потерявший мать при своем появлении на свет, рано брошенный отцом, неизвестно где доживающим, детдомовское детство, блестящая карьера на учебном поприще, где еще ребенком его принимают в старшие классы, кандидатская диссертация, защищенная в двадцать два и докторская через четыре года — все это и формирует наше отношение к нему как ученому. — Но личность человека — это не только его дело… Профессор почти виновато опустил глаза: — Согласен с вами. Максим не общественник. Он даже не подал заявления в партию, мотивируя это тем, что партийность в какой-то мере сузит круг его научных интересов. — Будем откровенны, профессор. Он не адепт так называемого инакомыслия? — Не думаю. Говорил о нем с секретарем партийной организации. Он тоже этого не думает. Но твердо настаивает, что дальнейшая работа Каринцева должна протекать в обстановке строжайшей секретности. — Нас это вполне устраивает, профессор. — Могу добавить. Вы сказали: личность. Но ее формируют не только социальные и научные качества, но и характер. Максим взрывчатый, но добрый и обаятельный человек. Можно допустить его ссору с директором — мы часто ссоримся, допускаю и его недоброжелательство к своим научным противникам, какую-нибудь дерзкую выходку на открытом партийном собрании — такие тоже были, и Максим потом извинялся и каялся, но не допускаю в нем ни лжи, ни карьеризма, ни потребительской алчности. И полностью исключаю, полковник, измену Родине. Такие люди не изменяют.* * *
Корецкий зашел к Гридневу, когда тот листал справочник Академии наук СССР, содержащий список академиков и членов-корреспондентов. — Кого ищешь, Александр Романович? — спросил Корецкий. — Оппонентов Каринцева. — А есть такие? — Узнал о них от Боголепова, когда он рассказывал о новациях Каринцева. Оборонный их смысл мне понятен, а в научном оформлении я, конечно, профан. Но, оказывается, плановая разработка темы Максима была принята ученым советом большинством при двух голосах против. Возражали профессор Венедиктов и член-корреспондент академии Косых. — Хочешь связаться с ними? Но это же научные дебри… — Хочу прощупать их отношение к Каринцеву. Важно знать не только мнение друзей, но и недругов. — Вероятно, они исходили из шекспировского тезиса: «Стремясь к лучшему, мы часто портим хорошее». — Откуда это? — Из «Короля Лира». — Мудрец. Должно быть, они рассуждали именно так. Вот ты и явись, как Лир, к обоим. По очереди. Профессор Венедиктов принял Корецкого в университете в перерыве между лекциями… — Как вы, профессор, знающий работы физика Каринцева, относитесь к плановой разработке его темы в НИИ? Ответ на этот вопрос был для Корецкого безразличен, но он предполагал возможность задать второй вопрос: достаточно ли честен Каринцев в своей научной работе, нет ли в его характере следов авантюризма, неоправданной самоуверенности или обмана? — Вы не стесняйтесь, — сказал он Венедиктову, — не бойтесь, что я не пойму научных терминов. — И тут он несколько в одесской манере, с повторениями, задал первый научный вопрос. Профессор Венедиктов улыбнулся и ответил вполне вразумительно: — Мнение мое запротоколировано на заседании совета. Вам остается только прочесть протокол. Корецкий сыграл растерянность и смущение, как бы показывая, что он этого протокола не читал. И задал второй вопрос, сознательно споткнувшись на словах «авантюризм» и «самонадеянность», и тут же поправился на «самоуверенность», а слово «обман» произнес почти шепотом. Тут профессор задумался. — Было бы неправдой, если бы я ответил вам утвердительно. Ни излишней самоуверенности, ни авантюризма в его работе, конечно, нет. Я только считаю, что он ошибается. Другой оппонент, членкор Академии наук СССР профессор Косых, на сакраментальный второй вопрос ответил так: — Какой вздор! Откуда вы почерпнули такую информацию? Никогда так не думал и не думаю. Просто считаю, что он слишком торопится. А в науке спешить не следует. Каринцев, безусловно, талантливый и честный ученый. Надеюсь, что он и сам поймет свое заблуждение. Когда Корецкий вернулся с ответами двух оппонентов Максима, Гриднев сказал: — Я так и думал. Ответы честные, если только вопрошаемые сами не ошибаются. Не всегда в поисках лучшего можно утратить хорошее. Если в ребенке уже формируется характер взрослого, поеду в его страну детства.Глава седьмая
Но в этот день Гриднев в Туркмению не поехал. Его задержало полученное из Одессы письмо. — От Евсея Руженко, — сказал он Корецкому. — Прочтешь, поговорим. Корецкий прочел. «Посылаю тебе, Александр Романович, прелюбопытный документ, который тебя должен заинтересовать. Я разрешил прибывшему от тебя капитану милиции Саблину изучить дело Колоскова и Закиряна, которое, как ты помнишь, я подготовил для судебного разбирательства. Вместе с ними должен был быть судим и третий их соучастник, некий Павло Лобуда, бывший полицай в оккупированной Одессе. Но ему удалось бежать, застрелив двух солдат внутренней охраны с помощью впоследствии разоблаченного абверовского агента Хребтова. Бежали они в город Измаил, где и была разоблачена в 1954 году гитлеровская агентура. Во-первых, Хребтов признался, что Лобуда был осведомителем гестапо, а во-вторых, сообщил, что он погиб, переплывая Дунай в районе Килии. Но при вторичном допросе абверовец уже перед смертью — он умер в тюремном госпитале от рака прямой кишки — добавил кое-какие детали. Копию этого допроса, как ты сам понимаешь, я не стал показывать Саблину: при всей своей полезности он все же работник не нашего ведомства. Вот я и посылаю ее тебе.Вопрос. Кто входил в вашу группу? Ответ. Я вам представил список. Вопрос. Кто из них заброшен с вами? Ответ. Никто. Все — местные жители. Вопрос. Почему вы решили осесть в Измаиле? Ответ. Собственно, не в Измаиле, а в Вилкове. Вопрос. Почему? Ответ. Из-за близости пограничной заставы. Вопрос. Чем же вас радовала такая близость? Ответ. Полагал, что местному жителю легче нечаянно перейти границу. Вопрос. А румынских пограничников вы не боялись? Ответ. Полагал, что и они не будут придирчивы к местному жителю. Вопрос. Какую цель перед вами ставили? Ответ. Осесть на долгожитие. На связь не выходить. Ждать. Вопрос. Был ли пароль для связного? Ответ. Был. „Мне бы дядю Колю“. Отзыв: „Дядя Коля в отъезде“. И еще вопрос: „Кому тогда должен отдать?“ И другой отзыв: „Отдай мне. Меня Серафимом кличут“. Вопрос. Кто-нибудь приходил? Ответ. Да. Год назад. Вопрос. Может быть, Лобуда? Ответ. Нет Лобуды. Утонул в Дунае при попытке переплыть на румынскую сторону. Вопрос. Где плыл? Ответ. Ближе к Килии. Там пограничники более рассеяны. Так нам казалось тогда. Ну и ошиблись.А это, Романыч, второй допрос — годом позже, в тюремном госпитале.
Вопрос. Вы хотели сделать признание? Ответ. Да. Вопрос. О чем? Ответ. Солгал следователю на первом допросе. Теперь умираю. Скрывать незачем. Вопрос. Что скрывать? Ответ. Лобуда жив. Он не переплывал Дуная. Утонул Квилиану, бывший при немцах рыбацким старостой. Вопрос. А где Лобуда? Ответ. Где-то в вашей колонии для уголовников. Под кличкой „Юркий“. Вопрос. Каким образом он там оказался? Ответ. Мы сымпровизировали кражу двух бочек дунайской сельди. Его и подставили как виновника. Вопрос. А цель? Ответ. При первом удобном случае он должен был бежать из колонии. Вопрос. Куда? Ответ. Выбор предоставлялся ему. Кличка сохранялась. Ищите Юркого.Вот и все, Александр Романович. Могу добавить: Юркий год спустя действительно бежал из колонии. Розыск его до сих пор ведется по каналам МВД и до сих пор он нигде не объявился. Должно быть, где-нибудь осел тихонько и работает. Может быть, даже честно работает — до тех пор, пока за границей о нем не вспомнят и не дадут команды действовать. Когда включится Юркий, не упусти момента». Корецкий прочел и долго молчал, пока его не окликнул Гриднев. — Что молчишь? — Думаю. Не исключено, что он в Москве и уже вышел на связь. — Почему? — Потому что включился в игру Хэммет, а ему нужен для этой игры связник. Это может быть и Юркий. И еще потому, что безмотивных убийств не бывает. Если они не случайны. Только у одного человека есть мотив для убийства Колоскова. Предположи, что Юркий побывал на бегах и попался на глаза Колоскову. Что предпримет связник, которым дорожат за границей? Или завербовать, если есть мотив для вербовки, или устранить. — Я не вижу в твоей цепочке места для Каринцева. — Каринцев — дичь, за которой охотятся. Если он попадет в силки, понадобится связник. Вот тебе и роль для Юркого.
* * *
Саблин приехал в тот же день, когда происходил этот разговор. Он включился в ход его прямо с разбега. Но его доклад о деле Колоскова и Закиряна подтвердил уже известное. — Словом, на убийцу ты вышел, — сказал Гриднев. — Лобуда? — спросил Саблин. — Лобуда. Саблин заметил, как Гриднев и Корецкий переглянулись. — Предполагаете или знаете? — спросил он. — Кое-что знаем. — По своим каналам? — Они у нас глубже, — усмехнулся Гриднев. — Между прочим, кличка у него Юркий. Ты его портрет привез? Саблин выложил на стол две небольших, одноформатных, снятых по форме карточки. — Сняты в сорок девятом году, — сказал он. — Очень уж молодо выглядит, — вмешался Корецкий. — Но узнать можно, если только он не прибегнул к пластической операции. Размножь в лаборатории МУРа. Пусть у каждого участкового будет. Скажи, что крупный белобандит с этой физией ходит. — Мне кажется, я что-то похожее видел, — вгляделся Гриднев. — Где? — Не помню. — Не у Боголепова ли? — Честно, не помню. — Это там, где тот парень работает? — спросил Саблин. Гриднев посмотрел настороженно и осуждающе. — У того парня, между прочим, есть имя и фамилия. Знаешь что? Проведи-ка ты денек в этом НИИ. Поброди по коридорам, в лаборатории загляни. Может, что и выглядишь. А я тем временем на денек слетаю в Туркмению. Детство «того парня» проверить. Действительно ли он конник-спортсмен и на ахалтекинских жеребцах ребенком гонял? Остаток дня Саблин провел в максимовском институте. В лабораторию Максима его не допустили: секретна. Пробежался по коридорам, посидел в буфете. На него не обращали внимания. Сидит чужой парень за столиком, ну и что? Мало ли кто здесь шатается. Может, от студенческой экскурсии отстал и вдруг закусить захотелось. Или из техжурнала какого-нибудь, тоже здесь шастают. До Саблина доносились обрывки разговоров, как всегда в общем шуме, бессвязных, не объединенных ни формой, ни содержанием. — …Вы под математической зависимостью понимаете формулу… что же вы будете делать с такой формулой? — …Теория теорией, а как на самом деле? — …В качестве оценки эффективности работы всего коллектива сотрудников можно взять, например, сумму эффективностей… — …А что это означает в терминах графа? — …Почему мы применяем теорию графов, а не теорию графинь? Есть тут и шутники, слушал и комментировал про себя Саблин. Но чаще слышались обрывки других разговор, весьма далеких и от науки, и от профессии: — …Такие джинсы теперь уже не носят… — …Фильм — отвальный, сходи, не пожалеешь… — …Взяли по сто пятьдесят, а тут его жена звонит… Но кефир был выпит, пирожок съеден, и Саблин опять побрел по коридорам. В одном из них он и увидел, по словам Гриднева, «что-то похожее». Высокий старик шел с черной папкой к директору. Была у него пресловутая косая сажень в плечах и жирная шея, туго стянутая мягким воротником. — Кто это? — спросил Саблин идущую мимо девушку. — Паршин. На подпись к директору идет, — сказала она. Нет, не он, подумал Саблин. Нет ни казацких усов, ни впалых под ними щек. Лобуда должен был выглядеть постарше. Шрама на виске у него тогда не было. Но ведь усы можно сбрить, щеки с годами могли и вспухнуть. А почему постарше? Гриднев же не постарел, а ведь Гриднев ему ровесник, и глубоких морщин у него нет, и седина только по краям волосы тронула. Все же это не Лобуда. Не та схожесть, какую увидеть хочется. Может быть, в отдел кадров заглянуть? В кадрах дали личные дела и Максима и Паршина. У Максима все коротко. Возраст — 32 года. Образование — физико-технический институт. Ученая степень — доктор технических наук. Специальность — новые свойства лазерной техники. Приказы о поощрениях и награждениях. У Паршина еще короче. Возраст пенсионный. Подходяще: не слишком глубокий старик. Лобуде тогда было не больше двадцати пяти лет. Образование — экономическое. Не подходит: Лобуда окончил только ремесленное училище. И специальность не та, Лобуда слесарь, а Паршин бухгалтер. И на оккупированной немцами территории никогда не был, и родом он из Ростова, а не из Одессы… Не та схожесть, не лобудовская. И Саблин и Гриднев знакомы с физиономистикой, но почему Гриднев увидел «что-то похожее», а он, Саблин, не видит. Значит, даже приблизительного опознания нет.Глава восьмая
Путешествовать на восток — дело неблагодарное, особенно если командировка невелика, каждый час дорог. А тут — извольте: в десять утра взлетел в Домодедове, почти четыре часа проторчал в самолете, приземлился в ашхабадском аэропорту, а там на электрических часах — шестнадцать ноль-ноль, солнце на закат отправилось. Два часа съело поясное время. — День пропал, — с грустью сказал Гриднев. Лунолицый, улыбчивый, невысокий гриб-боровик — круглое брюшко полковничий китель распирает, вот-вот пуговицы оторвутся — Рахим Алтыев, гридневский однокашник по академии, засмеялся довольно: — Я же тебя, торопыгу, знаю. Не пропал у тебя твой день драгоценный, не плачь, подружка. Сейчас чайку попьем, дыньку покушаем и — пожалуйте в Мары, в сорок градусов жары, — увесисто хлопнул друга по плечу. — Как рифма? — Слабовато. Не Пушкин… Они шли по горячим, впитавшим в себя туркменский зной бетонным плитам, и Гриднев расслабленно думал о том, что Рахим и вправду знает его как облупленного, изучил за двадцать с лишним лет дружбы и совместной работы и конечно же предусмотрел подходящий рейс в Мары, забыв о гостеприимстве, которое непременно предполагает и горячую шурпу, и рассыпчатый плов, и шашлык, и долгие многочисленные тосты. Впрочем, стол в депутатской комнате был накрыт к обеду. — Походный вариант, — сказал Алтыев. — У нас есть полтора часа времени — не густо. Но пообедать-то тебе надо. Ты когда назад? — Как обернусь… Надо же директоршу отыскать, договориться о встрече. Алтыев плюхнулся в кресло, расстегнул китель и ворот форменной рубахи. — Тяжело встречать начальство: жарко в параде… — И, вроде бы между прочим, добавил: — Бывший директор детского дома, а ныне персональный пенсионер Дурсун Мурадовна Мамедова ждет тебя сегодня, — тут он посмотрел на часы, — в девятнадцать тридцать по местному времени у себя дома. Тебя встретят и отвезут к ней… — И заторопился: — Давай-давай, обед ждать не хочет. — Спасибо, Рахим… И Гриднев опять с благодарностью подумал о предусмотрительности Алтыева, да что там предусмотрительности — о заботливости его: все по часам просчитал, простоя не допустил. — А за что спасибо? Я, подружка, из корысти стараюсь. Завтра утром в Ашхабад вернешься, жена плов сварит, долго обедать будем… — И, ловя невысказанные возражения друга, хитро улыбнулся: — Очень долго обедать будем, до самого московского рейса… И, уже прощаясь с Гридневым у трапа маленького Ан-24, спросил серьезно: — Зачем сам прилетел, раз такая спешка? Неужто наши люди побеседовать с ней не смогли бы? — Смогли бы, Рахим, кто сомневается. Да только подопечный наш, Каринцев, очень меня интересует. Хочется покопаться в нем, в детстве его, и поподробнее, поглубже. Какой разговор пойдет с Мурадовой — еще не ведаю. А что услыхать от нее хочу — тоже пока не знаю… Точно в назначенное время (силен Алтыев в математике!) белая «Волга» притормозила у глинобитной стены, окружавшей крохотный двор, в глубине которого притулился маленький дом с плоской крышей. По дорожке, укрытой от зноя крышей из виноградной лозы, навстречу Гридневу шла старая женщина в длинном темно-вишневом платье, глухой ворот которого держала массивная серебряная брошь, усыпанная крупными сердоликами. — Дурсун Мурадовна? — Жду вас, предупреждена, — она говорила по-русски с заметным акцентом, как человек, выучивший язык уже в зрелом возрасте, и не без труда. — Проходите в дом, дорогой гость. Комната, в которую она привела Гриднева, была обставлена спартански скудно: старенький потертый текинский ковер на полу, обеденный стол, не покрытый скатертью, четыре венских стула вокруг, у окна — видавший виды КВН-49, первенец отечественной промышленности, с пузатой линзой, ничуть, как помнил Гриднев, не улучшавшей изображения. И единственное украшение комнаты — книги, заполнившие стеллажи вдоль всех стен. Хозяйка подождала, пока гость усядется на жесткий стул, сама села напротив, села очень прямо, уложила на неполированную доску стола большие узловатые руки, которые, видно, не только книги да тетради перелистывали, но и землю копали, обрабатывали, и лопату знали, и мотыгу, и жар печи или костра. Маленькая, тоже старая женщина — сестра? — в таком же темном платье бесшумно вошла, поставила на стол пиалушки, вазочку с дешевыми конфетами, разлила чай и, оставив пестрый чайник, так же бесшумно скрылась. — Слушаю вас. — Мамедова смотрела внимательно и серьезно, понимая, что гость издалека приехал не чаи распивать, и нет смысла терять время, занимать его разговором о погоде, о видах на урожай хлопка или еще о чем-нибудь необязательном, пустом. — Дурсун Мурадовна, я хочу расспросить вас об одном из ваших воспитанников, давних воспитанников. — У меня их было много. Кто это? — Максим Каринцев. Помните такого? Тут Мамедова улыбнулась, даже не улыбнулась — просто чуть дрогнули уголки губ, будто воспоминание о Максиме было приятным и легким. — Помню. Он хороший мальчик, хороший. Он меня тоже не забыл, поздравляет со всеми праздниками. — Каким он был? — Я же сказала: хорошим… — она не спросила Гриднева, зачем ему нужны сведения о Максиме: раз спрашивает — значит, надо. Восток чурается праздного любопытства: если гость захочет, сам объяснит свой интерес. — Максим был одним из лучших… — Послушный? Учился хорошо? — Нет, не так. И слушался не очень, и учился по-всякому. Ему было семь лет, когда его привезли из дома ребенка. Он уже умел читать, писать и считать. А вскоре мы перевели его во второй класс. И уже тогда я знала, что он — человек. — Человек? — Как это?.. — она поискала слово. — Личность. Характер. Сильный духом. Не слишком ли — о семилетнем пацаненке? Ну, одаренный, легко усваивающий. Гриднев сдержал улыбку, но Мамедова поняла его удивление. — Именно так: сильный духом. Взрослые считают, что у детей нет определенного характера, что их можно лепить, как статую. Не лепить, нет. Брать камень и отсекать лишнее — да. Но ведь камень уже есть, и в камне — основа. Несмотря на восточную витиеватость, мысль казалась достаточно ясной. Кого-то из великих, помнил Гриднев, спросили: когда надо начинать воспитывать ребенка? Великий поинтересовался: а сколько ему лет? И, узнав, что уже пять, посетовал: вы опоздали ровно на пять лет. — Он владел обостренным чувством справедливости, — говорила Мамедова, и Гриднев уже не обращал внимания на ее странноватый русский: владел вместо обладал. Словарный запас ее достаточно велик, говорит, не задумываясь, лишь иногда вставляет не слишком подходящее слово — так то не беда. — Он никогда не хотел компромиссов, — говорила Мамедова, и перед Гридневым мало-помалу возникал образ сначала ребенка, потом мальчишки, подростка — незаурядного, непростого, которому в жизни очень повезло на воспитателя. Другой бы начал ломать его, пользуясь терминологией Мамедовой, отсекать от камня почем зря, а Дурсун Мурадовна делала свою «скульптурную работу» исподволь, постепенно, не мешала Максиму стать человеком, но помогала в том. Учился он очень хорошо, легко, но неровно. И тройки были, и пятерки. Спрашивали: почему тройку принес? Отвечал: неинтересно было. Так если неинтересно, значит, не нужно? Утверждал, как отрезал: значит, не нужно. Это было не нужно ему, а он четко знал, чего хотел, и школьный физик не чаял в нем души, хотя Максим и на любимом своем предмете выкидывал иной раз такие фортели, что старичок физик за голову хватался. К блестящим шарам школьной электрической машины — гордости небогатого физкабинета — прицепил провода, а концы подвел к клетке с морской свинкой, из зооуголка принес. Раскрутил машину, и… свинка не снесла эксперимента… — Я наказать его обязана. Мне свинки не жалко, хотя откуда нам взять еще одну, денег мало, на мебель не хватало, на одежду, а ту свинку нам подарили. Мне страшно, что он живое хотел убить. Зачем так сделал,говорю? А он молчит, в сторону смотрит, совсем мальчишка еще. А потом мне сказали: плакал он сильно, свинку жалел. И вот что еще. Тогда ему двенадцать было. Коней он любил. Недалеко от нас конеферма была: ахалтекинских скакунов воспитывали Ну, четверо наших вместе с ним в добровольные конюхи напросились. Мы не возражали: все-таки трудовое воспитание. Вставал в пять утра и вместе с однокашниками на конюшню бежал. Как заправский конюх работал, навоз убирал, коней кормил, объезжать их научился. Некоторые потом бросили: трудно, говорят, а он до конца учебу прошел. В шестнадцать лет как профессиональный ездок скакал. А дружба человека с конем у нас ценится. Гриднев не записывал ничего, просто слушал. Да и к чему записи — не очерк же ему о Максиме писать. Просто хотелось понять: откуда он взялся, талантливый физик и спортсмен-конник Максим Каринцев. Друзей у него было немного, хотя детский дом в Байрам-Али выглядел этаким небольшим Вавилоном, где легко ужились ребята многих национальностей. Но Каринцев не искал легкой дружбы, не участвовал в коллективных шалостях и даже пакостях, к коим так склонен школьный нераздумывающий возраст. Однако его уважали и, когда он вступил в комсомол, легко выбрали комсоргом. Вероятно, многие потом пожалели о своем выборе: комсоргом Максим был трудным. Трудным для тех, кто вступил в комсомол бездумно: все идут, и я туда же. — Странный мальчик: он искренне верил в лозунги. Знаете, мы сами, старые люди, за эти лозунги жизнь клали, а сегодня вроде со стыдом о них говорим, с усмешкой. Вроде, зачем громкие слова? А Максим не считал их громкими, он их правильными считал. Он за них горло перегрызал… — Перегрызал? — удивленно вставил Гриднев. — Фигурально, — Мамедова четко произнесла чужое слово. — Хочу вспомнить историю с Первомаем… А история оказалась удивительной. После первомайской демонстрации, после митинга на площади детдомовцы вернулись домой, отнесли красные флаги и плакаты в кладовку — до следующего праздника. Максим, как комсорг, отвечал за это имущество, принимал его по списку — детдом небогат, любая вещь на учете, — и вдруг оказалось, что двух флагов недостает. Кто не сдал? Выяснил, выспросил. Оказалось, двое парней купили мороженое — кое-какие деньги водились, в колхозе подрабатывали, — увлеклись им да и забыли флаги на лавочке. Послал их искать. Да только разве найдешь: кто-нибудь унес, в хозяйстве пригодится. Ну, суд да дело — комсомольское собрание. И Максим требует исключить парней из комсомола… — Он тогда в десятом классе был, уже взрослый. И они тоже не маленькие: из девятого. Сказал так: они забыли о самом святом для каждого человека, а комсомольца — особенно. Они забыли, что несли красные флаги, за которые кровь проливалась. А они мороженое ели и о флагах забыли. Ну, может, не совсем так сказал, давно это было, но, похоже, все-таки так. — Исключили? — поинтересовался Гриднев. — В том-то и дело, что не исключили. Разделились голоса. Большинство против исключения голосовало. Объясняли: не война сейчас, не революция, а забыли парни не символ, а просто самодельный флаг, который сами, может, и сделали. Ну, один забыли — другой смастерят. — А Максим? — А он кричал: революция всегда, а если ты ее историей считаешь, то не комсомолец ты, а мещанин, гнать тебя надо. И в райком пошел, требовал, чтобы не утверждали решения комсомольского собрания, чтобы все-таки исключили. — И не поняли и там? — И там не поняли. Успокаивали, говорили: они и так все прочувствовали. Я хорошо об этом знаю, я потом сама в райкоме чуть ли не ночевала, в обком ездила, с Максимом говорила, уговаривала его… — О чем уговаривали? — Тут самое страшное, совсем непонятное. Максим в райкоме сильно кричал, наверно, оскорбил секретаря. Тот ему сказал: за такие слова сам билет на стол положить можешь. А Максим достал билет и положил: не хочу, сказал, с тобой в одном комсомоле состоять. Вот так номер! Гриднев знал, что Каринцев не член партии, не вступает в ее ряды, хотя товарищи из парткома института уже заговаривали с ним об этом. Помнил Гриднев, что и комсомольцем Максим вроде не числился. А тут вот оно как получилось… — И я ему говорила: опомнись, возьми билет назад. И из обкома товарищ приезжал: понимали, что парень чистый, хороший, неиспорченный, таких ценить надо. А Максим — ни в какую… — А как вы сами, Дурсун Мурадовна, эту историю оцениваете? На чьей вы стороне? И тут Мамедова впервые улыбнулась, с гордостью какой-то, и сразу осветились изнутри ее глаза, и, хотя побежали по щекам морщинки, показалось Гридневу, будто моложе она стала. — Так это же я его воспитывала. С того дня, как он к нам пришел, воспитывала. Не утерпел Гриднев, подпустил шпильку: — И тех парней, что флаги забыли, тоже вы? А она словно и не заметила укора. — Тоже я, — сказала спокойно, даже улыбаться не перестала. — И они хорошие ребята, добрые, современные, умные. Ребята и ребята — что с них возьмешь. А Максим — другой. — Камень другой, основа? — Совсем другой камень, — кивнула она. — Очень крепкий. …Наутро Гриднев улетел в Ашхабад, где был вновь встречен полковником Алтыевым и умыкнут им к обильному достархану, настолько обильному и вкусному, что в московский самолет Гриднев грузился с опаской: не вышло бы перевеса. Друзья поцеловались на прощание, помяли друг друга. Алтыев только спросил — впервые за весь день: — Не зря съездил? — Не зря, — ответил Гриднев. И уже в самолете сам себе подтвердил: не зря. Теперь он, пожалуй, знал точно: Каринцев не предаст. Хэммету там делать нечего. А раз так, значит, можно на Максима рассчитывать — когда время придет.Глава девятая
Во время пребывания Гриднева в максимовской «стране детства» Саблин связался с Корецким. — Почему мрачен? — спросил тот. — Потому что ничего не узнал. — В лабораторию Максима наведался? — Она сейчас на замке, который ни одна фомка не откроет. Личное дело его в отделе кадров смотрел. Ничего особенного. Возраст, образование, научные степени, награды и премии. Ни единого черного пятнышка. — А побродил по коридорам? — Побродил. Даже в буфете посидел. Треп вообще, и научный треп в частности. — Немного, — вздохнул Корецкий. Ну, что рассказать ему, думал Саблин. О своих сомнениях и колебаниях? О том, что «похожее» оказалось совсем непохожим? Но Корецкий этим и сам поинтересовался: — То, что Гридневу показалось, углядел? — Видел в коридоре нечто похожее. Не Лобуда. Просто рослый, кряжистый полустарец. — А кто он в институте? — спросил Корецкий. — Главный бухгалтер. Фамилия Паршин. Классный работник, сказали. Лет двадцать главным работает. И родом из Ростова, не из Одессы. — Можно годами жить по чужому паспорту. Бывают этакие казусы. У гестапо и абвера был великий набор таких паспортов. Но Саблин не уступал сомнениям. На что опереться? Только на подозрения и случайную схожесть? Привести мужа и жену Захаровых в бухгалтерию НИИ и спросить: он или не он? — Ну что ж, — задумался Корецкий, — придется взять под наблюдение и Паршина. Приглядеться поближе, связи прощупать, досугом поинтересоваться. Женат ли, вдов или холост, есть ли друзья женского или мужского пола. Ходит ли на бега или играет в карты. Широко ли живет, сколько и откуда прибавляет к ставке. Вот тогда, может быть, и понадобятся свидетели для опознания. А тебе, капитан, я думаю, потребуется новая командировка. — Куда? — В Армению, друг, в Ереван. Закиряна найти и погулять с ним по его полицейскому прошлому. Он тебе больше, чем Тимчук, расскажет: поближе к Лобуде был. Хорошо бы до этой поездки фото Паршина иметь. Авось пригодится.* * *
Закиряна Саблин нашел с трудом. В поселке близ озера Севан, где жила семья его сына, инспектору сказали, что старик сейчас в Ереване, гостит у внука, игрока республиканской команды «Арарат». Живет он в новом доме неподалеку от стадиона «Раздан». Здесь уж искать не пришлось. Лучшего бомбардира футбольной команды высшей лиги знал каждый мальчишка. Саблину открыла тоненькая красивая армянка лет двадцати. — Вы к Армену? — ничуть не удивилась она. — Вы, наверное, из Москвы, из газеты. Но он сейчас на поле. Готовится к матчу со «Спартаком». Поезжайте на «Раздан», там его и застанете. — Простите, — извинился Саблин, — но мне нужен не Армен, а Вартан Закирян. Я был у него на Севане, а там меня к вам направили. Тут она удивилась, даже испугалась чуть-чуть. — Дедушку редко спрашивают. Особенно здесь. Что-нибудь случилось? — Ничего не случилось, — засмеялся Саблин. — Просто поговорить надо. Для этого и приехал. — Он во внутреннем дворике под чинарой сидит. В такую жару только в тени и отдохнешь… Саблин поморщился: в тени на скамейке небось старики со всего дома собрались. Но оказалось, что ошибся. На раскаленном солнцем каменном дворике в единственном густом уголке тени действительно сидел Закирян. И сидел один. Саблин не узнал старика. Никакого сходства не нашел он в нем с фотокарточкой, которую переснял из судебного дела. И тотчас же подумал, что такое же несходство будет и в случае с Лобудой. Слишком плохо и слишком молодыми тогда их снимали. Молча присел рядом, причем старик Закирян не обратил на него никакого внимания, даже не повернулся, не взглянул. Только когда заговорил Саблин, в глазах его блеснула искорка интереса. — Из-за этого вы из Москвы ехали, — усмехнулся он. — Из-за этого, — подтвердил Саблин. — Вы бы Колоскова спросили. За ним не в Армению ехать. — Колосков убит. И опять Закирян не удивился. — А теперь моя очередь. Лобуда со свидетелями рассчитывается, — сказал он. — Только мы двое и знали, что он от гестапо работал. — Почему же на суде не сказали? Закирян поднял брови. Они были у него пегие: черные с густой проседью. — Так на суде я десятку получил, а у Лобуды суд страшнее. Молчишь — живи, проговоришься — гроб заказывай. Нашли убийцу-то? — Пока еще нет. Ищем. И найдем, если поможете. — Чем помочь? Я его сто лет не вижу. Где он таится, в какой личине, знать не знаю. В Москве, думаю, если Ефима шлепнул. Закирян говорил резко, медленно, почти без акцента, короткими фразами. Как рубил. Слушать его было легко и неутомительно. И Саблин напомнил: — Может, вы расскажете про свою полицейскую жизнь? Главное — о встречах с Лобудой. О его повадках, о характере, о связях с гестапо. — О его связях с гестапо я никому не рассказывал… — Не глядя на Саблина, Закирян проговорил, словно думал вслух: — Не боюсь Лобуды. Теперь нисколечко. — А почему боялись? — Очень уж легко он людей порешал. Пулей в голову. Из пистолета навскидку. Идем, скажу, по улице. По улицам тогда мало ходили, опасаясь каждого встречного. Вроде нас, подразумеваю. Ну, видим: идет прохожий. Тихонечко идет. Рук в карманах не держит, глаза опущены. А Лобуда меня локтем в бок. Кажется, знаю этого человека, говорит. Я в ответ: что в том особенного? А то, говорит, что он меня тоже знает. Ну и что, спрашиваю. А то, говорит, что таких я в живых не оставляю. Мало ли что про меня он скажет, если власть переменится. Вскинет пистолет, хрясь! И нет человека. Раз десять при мне так было. И Колосков это тоже видал. Потому и грохнул он Колоскова. За то, что мог Ефим о нем Советской власти сказать. Не зная, кто убил, прямо вам скажу: Лобуда. Саблин молчал, как бы подталкивая Закиряна: продолжай, не тяни, все интересно. И старик продолжал: — Не все полицаи, конечно, работали на гестапо. Мы с Колосковым немецкого начальства побаивались. Хватало румынского. Городской голова Пынтя нас по лицу лупил, ежели низкого поклона от нас при встречах не видел. Но той лютости, как в гауптштурмфюрере из гестапо жила, у Пынти не было. А гауптштурмфюрер в каждой фельдкомендатуре своих людей имел, вроде Лобуды. Потому и на суде при Советской власти не только мы с Колосковым, но и кое-кто в зале о Лобуде промолчал, как только узнали, что он сбежал. Вот вам и характер его. А о делах что ж? О них на суде говорилось. Арестовывали, с обысками по квартирам ходили, людей в Германию высылали. Хорошо, что суд вышку не дал, десяткой ограничился. Да и по амнистии срок скостили. Потому и Лобуды не страшусь. — А вы сумеете опознать Лобуду, если мы его вам покажем живехоньким? Замолчал Закирян, опустил глаза, вспоминая. — А вы поезжайте в Одессу, дело мое найдите и на карточку посмотрите. Может, смотрели? — Смотрел, — сказал Саблин. — Узнали, когда стариком увидели? — Не сразу, — признался Саблин. — Вот то-то и оно. Меняет нас возраст. Таким, как я его помню, Лобуды уже нет. А как он выглядит сейчас, не знаю. А если он еще и пластическую операцию сделал? — Поглядим. Проверим, где ему могли такую операцию сделать. — Как проверишь? За хорошие деньги нашел частника. Поди, узнай. — Это не просто операция, отец. Нужно не кромсать лицо, а создать несхожесть, — пояснил Саблин. — Без хирурга-косметолога не обойтись. Был нос прямой — станет с горбинкой. Были пухлые губы — утоньшатся. Был острый подбородок — округлится. В Америке за такую операцию сотни тысяч долларов платят. Саблин импровизировал. Он понятия не имел о пластических операциях. Но мысль, брошенная Закиряном, дошла. А если Лобуда нашел такого косметолога, понадобится другой косметолог, чтобы опознать следы операции. — Не будем гадать, отец, — закончил он свой диалог с Закиряном, — возьмем Лобуду — тебе по обоим адресам телеграммы пошлем. Приедешь? — Не побоюсь, — твердо сказал старик.* * *
С аэродрома Саблин помчался к Гридневу. О Паршине он уже говорил Корецкому, значит, Гриднев тоже знает. А на доклад полковнику хватило материала о Закиряне. — На опознание приедет, — резюмировал капитан свое сообщение о поездке в Армению. — Только боится, что опознать не сможет из-за возрастных изменений. Предположил, что Лобуда мог сделать пластическую операцию. — Где? — перебил Гриднев. — В Измаиле или в Одессе? Вы, конечно, проверите. Другие места пребывания Лобуды в Советском Союзе нам не известны. Закирян тоже ничего о них не знает. С чего же вы начнете розыск? — Мне думается, — замялся Саблин, — что все-таки с Паршина. — Я видел его. К сожалению, вы правы. «Что-то похожее» — еще не сходство. Вошел Корецкий. — Сядь, — продолжал Гриднев. — Разговор пойдет о Паршине. О Закиряне советоваться незачем. Все ясно. Лобуда действительно был связан с гестапо и лично уничтожил все доказательства этой связи при отступлении немецко-фашистских войск из Одессы. Тогда же было, вероятно, согласовано и его пребывание в СССР в качестве абверовского или гестаповского разведчика. Может быть, рассчитывалось и длительное оседание его у нас. Для опознания Закирян приедет, хотя и не уверен, что сможет его опознать. Боится, что помешает пластическая операция. Мог ее сделать Паршин? Корецкий ответил сразу же: — За двадцать лет его работы главным бухгалтером у Боголепова никаких изменений в его лице, кроме чисто возрастных, не произошло. Меня в этом уверил начальник отдела кадров, который тоже работает двадцать лет. Такую операцию Паршин мог сделать и раньше, но мог и не делать совсем. Та же причина, что останавливает и нас: возраст и отсутствие ранней фотодокументации. Если бы мы сделали у него обыск, то, вероятно, тоже ее не нашли бы. И никакой умышленности в этом заподозрить не сможем: многие люди не хранят старых снимков. Есть и еще одно у него укрытие — профессия. По немецким анкетам был слесарь, причем обманывать оккупантов он не посмел. А у нас двадцать лет уже работает главным бухгалтером. Главным! Для этого специальные знания нужны, слесарь так легко в главного бухгалтера не превратится. Значит, более двадцати лет назад Паршин где-то на специальных курсах учился, вуз мы уже не предполагаем. Но что все это нам дает? Нуль. И это — если допустить, что Паршин — Лобуда. А если нет? — Что мы знаем о нем за вчерашний день? — спросил Саблин. — Немногое. Идя утром на работу, купил в булочной кекс за восемьдесят копеек. В соседней аптеке получил заказанные накануне порошки. Никуда не заезжая и ни с кем не общаясь по дороге, приехал в институт на автобусе № 116. На работе пробыл весь день. Ушел в восемнадцать ноль-ноль после звонка. Домой прибыл на том же автобусе, так же ни с кем не общаясь. Из дома не выходил. Что мы вообще о нем узнали? Тоже не густо. Одинок. В анкете записано: холост. Женских связей не установлено. Друзей нет. В гостя не ходит и к себе не зовет. Выписывает только «Правду». Книги берет из библиотеки. Мы просмотрели его библиотечный формуляр. В основном приключенческая литература и детективы. Не играет ни в домино, ни в карты. Раз в неделю ходит в кино. Преимущественно на дневной сеанс по субботам. Кинотеатр у него напротив, только перебежать дорогу. Лечится в той же поликлинике, к которой прикреплены работники института. Лечащий врач — Земскова. Никаких серьезных заболеваний у него за годы ее работы в поликлинике она не наблюдала. Мы заглянули и в его больничную карточку: грипп, легкий катар желудка, глаукома тоже в легкой форме, частые жалобы на бессонницу. Примерно все. Саблин слушал и запоминал. Он подивился точности этой характеристики, раскрывающей личность. Сумма обобщенных мелочей создавала духовный облик человека. Если б он, Саблин, был актером, то перед ним, в сущности, намечался характер, которому не хватало только слов, чтобы получился сценический образ. — А как зовут Паршина? — спросил Гриднев с потаенным подтекстом, словно это имя для него имело свое значение. — Серафим Петрович, — сказал Корецкий. — А вы помните отзыв к паролю абверовского агента в Измаиле: «Мне отдашь. Меня Серафимом кличут»? — Так ведь это отзыв для самого агента. — Его мог заимствовать и Лобуда. Конечно, Паршиных с таким именем и отчеством в Москве не меньше десятка. Думаю, придется проверять каждого. Кроме того, капитан, вы забыли о кличке «Юркий». Вот и проверяйте. Корецкий займется Паршиным с его однофамильцами, а вы, Саблин, по своим каналам поищите Юркого. Наблюдение за нашим Паршиным продолжать.Глава десятая
Гриднев один. Галка ушла на просмотр французского фильма, который он уже видел. Читать не хочется. Мешают раздумья, бегут обгоняющие друг друга мысли, связанные с задачами, поставленными ему работой. Их две. Уберечь Максима от возможных происков способного на грязное дело врага. И вторая: найти заброшенного резидента, десятки лет таившегося под маской честного советского работника, но каждую минуту готового действовать по приказу хозяев. Является ли таким резидентом бывший гестаповец Лобуда, может быть укрывшийся под личиной Паршина? Есть и третья задача, которая может стать первой. Связаны ли два имени: Хэммет и Лобуда или, возможно, Хэммет и Паршин? Если поступит приказ хозяев, то Хэммету обязательно потребуется агент для связи с Максимом, если тот поддастся на шантаж или посулы. Но Максим — чистый, честный и порядочный человек, что уже известно. Не зря он, Гриднев, ездил в Туркмению, проследив всю линию жизни Максима Каринцева с детских лет, когда формируется и воспитывается характер. Только одно непросветленное пятно в этой жизни: отец. Где он жил и где доживает, кем стал и как умер, если скончался, никому не известно. Но, может быть, эту тайну купил или получил от своих хозяев Хэммет? Иначе чем же объяснить его настырную пляску вокруг Максима? Не каждый научный талант интересует чужого разведчика, а только тот, кого можно напугать иль купить. Максим не из тех, кто продается, но если отнять у него науку, как он поступит? И есть ли такая сила у Хэммета, чтобы эту науку отнять? Прожурчал звонок: телефон у Гриднева звучал чуть-чуть приглушенно. Звонил Корецкий. — Работаешь? — спросил он. — Не оторвал? — Так, от раздумий. Есть новости? — Никаких. Максим днюет и ночует в институте. Даже койку в кабинете оборудовал. В буфете всегда кто-нибудь из его мальчиков дежурит. Кофе всю ночь горячий. С Хэмметом пусто. Вчера засекли его встречу с Зоей Фрязиной. Почему-то днем, когда он еще на работу не выходил. Часа полтора просидели в кафе «Хрустальном» на Кутузовском вблизи его дома. Должно быть, у него ночевала. А потом он из посольства до ночи не вылезал. С Паршиным то же, что и вчера. До прихода на работу и до возвращения домой по дороге ни с кем не общался. Заходил в булочную и в гастроном. Постоял в очереди за сосисками. Домработницы у него нет, завтрак и ужин готовит себе сам. Ты что молчишь? — Думаю. Не ошибаемся ли мы с Паршиным? — Вполне возможно. Двадцать лет почти добровольного одиночного заключения — это своеобразный героизм навыворот. Без приятелей, без собутыльников, без женщин. Единственная дань одиночеству — выпивка без партнера. В гастрономе сегодня он три бутылки армянского коньяку купил. Или о нем забыли в хозяйском доме, или списали со счета. Или он — честный человек, только бирюк по характеру. — Меня не образ жизни его смущает, — сказал Гриднев. — Затаишься, изменишься, баб бросишь, запьешь с тоски, если в любой судебной инстанции тебе высшая мера давным-давно обеспечена. А если мы ошибаемся, то что в этой жизни удивить может? Многие так живут. Нет, меня имечко смущает, Корецкий. Из пароля оно или не из пароля, случайно или преднамеренно? Не зря мне хотелось проверить: искомый ли этот Серафим или нет. — Сегодня я пытался сделать это. Сначала искал только Паршиных Серафимов Петровичей. В девятимиллионном московском муравейнике их оказалось довольно много. Не десяток и не два, а поболе. Конечно, их можно проверить, потребуются только люди и время. А зачем? Ведь фамилию-то мы взяли с бухты-барахты, только потому, что абрис его фигуры и черты лица «чем-то» напоминают убийцу конюха. Но можем ли мы предъявить это обвинение главному бухгалтеру Института новых физических проблем? — В этом институте, Корецкий, как в уравнении, слишком много неизвестных. — Гриднев сводил к формуле их задачу. — Неизвестен замысел Хэммета в связи с открытием Каринцева. Неизвестно, как будет он осуществлять этот замысел. Неизвестно поведение Максима в этой дуэли. Неизвестно, почему его карточка оказалась в кармане убитого конюха. Неизвестно, связано ли это убийство с личностью бывшего гестаповца Лобуды. Неизвестно, возродился ли он в облике институтского бухгалтера Паршина. И неизвестна заэкранная роль Паршина в институте. — Может быть, Саблин проверит Юркого? — Еще одна неизвестность, — резюмировал Гриднев. — Где Лобуда получил эту кличку? В одесской тюрьме, откуда его освободили румыны, или в осведомительном отделе гестапо, где не хотели демаскировать румынского полицая?* * *
Саблин с утра поехал к себе на Петровку, 38. К Лиховцу он дошел не сразу. Помешали старые друзья-приятели, коллеги и сослуживцы: расспросы, приветствия, просьбы позвонить, приглашения. — Почему пропал? — встретил его Лиховец. — Надо докладывать. Дело-то ведь и за нами числится. — Сложное дело, товарищ майор, — опустил глаза Саблин. — Боком проходит по госбезопасности. Да и не я один им занимаюсь. — А как работается с Александром Романовичем? — С умным человеком и работать интересно, товарищ майор. — Наслышан. Убийцу-то хоть нашли? — Почти что, товарищ майор. — «Почти что» не термин для прокураторы. — В прокуратуру рано. Пока вот к вам пришел. — Возвращаешься или докладываешь? — Ни то, ни другое. Хочу узнать, кто у нас в курсе старых, довоенных дел? — В архив иди. К твоему счастью, Кочергин еще не на пенсии. Подполковник Кочергин помнил еще Шейнина. Помнил он не только старых криминалистов, но и их поднадзорных, помнил многие нашумевшие в прошлом «дела», громкие клички, уже исчезнувшие давние уголовные специальности. К нему и обратился, представившись, Саблин. — Что вас интересует, товарищ капитан? — осведомился подполковник. Саблин вкратце объяснил ему суть розыска, порученного ему в органах безопасности. — Уголовник, может, и не крупный, потому что еще молодой, лет двадцати с небольшим, а может быть, и в «законе» с нажитой уже репутацией, потому что был отмечен одесским гестапо. Кличка «Юркий». Дана, возможно, в одесской тюрьме, где находился в заключении в начале войны, а быть может, и в других тюрьмах, ибо есть предположение, что одесская тюрьма далеко не первое его заключение. Есть и другое предположение, частично уже проверенное. В конце войны его забрасывает к нам гитлеровская разведка и для получения законного права жительства он под кличкой «Юркий» возвращается к своему уголовному прошлому, преднамеренно попадается на каком-нибудь незначительном преступлении, отбывает свой срок заключения в колонии и по выходе завязывает легально и надолго. Так уточнил Саблин свое объяснение. — Давно завязал? — спросил подполковник. — Скажем, четверть века назад. — Где? — Предположительно в Москве или в Подмосковье. Но только предположительно. — Крупных уголовников с такой кличкой я что-то не припоминаю. Но ваш случай, так сказать, уникальный и требует специального розыска. Думаю так, — Кочергин полузакрыл глаза, как бы пытаясь извлечь продолжение из своей многогранной памяти, — искать надо двумя путями. Или крупных уголовников, завязавших в конце пятидесятых годов в Москве или Подмосковье: если таких было несколько, он — в их числе. Или, допустим, другой путь: найти «крупнача» — а ваш ведь не из «мелочи» — под кличкой «Юркий», неожиданно появившегося в уголовном мире в конце войны или в первые послевоенные годы. Появиться он мог не только в Москве, но, возможно, и в Ленинграде или в другом крупном городе страны. Искать придется не только у нас, но и на Огарева, 6. Однако вы не беспокойтесь, я это сделаю. Давно у меня не было таких интересных заданий. Вы с кем связаны в органах? — С полковником Гридневым. — Вот так. Пусть он мне денька через два позвонит. Мне по этому розыску тоже звонить придется. И в Ленинград, и в Ростов, и Украину потревожить. Везде такие же памятливые старики есть.* * *
Гриднев позвонил Кочергину через два дня. Кочергин доложил сразу же: — Поручение органов безопасности, данное мне через находящегося в вашем распоряжении капитана милиции Саблина, выполнено, к сожалению, не полностью. Отсутствует фотодокументация. Излагаю. В пятьдесят первом году военкоматом города Верея Московской области был снят с учета демобилизованный из армии старшина Чернушин Н. В., кавалер медалей «За боевые заслуги» и «За оборону Одессы», тридцати четырех лет от роду. Вскоре, однако, личное дело Чернушина в военкомате было украдено вместе с двумя фотокарточками и, за отсутствием его в городе, не могло быть восстановлено. В пятьдесят втором году тот же Чернушин был задержан при попытке ограбления товарного вагона с медикаментами на станции Очаково Московско-Киевской железной дороги, был судим и приговорен к четырем годам заключения в исправительно-трудовой колонии обычного режима. Суд учел при этом участие подсудимого в Великой Отечественной войне и полученные им боевые награды. Однако у следствия были документы, позволявшие подозревать участие подсудимого в других преступлениях, в частности в ограблении брошенных квартир в Ленинграде в сорок восьмом году. Впрочем, суд не счел достаточными эти документы, и прокурор обвинения не поддержал. Н. В. Чернушин отбыл срок заключения в колонии, сокращенный ему до трех лет за хорошее поведение. По рекомендации же Управления уголовного розыска Московской области он был зачислен на штатную работу в райсовете города Руза, откуда через два года уволился, выехав в неизвестном направлении. У меня все, товарищ полковник. — Простите, — остановил собеседника Гриднев, — а в судебном деле или в райсовете остались его фотокарточки? Ответ Кочергина был столь же категоричен: — Вынужден вас огорчить, товарищ полковник. Они аккуратно вырезаны и в той, и в другой документации. С чьей помощью — установить нельзя. Но кем и зачем — мы можем догадываться. — Вы правы, товарищ подполковник, — подумав, ответил Гриднев. — У меня к вам только один вопрос: кем был зачислен в райсовет бывший подсудимый Чернушин? — Бухгалтером. — Кем? — закричал Гриднев. — Бухгалтером? — Основы бухгалтерии, товарищ полковник, он изучил в колонии. Говорят, что, не отрываясь от своей основной работы, все выучил. Очень старался. Когда Гриднев рассказал присутствовавшим Саблину и Корецкому о том, что поведал ему Кочергин, оба ахнули. — Все! — закричал Корецкий. — Плевать нам на фотокарточки! И без них ясно, как Лобуда стал Чернушиным, а Чернушин превратился в Паршина. Юркого Кочергин не назвал, но разве важно, под какой кличкой Чернушин грабил квартиры эвакуированных в Ленинграде? Зато мы знаем фамилию, обеспечившую ему право жительства в Подмосковье. Нет доказательств, что именно он обернулся Паршиным? А выученная им бухгалтерия? Расчетливый предатель знал, что ему понадобится не слесарная мастерская, не медали, Александр Романович. Такого волка можно и сейчас заарканить. — Рановато, Корецкий. Мы еще не знаем, как Чернушин стал Паршиным. Прокуратура не поддержит обвинения: бухгалтерия — не доказательство. Правда, следствие выяснит путь от Чернушина к Паршину, но задерживать его пока нельзя. Не включена еще вражеская разведовательная машина. Пока только наблюдение, Корецкий и Саблин. Подключите всю группу! Наблюдение систематическое и круглосуточное. Не проморгать!Глава одиннадцатая
Максим Каринцев, освободившийся наконец от дел, радостно помчался в Дом моделей к Марине Цветковой. Здесь его знали и без вопросов пропустили в зал художников-модельеров. — Явление первое: те же и Максим Каринцев, — отметила Марина без особого удивления. — Что означает сие вторжение без звонка и без оправданий? Целую неделю к тебе не могла дозвониться: сказали, что ты живешь в институте и не подходишь ни на какие звонки. — Разве тебе не объяснили? Я же просил. — Твои мальчики не очень внимательны. Хорошо, что я догадлива и не сошла с ума. — Сегодня первый день свободы, — несколько смущенно пояснил Максим. — Начальный опыт удался. Общая радость. — Водородную бомбу открыл? — Кое-что другое. Будем радоваться вместе. — Как? — Поехали на бега. Хочу посмотреть на лошадок. Марина нерешительно взглянула на лежащий перед ней карандашный набросок платья. — У меня эскиз еще не закончен. Лучше порадуемся у меня дома. После бегов. В ресторане не задерживайся. Поужинаем вместе. Кстати, милиция два раза допрашивала меня о твоей карточке. — Не понимаю. О какой карточке? — Которую нашли в кармане убитого конюха. Максим непонимающе заморгал глазами. — Какого конюха? И почему убитого? — Понятия не имею, — пожала плечами Марина. — Сначала меня допрашивал один следователь, потом приехал другой. И оба спрашивали об одном и том же. У какого-то конюха с бегов, кем-то убитого, почему-то нашли в кармане твою фотокарточку. Максим понял: — Должно быть, у Ефима, который программы мне размечал. Я ее и подарил ему вместе с четвертной с выигрыша. А где он убит? В конюшне? — Не знаю. — Лошадь убила? — Нет, кажется. Судя по разговору со следователем, человек. Его-то и разыскивают. — А тебя почему допрашивали? — Потому что я с тобой знакома. Твоя ведь карточка. — Все узнаю у Зойки. Она, конечно, в курсе, — сказал Максим.* * *
На ипподром Максим прибыл уже в разгар состязаний. Оживление на трибунах достигло своего апогея, в холле центральной трибуны шла обычная суета, в ресторанном зале то и дело освобождались и занимались столики. На противоположном табло за кругом показывались уже немалые выдачи, в ложах и на открытых площадках толкались завсегдатаи. Максим приметил знакомые фигуры известных журналистов, художников, актеров. Зою он нашел в кассе. — Давно не виделись, Максим, — обрадовалась она, — поспеши: немногие, но знающие разыгрывают шестую. Не упусти. Есть смысл рискнуть. Крупно играют. — Кого? — Лебядкина на Ласточке. Шанс есть. — Пропущу. Меня вот что интересует. Что с Колосковым? — Ничего. Похоронили. — Я же ни черта не знаю. Что произошло? — А что с людьми происходит, когда их убивают? Помер. — На ипподроме убили? — Нет. Где-то в лесу. — За что? И кому это понадобилось? — Не знаю. Милиция ищет. Мне твою карточку показывали, что у него в кармане нашли. Я назвала тебя. Не подвела? — Не говори глупостей. Я ее сам ему подарил. Здесь кто-нибудь что-нибудь знает? — Не информирована. Спроси у Плешина. Он свободен сегодня. Посмотри в членской. Максим прошел по трибунам, заглянул в конюшни. Плешина он нашел в тренотделении. В это время Володька как раз привел Огонька с тренпробежки в конюшню. — Я ничего не знаю, товарищи, — сказал Максим. — Когда я отсутствовал, к вам беда пришла. Ефима убили. Кто? Где? — Ножом в спину. В лесу каком-то. А кто — неизвестно, — проговорил Володька. — Говорят, до сих пор ищут. — Я со следователем встречался, — прибавил Плешин. — Человек умный, опытный, знающий. Он все о знакомствах Ефима спрашивал. А какие у того знакомства? Программки разметить или о лошадях поговорить. Я тут одно вспомнил, только, дурак, следователю не сказал. В последнее время Ефим боялся кого-то. Запираться стал на ночь. Двойной замок заказал. Я и внимания не обращал: чудит, мол, старик что-то. А он не раз, как зайдешь к нему вечером, вроде бы испуганно спрашивал: не ходил ли, мол, кто-то у двери или под окнами? Значит, был такой, кто мог на Ефима озлобиться. Ничего больше от друзей Максим не узнал. Вернулся к Зое удрученный, почти с физической болью в сердце. — Разметить программку? — предложила она. — Зачем? Я лошадей лучше тебя знаю. — Я с зоотехником советовалась, на кого он сегодня рассчитывает. — Не буду играть. Расстроило меня это убийство. Бессмысленное и обидное. Такого мастера потерять! — Найдут другого, — зевнула Зоя. — Погоди, не уходи. Почему пропадал так долго? Как успехи? — Успехи есть, но не для информации. — А для банкета? Максим вздернул брови: рано еще о банкетах думать. И есть ли у него такое право на славословие в свою честь. Нечестно даже подумать об этом. Но ответил рассеянно и нехотя: — Слишком много народу придет. Не банкет, а бал. — А если просто суарэ интим? Для меня и Маринки. — Для троих можно. — Плюс Динни, — осторожная нотка просьбы озвучила реплику Зои. Максим поморщился: — Я почти не знаю Хэммета. Шапочное знакомство. — Для меня близкое. — Тогда где-нибудь в ресторане. Лучше за городом. И в обеденное время, когда народу поменьше. Скажем, в Архангельском. Организуй. Ты это умеешь. И не спеши. Дотяни хоть до воскресенья.* * *
Максим и Марина ждали машину у Дома моделей. Зоя звонила, что они приедут с европейской точностью к четырнадцати ноль-ноль. — Я не спросила ее, какая у них машина, — сказала Марина. — А если это будет машина Хэммета? — Какая разница, — пожал плечами Максим, — поедем на той, какая прибудет. Два места в каждой современной машине найдутся. — Я бы не поехала на твоем месте на посольской машине. Не боишься осложнений? — Поехать на посольской машине еще не означает, что я продал Пентагону свое открытие. — Но повод для сплетен бесспорный. — А я плевал на все сплетни. Пусть сплетничают, если нравится… Зоя с американцем приехали на такси. Хэммет вышел из машины, поздоровался и сказал не без намека: — Я нарочно заказал такси, чтобы не стеснять вас машиной с дипломатическим номером. Зоя с водителем, а мы втроем потеснимся, потерпим. Как говорит русская поговорка, в тесноте, но не в обиде. — Да не в обиде, — поправил Максим. — Речевая замена союза «но». — Я до сих пор не знаю русской грамматики, — с извинительной ноткой произнес Хэммет. Когда стояли на разворот, Зоя, обернувшись к сидевшим сзади, сказала: — Едем в Архангельское. Столик уже заказан. Будет медвежатина, Кстати, предупреждаю: ни Максиму, ни Динни платить не придется. Динни гость, Максим герой дня, а мы с Мариной хозяева. Все решено, возражения не принимаются. — Решено так решено, — усмехнулся Максим, — возражаю лишь против «героя дня». Термин неопределенный, незаслуженный и лишенный всякого смысла. — Имеется в виду неоткровенная информация о неких успехах в физике. — Поздравляю, — обаятельно улыбнулся Хэммет, протягивая руку. — Нет, уж увольте, — отмахнулся Максим. — По физике у меня была тройка, даже до трех с плюсом не дотянулся. Поздравлять не с чем. — Ну что ж, — подарил Хэммет собеседникам еще одну из своих улыбок, — поговорим тогда о дружбе народов. Место для застольной беседы уже совсем близко. Он язвит или дурачится, подумал Максим. А впрочем, о чем же им говорить о Хэмметом? О международных событиях? Но у обоих, вероятно, совсем различная оценка этих событий. О науке? Едва ли такой разговор годится для ресторанной беседы. О литературе? Наверное, Хэммет опять будет восторгаться Достоевским и Чеховым, как он это уже сделал на их первой встрече на каком-то научном банкете. Причем оказалось, что Чехова он знает только по «Трем сестрам», а с прозой его, как он сам признался, «увы, незнаком». Зато он тотчас же упомянул Замятина и Булгакова, чем сразу привлек внимание своих русских собеседников. Нет, тут Максим повторяться не будет. Но ведь надо же говорить о чем-то с этим обрусевшим американцем. Стоп, Максим! Определение неточное. Хэммет американец не обрусевший, а просто хорошо говорящий по-русски, как дельно подготовленный советолог. Об этом он рассуждать не будет: специально выдрессирован для обаяния и привлечения русских сердец. Интересно, что же он напишет, вернувшись в Штаты, подумал Максим, уже направляясь вместе со спутниками через ресторанный зал на веранду, где их ожидал специально выбранный Зоей в тенистом уголке накрытый столик. Здесь было уютно, не по-ресторанному тихо: оркестр начинал свою работу только вечером. Хэммет огляделся кругом — на кустовую поросль, на расходящиеся лесные лужайки, на оранжевый от солнца песок дорожек. — Чудесные у вас окраины! — воскликнул он. — Не все, — заметил Максим. — Вспомните фильм «С легким паром». Посмеялись. — У однообразия вашей архитектурной новизны есть свое оправдание, — сказал Хэммет. — Вы ухитрились освободить от ада коммунальных квартир, я не подсчитывал — сколько, но, вероятно, миллионы московских жителей. Я не поклонник вашего планового хозяйства, но оно дает вам возможность бросать любые суммы на самую нужную отрасль промышленности. — Вы и при капиталистическом строе ухитряетесь делать то же самое, — не без лукавства откликнулся Максим. — На сколько миллиардов вы подняли свой годичный военный бюджет? — Хватит политики, Максим, — поморщилась Марина. — Ну, будем, как американцы, за обедом говорить о погоде. — Вы ошибаетесь, Максим, — поправил Хэммет. — О погоде за столом обычно говорят англичане. Есть тысячи тем, мадемуазель Марина. Например, искусство. Ваше искусство. Живопись. Скажем, ваш любимый художник? Называем только мировые имена. — Начнем с вашего, Дин. — Дали. — Я бы назвала Врубеля. Но это, пожалуй, слишком уж старомодно. Сальватор Дали мне тоже нравится. Сознательное сочетание реального с ирреальным. А что мне сказать, думал Максим. О чем же говорить? О работе, о жизни. О событиях вокруг него. Волнует, по-настоящему волнует, например, убийство мудрого старика-лошадника. Кого он обидел и кому помешал? Но об этом не хочет говорить даже Зоя. Тем более Марина и Хэммет, его не знавшие. А их волнует болтология под медвежатину. — О чем задумались, Максим? — спросил Хэммет. — О своих научных исканиях? — Я ничего не ищу, Дин. Все уже найдено. — А выгодно это или невыгодно? — Кому, Дин? — Государству. — Вы прагматик, Дин. — Не возражаю. Вы учились у Ленина, а я у Дьюи. Был такой, может быть, знакомый вам американский философ. — И чему же вы у него научились, Дин? Отвергать классовое строение общества и противопоставлять теории практику в американо-барышническом ее понимании? — Не ссорьтесь, джентльмены. Не надо, — осторожно вмешалась Зоя. — А мы и не ссоримся, — подхватил Хэммет. — Мы просто по-дружески обмениваемся философскими посылками. Дружба не противоречит разнице вероисповеданий. — Я не религиозен, — усмехнулся Максим. — А в церковь заходишь, — задела его Марина. — Все действующие церкви Москвы на машине объехал. — Потому и захожу, Маринка, что хочу увидеть внутри не склад строительной тары, а памятник древнерусского быта. Только в нашей православной церкви он и сохранился. А на него иногда любопытно взглянуть. — А я люблю церковь как художник, — сказала Марина. — И церковь преимущественно древней постройки. Ведь Василий Блаженный или кремлевские храмы потрясают именно своим внешним архитектурным обликом. А что внутри — музей или склад, или пусть даже сам патриарх служит, — уже не имеет значения. Мне важна просто архитектура, с бытом или без быта, все равно. Хэммет молчал, ожидая паузы, чтобы вмешаться: новая тема его почему-то радовала. Спорить с Мариной никто и не собирался, и очереди своей он не упустил. — Меня, как иностранца и квакера, в русской церкви интересует все: и архитектура и обрядность религии. Я уже не раз бывал в церкви, но только в Москве. В Загорске же, вашем религиозном центре, никогда не был и, представьте себе, не решаюсь поехать туда один. Мне нужен знающий спутник. — Напишите в патриархию и попросите гида, — предложил Максим. — У них есть же отдел внешних сношений. — Мне нужен не церковник, а образованный русский интеллигент. Как вы, например. Умоляю! Подарите мне часа полтора в Загорске. Максим не отказался. Идея прогулки в Загорск ему нравилась, любил он бывать в этом старом русском городе, славном своей историей.Глава двенадцатая
Паршин подсчитал на калькуляторе суммы, которые будут затрачены на плановую разработку опытов Максима Каринцева в течение года, записал итог на листке из блокнота и положил его в потайной карман на пиджачной подкладке. Все делалось аккуратно, с расчетом и — пока без страха. Потом так же педантично скрепил все памятные записки, прибрал на столе, запер в сейф платежные ведомости и подождалминуту, пока не раздался звонок, извещающий об окончании работы. Так поступал Паршин все двадцать лет, просиженные в кабинете с эмалированной дощечкой с надписью «Главный бухгалтер». Домой он пошел один, ни с кем не задерживаясь и никому не сказав до свидания. Старые работники привыкли к этому издавна, а новым объясняли, что главный бухгалтер молчалив, строг, неулыбчив и что такова уж манера его общения с сослуживцами, а точнее, что никакого общения нет, кроме обязательного по службе. Начальство его уважало, ценило и не стремилось к его духовному приобщению. Зачем? Ведь на него никогда и ни от кого не поступало ни одной жалобы. По дороге домой он тоже ни к кому не обращался, разговаривал только с кассиршами и продавцами, когда покупал что-нибудь, а покупал он немного — что понадобится к завтраку или к ужину. Исключение делалось только для коньяка: он выпивал полбутылки в день, давно привык к этому и почти не пьянел, только туманилась голова, отодвигались тайные помыслы и тревоги. А они возникали, потому что у него кроме бухгалтерии было и другое занятие. Каждый вечер, в определенный час он включал приемник и ловил не Би-би-си и не «Голос Америки», а одну известную только ему волну, чтобы услышать и расшифровать задание. А заданий не поступало. Двадцать лет приемник молчал, потому что других волн, в том числе и советских, привычных и надоевших на службе, Паршин не слушал, предпочитая для развлечения старенький телевизор «Рекорд». И все-таки давно ожидаемое задание наконец поступило, но не по забитому радиоволнами эфиру, а по обычному городскому телефону, для которого тоже был свой пароль. Итак, пароль был сказан и задание получено: ждать. До четверга на будущей неделе, когда ученый совет института утвердит плановую разработку темы физика Каринцева. Если утвердит, зайти в первый же телефон-автомат и в названный час позвонить по номеру в Дом литераторов и попросить к телефону некоего иностранного дипломата, находящегося поблизости. В самом деле, кто станет прослушивать телефон администратора Дома литераторов? Никто, бессмысленно это. А стало быть, тому дипломату опасности нет. И ему, Паршину, тоже. Если не утвердит совет тему, не звонить и снова ждать безответно. А по утверждении регулярно сообщать о ходе работ группы Каринцева по указанным впоследствии телефонам и адресам. Личной связи с говорившим не поддерживать и не добиваться. Надо будет — она состоится. С тех пор в сердце Паршина проник нестерпимый и неутихающий страх. Потребовалось уже не полбутылки, а побольше, чтобы заглушить его мутным, дурманящим опьянением. До сего времени он не вспоминал своего прошлого — с бабами, картами, самогоном и кровью расстрелянных. Привык жить один, безлюдно и безмолвно. Было время, с отчаянной осторожностью приводил к себе случайных женщин, стараясь при этом не попадаться никому на глаза. А сейчас и от этого отвык. Так и жил, как было приказано давним и чужим, а не институтским начальством. Жил без риска, потому что прошлое было отлично замаскировано, а если и пришлось однажды рискнуть — заставила все-таки судьба злодейка, — так все обошлось без опасных свидетелей. Но страх пришел в ту минуту, когда он заметил одну и ту же следовавшую рядом с его автобусом «Волгу». Он даже номер ее запомнил: 45–64. Она то обгоняла автобус, по опять почему-то оказывалась рядом, соблюдая какую-то закономерность в подражании его маршруту. Когда он заметил ее по выходе из гастронома, почему-то решил: за ним следят. Почему? Он не мог понять. Кроме телефонного звонка к нему домой и его ответа из автоматной будки, когда за ним никто не следил и никто не подслушивал, в жизни его не произошло никаких перемен. И все же появилась зловещая «Волга». Быть может, придумал он себе слежку, а «Волга» — случайная, не имевшая никакого отношения к страшившему его ведомству. Так думал он, старался думать, а страх рождал новые подозрения. Он замечал и другие автомобильные номера. Казалось, за ним следили настойчиво и обдуманно, не пропуская ни одного его передвижения по городу. Он тщетно ломал голову: что подметили, до чего докопались? В своем давнем прошлом был уверен: оно забаррикадировано от всех подозрений. Если засвечен его недавний риск, непонятно — почему его не задерживают, не обыскивают, не обвиняют? Он стал запоминать и стоящие у тротуара «Волги», подозревая каждую в слежке, даже не взглянув на номер. В конце концов притерпелся: что ж поделаешь? Бежать некуда — найдут. Рассказать при следующем парольном звонке — бросят на произвол судьбы. Так бывало, он знает. А потом, где гарантия, что «Волги» эти треклятые — не бред параноидальный, рожденный манией преследования? И хотя не считал себя сумасшедшим, а все ж мыслишка эта успокаивала. Хихикал за коньячком: совсем спятил, Паршин… И вот прозвучал наконец этот звонок. Пароль и отзыв названы. Надо молчать и слушать. — В семь вечера возьмите свою машину — она у вас есть, хотя вы ее и прячете, — и следуйте по Минскому шоссе вплоть до Кунцева. Недалеко от Кунцева вас нагонят и некоторое время поедут рядом. Не старайтесь разъехаться или обогнать спутника. Ждите его действий. Все. — И повесили трубку. Была суббота. Паршин сидел дома, на стенных часах пробило шесть. Пора! Пока он дойдет до стоянки своей машины, пока доберется до Минского шоссе… Самое время выходить, не задерживаясь. Машину он взял, даже не посмотрев, следует ли за ним очередная «Волга». Десятки следуют, не подозревать же их все. Да если и следует, что с того? Захотел прокатиться главный бухгалтер, вот и все! Шоссе набегало летящими навстречу огнями, дорожными указателями, силуэтами высотных домов, светящимися витринами. Наконец он почувствовал, что его «догнали». Именно почувствовал, потому что догоняющих машин было много, догоняли и уходили, а эта осталась рядом, как приросла. Ни водителя, ни человека, сидящего рядом, он даже не разглядел, только услышал довольно отчетливо через открытое окно: — Не дергайтесь. Держитесь вплотную. Слушайте. Постарайтесь проникнуть в лабораторию Каринцева. Повод у вас есть. Вы главный бухгалтер, один из руководящих работников института. Имеете право. Походите, посмотрите, послушайте. Спросите, как идут дела, даже если вас нелюбезно встретят. Вы хозяин: ведь разработка-то плановая. А посмотрев и выслушав все, что удастся, перескажете нам. Вам позвонят через неделю и назначат место встречи. Ничего не записывайте, мне нужно только ваше мнение о ходе работ группы Каринцева. Есть ли движение вперед и есть ли у группы надежда на это? А сейчас мы уйдем далее по шоссе, а вы отправляйтесь обратно на первом же повороте. Паршин так и сделал, пропустив вперед не «Кадиллак» и не «Бьюик», а желто-серую, похожую на такси «Волгу». Заметив только, что у говорившего с ним очки пол-лица закрывали. У первого светофора повернул назад и поехал домой.* * *
— А я вчера засек Хэммета вместе с Паршиным в девятнадцать пятнадцать на Минском шоссе, — сказал Гриднев зашедшему в его кабинет Корецкому. Тот обомлел: — Каким образом? Лейтенант Ермоленко вчера следовал за Паршиным до Кунцева, где оба и повернули обратно. Ермоленко утверждает, что Паршин нигде не останавливался и не выходил. Кстати, заметьте: имеет собственный «жигуленок», а ездит на работу в метро и на автобусе. Может быть, вы ошибаетесь, Александр Романович? Не мог Хэммет встретиться с Паршиным. За Хэмметом наблюдал капитан Хомутов. Я еще не говорил с ним, но… — И не говорите. Ошибаетесь вы. Я снял с наблюдения Хомутова. Увидел его на улице Чайковского. Смотрю, наша машина. Догнал, спросил капитана через окошко, кого это он преследует. Он говорит: Хэммета. Едет впереди на «Волге» с дипломатическим номером. Ну, я и отпустил его, сказал, что прослежу сам. Догнал американца у поворота на Калининский, пристроился с той же скоростью метрах в сорока сзади, ехал так почти до Кунцева, пока не заметил, что он притормаживает, пристраиваясь к соседней машине, идущей рядом. Ясно, что эта встреча преднамеренная и краткая — для какой-то информации. Меня сразу же заинтересовало: кому? Я обошел их с другой стороны и разглядел за рулем Паршина. Тут же сообразил, что встреча непродолжительная, видимо, инструктивная и явно рассчитанная на то, что ее не заметят. Так и оказалось. Ермоленко не обратил внимания и проследовал за Паршиным до его дома. Похоже, он и меня не углядел. Так он тебе и доложил, — перешел Гриднев на неофициальное «ты». — «Никуда не заезжал, ни с кем не встречался». Но распекать его не надо. То, что заметил я, Ермоленко заметить не мог. Он не видел Хэммета. — А ты понимаешь, что значит твоя удача? — спросил Корецкий. — Чемпионский шахматный ход. — Не преувеличивай, — сказал Гриднев. Однако задумался. Действительно ли это только случайность? Нет, конечно. Был и расчет. С той минуты, когда он узнал от Хомутова, что тот преследует Хэммета. Был расчет и тогда, когда он увидел две будто слипшиеся друг с другом машины. Без расчета он не смог бы опознать Паршина. Но был ли это расчет победителя? Решил ли он хотя бы одну из стоящих перед ними проблем? Нет, пожалуй… Так он и ответил Корецкому. — Решил, — упрямо настаивал тот. — И главную. Паршин — связной Хэммета. Разве это не шаг к победе? — Шажок. Паршин связной Хэммета. А что дальше? Будем следить за Паршиным. А мы и так следим. Ничего умнее нам и не остается. Но есть же и другие проблемы. Разве доказано, что Лобуда — это Паршин? И разве доказано, что Паршин — убийца Колоскова? Многое еще нужно доказать, майор. И доказательств пока не вижу. — Мы еще не до конца использовали Саблина, — сказал Корецкий. — Что верно, то верно. Дело об убийстве конюха недопустимо закисло. — А если мы докажем, что Паршин убийца, а следовательно, и то, что Лобуда — это Паршин, будем ли мы спешить с арестом? Молчишь? То-то и оно! Если уж ты шахматными терминами заговорил, то в партии Хэммета есть две фигуры: Максим и Паршин. И обе нам нужны. «В одном Корецкий, пожалуй, прав, — думал Гриднев, — мы не станем спешить с арестом Паршина, даже если тайна убийства Колоскова будет раскрыта. Нам нужно разоблачить Хэммета и спасти Максима, если только его можно спасти. Но нам важно и разоблачить немецко-фашистского агента с фамилией Лобуда. Только „связной Хэммета“ — это старческие слезы в суде и несколько лет в колонии строгого режима, а если он к тому же и Лобуда, то у него нет права на жизнь. Подождем с арестом, но тайну убийства конюха все же откроем. Пошлем-ка Саблина к соседям Паршина по этажу. Он в однокомнатной квартире живет. Корецкий говорит: там целый этаж однокомнатных. Есть у кого поспрашивать о молчаливом соседе».Глава тринадцатая
Саблин обошел двенадцать квартир — одна против другой по всему этажу. В каждой спрашивал, кто из живущих здесь воевал, где воевал, как войну закончил. Мало кто назвал Паршина, но знали его все, и общая характеристика была почти одинакова. Разными словами в каждой квартире сказали в общем одно: неприятный человек, неразговорчивый, недружелюбный, угрюмый, невежливый, даже заносчивый. — Почему заносчивый? — спросил Саблин домохозяйку Серову. — Я недавно здесь живу, из Гранатного переехала. Ну и выбрали меня старшей по этажу. К маю решили мы сообща в складчину паркет в коридоре и на площадке натереть. Подсчитали — работа, мастика, воск — меньше рубля на квартиру приходится. Пошла я к нему. Позвонила. Открыл. А дверь на цепочку замкнута. С вас, говорю ему в щель, семьдесят пять копеек причитается, пол в коридоре натереть. Он помолчал, скривился, ушел в комнату, а дверь закрыл, будто я воровка какая. А потом сунул мне через цепочку рублевку мятую с присловием: сдачи не надо! Поутру в лифте встретились, так даже здрасте не сказал, как пень лесной промолчал. В шестьдесят четвертой квартире в том же коридоре Саблина ожидала находка. Именно так и можно назвать информацию, которую он получил у хозяйки дома, медицинской сестры Меркурьевой. — Меня не интересует ни личность Паршина, ни его поведение, — сказала она — Но один эпизод, имеющий или не имеющий к нему отношения, мне хочется вспомнить. Тем более что случилось это только вчера вечером, когда его не было дома. Позвонил ко мне один задрипанный старичок — не старичок, но и не моложавый, этак лет на пятьдесят с гаком. Одежонка измятая, сапоги стоптанные, физиономия небритая, седой. Чернушина, говорит, мне позови. Нет у нас, отвечаю, никакого Чернушина. Проспись, говорю, и по чужим квартирам не шастай. А мне, говорит, этот адрес дали, и никаких, мол, гвоздей. Из Ростова я, и он это знает. Ну, сами понимаете, — это я уже вам рассказываю, — меня любопытство остановило дверь перед ним захлопнуть. А какой из себя этот Чернушин, спрашиваю. Повыше меня на голову, говорит, да поширше в плечах, прибавь к моим четверть метра. Да скуластый он и глазки махонькие. Не Паршин ли, спрашиваю: что-то в описании похожее есть. Нет, говорит, Чернушин. А Чернушина я не знаю. Он и ушел. Сказал: опять на вокзале ночевать. Не знаю уж, зачем вам все это рассказываю, товарищ капитан, просто вспомнилось. Саблин знал, что в их деле бывают такие случайности, которые иной раз все решают, с головы на ноги ставят. И наоборот. У всех в жизни они бывают. Только не замечаешь их. Прошла бы и Меркурьева, если б не заглянул к ней Саблин… Нет, ничего и никого упускать нельзя, коли розыск ведешь, любой человек может неожиданно стать если и не главным свидетелем, то таким, кто следствие к истине подтолкнет, сам того не ведая…* * *
— Если мы найдем этого визитера, — сказал Корецкий, — то откроется еще одна тайна Паршина Вот и рассудите. Вы, товарищ полковник, случайно засекли встречу Хэммета с Паршиным, заранее обусловленную их договоренностью. Ваша случайность тоже была заранее обусловлена предварительной встречей с капитаном Хомутовым. Открытие Саблина в квартире Меркурьевой обусловлено его служебным заданием. А визит бродяги к Меркурьевой обусловлен его осведомленностью в личности Паршина и откровенными поисками ночлега. Жизнь, дорогой мой начальник, — это цепь случайностей, обусловленных закономерностями. Диалектика — великая сила… — Оговорим еще одну закономерность, дорогой философ, — решил Гриднев, подумав. — Поезжайте к ночи на поиски ростовского гостя Меркурьевой. В Ростов можно попасть по-разному. Выбирайте любой маршрут, начиная с Казанского. Ну, и Курский, конечно, и Киевский, и Павелецкий… Корецкий и Саблин решили начать с Казанского вокзала. — Товарищ полковник слишком уверен, — задумчиво сказал Саблин. — Лично я сомневаюсь. Обнищавший вор мог найти крышу и в городе. — Мог и уехать, — поддержал Корецкий, тоже не очень верящий в счастливый исход поисков. Всю ночь проездили зря. Облазили все вокзалы, в том числе и те, на которые из Ростова не попадешь, обошли все пассажирские залы ожидания, но ростовчанина, описанного Меркурьевой, так и не нашли. Несколько раз — с помощью дежурных милиционеров — проверяли документы у каких-то, казалось, подходящих людей, но все это были пассажиры, где-то работавшие и действительно ожидавшие поезда. Не вспомнили об искомом бродяге и в камерах хранения, и в отделениях железнодорожной милиции. — Куда теперь? — На Петровку, 38. Там уже рабочий день начался. Попробуем найти его крышу в Москве, — вздохнул Саблин. В Управлении уголовного розыска нашли майора Лиховца. Саблин представил Корецкого и объяснил суть дела. — Не можете без нас, мастера-начальники, — засмеялся Лиховец. — Включимся и мы. Поможем. Откуда он, говорите? Из Ростова. Ну что ж, позвоним ростовским коллегам. — Взял трубку, дозвонился. — Майор Лиховец у телефона. МУР. С кем говорю? Ростовский дежурный назвал себя. — Вот и отлично. Будем знакомы. У вас тут сбежал один мужичок с ноготок. Давний и потертый. — Майор в точности повторил подсказанное ему описание. — В таком виде по улицам ходит. Крышу ищет. — Похоже, Шитиков. Только позавчера сбежал из-под стражи. Мы ориентировку посылали. Возьмете — к нам перешлите. Грешки у него немалые. — С кем он в Москве связан? — Есть у вас наши, ростовские. Братья Сорины, Александр и Виктор. И дамочка есть, тоже ростовчанка, по паспорту Захаркина, по кличке «Цыганка». Поищите у нее: она за трешницу в день у нас когда-то угол сдавала. Говорят, завязали все трое, как будто работают. Во всяком случае, не слыхать о них. В информационном центре разыскали адреса ростовчан. Сорины работали грузчиками на станции Очаково, там же и проживали. К Захаркиной надо было ехать через весь город. Она работала дворником в Тушино. Начали с Сориных. Заехали в отделение милиции, где их ждал заранее предупрежденный оперуполномоченный. Он и повел их к братьям, рассказывая по дороге: — Знаю их, как же. Мои подопечные. Да только, товарищи, они и вправду в завязке. Никаких сигналов. Вот только пьют, как лошади… Жили братья в одной комнате, которую им сдавала вдовая старуха весовщица со станции. Она-то и открыла двери, вежливо поздоровалась с оперуполномоченным. — Спят они. Назюзюкались и дрыхнут… — сказано это было явно неодобрительно… Видно, надоели братишки даже терпеливой хозяйке. Будить Сориных было нелегко: спали пьяные, даже не раздеваясь. Разбудили только старшего, Виктора. Младший так и не проснулся. — По шестьсот граммов вчера приняли, извините. Работка была тяжелая: мебель в контейнерах прямо с фабрики целый день на путях грузили. Чем провинились? С милицией у нас полный ажур. — Не ночевал ли у вас некий Шитиков? — спросил Саблин. — Приходил старый дятел. Не пустили. Сами на птичьих правах живем. К Захаркиной поезжайте. Ей легче своих приголубить: постоянная прописка у нее, как у дворничихи. Поехали к Цыганке. Несмотря на то что время было дневное, дворничиха тоже спала. — Везет нам, — удивился Корецкий. — Здесь профессиональное, — заступился за неведомую Цыганку Саблин. — Встает посередь ночи, метлой намашется, вот и отдыхает… Разбудить ее с помощью дверного звонка не сумели. Пришлось долбить в дверь ногами, пока ее не открыла толстая сонная женщина, ничем, впрочем, цыганку не напоминающая. — Чего надо? Вопрос был явно бессмысленным, потому что видела она перед собой двух знакомых работников милиции, своих, так сказать, районных, один из которых к тому же не раз и не два штрафовал ее за излишнюю «доброту». А тут еще двое с ними, в штатском. Раз такой кворум, то, значит, не за ней пришли, слабой женщиной… Так она рассудила про себя и без всякой волокиты спросила: — Небось Серый нужен? — Он, Шитиков, — подтвердил Корецкий. — Никакого Шитикова не знаю, а Серый здесь. Водочки выпил и кочумает. Берите его, товарищи власть, устал он от вас бегать. Похоже, Шитиков и вправду устал бегать от милиции. В оперативке значилось, что проходил он в Ростове по мелкому делу о трамвайной краже, украл чего-то по мелочи — стар стал, руки не те. И светило-то ему всего-ничего, да и привык он к колонии: там все же кормят три раза в день, спишь под одеялом. А ведь сбежал почему-то, умудрился… Разбудили его, он и не сопротивлялся. Даже умиротворение некое на лице означилось: мол, конец моим мытарствам, отдохну, как человек. Пока на Петровку ехали — спал. А приехали, попросил Саблина: — Вы меня, граждане начальники, сейчас допросите. — Это можно, — согласился Саблин. — Только что вас допрашивать? Мы вас в Ростов этапируем, там и допросят, если надо будет. А мы вас о другом поспрошаем, коли не против. — Это я-то? — возмутился Шитиков. — Да я с дорогой душой, Все скажу. Я ведь чего сбежал? По привычке. У них там в уборной решетка на окне оторвалась. Думаю, как не убечь? Ну и убег… — По привычке и срок себе увеличили. — Да что мне срок? Мне он в радость, срок этот. Шестьдесят восемь мне стукнуло, стар, как пень трухлявый. На что жить на воле? Пенсию вы мне платить не станете, не выслужил. Работать идти некуда, разве — сторожем ночным, да кто же меня с мильеном судимостей охранять социмущество взять вздумает. Идиетов нету. Так в колонии и дотяну. При кухне. — А к Чернушину зачем шли? — К Юркому? Думал, переночевать пустит. — Вы его откуда знаете? — Да-авно-о знаю, еще когда он в Одессе полицаями командовал. Только звали его тогда по-другому: Лобуда. А я ни нашим, ни румынам не служил, вором был, вором и в немецкую Одессу приехал, когда в ней еще румыны правили. Тут меня Колосков и взял — нынешний беговой конюх, а в те времена полицай у губернатора Алексяну. Ну, посадили меня, когда я комиссионный магазин очищал. Румыны тоже сажали за воровство, только Лобуда, присмотревшись ко мне, своей властью меня на свободу выпустил. «Не трусь, воряга, — сказал он мне, — румынам ты служить не будешь, в гестапо тебя не возьмут: мелковат. А я тебя и от высылки в Германию освобожу, и от тюряги. Мне служить будешь, если свое воровское мастерство не забыл». — Ну и как служилось? — спросил Корецкий. — Профессионально. Замки вскрывал, ключи от сейфов собственноручно подтачивал, обкрадывал те квартиры, которые официально нельзя было обчистить. Обокрал, например, полицмейстера Георгиану, когда он с женой в ресторане пировал, а горничная меня в дом впустила. Ну, я ее для вида так веревками обкрутил, что, как говорится, ни вздохнуть, ни охнуть. Вот и вынес все бриллианты, которые Георгиану у одесских ювелиров без отдачи занял, — серьги, брошки, запонки, портсигары. Все это горничной-стерве с ее любовником Лобудой досталось, ну а мне премия в марках, тоже не мелочь в те времена. Так и жилось мне, пока Лобуда не исчез из Одессы. Румыны с немцами на запад драпанули. Что же мне оставалось? В освобожденных городах нашим мастерам тоже неплохо жилось. Конечно, чуть что и — расстрел. Но опытные хлопчики на армию не жаловались: героев-бойцов обмануть куда легче, чем профессиональных ментов. Когда в Одессе они появились, перекочевал в Ростов, места привычные. Ну и налетел на Лобуду. Об этом забудь, сказал он мне, теперь иначе зовусь, запомни: Чернушин Серафим Петрович. Возьму, сказал, тебя в свою банду. Воровское мастерство твое помню. Думаю, пригодишься: замок вскрыть сумеешь. Раз сумел, два сумел, а в третий раз в колонию упекли на десять лет. Отсидел полсрока — бежал. Еще посадили. Пятнадцать вышло с отсиженными, только двух лет не досидел — амнистировали. Вернулся к родной профессии. Обжился, состарился, прошло время, о Чернушине ни слуху ни духу… — Кто ж помог отыскать? — спросил Саблин, с интересом слушая рассказ о безжалостно растраченной жизни. — Колосков. Вот и все, подумал Корецкий. Отыскался след Тарасов. Что найдено в Одессе, подтверждено в Армении, а итог подведен в Москве. Линия Лобуда — Чернушин — Паршин скреплена по всем разрывам. Только нужно еще прояснить убийство конюха. Первым сделал это Саблин. — А как Колосков узнал о Чернушине? — Так он узнал об этом еще в одесской тюряге, когда Лобуду вместе с ним замели, как бывшего полицая. Сам Колосков потом мне об этом рассказывал. Встретил, мол, его на тюремной прогулке, а он мне шепотом: сбегу я отсюда, Ефим. А на воле, говорит, может, и встретимся. Нашел, спрашиваю я Ефима. Не искал, говорит, а встретился тут же, в конюшне: разметить программу пришел, как артист вырядился, и папиросы «Герцеговина флор» курит. В то время такие папиросы все ответственные курили. — Тогда же он и адрес сказал? — спросил Саблин. — Не-ет, — протянул Шитиков. — Не тот человек Чернушин, чтобы душу открывать. Произошло это много лет спустя, совсем недавно, когда я снова в Москву приехал. Денег — ни копья. Куда идти подкормиться? В беговой ресторан к Ефиму. Смотрю, он грустный, как ива плакучая. Отчего, почему? Хочу, говорит, повиниться перед Советской властью. Обманул я ее на суде, не признался, что связан был с гестапо. Скрыл и мучаюсь от тоски, даже горло схватывает. Так и Чернушину, говорит, сказал, когда тот опять на бега приехал программку разметить. Позавчера это было. Ну и дал он мне свой адресок, чтоб по душам свободно поговорить. Только я решил твердо: пойти пойду, а от него в милицию. А какой адресок, спрашиваю Ефима. Он мне назвал и улицу, и дом, а номер квартиры я позабыл. Позвонил в крайнюю. Открыла мне тетка злющая и говорит, что ни в одной квартире по этажу никакого Чернушина нет. А где Чернушин, мне и сто лет неизвестно. Протокол допроса перепечатали в двух экземплярах, дали подписать оба Шитикову, а майору Лиховцу Корецкий сказал: — Этот мужичок с ноготок нужен нам как главный свидетель, потому и задержите его отправку в Ростов. Мое начальство сегодня же все согласует с вашим…* * *
Гриднев с каменным лицом три раза прочитал протокол допроса Шитикова, только руки его чуть-чуть дрожали. Корецкий и Саблин молча ждали. — Спасибо, ребята, за самую важную, пожалуй, находку. Образцовая работа. Обоим — Знак качества. Теперь о деле. Первая часть его уже решена полностью. Паршин — предатель, Паршин — бандит в прошлом и убийца в настоящем уже — ясней ясного. Есть и доказательства, документальные и свидетельские. Можно взять его сразу, и высшая мера ему обеспечена. Но придется подождать: он еще не сыграл последней роли — связного у разведчика ЦРУ. Роль не главная, но существенная для нас. Она раскрывает игру Хэммета и его хозяев. — А Колосков, умирая, даже не знал, что его убивает не Чернушин, а Паршин, — сказал Саблин. — Колосков не знал, что он умирает, — поправил Гриднев. — Он просто умер без страха и боли. Паршин ударил ножом, как учили в гестаповских тренингах. А вы, друзья, сейчас твердо запомните: дело еще только подходит к завершению. Не оступитесь. Осталось, думаю, всего несколько суток, но каждые сутки — это тысяча четыреста сорок минут. И ни одной минуты не должно быть потеряно.Глава четырнадцатая
— Алло, Максим! Это Динни. Третий раз напоминаю вам о Загорске. Этим вы поможете Америке узнать что-то, что пока известно немногим. «Господи, как он мне надоел со своей квакерской дурью! — подумал Каринцев. — Хочет сравнить патриаршество, уходящее корнями в четвертый век, с протестантской сектой, когда-то эмигрировавшей из Англии. Не мне хвастаться православием или осуждать его, когда я верю только в науку. Но нельзя же отказываться в третий раз от однажды данного обещания…» И Максим ответил: — Ладно, Дин. Раз обещал — едем. Заезжайте за мной завтра на своей машине часов эдак в одиннадцать. Я не боюсь дипломатических номеров, — тут он не преминул вспомнить недавнюю «подколку» Хэммета. Хэммет приехал ровно в одиннадцать, мягко притормозил у тротуара, где его уже ждал Максим, перегнувшись через сиденье, распахнул перед ним дверцу: — Я вам сверхпризнателен за ваше согласие, Макс. («Для него я уже Макс», — мысленно отметил Максим.) Вам очень не нужно было обижать отказом Америку! — сопроводил он улыбку приветствием-упреком. — «Очень не нужно» по-русски не говорят. «Не нужно» — это предикат — понятие, определяющее предмет суждения. В приставке «очень» оно не нуждается. — Я готов учиться у вас русскому языку. — Но я не готов быть учителем, Дин. Очень занят физикой. Кстати, вот тут слово «очень» вполне уместно. — О, я понимаю вас, хорошо понимаю, Макс. И как успехи, если не секрет? — Секрет, Дин. Хэммет даже за рулем не снимал прежней улыбки: keep smiling — верное кредо американского «самоделателя» — «selfmademan». — А что-нибудь не секретное, доступное читателям американской газеты, могли бы сказать? Ну, какой-нибудь ясный всем закономерный процесс… Максим, вспомнив что-то, тоже подержал улыбку вместе с ответом. — Ясный всем? Тогда зачем же это печатать? Пожалуйста, если настаиваете. Скажем, имеется определенная зависимость между интенсивностью вспышки и всеми параметрами электрической реакции. Устраивает? Хэммет снял улыбку, поджал тонкие губы и, не глядя на сидящего рядом Максима, сказал в стекло: — Не считайте американских читателей идиотами, Макс. Не хотите говорить о своей работе — закроем тему. Я не шпион. И замолчал. Молчание это продолжалось почти полдороги до Загорска. Максим насвистывал, Хэммет гнал с повышенной скоростью, стрелка спидометра дрожала у деления 110. Наконец Максиму это надоело. — Не глупите, Хэммет. Не вкладывайте ваше плохое настроение в скорость автомашины. Инспектор ГАИ не пощадит дипломата. — Не обижайтесь и вы, Макс. Я ведь мог оказаться невеждой и послать ваш школьный постулат, скажем, в «Вашингтон пост». — И американским газетчикам он мог показаться открытием. — Наши газетчики, Макс, обычно кончают высшую школу. — Не будем спорить, Дин, о разумности вашей газетной пропаганды. Сделаем то, что вы уже предложили. Закроем тему. Закрыли. Обменивались репликами о людях, знакомых обоим, о виденных в последнее время фильмах, о привычках русских и американцев, о дорожной автоинспекции. Хэммет хвалил московскую и ругал нью-йоркскую, хотя от московской он имел гораздо больше неприятностей из-за своих нью-йоркских автопривычек. Поговорили и о лошадях, что сразу растопило ледок, накопившийся меж ними во время поездки. Хэммет оказался знатоком, помнившим всех мировых послевоенных дербистов, и не путал стипльчеза с выводкой, а скачки с рысью. У Максима тоже оказалось, что вспомнить. И вдруг он заговорил об убийстве Колоскова. Не знал, почему ему захотелось сказать об этом Хэммету, — просто сказалось и все. О том, что нелепо погиб старик. Непонятно, загадочно. Хэммет почему-то удивленно спросил: — Откуда вы знаете? — Марина сказала, а ей — Зоя. Я и на ипподроме был. Жалеют старого конюха. Все спрашивают друг друга: почему? — Кто убийца? — Не знаю, конечно. И на ипподроме не знают. Говорят, что ищут. Угрозыск работает. — А вы знаете, что это значит? — Хэммет спросил с еще большей настороженностью. Даже губы скривил. — Слежка, вот что это значит. — За кем? — Не притворяйтесь, что не понимаете. За всеми, с кем он встречался. За вами, например. За мной. Зоя говорит, что она на работу боится ходить. Туда и обратно. Всюду с эскортом. — Глупости болтает ваша Зоя. Так ей и передайте. А уж за вами — это даже, извините меня, чушь. Вероятно, оговорились. — Насчет угрозыска согласен: оговорился. Но КГБ меня из виду не упускает. — Странно слышать это от дипломатического работника, — сказал Максим. — А то, что вы говорите, — это, простите, уже из области слухов о русской военной угрозе. Той же масти карта. Хэммет внезапно замолчал и не открывал рта до тех пор, пока не остановил свою машину уже в Загорске у Лавры, на автомобильной стоянке. Выйдя из машины, он с той же приклеенной улыбкой сказал Каринцеву: — Пошли, благо храм открыт. Из дверей Успенского собора доносились печальная музыка и негромкое пение хора. Шло богослужение. Максим не знал — какое, но, судя по черному гробу на черном постаменте, видимо, панихида. Хор исполнял грустное, типичное для православной духовной музыки панихидное песнопение. Хэммет протолкался вперед, ближе к гробу. Максим не пошел за ним: церковь — не автобус, а кроме того, ему отлично видно лицо мертвого, высветленное смертью, и тело его в гробу, укутанное в черное облачение. Хоронили, видимо, монаха или иеромонаха, потому что служил архиепископ или митрополит, судя по расцвеченной золотым шитьем ризе и большой панагии на груди. — Кого хоронят? — спросил Хэммет у соседей. Ему ответили. — Кто служит? Ему тоже ответили. Максим не слышал ответов — они произносились шепотом, а вопросы Хэммета в молитвенной тишине собора звучали до неприличия развязно и громко. Максим начал уже пробираться к выходу, но Хэммет догнал его. — Уходите, Макс? Я тоже. В сущности, ваше богослужение со всей его театральностью не сравнить с нашей квакерской простотой. — Переменим тему, Дин. Я безбожник. — Тогда закусим. Говорят, поблизости есть пристойный духан. — Духанов нет. Есть рестораны. — Вот и зайдем в один, где народу поменьше. Зашли. Народу действительно было немного: день будничный, деловой. Выбрали одинокий столик, стоявший в стороне от других. При этом Хэммет о чем-то поговорил с официантом. — Что вы ему сказали, Дин? — спросил Максим. — Обычное. Просил меню. — Неправда, Дин. У меня хороший слух. Вы просили к нам никого не подсаживать. Почему? — Для дружеской беседы слушатели — помеха. Пока Хэммет, выбирая меню, совещался с официантом, Максим задумался. «Для чего он меня сюда привез? Для дружеской беседы? Но, во-первых, мы не друзья, а, во-вторых, для такой беседы не требуется ехать за сто километров. Мне он сказал, что ему нужен не церковник, а просто образованный русский интеллигент, знающий все — от „а“ до ижицы. Но какой же я специалист по русской истории, древней иконописи и православному богословию? Смешно! К тому же он не раз бывал здесь, по всей видимости. Да и не спрашивал он у меня ни о чем, а сам я желания не проявил языком болтать. С какой же целью он меня обманывал? Выпытать что-то о моем открытии? Зоя же могла сказать ему о моем характере и о том, что мне не надо объяснять, в чем суть секретности. Но он напросился. По дороге затевая какой-то странный разговор о слежке, на что-то намекал. Была ли цель у этой поездки? Видимо, была. Значит, „дружеская беседа“ все-таки состоится? Должно быть. Послушаем, как он раскроется…» — Вы чем-то недовольны, Макс? Каринцев пожал плечами. Дурацкий вопрос. Если Хэммет человек не глупый, а он, вероятно, действительно умен, только играет простака, значит, он мог сообразить, о чем размышлял Максим после этой никчемной поездки. — А вы никогда не думали, Макс, о своем отце? «Вот оно! Начинается». — Вы привезли меня в Загорск только для того, чтобы задать этот вопрос? — Не только для этого, Макс. Есть у нас и другие дела. Но мне бы хотелось, чтоб на этот вопрос вы ответили. Каринцев посмотрел в упор в холодные, стреляющие глаза. Если так, он может спокойно ответить. — Я не знаю отца, Хэммет. Никогда не видел его. Даже на фотокарточке. — А ведь он все знает о вас, Макс. И ваши карточки есть у него, начиная со студенческой и кончая совсем недавней. Об этом стоит подумать, Макс. Много и глубоко подумать. Я опять что-то неправильно говорю по-русски? Нет? Но у вас, вероятно, есть вопросы. — Прежде всего, зачем мне все это? — А вы послушайте, что я вам расскажу. Над этим надо крупно подумать. Максим уже не поправлял хэмметовской лексики. Он молча ждал. — Отец ваш живет сейчас в штате Иллинойс, в городе Чикаго. Он переехал туда из Германии, куда бежал из России накануне войны. В России же он работал представителем крупной германской фармацевтической фирмы. По национальности — немец, служил в Германии в частях СС, получил звание гауптштурмфюрера и в этом качестве был прикомандирован к штабу власовской РОА, как хорошо знающий русский язык. Что вы думаете об этом, мой почти чистокровный ариец? Да, это было действительно непредсказуемое. Поверить в это, не проверив, Максим не мог. — У вас есть доказательства? — спросил он. — Безусловно. Иначе я бы не начинал с вами этого разговора. «Что ж, — подумал Максим. — Дадим бой». — В детском доме, где я вырос, об этом не знали и не знают. Мать моя умерла при родах, не назвав отца. Все, что вы говорите, или пакостная ложь, или шантаж без достаточных оснований. — Основания есть. И мы на них опираемся. — Вы? Американское посольство? — Нет. Центральное разведывательное управление. — Не знал, с какой гадиной имею дело. Но тем хуже для вас. Правдивость вашей информации — синоним той пакостной лжи, о которой только что было сказано. — Меня вы не оскорбите, Макс, потому что вы нам нужны. Если хотите узнать подробности, слушайте. В детдоме не могли найти вашего отца, потому что он был в Берлине. Мы нашли его после войны. На студенческих карточках, которые раздобыли ему геленовские агенты, ваше лицо — это копия лица вашей матери. Так сказал нам ваш отец. Кстати, его и, следовательно, ваша фамилия — Мальберг. — Все? — спросил Каринцев. — Нет, еще не все. В детдоме действительно ничего не знали, но у вашей матери были знакомые, у которых можно было что-то узнать. И мы нашли одну из ее школьных подруг, кто знал о ее связи с русским немцем, провизором или аптекарем, а на самом деле абверовским агентом, проникшим в Россию под маской представителя немецкого фармацевтического концерна. И учтите, что мы вам предъявим и ваши фотографии вместе с портретом вашей покойной матери, и письменные показания ее школьной подруги, и завизированное заявление Мальберга о том, что именно вы — его сын. Вооружены, подумал Максим. Что же они от него хотят? — Допустим, только допустим, что вы не лжете, или не ошибаетесь, или, скажем, ваши хозяева не осведомили вас, что это расчетливая выдумка, сфабрикованная в штабах ЦРУ, — сказал спокойно Каринцев, — то с какой целью все это мне рассказано? Что вы от меня хотите и чем угрожаете в случае моего отказа? Хэммет снова приклеил знакомую улыбку: — Начнем с отказа. В этом случае мы не будем объявлять советской контрразведке и научной общественности о вашем отце. У нас есть более сильное средство. Мы передадим эту историю в Западной Германии одному из наиболее читаемых шпрингеровских журналов со всей необходимой документацией, чтобы весь мир узнал, кто работает над военными секретами русских. И мы изложим все это, как разоблачение вашего правительства, с ведома которого нацистский последыш Мальберг под псевдонимом Каринцева привлекается к секретной военной работе. Пусть скажут, что это клевета. Не скажут. Что я работник ЦРУ, опровергнет мой дипломатический паспорт, а поведанную Шпрингером историю, пусть даже преувеличенную и опровержимую, выручит такой густой соус правды, что с вашей научной карьерой будет сразу покончено. Максима словно ударило электрическим током. Ответных слов не было. — А предлагаем мы следующее. В случае вашего согласия на сотрудничество в одном из нью-йоркских или швейцарских банков на ваш счет сразу же зачисляется некая сумма. За это вы только будете передавать нам результаты каждого вашего опыта, математически зашифрованные. В случае неудачи конечного итога вашей работы никаких требований к вам не предъявляется, а в случае удачи на ваш текущий счет в том же банке зачисляется еще некоторая сумма. Согласитесь, что мы не жулики и не шантажисты, а деловые люди, не тронутые пороком скупости. И добавлю, что в том и в другом случае вам будет предоставлено американское гражданство, если вы сможете приехать в Соединенные Штаты. Что мог думать честный боксер, которому предложили сказочный гонорар, если он не встанет с пола в нокдауне при счете десять? А если встанет, то его ждет пуля в затылок на выходе с ринга. Думай, Максим. Арбитр еще не начинал счета. Может быть, есть еще силы встать. — Я не могу так сразу ответить, — сказал он. — Мне нужно подумать. Приклеенная улыбка стала естественной. Хэммет был явно доволен. — Подумать можно. Только недолго. Скажем, сутки. Завтра жду вас в машине в это же время у арки на четной стороне Кутузовского проспекта. Домой, конечно, поедете на такси. Думать надо в одиночестве.Глава пятнадцатая
Каринцев думал всю дорогу до самой Москвы, закрыв глаза, чтобы не отвлекаться придорожным пейзажем. Сидел он сзади водителя в уголке, чтобы не затевать пустых разговоров. Настроение было подавленное и ненастное, как дождливый день. Он думал не о предложении Хэммета, мысль о предлагаемых за предательство миллионах даже не мелькнула в его сознании. Нет, он думал о реальности угроз. Конечно, ни государство, ни наука не будут задеты провокацией шпрингеровского журнала. Такие провокации практиковались и разоблачались не раз. Но история, придуманная ЦРУ, может задеть лично его, Максима. Институт, скажем, откажется от плановой разработки его темы: недругов и конкурентов у него в институте немало, и коллективные их наветы позволят добиться цели. Ну и пусть добьются. Не в этом, так в другом институте можно найти право на открытие. Да и не собственная участь беспокоила Максима. Он знал и верил, что никакое отцовство не замарает биографию воспитанника детского дома, защитившего докторскую диссертацию до тридцати лет. Он просто не хотел такого отцовства, не верил в него, всей душой отметал. Он знал, что имя, отчество и фамилию ему придумали в доме ребенка, куда его привезли уже после рождения, и под этими утвержденными в загсе данными он поступил в детский дом, окончательно создавший его духовную личность. Мать не назвала его отца, потому что была в глубоком обмороке, когда рожала, а в таком состоянии ее принесли прохожие с улицы. И умерла, унеся с собой тайну его рождения. То была правда жизни, а рассказанное Хэмметом заставляло задуматься. Не мошеннический ли это трюк ЦРУ? Сделали ставку на Максима? Сделали. Нужен он им как ученый? Нужен. Стали копать. Родился в Туркмении, в туземном, как они напишут, роддоме. Мать умерла при родах, отец неизвестен. Стали искать человека с биографией погрязнее. Нашли. Абверовский агент до войны, эсэсовец, прикомандированный впоследствии к штабу предателя Власова. Может быть, даже ускользнувший от нюрнбергских следователей. Именно его и снабдили карточками Максима, чтобы письменно показать, что его «сын» — вылитая мать в дни их сожительства. Кто подтвердит это сожительство? Оказывается, школьная подруга его матери, которую они якобы где-то нашли. А не выдумали ли они ее, как выдумали абверовского «аптекаря» Мальберга? Можно ведь найти и роддом, где умерла мать, сестер, принимавших ребенка, и людей, знавших «аптекаря» Мальберга. Кто же может сделать это? Он сам, Максим, если бросит работу. Но можно ли ее бросить сейчас, когда каждый опыт — это находка? И можно ли ее бросить тогда, когда шпрингеровский журнальчик выплеснет эту мерзопакость на своих скандальных страницах? Нет, нельзя. Он должен быть вооружен для борьбы. Знанием, уверенностью и волей. Кто-то должен помочь ему. Впрочем, он уже знал кто.* * *
Через два часа после приезда Каринцева с Хэмметом в Загорск Корецкий получил извещение, что Каринцев, просидев около часа с американцем в ресторане, возвращается домой на такси. Один. — Что бы это значило? Может быть, сделка не состоялась? Гриднев по привычке ответил с раздумьем: — Допустим и другой случай. Вербовка состоялась, но оба, в целях конспирации, разъезжаются поодиночке. А может, вербовки и не было: Хэммет все еще проверяет жертву. Изучив Максима, я полагаю, что на предательство он не пойдет. Ну а если у Хэммета есть возможностьшантажа? Мы этого, к сожалению, не знаем… — Отец? — Допустимо. — А может быть, он приедет к нам? — Если вербовка состоялась, для него это — лучший выход. Позвони-ка на всякий случай дежурному в пропускную и закажи пропуск на имя Каринцева. Пусть пропустит без всяких документов. Через час секретарь сообщила Гридневу: — К вам просит разрешения войти товарищ Каринцев. — Пригласи его. Максим начал совсем уже неожиданно: — Разрешите доложить, товарищ полковник, меня принуждали стать предателем нашей Родины. Простите за пафос. — Кто? — спросил Гриднев. — Некий Дин Хэммет. Работник американского посольства в Москве. Говорил он со мной откровенно и настойчиво, по-видимому даже не сомневаясь в моем согласии. Вас это не удивляет, товарищ полковник? — Нет, конечно. Хэммет — агент Центрального разведывательного управления. Это его работа, только прикрытая дипломатическим паспортом. — И вы это знаете? — Неофициально. — Не понимаю, — недоуменно заметил Максим. — Есть же способ избавиться от таких субъектов. На дипломатическом языке, кажется, он называется персона нон грата. — Пока мы не уличим эту персону в разведоперации, международное право на его стороне. — Считайте, что уличили. Мне предлагали за успешный результат моих опытов американское гражданство плюс счет в любом американском банке. Неудачу обеспечивал аванс, причем о результате каждого опыта я должен буду сообщать им по конспиративной связи. — Он не скуп, — улыбнулся Гриднев. — На чем же они зацепили вас? На выходе из рядов комсомола или на отказе от членства в партии? — На отце. Мать умерла при родах, не назвав отца, когда ее только что принесли с улицы. — Далее Максим рассказал все, чем угрожал ему Хэммет, добавив и свои размышления по дороге к Москве. — Хитро задумано, но с прорехами, — сказал Гриднев. — Вам бояться нечего, и шпрингеровская провокация не потревожит ни государство, ни науку. Такие штучки нам преподносились не раз, и всегда провокаторы и лжецы умолкали с позором. И я думаю, что вы правы в своих подозрениях. Абверовского разведчика Мальберга в Туркмении не было. Ни до войны, ни во время войны. Может, где-то такой молодчик и окопался, но на советской территории его не было. Это я вам как старый чекист скажу. Можем еще по спискам проверить для верности. И болтовню такого эксгауптштурмфюрера, подсказанную ему цеэрушниками, всерьез принимать не следует. Сомнительна и версия с подругой вашей покойной матери. Эти школьные подруги обычно рождаются в голове таких мастеров провокации, как хозяева Хэммета. Кстати, о нем. Когда назначена ваша встреча? — А надо ли мне с ним встречаться? — Обязательно. Согласитесь на сотрудничество, но без всяких письменных обещаний. Когда ваш ближайший опыт? — В понедельник. — Значит, через три дня. Отлично. На такую сделку они согласятся. Вы им нужны. И не пугайтесь угроз. Самое главное, узнайте у него, как будет оформлена связь. Нам нужно знать точно: кто, когда и где передаст ему ваши формулы. Не беспокойтесь об их судьбе: в Америку они не поедут, даже в копиях. После разговора с ним сообщите все мне. Только по телефону… По его уходе Гриднев вызвал Саблина и Корецкого. Исповедь Каринцева была изложена кратко и вразумительно. Корецкий вскочил: — Если его все-таки выследили, жизнь парня может оказаться в опасности. Ермоленко ехал за ним и тоже ничего не заметил. Но и он мог ошибиться. Помчусь сейчас за Максимом, наверное, только что взял такси на ближайшей стоянке. Нагоню его: маршрут известен. Институт и квартира в одном районе. И ушел. Саблин молча ждал распоряжений Гриднева. — Вот что, Юра, — сказал тот, протягивая Саблину записку с адресом. — С первым же рейсом летите в Ашхабад и оттуда в Байрам-Али. На записке адрес детского дома, где вырос и воспитывался Максим Каринцев. Узнайте у директора — это очень почтенная, умная и добрая женщина, — из какого родильного дома привезли сюда безымянного младенца, получившего здесь имя, отчество и фамилию. Объясните ей, что появился самозваный отец Каринцева, и друзья Максима поручили вам обличить мошенника, так как мать Максима умерла при родах без сознания, не назвав ни своего собственного имени, ни фамилии отца. В роддоме поспрошайте врачей и медсестер, работавших там в сороковые годы и вдруг да помнящих о безымянной женщине, умершей при родах. Случай нечастый и, вероятно, запомнившийся. Побывайте также в городском управлении милиции и узнайте у старожилов, не работал ли в городе до войны аптекарь или фармацевт-немец, бесследно исчезнувший накануне войны, и не была ли его фамилия Мальберг. Все. Саблин ушел, и Гриднев задумался. Вспомнились поездка в Туркмению и все услышанное там. К сожалению, не все. Он мысленно упрекнул себя в том, что не узнал ничего о личной жизни матери Максима. Ведь жила-то она, наверное, в том же городе и ходила по тем же пескам мимо тех же дувалов. Где-то училась в детстве и школьных подруг имела. Не откликнулось это живое на ее смерть и ничего не узнали о ней, а могли бы узнать. Он не думал, что ЦРУ оказалось дальновиднее и настырнее в своих поисках. Перед ними был тот же белый, никем не помеченный лист бумаги. Но они нашли легенду, с которой можно было подойти к Максиму и которая чуть не сломила его. Правда, темных пятен в ней виделось много больше, чем истины, и высветлить их оказалось не столь уж затруднительно. То, что в Туркмении до войны не было гитлеровского разведчика, Гриднев знал от своего начальника, служившего в то время в тамошних органах безопасности. Тот много рассказывал ему о борьбе с антисоветскими элементами со времен басмаческих белобандитских налетов. Были тут и наемники Интеллидженс-сервис, и шахские агенты, пробиравшиеся через иранскую границу, и байские ошметки, и торговцы анашой, и просто контрабандисты. Но абверовская разведка до этих далеких песков не добралась, хотя Гитлер уже задумывался о создании вассального Туркестана на месте нынешних советских республик. О том, что Мальберг был выдумкой, говорит и его отсутствие в списках немецких советников власовской РОА, хорошо известных советской разведке. Нет, Гриднев взвесил все «за» и «против» хэмметовской легенды и пришел к убеждению, что шпрингеровская провокация обречена на провал. Он встал, подошел к окну и взглянул на площадь. Она жила, как всегда в такие летние вечера, когда закат еще не окрасил неба. Где-то радуется Хэммет, подсчитывая проценты с миллионов, которые достанутся Каринцеву. Увы, не достанутся. И сожалеть о том будет не Каринцев, а Хэммет.Глава шестнадцатая
В половине третьего в лаборатории Каринцева раздался звонок. Максим снял трубку. — Алло, Макс, — услышал он знакомый голос. — В три вас жду. Машина будет стоять в Малом Каретном. Там довольно пустынно для шумной Москвы. Въезд с Каретного ряда. Найдете. Машину Каринцев нашел легко. Она стояла у пустого тротуара между невысокими и невзрачными домами, рожденными, должно быть, еще в девятнадцатом веке, стояла как элегантный сверхмодный гость из конца следующего столетия. Дверцу машины не пришлось открывать, Хэммет выскочил сам. — Счастлив вас видеть, Макс. Полон благодарности римским Паркам. — Пакс вобискум, — насмешливо сказал Каринцев. — Почему по-латыни? По ассоциации с богами судьбы? — Нет, просто не хочется марать родной язык в разговоре с вами. Не понимаете по-латыни — перейдем на английский. — Садитесь в машину, — уже сухо произнес Хэммет, пропуская Максима. — Тротуар — не место для деловой беседы. Автомашина выехала на Каретный ряд и двинулась к центру. — Судя по тому, что вы пришли, да еще обозленный, — сказал Хэммет, — значит, полный порядок! — Вынужден согласиться на сотрудничество с вами, — сквозь зубы процедил Каринцев, — но с одним условием… — Каким? — Никаких письменных обязательств. Просто передаю вам формулы каждого опыта. — Не выйдет. Есть общепринятый в специальных службах порядок. — Тогда запускайте свою шпрингеровскую пакость. Кто кому нужен: я вам или вы мне? — Это ваше последнее слово? Подумайте. — Незачем. Остановите машину, и я вылезу. Без прощального ритуала. — Не будем ссориться, — пыхнул Хэммет сигаретой. — Я посоветуюсь. У меня тоже есть свое начальство. И очень строгое. А пока поработаем на ваших условиях. Когда у вас следующий опыт? — В понедельник. У вас еще два дня страданий, — засмеялся Максим. — Над чем смеетесь? — Над вами. У меня есть еще два дня для раздумий, а у вас нет. Поэтому ждите и не плюйтесь. У вас скверная привычка брызгать слюной, когда произносите ваше «ти-эйч». А в английском языке этих «ти-эйч» навалом. — Вы думаете, ваш английский лучше? Максим ответил насмешливым, пренебрежительным взглядом: — Я стажировался в Кембридже и научился беречь слюну. Впрочем, давайте о деле. Какой будет связь? — Связь проста и бесхитростна. Вы будете передавать формулы Зое, — перешел уже на русский Хэммет. Максим усмехнулся со злостью: — Втянули девчонку в грязное дело? — О Зое не беспокойтесь, — сказал Хэммет. — Личных встреч у вас с ней не будет. Марине скажете, что поссорились, Впрочем, Марине она сама объяснит. Формулы будете передавать ей в закрытом конверте в беговой кассе. Кстати, учтите, что я тоже не буду встречаться с Зоей. Она будет передавать конверты третьему лицу так, что для нее риск еще уменьшится. Максим заинтересовался: для чекистов новое лицо — новые загадки. Почему Хэммет усложняет, когда все так неприхотливо: Максим — Зоя — Хэммет. — Зачем третье лицо, когда двух достаточно? Зою легко можно вывести из игры. — Оставьте советы Марине. С третьим лицом вам встречаться нельзя… — Ладно, остановите машину, — сказал Максим после длительного раздумья, — все уже ясно. И мне пора. — Я довезу вас, — с неискренней любезностью предложил Хэммет, но Каринцев только махнул рукой. — Личное знакомство отменяется. Мы — чужие. Ты меня забудь, как поется в песне. Приветы — через Зою, договорились? — И вышел из машины.* * *
В Ашхабад Саблин прилетел, как и Гриднев, в конце рабочего дня, когда солнце еще палило, но без ярости. Полковника Алтыева он нашел в его кабинете. Тот пил зеленый чай из цветастой пиалы. Саблину он показался постарше, чем Гриднев, и не столь подтянутым и щеголеватым. — Садись, джигит, зеленого чайку попьем, от всех болезней лечит и в жару полезен. И рот пока на замке держи: представился, и хватит. Твой полковник вчера звонил, и я уже все про все знаю. Никаких абверовских разведчиков у нас в Туркмении ни до войны, ни во время войны не было: все архивы облазил, ничего подходящего не нашел. И аптекаря Мальберга тоже не было, ни в Ашхабаде, ни в Байрам-Али. У нас, правда, Фальберг был, но не аптекарь, а оператор на киностудии. И родился он во время войны, в Израиль уехал в прошлом году. Отец его жив и здоров и у меня недавно был, очень печалился: пишет, мол, сын и жалуется, плохо ему и нельзя ли назад. Только «назад», как известно, не всегда получается. Алтыев допил чай и спросил: — Хорош чаек, а? И вкус, как у христова вина, из воды превращенного. Погоди. Не спеши. Еще есть время послушать старшего. Справлялись мои лейтенанты и в доме ребенка в Байрам-Али. Был такой случай, говорят, когда из роддома туда ребенка без фамилии принесли. Неизвестная женщина, должно быть из аула пришедшая, умерла от родов, не дав ребенку ни имени, ни отчества. Вот туда и слетай: есть вечерний рейс. Времени много, Ашхабад посмотри. В Байрам-Али Саблин сразу же поехал в дом ребенка, куда был привезен младенец еще без имени, но с будущим доктора физических наук Максима Каринцева. И старожила нашел, нынешнюю старшую сестру Русакову, вспомнившую этот эпизод. — Случилось это весной сорок второго года, — рассказала она, — на моем дежурстве, когда к нам из родильного дома младенчика принесли. Я еще совсем девчонкой была, но с младенчиками уже обращаться умела. Милиционер сказал, что мать его при родах скончалась и ее никто не знает и за младенчиком никто не пришел. Составили, говорит, акт о передаче вам, распишитесь в приеме и завтра в загсе зарегистрируйте. А имя, отчество и фамилию вам самим придумать придется, так как мать без сознания померла и об отце ничего не сказала. Ну, стала я фамилию придумывать. Вижу, русский мальчик, не туркмен, значит, фамилию русскую надо. Подумала: Найденов от найденыша, Приемов от приемыша. Вижу, нехорошо ему всю жизнь с такой фамилией жить. А на дежурстве я книжку читала о военном летчике-герое, и звали его в книжке этой Максим Каринцев. Вот и решила: книжный — придуман, а живой пусть с такой же фамилией будет расти. А отчество по-ленински задумала: Ильич. Лучше не назовешь. Назавтра все со мной согласились, даже поблагодарили за сообразительность, да так и в загсе записали: Максим Ильич Каринцев. А на шестом году его в детдом отвезли: шибко умен стал, читать, и писать, и считать выучился не хуже взрослого. — А вы про мать его ничего не знаете? — спросил Саблин. — Нет. Только думаю, что не из аула она, как в роддоме решили, а приезжая, русская, и, должно быть, одинокая, из эвакуированных. Я сама из эвакуированных, но такой что-то не помню. — Еще один вопрос у меня, — сказал Саблин. — Не помните ли вы провизора из аптеки по фамилии Мальберг? Может быть, в медпункте или тоже из эвакуированных? — Не слыхала о таком, ни девчонкой, ни в наше время. Саблин простился, поблагодарил за помощь и, обойдя глиняный высокий дувал, побрел по центральной улице в городскую милицию. Начальника управления майора Мухтарова он нашел в крохотном садике за дощатым столом, на котором едва помещались две половинки огромнейшего розового арбуза. Невысокое широколистное дерево, склонившееся над ним, едва давало тень этому запыленному уличному оазису. — Согласен, — в ответ на кивок Саблина сказал майор, — пыли много, машин много, тени мало, а сахарный арбуз один. Садись, капитан, приобщайся к арбузу, пока он не истек кровью в моем животе. Не благодари. Саблин, доев кусок арбуза, спросил: — С вами полковник Алтыев из Ашхабада не говорил? — О провизоре Мальберге? Очень много и очень долго. Только напрасно. Не было в Байрам-Али аптекаря Мальберга. Я все справки навел, всех старожилов созвал, и все одинаково сказали: нет! Всех эвакуированных по спискам тоже проверил: нет! Доедай арбуз и на самолет успеешь, в Ашхабад слетаешь, поклон Алтыеву передашь.Глава семнадцатая
В час ночи на квартире у Паршина зазвенел телефон. Паршин взял трубку и услышал знакомый голос: — После двух часов ночи у вас в доме все гасят свет. Меня это устраивает. Буду у вас в два тридцать. Ровно в два тридцать еле слышно прожурчал звонок в передней. Хэммет вошел, аккуратно закрыв за собой дверь, огляделся. Собственно, разглядывать было нечего: пустая прихожая, вешалка о трех крючках на стене, счетчик электрический, лампочка без абажура. То ли бедность, то ли аскетизм. — Здравствуйте, Паршин. Мне вам представляться незачем, — сказал Хэммет. — Иностранный дипломат, и с вас хватит. Паршин, мягко ступая тапочками, принес коньяк и кофе. Помолчали, потом Хэммет продолжил: — Вам тоже представляться не надо, товарищ Паршин. Все ваши превращения нам известны. Одесский полицай и гестаповский осведомитель Евсей Лобуда, заброшенный в конце войны в СССР, окончивший абверовскую школу агент Юркий, самодеятельный бандит-налетчик Чернушин, и вновь агент иностранной разведки Серафим Петрович Паршин. Биография сочная и надежная. Что скажете? — Я свою биографию знаю. К делу. — Ваша деловитость меня радует. Итак, какие настроения в группе Каринцева? Сколько опытов проведено и какие успехи? — Три опыта. Настроения в группе, я бы сказал, развеселые. Боголепов подписал еще ассигнование лаборатории на сумму в пятьдесят тысяч рублей. — На какие материалы? — Неизвестно. Меня Каринцев запросто выгнал из лаборатории. С этакой насмешливой улыбочкой: не суйте нос не в свое дело, отчитываться будем потом. У нас, мол, своя бухгалтерия. Видимо, успехи есть. — Пытались расспрашивать? — Пытался. Молчат, сукины дети, как коммунисты на допросах. Им бы гвоздики под ногти, проговорились бы! Хэммет презрительно усмехнулся: — Это вы без гвоздиков на Лубянке проговоритесь. Поэтому слушайте Каринцева. Вы не финансовый хозяин института. Значит, поищем для вас другую роль. Скажем, связного. Тут главное — избежать слежки. Выследят — провалитесь. И чем дольше вы прослужите бухгалтером, тем дальше вы будете от лубянских ищеек. Никакой самодеятельности. Тихий, незаметный, нелюбопытный, неразговорчивый — вот ваш облик, его и носите. Только никогда не забывайте оглянуться вовремя и поймать на лету нужное слово. Вот так и будем работать. Понятно? Паршин слушал, а думал о своем. Он считал, и не без оснований, что за ним следят, но не знал почему, на чем он «сгорел», и боялся сказать об этом иностранному дипломату — чужому человеку, холодному. Он надеялся на свой опыт преследуемого хищника и был убежден, что сумеет запутать след, когда приблизится погоня. — Вы любите лошадей? — вдруг спросил Хэммет. — Лошадей? — недоуменно переспросил Паршин. — Вообще-то я к ним равнодушен. — Придется полюбить. Будете ездить на бега и делать ставки, если понравится. Когда-то, вероятно, вы были везучим картежником. Вот и осваивайте новый опыт. Тем более, как я знаю, вы туда не впервые пойдете, друг Колоскова. Так? Да вы не бледнейте, не бледнейте. Не найдут, уверен: вы — мужчина во всем везучий. А задание таково. Через три дня после очередного опыта Каринцева подойдете на бегах к кассе Зои Фрязиной — она в членской работает — и возьмете от нее запечатанный конверт. Не вздумайте вскрывать его — это письмо не для вас, а для меня. И ждите моего звонка об условиях автомобильной прогулки. Тогда и передадите. Как в первый раз, помните?* * *
Гриднев и Корецкий уже второй час обсуждали поездку Саблина. А тот слушал, поддакивая и комментируя лишь тогда, когда его комментарий требовался. Корецкий с его привычкой вмешиваться в любой разговор, его интересующий, даже завидовал этой выдержке Саблина, столь необходимой для следователя. А ведь они все трое были и следователями, и экспертами, и просто сыщиками, несмотря на разницу званий, возраста и характеров. Но только Саблин, младший из них, умел слушать, как настройщик роялей. — Ну а теперь повторим все, что мы имеем. Твое слово, Корецкий. А мы с Саблиным будем вмешиваться. — Шантаж Хэммета провокационен, — начал Корецкий. — Абверовского разведчика Мальберга ни до войны, ни в годы войны в Туркмении не было. Не было и провизора Мальберга в аптеках Ашхабада и Байрам-Али. Не существует в природе и школьной подруги матери Максима, так как не установлена ни личность матери, ни школа, где она училась. Провокация Хэммета разоблачена и документально: двойным следствием полковника Алтыева из госбезопасности и начальника городской милиции в Байрам-Али майора Карли Мухтарова. Гриднев задумался: все это он уже знал. Корецкий только подытожил эпопею Каринцева. Максим уже полностью очищен от грязи, если ЦРУ выльет ее на страницы какого-нибудь шпрингеровского журнальчика. В сущности, дело, начатое контрразведкой, подходит к концу. Завтра в беговой день Зоя Фрязина получит конверт с формулами от Максима Каринцева. В воскресенье следующий беговой день, когда Паршин получит этот конверт от Зои. Пока это — только предположение. Гриднев знает о ночном визите Хэммета к Паршину от лейтенанта Ермоленко, но о сути разговора только догадывается. Возможна и прямая связь Хэммета через Зою. Но Максим говорил о третьем лице. Мы уже знаем о нем и понимаем, для чего понадобился Хэммету этот ночной визит. Труднее угадать день и час передачи. Максим тотчас же сообщит о своей встрече с Зоей. Значит, необходимо круглосуточное наблюдение за Фрязиной, Паршиным и Хэмметом. Может быть, операция будет закончена в день и час совместной автомобильной встречи, как это уже проводилось цеэрушником и бухгалтером? И нелегко будет их взять после того, как конверт попадет в карман Хэммета. Собственно, взять — дело техники. Как, впрочем, и уличить. Четкое наблюдение, съемка автовстречи длиннофокусной оптикой и — арест с поличным. Надо решить: кто, где, когда, с кем. Решили через два часа — план был выработан, и роли размечены.* * *
Максим подошел к кассе Зои с аккуратным конвертом в руке. Он уже знал, что Зоя куплена Хэмметом, но сдержать невольного чувства жалости все же не мог. — Передайте дальше, Зоенька, — сказал он, протягивая конверт. Мелькнувший страх в глазах Зои сменило недоумение. Видимо, не сказал ей Дин, что главной скрипкой в хэмметовском концерте будет чистенький в ее глазах Максим Каринцев. Пусть, мол, полюбуется, как покупаются в Советском Союзе таланты. Что ж, подумал Максим, придется сейчас играть эту роль. — Кому? — спросила Зоя. — Вы отлично знаете кому, — ответил он с наигранной наглостью. — Значит, и вас купили? — уже не испуг — насмешка звучала в ее голосе. — Кто же откажется от десяти миллионов, Зоенька? У нас в Советском Союзе таких денег не платят. Невольная жалость в сердце Максима, с какой он подходил к кассе, уже исчезла. Исчезла и насмешечка Зои. — И столько миллионов за одно открытие? — шепот ее был неконспиративно громок. — А что вы думаете? — продолжал играть роль подпольного миллионера Максим. — За следующее возьмем еще столько же. — И не боитесь? — А вы? — Выхода не было, — она оглянулась кругом, не подслушивают ли их у кассы, и придвинулась на локтях к окошечку. — Дин уже давал мне кое-какие поручения. Я сдуру выполняла их, и теперь он говорит, что за одно это мне меньше трех лет не дадут. Так не все ли равно, три или пять. Я ведь только ваши конвертики передаю, сидя в кассе. — На языке контрразведки это называется связью, — сказал Максим и тут же подумал, что даже из жалости пугать Зою не следует. Одно неосторожное слово, и он может сорвать операцию. И добавил: — А связь у Хэммета отлично налажена. Сойдет благополучно, уверен.* * *
Встреча Каринцева с Фрязиной была зафиксирована наблюдением. А еще через полчаса Максим сообщил о ней Гридневу. — Передал конверт, Александр Романович. Взяла без трепета. Только удивилась, что передатчик — я. Значит, Хэммет не сообщил ей об этом. — У них своя конспирация, Максим Ильич. Разговаривали? — Немножко. Все-таки жаль девчонку: ни за что пропадает. — Не будьте сентиментальным, Максим Ильич. Знала, на что шла. — Может, принудили? — Следствие выяснит. Себя не выдали? — Уверен. — Держите связь, если произойдет что-то непредвиденное. Ничего непредвиденного произойти не могло. Круглосуточное наблюдение за участниками операции «Формулы» — так ее обозначили — продолжалось. Наблюдатели точно и скрупулезно «вели» своих подопечных. — …Вышел Паршин. Проходит мимо линии стоящих у тротуара машин. Разглядывает внимательно почему-то черные «Волги». На мою белую внимания не обратил. Видимо, подозревает слежку. Буду держаться подальше. Купил папирос. Возвращается в институт… — …Говорит Хомутов. Хэммет идет пешком из американского посольства вниз по улице Чайковского. Следую за ним… Сворачивает на проспект Калинина. Никаких встреч. Позвоню позже… Еще звонок. — …Звонит Ермоленко. Фрязина только что села на свой автобус, на котором обычно возвращается домой. Поеду за ним до ее дома… И еще звонок. — …Опять Хомутов. Хэммет задержался в гастрономе. Проследил за ним в магазине. Ни с кем не беседовал. В отделе вин купил вермут и бутылку сибирской. У выхода поцеловал руку киноактрисе Верестовой. О чем-то пошептались. Вышел на улицу, взял такси. Следую за ним… Круглосуточное наблюдение работало, как часы. Ни один шаг наблюдаемых не оставался без внимания.Глава восемнадцатая
Гриднев в воскресенье сменил на дежурстве Корецкого. Тот не пошел домой, остался поспать часок на диване: сегодня, видимо, предстояли решающие события. Они начались со звонка Саблина. — Сейчас на ипподроме засек передачу конверта Паршину. Встреча была минутной. Он что-то сказал Фрязиной, она молча передала конверт. Хэммет расчетлив, подумал Гриднев, заставил два дня девчонку ходить на работу с конвертом только для того, чтобы Паршину не встретиться с Каринцевым. Другое дело, что они явно, пользуясь пословицей, чешут левой ногой правое ухо. Очень усложнена цепочка: Максим — Зоя — Паршин — Хэммет. Можно было бы Паршина «сократить». Зоя — полуофициальная дама дипломата. Хотя не исключено, что Хэммет перестанет с ней встречаться — из конспирации. Пока так и есть: встреч не было. И все же это — ошибка «умного» Хэммета. С Зоей ему встретиться куда безобиднее. Хотя, впрочем, она-то не ведает, кто такой Паршин. Для нее он — старичок, знающий пароль… Да ладно, бог с ним, с Хэмметом, прав он или не прав. Все равно — суть едина… Саблин продолжал: — На ипподроме Хэммет не задержался. Сел в машину и поехал по Беговой к Ленинградскому проспекту… Буду звонить по ходу следования. Гриднев снял трубку внутреннего телефона: — Дежурный Евгеньев свободен? Дайте его немедленно. Евгеньев? Возьмите капитана Ратомского и поезжайте к Ленинградскому проспекту. Свяжитесь с Саблиным. Он где-то в этом районе. Оружие обязательно. Пять, десять, пятнадцать минут. Голос Евгеньева: — Он едет к дому Паршина. Присоединяемся, как приказано. Голос Хомутова: — Хэммет почему-то едет на Беговую. Не понимаю зачем. Ждите звонка с ипподрома. Гриднев: — Следите, но не упускайте. Он едет не за конвертом. Корецкий проснулся, послушал Гриднев а и спросил, потягиваясь: — Какого черта он поехал на бега, раз конверт уже у Паршина? — Откуда тебе известно, где конверт? Ты же спал. — Я и во сне все слышу. Неужто к Зоечке? А я-то думал, что у них все завязано, раз он Паршина в дело ввел… Похоже, последует звонок с ипподрома Паршину. Тот, наверное, уже дома. Хорошо бы узнать, о чем этот звонок. — Вот ты и узнай, как только позвонит Хомутов, — сказал Гриднев. — А пока он не позвонил, выясни номер автомата на ипподроме. — Там их с десяток. — Узнай все. Но, по-моему, он будет звонить у входа. Там сейчас народу меньше.* * *
Во время заезда у касс всегда пусто. И Хэммет выбрал именно этот заезд, чтобы подойти к Зое. — Передала конверт? — спросил он. — Час назад. Я очень боюсь, Дин. — Страх — не эмоция для разведчика. Но ты еще приготовишка, и тебе можно простить. Но дальше больше — буду наказывать. Мне тоже будет несладко, если ты влипнешь. — Значит, все-таки могу влипнуть? — Если только будет шумно у кассы. Выбирай заезд, когда все на трибунах. Не ошибись. — А если Максим влипнет? — Макс не влипнет. Он вне подозрений. За ним могут следить только для прикрытия. А на ипподроме он — завсегдатай. Не ошибется. Да и за тобой нет слежки — я проверил. — А третий? Кто он? — Не любопытствуй зря. Меньше знаешь — меньше рискуешь. Он тоже станет завсегдатаем. — Когда увидимся? — Позвоню. Терпи, милая, надо выждать. А сейчас мне нужно позвонить. Где нет очереди к автомату? — Звони у входа на ипподром. Там безлюдье. Хэммет позвонил Паршину: — Конверт у вас, знаю. Передадите сегодня в восемь на Минском шоссе. Примерно там же, где уже встречались на автомобильной прогулке. Я буду один на «Волге» с московским номером 43–27. Запомните. Примерно полвосьмого проеду у арки. Следуйте за мной, пока я не заторможу и не окажусь рядом. Бросите конверт в открытое окно.* * *
Этот разговор был засечен капитаном Хомутовым, и содержание его стало известно Корецкому. — Встреча назначена на восемь вечера на Минском шоссе, — доложил он Гридневу. — Способ тебе уже знаком, Александр Романович. Но учти, я хочу быть с тобой. Слишком много народу, подумал Гриднев. Саблин, Евгеньев и Ратомский ожидают Паршина на двух машинах. Они ведут киносъемку. Мы с Корецким плюс Хомутов преследуем Хэммета. Хомутов тоже снимает встречу. Четыре машины против двух запломбируют все шоссе. А ведь там еще будут машины, такси, грузовики… Черт-те знает, что предпочтет Хэммет — тесноту или пустоту? После передачи конверта Паршин уйдет вперед или свернет на первом же повороте. Так или иначе, две машины Саблина пойдут за ним. Здесь все ясно. А вот нам придется потруднее. Главное, чтобы дипломат не успел уничтожить конверт… — Ладно, — сказал он, — поедешь шофером. Будем брать Хэммета после передачи конверта. — Авария? — спросил Корецкий. — Другого выхода не вижу… После этого Гриднев вызвал Саблина по радио: — Дежурите? — Втроем. — Надеюсь, не под окнами Паршина. — Мою «Волгу» из окна не увидишь, а Евгеньев с Ратомским вообще на другой стороне. Паршина они только в бинокль видят. — Не рискуйте. Дежурить вам придется до семи, когда, вероятно, он выйдет. Может быть, даже раньше. Не упустите. С питанием порядок? — Полный.* * *
Паршин сидел за стаканом молока и глядел на него с отвращением. Сейчас ему был нужен коньяк. Но предстояла еще автопрогулка, в которой он не имел права на встречу с ГАИ. Чистота езды и мастерство водителя — вот что от него требовалось в этой поездке, и… опыт канатоходца, который рискует ходить по канату без лонжи. Допив молоко — есть ему ничего не хотелось, — подошел к окну посмотреть, не следят ли. Он ничего не рассказал о слежке Хэммету, уже не пугавшей его. Пугало другое: он знал, как расправляются его хозяева со старыми, рискующими провалом разведчиками. Другие хозяева, не те, что были тогда, в войну, а все ж такие же, ничем не отличные от тех. Устранят и — пожалте бриться… Как устраняют теперь, он, правда, не знал. Но знал другое: достаточно анонимной весточки о нем в любое отделение милиции и — конец! Не нужно даже гадать о приговоре: полицай, налетчик, шпион — какое уж тут гадание. Открыл окно: кроме его собственной — никакой другой машины. Догорающий день пугал чистотой, прозрачностью. Надежд на вечерний туман нет. Электрический свет на шоссе засветит все: и стыковку машин, и передачу конверта. Паршин вдруг почувствовал стеснение в груди и еле ощутимую немоту левой руки. Взял в рот таблетку валидола, с которым не расставался. А что впереди, он знал: болезнь века — инфаркт. Подумал уже не о предстоящей операции, а об обреченно прожитой половине жизни. И может, лучше неожиданно просто грохнуться на пол, чем тебя грохнут из автомата свои или чужие… Поглядел на часы: без четверти шесть. Еще час — и погоня за «Волгой» номер 43–27…* * *
Саблин поймал по радио машину Гриднева: — Александр Романович, вы? Следуем за Паршиным. Сейчас у СЭВа. Вы где? Уже на Дорогомиловской. Догоним… Неожиданно — откуда бы? — пошел мелкий дождик. Мостовая засверкала отражениями электрических фонарей. — Скользко ему будет пристраиваться к Паршину, — заметил Корецкий. — Паршин проехал. Обогнал нас, — сказал Гриднев, оставив без внимания замечание Корецкого. — Узнали машину? — Я номер узнал. А паршинский хвост опаздывает. — Слишком много машин. Как бы нам не помешали. — Разберемся. Проехали арку, венчающую конец Кутузовского проспекта. Говорят, она была когда-то в конце улицы Горького у Белорусского вокзала. Одессит Гриднев не помнил ее: бил врага в одесском подполье, воевал в действующей армии и попал в Москву, когда ее остатки были свалены во дворе архитектурного музея во дворе Донского монастыря. Тут, на Кутузовском, она, конечно, уместнее, как торжественный символ Отечественной войны двенадцатого года. Но сейчас он промчался мимо, даже ее не заметив. Дождь лил сильнее, и мостовая стала зеркалом, в котором смешались огни «Волг», «Жигулей» и «Москвичей». Как в кино, когда показывают погоню в дождь. Паршин шел впереди, отставая от Хэммета на несколько метров. Их отделяли от Гриднева две или три машины. Где-то рядом должен быть Хомутов, подумал Гриднев. Еще три километра. Машин стало поменьше, и в пляске огней на мокром шоссе им удалось подобраться к Паршину. Теперь все шли гуськом: Хэммет, Паршин, Корецкий. — Хомутов, ты где? — Гриднев включил радиотелефон. — Здесь я, Александр Романович, иду за ними. — Не пропусти передачу конверта. — Камера — на всех парах. Не пропущу. — Когда Паршин начнет приравниваться к Хэммету, — сказал Гриднев Корецкому, — обгоняй их, но особо не отрывайся. Будем ловить момент. Снова включил радиотелефон: — Саблин, как у вас? — Порядок, — ответил немногословный Саблин. — Паршин за вами. — Знаю, — сказал Саблин и отключился. Гриднев внимательно следил за паршинской машиной: вот-вот увеличит скорость. Увеличил. Отставая на полкорпуса, уже идет рядом. — Корецкий, — предупредительно напомнил Гриднев. — Вижу. Корецкий нажал на акселератор, и «Волга» рванула вперед, перестроилась в левый ряд, пошла впереди Хэммета, И Гриднев не видел, как «жигуленок» Паршина поравнялся о хэмметовской «Волгой», пошел справа от нее, потом Паршин протянул руку и бросил конверт в открытое окно «Волги». Все это заняло считанные секунды. Гриднев потом подсчитал их, — ровно шесть! — когда смотрел эпизод, снятый сразу с двух камер — Хомутовым и Саблиным. Хорошо снятый, несмотря на скупое — дождь! — освещение…* * *
Паршина взяли просто. Он заметил погоню и понял, что ему не уйти. Щемящая боль в груди затуманила сознание, и он увидел впереди не асфальт дороги, а коридор одесского гестапо с идущим навстречу гауптштурмфюрером Гетцке. Встряхнул головой, будто разгонял видение, замигал указателем правого поворота, перестроился, пошел к тротуару, встал. — Вы арестованы, — сказал Саблин, открывая дверцу водителя. Паршин не отозвался. Он сидел, закрыв глаза и запрокинув голову на сиденье. Руки безжизненно висели по бокам. — Обыщи его, нет ли оружия, — произнес подошедший сзади Ратомский. — Мне что-то не нравится этот обморок. Саблин нашел зажигалку и фляжку с коньяком. Оружия не было. Паршин открыл глаза. — Нитроглицерин, — попросил он одними губами, — в кармане. — Сделано, — ответил Саблин, сунув ему в рот таблетку из тюбика, найденного в лицевом кармане пиджака. Минуту спустя боль отпустила сердце. — Я давно заметил слежку, — проговорил Паршин, уже оживая. — А свернув, понял, что это конец. — Почему же вы подарили нам Хэммета? — улыбнулся Ратомский. — Ведь вы могли сказать ему, что за вами следят. — Надоело быть на побегушках у барина. Мне опять в тюрягу, а ему житье царское? — Почему опять? — Хватит, поехали, — оборвал его Саблин: ему не понравился этот псевдодопрос в машине. — Евгеньев поведет свою машину. Ты за рулем, а я с Паршиным. Ему еще надо отлежаться от сердечного приступа.* * *
С Хэмметом тоже не пришлось повозиться. Говоря об аварии, Гриднев имел в виду стандартную ситуацию. Корецкий резко тормозит, машина Хэммета врезается им в багажник, и дипломат конечно же не успевает уничтожить пакет. Как в кино! Однако обошлось без кинематографических параллелей. Обе машины остановил у кинотеатра «Минск» красный сигнал светофора — обычная ситуация. Корецкий мгновенно выскочил из машины и бросился назад, рванул дверь: — Руки на руль!.. А справа уже сидел запыхавшийся Хомутов. Их машина стояла позади. — Успокойтесь, господин Хэммет. Сопротивление бесполезно. — У вас нет права меня задерживать, — со злостью сказал Хэммет. — Машина дипломатическая. — У вас не дипломатическая машина, господин Хэммет, — оборвал его Корецкий. — Вы забыли, что едете на «Волге» под городским номером 43–27. — Вы об этом знаете? — искренне удивился Хэммет. — Скорее — вижу. Будьте добры, подвиньтесь, пожалуйста. Хэммет пересел назад, рядом с ним устроился Хомутов. Корецкий сел за руль, и тут только красный свет светофора сменился зеленым. Инспектора ГАИ никто ни о чем не предупреждал, об операции он и не ведал, значит, она заняла не более тридцати секунд. Ловко! Корецкий тронул машину и пошел на разворот. Следом за гридневской «Волгой». Хэммет молчал. В конце концов, он имел право на раздумье. Да никто и не торопил его. Откуда чекисты узнали время и место его встречи с агентом? Ведь он говорил из случайно выбранного автомата. Значит, за ним следили. Да, чекисты работать умеют. — А задерживать меня вы не можете. Я подчиняюсь международному праву. Я дипломат, — сказал он. — Вы были им, пока не занялись разведывательной деятельностью, — сухо сказал Корецкий. — Теперь, к сожалению, вы только персона нон грата, если согласится на это наше Министерство иностранных дел. Сейчас мы отвезем вас к нам, убедим в том, что деятельность ваша не соответствует статуту международного права, и вызовем представителей посольства и МИДа. Хэммет замолчал снова и молчал всю дорогу до площади Дзержинского.Глава девятнадцатая
В кабинете Гриднева Хэммет решил, что может вести себя развязнее. Он в точности знал, что ему угрожает. Так почему бы и не поговорить умному человеку с умными людьми. — Я вас узнал, — сказал он Гридневу. — Помните, в Доме литераторов? — Помню, — кивнул Гриднев. — Хорошо поговорили. — Продолжим? — Нет никакого желания. Чем это я нарушил международное право? — Хотя бы тем, что без разрешения вашего посольства вмешались в наши внутренние дела. — Как? — сыграл удивление Хэммет. — Вот в этом конверте находятся переданные вашим агентом формулы секретного опыта лаборатории доктора физических наук Каринцева в Институте новых физических проблем. «Как они узнали, что Паршин агент? — подумал Хэммет. — Он был засекречен, как невидимка. Может быть, поговорить прежде о нем, а о Максе позже?» — Почему вы думаете, что он агент? — спросил он. — А хотите очную ставку? — Когда, сейчас? — А когда бы вы думали? Хэммет вздохнул. Значит, Паршин уже в их руках. Но он же скажет все, что они хотят. Пусть. Он устроит ему маленькую пакость. — Нет, говорить нам не о чем. Вы знаете хотя бы частично его биографию? — Превращения одесского полицая: Лобуда — Чернушин — Паршин? И об этом знают! Но у него есть еще козырная карта — Максим Каринцев. — А вы знаете, кто нам юридически передал эти формулы? Откуда тянется цепочка к Лобуде — Паршину? — Знаем, — подвел итог Гриднев. — Он сделал это по нашей просьбе. На Хэммета было страшно смотреть. Глаза сузились, щеки ввалились… Но есть еще шпрингеровская штучка. Есть!.. — Нет, — понял его Гриднев. — История, которую вы придумали в ЦРУ для шантажа Максима Каринцева, — липа! На фальшивые ваши документы мы представим свои, действительные. Изобретенный вами абверовский разведчик Мальберг ударит по цеэрушнику Хэммету. — Подготовились? — с горьким сарказмом протянул Хэммет. Что ему оставалось? Только умолкнуть и ждать прибытия официальных лиц. Умный человек не мог показать своего ума. — Вероятно, и кинофильм сняли? — Хотите посмотреть? — спросил Гриднев. — Не хочу, — отрезал Хэммет.* * *
Через день в том же кабинете состоялась очная ставка. В один ряд были поставлены четыре стула. На них сидели четверо людей примерно одного роста и одной комплекции в похожих по цвету, не новых, но и не очень заношенных костюмах, но с разными лицами. Один — лысоватый блондин с примятым, как у боксера, носом; другой — с сединой на висках, шатен; третий, моложавее других, с пегими космами и трехдневной небритостью, но все безусые, как и Паршин, А тот сидел — с каменным лицом — третьим слева. — Пригласите Шитикова, — сказал Гриднев. Шитиков, облаченный в ватник, старые засаленные штаны и кирзовые сапоги, но вымытый, побритый, прежде всего взглянул на сидящих: ради кого его сюда привели? Он долго всматривался в каждого, раза два прошел мимо ряда и сказал: — Пусть встанут. Встали. Он снова обошел их, подолгу стоял у каждого, подошел опять к третьему слева и засмеялся: — Не опускай головы, кореш. Все под богом ходим. Разрисовки на тебе нет, знаю. Никогда не любил на животе голых баб расписывать. В Германии это не принято, тоже знаю. Но укрыться от меня не сумел. Постарел старый кореш, но мордочка та же, сытая. Что Лобуда, что Чернушин, не спрячешься. Готово, начальники, спекся. — Подождите в приемной, — сказал Гриднев и, когда Шитиков вышел, пригласил Закиряна. Старик Закирян выглядел даже моложе сидевших. Подстриженный, чисто выбритый, в хорошо сохранившемся старом костюме, только что доставленный самолетом из Еревана, прежде всего огляделся, поклонился Гридневу, сидевшему за столом, кивнул Корецкому и любезно улыбнулся знакомому ему Саблину. На людей, сидевших по стеночке на стульях, он смотрел долго. Ему труднее было узнать полицейского знакомца из оккупированной Одессы. Слишком много лет прошло. Против Паршина он остановился, задумался, помолчал. Паршин сидел, прикрыв глаза. В груди прорастала знакомая боль. И ему захотелось помочь старику Закиряну. — Что колеблешься, полицай? Я-то тебя сразу узнал. Закирян закрыл лицо рукой и вновь поклонился Гридневу. — Прошу извинить меня, товарищ полковник. Он оказался умнее. Память часто стирает прошлое. — Вы свободны, товарищ Закирян, — улыбнулся Гриднев. — Обратный билет в Армению получите у дежурного. — И, обернувшись к Корецкому, добавил: — А Шитикова отправьте на Петровку: пусть этапируют его в Ростов. А затем продолжим опознание. Всем сидящим надеть плащи и шляпы. Приготовившиеся к опознанию натянули сине-серые болоньи и шляпы из мятого псевдофетра. — Попросите профессора Светлицкого, — передал дежурному Гриднев. Вошел человек, чем-то действительно похожий на Паршина. Вошел и растерялся, увидев ожидающих опознания людей. — Встаньте, чтобы профессор лучше разглядел вас, — распорядился Гриднев. Профессор поглядел издали на вставших людей. Подошел ближе и, стесняясь своего недоумения, сказал Гридневу: — Внешне один из них так и выглядел, товарищ полковник. Трудно вспомнить какой… Попробую. Он прошел мимо всех, заглядывая каждому в лицо. Потом еще раз вернулся к Паршину. Тот отвел глаза. Стеснение в груди ложилось камнем, сопровождаемое тупой, сверлящей болью. Кого они ищут и где онвидел этого человека? Кажется, на автомобильной дороге в «Узкое». Значит, ищут убийцу Колоскова. А убил его он, Паршин… — Должно быть, все-таки этот. Я уже говорил тогда вашему товарищу, что он чем-то похож на меня. Видите эти скулы и подбородок. Пожалуй, это вернее всего он. Паршин вдруг осел, полуоткрыл рот, испустив глухой свистящий выдох, колени его согнулись, и тело как-то неуклюже рухнуло на пол. Профессор Светлицкий нагнулся, пощупал пульс, опустился над упавшим, рванул раскрытый ворот рубахи, приложил ухо к сердцу, послушал и встал. — Все, — сказал он. — Конец. — Умер? — вскрикнул Гриднев. Светлицкий пожал плечами, словно удивился, что кто-то сомневается в его диагнозе. — Можете мне верить. Я кардиолог. — Он еще в машине чувствовал себя плохо. Не говорил, но вел себя странно. То и дело расстегивал и застегивал ворот рубахи. Дергал почему-то левым плечом, — сказал Саблин. — Это вы виноваты, — произнес Светлицкий, обращаясь к Гридневу. — Заставили меня участвовать в спектакле и обрекли на смерть, может быть, невинного человека. Ведь мое опознание, вообще говоря, не было точным. — Было! — подтвердил Гриднев. — До вас его опознали еще двое. Ведь он убил не одного человека, а десятки советских людей. Бандит и убийца и в конце концов затаившийся агент вражеской разведки. Это он сам казнил себя. Двадцать лет жизни в глухом одиночестве, без друзей и семьи. Двадцать лет ожесточенного страха перед разоблачением. Двадцать лет ненависти без раскаяния и беспробудное пьянство по ночам. Добровольная казнь в страхе перед законом.Эпилог
С Фрязиной все обошлось без хлопот. Ее арестовали во время обеда в столовой ипподрома. Тихо подошли, пригласили следовать за собой и увезли. Она только просила разрешения позвонить Хэммету, но ей отказали. Выглядела она спокойно: видимо, предчувствовала конец. А Хэммет? Арестовать его не могли: он числился в штате посольства. Объявили персоной нон грата и выслали. Обвинение было столь серьезно, что он даже не искал защиты у посольства. Он знал, что ему поставят в вину в ЦРУ. Провал агента, халатное и неумелое руководство операцией, незадачливую организацию шантажа русского ученого, нерасчетливость и промахи в отношениях с советской контрразведкой. Улетал он на самолете Аэрофлота, совершающем рейсы по линии Москва — Вашингтон. Гридневу очень хотелось приехать в аэропорт, выйти на открытую галерею вокзала, посмотреть на Хэммета. Однако не поехал. Уж слишком это смахивало бы на стандартные концовки «шпионских» романов: седой полковник с удовлетворением наблюдает, как идет, понурившись, проигравший сражение враг… Гриднев не любил «шпионских» романов. Он просто набрал телефон справочной Аэрофлота, поинтересовался: не отменяется ли рейс. Нет, сказали, не отменяется, улетит по расписанию. Да и с чего бы ему отменяться: небо над Москвой чистое, безоблачное, солнце вовсю жарит. Гриднев подумал: славно, что погода удалась летная, видимость — миллион на миллион, как говорят авиаторы.
Сергей Александрович Абрамов Опознай живого
Опознай живого
Одесса
Я И ГАЛКА
Я выхожу из ванной двухместного номера приморской гостиницы и почему-то поглядываю на потолок. Он так высок, что цепочку люстры с молочно-матовыми фонариками следовало бы удлинить по меньшей мере на метр. Такие величественные готические палаты я видел до этого только в застенчивых парижских переулочках в патриархальных отелях для богатых негоциантов. Я надеваю у зеркала белую водолазку с красной каемкой у шеи и серый твидовый пиджак. — Стареющий ловелас с Больших бульваров, — критически замечает Галка. — Не язви. Принимай душ, и пойдем. — Душ меня не устраивает. Нужна ванна. Иди один. — Жаль. А может, без ванны? — Иди, иди. Я уже была в Одессе в пятьдесят первом и шестьдесят восьмом. Все то же, только пообтерлось и постарело. — А я не был здесь с сорок пятого, когда Седой вызвал меня в Москву. — Значит, начнется паломничество по святым местам? — Это как смотреть, Галочка. Для меня они действительно святые. — Знаю даже, с чего начнешь. Я молчу. — Конечно, с трехэтажного дома на углу Свердлова и Бебеля! — смеется Галка. — Так он не постарел — одряхлел. Черная дыра вместо подъезда. Двери почему-то сняты, а перила на лестнице еле держатся. Я и на дворе была. Он кажется совсем крохотным. Знаешь, как уменьшается пространство детства, когда взрослеешь? И старого каштана посреди уже нет, и дворовая наша Швамбрания вспоминается с жалостью. Лучше не ходи, кавалер Бален де Балю. Так меня окрестили в звонких ребяческих играх, по имени владелицы частной женской гимназии, в которой после революции обосновалась наша советская трудовая школа. Мне очень нравилось это роскошной звучности имя, особенно после того, как я прочел Ростана в переводе Щепкиной-Куперник. Кавалер Бален де Балю! «Дорогу, дорогу гасконцам, мы с солнцем в крови рождены!» — Для полковника это, пожалуй, чуть-чуть сентиментально, — иронически добавляет Галка, — особенно когда ему уже за пятьдесят. А тогда мне было двадцать два года… Мы собирались на чердаке над Галкиной комнатой, куда можно было проникнуть сквозь дыру в потолке из бокового чуланчика. Нас было пятеро, сгрудившихся вокруг старенького, починенного мною радиоприемника, хрипловатым шепотом передававшего согревающие сердце слова: «От Советского информбюро…» Пятеро выросших на одной улице, в одном дворе и в одной школе: я, недоучившийся юрист-первокурсник, работавший наборщиком в типографии «Одесской газеты», школьница Галка, дотянувшая до десятого класса и вместо вуза поступившая официанткой в немецкий ресторан на углу Преображенской и Греческой, Володя Свентицкий, перворазрядник по боксу в полусреднем весе, укрывшийся от румынской мобилизации в артели грузчиков на станции Одесса-Товарная, и его брат Гога, бывший пионер, ныне чистильщик сапог на Приморском бульваре. А чуть в стороне примостилась Вера, когда-то библиотекарь городской библиотеки имени Ивана Франко, превращенной в общежитие для гарнизонных солдат из охраны губернатора Алексяну, — книги сожгли, персонал разогнали, книжные стенды перешли под солдатские койки. Веру тогда стараниями Галки удалось устроить кастеляншей в соседний с рестораном отель «Пассаж» на той же Преображенской. Она распределяла и сдавала в прачечную постельное белье для гостиничных постояльцев — офицеров немецких резервных частей, задерживающихся в Одессе перед отправкой на фронт. — Единственная из нас, кому не удалось дожить до победы, — говорит Галка. За четверть века супружеской жизни мы уже привыкли к семейной телепатии, и я понимающе подхватываю: — Почему единственная? — Я имела в виду нашу инициативную пятерку. Все выжили, только жизнь разбросала. Галка уже не думает о ванне. Запахнув халатик, она тянется к лежащей рядом на тумбочке моей сигаретной пачке. Между прочим, она не курит. — Оставь, — говорю я. Не слушая меня, она берет сигарету, неумело мнет ее пальцами и долго глядит на кончики своих тапочек. — Самой большой загадкой для меня был ее провал. Я даже не прислушивалась к разговорам за столиками. Все думала: кто? Кто предал? Ведь она была связана только с Седым, информацию передавала, как говорится, из рук в руки. А провалилась явка не Седого, а дяди Васи. Я смотрю в зеркало на Галку. Смешинки в глазах ее погасли, да и сами глаза как будто ввалились. Или мне это показалось в тусклом зеркальном стекле? — А помнишь клятву, с которой мы начали тогда после первомайской сводки по радио? — вдруг спрашивает она. Не напрягая памяти, я отчеканиваю слово за словом: — Не щадя крови и жизни своей, за пытки, за издевательства и насилия над людьми клянусь мстить врагу жестоко, беспощадно и неустанно. Кровь за кровь! Смерть за смерть! — Да… все так… — А ты говоришь — паломничество, — возвращаю я Галку в семидесятые годы. Она не слышит. Она все еще там, в глубине времени, вскрытой световой скоростью мысли. — Наивные мы были. О чем думали? — медленно, без интонации говорит она, и слова ее оттого звучат, может быть, чуть книжно, но я знаю — они от сердца. — О романтике подвига, а не о его стратегии. О празднике подвига, а не о его буднях. Застрелить гитлеровца на улице или повесить предателя, взорвать вагон с боеприпасами или поджечь цистерну с нефтью, прижав к зажигалке бикфордов шнур. А вот о том, сколько мужества и терпения, сколько мучительных часов ожидания потребует эта вспышка зажигалки, не думали. Мы еще долго учились терпеть и ждать… Она права: долго. Почти год. Гога чистил запыленные солдатские сапоги, подслушивал разговоры их обладателей — солдат и ефрейторов, пригнанных в Одессу. Галка запоминала болтовню пьяных гестаповцев и психующих фронтовиков за ресторанными столиками. Дядя Вася, штуковавший и гладивший офицерские бриджи на портняжном катке, терпеливо допытывался у денщиков обо всем, что требовалось Седому. Володька Свентицкий сыпал песок в буксы товарных вагонов, я урывками по ночам откладывал из наборных касс шрифт в кулечки, которые под утро незаметно выносила из типографии уборщица тетя Франя. Добыча переправлялась портному в подвал, где при свете коптилки мы и набирали оперативные сводки Москвы, подслушанные по радио, и оттискивали их на обрывках типографской бумаги украденным в той же типографии валиком. Их наклеивали на заборы и стены, подбрасывали на рынке или вкладывали между листами липкой бумаги от мух, пачки которой продавали девчонки-школьницы Леся и Муля. «А вот цепкая, липкая бумага! Смерть мухам единым духом!» — выкрикивали они в рыночной толчее. И ни один купивший листы с начинкой не выдал девочек, а ведь только за одну-единственную обнаруженную в пачке листовку их могли бы пристрелить тут же, на рынке. Одного застреленного мальчонку я сам видел на Привозе, не доходя до вокзала; возле него стоял, равнодушно попыхивая скрученной из газеты цигаркой, небритый немецкий солдат. Прохожие шли мимо и крестились, не оборачиваясь: «Страшны дела твои, господи…» Улица Адольфа Гитлера. Улица Антонеску. Король Михай. Сигуранца. Гестапо. Наша пятерка уже входила в это время в довольно большую группу, подчинявшуюся одному из подпольных райкомов Одессы. Руководил нами Седой, старый подпольщик, умело распределявший звенья, задания и роли. Работал он приемщиком в прачечной, в штате той же гостиницы, что и Вера. И связь поддерживал с ней и дядей Васей, у которого и была главная наша явка. Типографщики, правда, общались через меня или уборщицу тетю Франю, а мы, «изначальники», впятером иногда собирались у Галки за чаем-малинкой и лепешками из вареной моркови. «Пир во время чумы. Званый вечер в Транснистрии», — острили мы. Я не замечаю, как произношу это вслух. Галка смеется: — Почему не сказать — в Заднестровье? — Потому что королю Михаю больше нравилась Транснистрия. — И король Михай уже забыт. Стоит ли вспоминать? — Иногда стоит. Порыв ветра распахивает балконную дверь. Звон стекла возвращает меня в наши дни. Я выхожу на балкон и вижу зеленый откос берега, черные холмы угольной гавани и стрелы портальных кранов, похожих на марсианские боевые машины с рисунков Робида к уэллсовской «Борьбе миров». — Иногда стоит, — повторяю я и выхожу на улицу.ПАЛОМНИЧЕСТВО
Галка не ошиблась. Впечатления детства исказились и поблекли. Я не узнал ни двора, ни дома на бывшей Канатной. Все сплющилось до игрушечной уменьшенности. Даже хлам на дворе был не тот, не той давности. А на чердак, где мы давали партизанскую клятву, я не полез. Может быть, там сейчас, как и прежде, развешивают белье, — еще за вора примут. Я прохожу по улице Бебеля до пересечения ее с улицей Ленина и сворачиваю вниз, к Оперному театру. Маршрут мой тот же, что и в сентябре сорок третьего года. Память, как кинооператор, творит чудо. Одессу моего детства наплывом сменяет Одесса времен короля Михая, тускло просвечивающая сквозь нынешний, неузнаваемо помолодевший город. Он приобрел как бы прозрачность, возможную только в кино. Из-за ярко-зеленой ленточки аккуратно подстриженного газона память высвечивает выщербленный асфальт, разбитый подковами немецких солдатских сапог. Узорчатую игру шелка в витрине магазина тканей призрачно заслоняют пивные бочки румынской «бодеги». Веселые окна булочной вдруг закрываются грязным ковром универсальной комиссионки. Хороших ковров тогда в магазинах не было — их отобрали и вывезли специальные команды для переброски всего ценного в королевскую Румынию и германский рейх. Нам в это время уже было поручено всячески препятствовать вывозу художественных ценностей из Одессы, и партию ковров, в частности, удалось спасти: их перегрузила в другой вагон бригада Свентицкого, а железнодорожники укрыли его в одном из тупичков Одессы-Товарной. На углу улицы Ленина я уже не вижу нынешнего нарядного города — обратный ход времени безотказно сработал, воскресив в памяти и пустынность тогдашней Ришельевской, и притаившуюся за окнами непокоренную тишину. Она вдруг раскололась где-то впереди грохотом взрыва, взвизгнула короткой очередью автоматов. Но я даже не вслушивался: кто обращал внимание на уличную музыку того времени? К тому же я спешил, не задумываясь над тем, что навстречу мне также торопились редкие прохожие с серыми от испуга лицами: мало ли чего пугались тогда в Одессе. А у меня было неотложное дело: всего полквартала впереди за углом меня ждал серый обшарпанный домик, на двери которого была прибита фанерная доска-вывеска. Хозяин, обмакнув палец в чернила, витиевато вывел на ней: «Чоловичий кравец» и ниже по-русски: «Пошив, лицовка, штуковка, глажка». На крайнем правом окне первого этажа, куда легко заглянуть с улицы, должен был стоять фикус, что означало: входи смело, коли нет хвоста. А если фикуса не было — проходи мимо, не задерживаясь и не озираясь. Метрах в пятидесяти от памятного мне домика я останавливаюсь, как и тогда. Ведь наверняка знаю, что и дом не тот, и фикуса нет, и все же замираю на месте. Повторяю: как и тогда. Но в тот день меня остановила Галка, выскочившая из соседних ворот, простоволосая, без косынки, которую судорожно комкала в руках. — Повернись сейчас же и ступай не спеша, — скомандовала она свистящим шепотом. — Ничего не спрашивай. Как будто что-то забыл. Я повиновался, не глядя на Галку, хотя видел краем глаза, как она идет рядом. — В чем дело? — спросил я сквозь зубы, когда дошли до угла. — Явка провалена. За дверью охранники с автоматами. — А фикус? — Какой еще фикус! Там весь угол разворочен гранатой. Я должен был встретиться с Галкой у дяди Васи, но опаздывал, что меня и спасло. А Галка? — Не дошла. Как увидела взрыв — весь угол разнесло, — хлоп на землю тут же, в воротах, и затаилась… А полицаи с улицы полоснули по окнам из автоматов — и за дверь! До сих пор не выходят. Ждут. — Кто же выдал? — Спроси что-нибудь полегче. Каждый из нас задавал себе этот вопрос. Провал явки и смерть дяди Васи потрясли всех. Впоследствии мы узнали, что он бросил гранату не в охранников сигуранцы, ворвавшихся в мастерскую, а в угол окна, где стоял фикус. Он не успевал снять его и тем самым предупредить товарищей о провале. И граната уничтожила фикус, часть стены и его самого, что было, пожалуй, лучшим для него выходом: в сигуранце бы его замучили. Меня же случившееся совсем подкосило. В мастерской дяди Васи я не только набирал и печатал листовки, но и ночевал, потому что другого местожительства у меня не было. Тетка, заменившая мне мать, умерла в первые же дни оккупации, а комната наша приглянулась какому-то гауптману. Снять жилье где-нибудь не рекомендовалось законами конспирации: появление нового человека всегда вызывало подозрение у опекавших дом полицаев. Седой возражал даже против ночевок у дяди Васи, рекомендуя вместо этого фиктивный брак с Верой или Галкой. Но даже для фиктивного брака с Верой я был слишком уж молод, а вариант с Галкой решительно отверг сам. Хотя она, всегда готовая к жертвам, и согласилась немедленно, но я, впервые взглянув на нее глазами пусть фиктивного, но все-таки мужа, сразу понял, что подобное псевдосупружество оказалось бы для меня слишком мучительным: Галка была чертовски хороша в свои девятнадцать лет. Так мы и шли тогда бок о бок, растерянные, как дети, заблудившиеся в лесу, не знали, что сказать друг другу, о чем спросить, на что решиться. — Куда же ты пойдешь теперь? — вырвалось наконец у Галки. — Не знаю. — К Седому? — К Седому нельзя. — Может, к Володьке Свентицкому? — Мы даже здороваться на улице не должны. — Тогда ко мне. Повесим простыню между койками — и ночуй. А брак оформим в управе. — Я не хочу фикции, Галка. Черные глаза ее бесстрашно встретили мой взгляд. — Сейчас не время для любви, Саша. — Так не будем подменять ее суррогатом. Молча дошли по Преображенской. Осмотрелись: спокойно, хвостов нет. — Как же связаться с Седым? — Попробую через Веру. В конце концов, мы работаем в одной богадельне. Но мы еще не знали, что Веры в гостинице нет. Ее взяли одновременно с налетом на нашу явку. Это удивляло и настораживало: Вера редко общалась с людьми из нашей группы. И обязанностью ее были агентурные сведения, а не распространение листовок. Только один раз она встретилась со мной у дяди Васи, да и то в виде исключения, когда Седого внезапно вызвали на разговор с подпольным райкомом. Сигуранца подбиралась к Седому, потому что сразу взяли обоих его связных. Но если дядю Васю мог предать любой из нашей группы, то Веру, кроме меня, никто. В конце концов я все-таки нашел предателя, но это случилось много дней спустя, когда я заменил дядю Васю на связи с Седым. В тот день я шел как с мутной пеленой на глазах, не зная куда и зачем. Свернул на Дерибасовскую, выпил кружку пива у Думитрака, постоял у захламленной витрины комиссионки, и вдруг чья-то рука легла мне на плечо и я услышал знакомый интеллигентный, негромкий голос: — Что вы здесь делаете, Саша? Я сразу узнал Марию Сергеевну Волошину, мать моего одноклассника Павлика. Я дружил с ним, бывал у них дома, хотя и несколько стеснялся церемонной строгости их европеизированного домашнего быта. Что-то мне не нравилось и в Павлике, хотя по мальчишеской своей неопытности я не мог в точности определить что, но в общем-то и не слишком огорчился, когда он, не кончив школы, уехал в Берлин к отцу, работнику советского торгпредства в Германии. С тех пор о Павлике мы и не слышали. Говорили, что отец его бросил мать, женился на немке и уже не вернулся на Родину. Так Павлик и семья его выпали из круга моего детства. Мария Сергеевна почти не изменилась, хотя с тех пор прошло не менее семи лет. Ей было, наверное, уже за сорок, но выглядела она по-прежнему подтянутой, моложавой, ухоженной и нарядной. — Как вы возмужали, Саша! Совсем взрослый. Только в лице еще что-то прежнее. И чубчик. Потому и узнала. Я галантно поцеловал ей руку. — Почему не заходите? Я там же, на Энгельса. Простите, на Маразлиевской… А что вы ищете здесь? — Комнату ищу, Мария Сергеевна. — Какие же комнаты на Дерибасовской? А ваша собственная? — Увы, в ней разместился немецкий гость. Она поняла. — Да, да, все это очень грустно. Многое грустно, Саша. Безумная идея вдруг пришла мне в голову. — Может быть, у вас есть свободная комната? Вы меня бы выручили. Я ведь жилец аккуратный и тихий. Мне показалось, что она смутилась. Потом задумалась. Потом вдруг улыбнулась одним уголком губ. — Пожалуй, я могла бы помочь. Есть комната. Бывшая комната Павлика. Ее не тронули — очень мала. Я внутренне возликовал, вспомнив светелку Павлика. — Можно, я сейчас же и перееду, Мария Сергеевна? Она опять задумалась, мельком оглядела меня, оценив что-то по-своему, и добавила вежливо, но строго: — Только одно условие, Саша. Чтоб ничего такого… Время, сами понимаете. Не подведите. Так я и переехал в дом, едва не ставший моей могилой… Сейчас, спустя тридцать лет, я снова прошел по улице Энгельса. Дом не очень изменился, лишь чуть-чуть постарел. Тот же серый, под гранит фасад, уставившийся на парк имени Шевченко, тот же набор готических окон на втором этаже, тс же резные филенки подъезда. Но в дом я не вошел.Я И ТИМЧУК
От паломничества моего я уже еле волочу ноги, а до обеда в гостинице, когда обещал Галке вернуться, остается еще час с лишним. Надо его убить. Захожу в пивной бар в переулочке на Дерибасовской. После белой от солнца улицы в подвальчике полутьма, длинные столы, за которыми впритык жмутся любители бочкового жигулевского, огромные пивные бочки, обращенные в столики, снующие мимо них официантки с подносами, умещающими добрый десяток кружек, несчастливцы, которым так и не удается найти свободного места. Жарко. Влажная духота, как в батумском приморском парке. Только пахнет не магнолией, а пивом, потом и соленой рыбой. Мне везет. Освобождается место возле бочки, где уже восседает седоватый толстяк с пышными запорожскими усами. Он пристально вглядывается в меня, щурится, даже приподымается, чтоб лучше рассмотреть, и робко спрашивает: — Олесь? Так меня называл тридцать лет назад единственный в Одессе человек — Тимчук. Звали мы его не по имени, которое, кстати говоря, я и не помню, а просто Тимчук, Тим, Тимка. Наши квартиры были рядом, да и учились мы в одном классе, только Тим ушел из школы после седьмого класса к отцу, не то метрдотелю, не то шеф-повару в бывшем «Бристоле», учиться «на официанта», или «на кельнера», как тогда говорили. Мы просто жили рядом; не дружили и не враждовали, а драться с ним было опасно: он еще мальчишкой играл пудовой гирей и быстро вырастал из рубашек, лопавшихся у него на бицепсах. Сейчас он сияет: тридцать лет не виделись! — А тоби и не узнаешь. Який франт! — А тебя? Усы, как у Пилсудского. — Ни. Як у Бульбы. Он говорит, как и раньше, мешая русские слова с украинскими. — Ждали — не гадали, а побачились. Давно тут? — Утром прилетел. А вечером отплываю на «Котляревском». — Ну а в обед ко мне на вареники. Есть и домашняя горилка з перцим. Погрустим за Одессу-маму. — Я с Галкой приехал, Тим. Жар в глазах Тимчука остывает. — С Галиной Юрьевной? Так. Привет передай ей, наикращайщей, хоть и не жаловала меня. Строгая дивчина была, недоверчивая. — Все забылось, Тим. Просто время у нас ограничено. — Ни. — Он сжимает толстые пальцы в пудовый кулак и легонько ударяет им по залитой пивом бочке. Бочка глухо гудит. — Ничего не забыто, Олесь. Он прав, конечно. Ничего не забыто. И Галка действительно его недолюбливала. А в сорок первом мы все даже возненавидели его, когда он пришел из городской управы с повязкой полицая и автоматом через плечо. «Меня из ресторана силком взяли, как отец ни просил, — оправдывался он, — только я своих трогать не буду». Но мы были неумолимы. «Свои у вас в сигуранце, домнуле жандарм, а здесь, извините, своих у вас нету». Надо честно сказать, никого из нас Тимчук не выдал, а впоследствии и работу свою в полиции подчинил задачам нашей подпольной группы, и даже мне с Галкой жизнь спас, все же его добровольное «полицайство» в сорок первом году Галка ему долго не прощала. И Тимчук это знал. Сейчас он гладит пышные свои усы — кончики намокли в добром одесском пиве — и, подмигнув, предлагает: — Повторим? — Повторим. — А помнишь, как ты мене завербовав? — Еще бы. На углу Новорыбной? — Ни. За мостом, где трамвайные рельсы из мостовой выковыривали… Мы действительно столкнулись тогда с Тимчуком. Я хотел было мимо пройти, да что-то в лице его поразило меня — глухая, невысказанная, подспудная ярость. Он не видел меня, смотрел сквозь меня, как грузили вырванные из гнезд рельсы на желто-зеленый немецкий грузовик. — Интересуешься, как дружки твои хозяйствуют? — спросил я. — Стараются во славу родной Транснистрии. — Бачу, — сказал он. — Грабят як бандюги. — Так они и есть бандюги. Не знал разве? — Узнал. Я тут же подумал, что полицай с таким настроением мог быть полезен подпольщикам. — Так хоть ты по крайней мере не имеешь отношения к этому грабежу, — начал я осторожно. — Имею, — вздохнул он. — Получен приказ самого одесского головы Пынти. Все, что есть ценного в комиссионках, тут же забирать — и на склад городской управы. Картинки, подсвечники, лампы настольные либо из бронзы, либо из серебра, меблишку какую-нибудь редкую. Есть еще что-то в городе, что бандитам пока не досталось. — От волнения он говорил по-русски чисто, не переходя на украинский. — А хочешь помочь, чтоб не досталось? — Как? — Надо узнать номера грузовых отправлений, место назначения и вид отправки: багажом или почтой. Сможешь? — Смогу. — Заметано. Ты когда днем свободен? — Лучше к часу. У нас сьеста, как говорит домнуле голова. — Встретимся на кладбище. Третий проход слева. У памятника купеческой вдове Охрименко. Во вторник. Не опоздай — ждать не буду. А выдашь — тебе же хуже. Поедешь прямиком не в рейх, а в рай. — Спасибо за веру, Олесь. Не обману. Седой не одобрил моей инициативы. Добровольно пошедший в полицаи не заслуживает доверия. Но что сделано, то сделано. Встречу мне разрешили при условии, что контролировать ее будут трое подпольщиков. При малейшей опасности мне дадут возможность уйти. Но опасности не было. Тимчук точно выполнил задание и столь же точно выполнял другие. Сведения, добываемые им, были верны и своевременны, а его связи с сигуранцей и гестапо позволили спасти не одного человека, которому угрожал арест или отправка на принудительные работы в Германию. Седой все еще осторожничал и не расширял его связи с подпольем. Но кое с кем он его все-таки связал. С Гогой Свентицким, например. С дядей Васей. С Галкой, наконец, которой труднее всего было отлучаться из ресторана, а с Тимчуком она всегда могла перемолвиться у себя на дворе или в подъезде, хотя Галка была единственной из нас, которая ему все-таки до конца не доверяла. — Порядочный человек никогда бы не стал полицаем. — Он давно раскаялся, Галка. — Такие не раскаиваются. Такие мухлюют. Почуял, что крысы с тонущего корабля побежали… Гибель дяди Васи и Веры (во внутренней тюрьме гестапо от нее не добились никаких показаний) не привела к провалу нашей организации. Вынужденная пауза не обнаружила ни слежки, ни провокаций. Но провокатор все-таки был. Тот, кто знал связных и явку, знал и затаился. Почему? Знал мало, хотел знать больше? Охотился за Седым, оставляя нас на закуску? Забравшись на чердак, мы с Галкой часами перебирали всю нашу группу, пробуя втиснуть каждого в незаполненную строчку кроссворда. Только я и Галка знали обоих помощников Седого, но никто из нашей группы не имел связи с Верой, а связанные с нею не знали нас. Арест Веры еще мог быть случайным — какая-нибудь неосторожность, обмолвка, оброненная записка, — но одновременный провал обоих был явно обдуманным тактическим ходом врага. Кто же сделал этот ход? Мысли путались, кроссворд не решался. — Так можно всех подозревать, даже Седого, — злился я. — А Тимчук? — спрашивала Галка. — Тимчук не знал Веры. — Мог узнать. — Каким образом? — Кто-нибудь проболтался. — Кто? Вера была табу для всех. — Для нас. А ты знал связи Веры? Нет. А связи Тимчука? Тоже нет. Именно это упоминание о связях Тимчука и вывело меня на след предателя. Тимчук давно уже предлагал мне привлечь к работе одного «подходящего парня», который, мол, и в полицаи не пошел и на немцев не работает. Речь шла о Федьке-лимоннике, торговавшем с лотка мелкими грушами-лимонками, леденцами, похожими на подслащенное сахарином стекло, и папиросной бумагой, которую он вырывал из альбомных изданий Брокгауза и Ефрона, где листы ее вклеивались прокладкой между гравюрами. Книгами тогда в Одессе топили печки-«буржуйки», и добыча доставалась Федьке легко, обеспечивая заработок и приятельские связи с шатавшейся по рынкам румынской и немецкой солдатней. Он мог быть кое в чем полезен для нас, но мог стать и опасным, потому что разгадал истинное лицо Тимчука. Тот как-то проговорился о листовках, а Федька загорелся, попросил привлечь к этой работе: «Листовку со слезами целовал». Седой, которого я поставил в известность об этом, допускал возможность провокации и предложил проверить Федьку, ограничив его деятельность распространением листовок, а его связи с подпольем — взаимоотношениями с Тимчуком. Где и кем печатались листовки и как они попадали к Тимчуку, Федор не знал и не интересовался, выполняя задания как солдат приказы непосредственного начальника. Именно это нас и успокоило, хотя должно было насторожить: молодой честный парень, допущенный к делам, требующим отваги и мужества, естественно, претендовал бы и на больший риск, и на большее к нему доверие. Но у Федьки была другая цель. Он решил на свой риск и страх проследить связи Тимчука с одесским подпольем и найти головы покрупнее и подороже тимчуковской. Запыленный, серый и юркий, в собственноручно сшитых тапочках из сыромятной кожи, он неслышно и незаметно день за днем терпеливо выслеживал Тимчука, пока не засек его встречу со мной. Теперь «охотник» пошел по другому следу и легко обнаружил мою квартиру: я в те дни болел и выходил только на встречу с Тимчуком да проводить в первый и единственный раз посетившую нас Веру. И надо же было так случиться, что именно в эти минуты и углядел нас Федька-лимонник. Я даже заметил его на улице, только не придал значения: Федьку можно было встретить в любом конце города. Но часа своего он дождался и выследил Веру вплоть до гостиницы, а узнать, кем она там работает, было для него сущим пустяком. Две головы он продал. Но почему он не продал третью голову — Тимчука? Да просто потому, что тот мог утопить его на допросах, а сам по себе, как раскрытый подпольем предатель, он был не нужен гестапо. Пешка, фоска, битая карта в игре. И, понимая это, Федька берег Тимчука как кончик ниточки, связывающей его с непокоренным городом. Но теперь уже Тимчук следил за ним и в конце концов поймал его в часовой мастерской, под прикрытием которой орудовала резидентура гестапо. Мы все сопоставили, все взвесили, прежде чем принять решение. — Еще по одной, — предлагает Тимчук, стуча кружкой. Он долго молчит, разглядывая свою поросшую рыжим волосом руку, сжимая и разжимая пальцы. — Ты где работаешь? — спрашиваю я, пытаясь отвлечься от воспоминаний. — Работаю? — удивляется он вопросу. — Портальный кран бачил? На пирсе. Крановщиком. — Ну там твоя силушка не нужна. — Так я ж не о том. Вспомнилось. На кладбище був? — Зачем? Я и так все помню. — Ты же рядом стоял. Другие отвернулись, а ты бачив. Я действительно стоял рядом и не отвернулся. Нас было пятеро тогда на кладбище у памятника одесской купчихе: Тимчук, я, Галка, Володя Свентицкий и Леся, заменившая Веру. Именно нам и поручил Седой привести приговор в исполнение. Фанерная дощечка с надписью «Провокатор гестапо. Казнен по приговору народных мстителей» была уже заготовлена, веревка тоже. Мы только забыли о табурете, или ящике, который следовало выбить из-под ног повешенного. Федор стоял на коленях с кляпом во рту под узловатым отростком клена. По-моему, он уже умер заживо. Володька взял веревку и глядел на дерево, не зная, что делать. Галка стояла позеленевшая, как от морской качки. Не двигались и мы с Лесей. Тогда Тимчук сказал: «А ну-ка отвернитесь, хлопчики. Негоже дерево трупом поганить. Я его породил, я же его и кончу…» Вот тогда я и запомнил эти поросшие рыжим волосом могучие руки. — Пора, Тим, — говорю я, вставая из-за бочки. — Пошли. Отплытие в шесть. Приходи к причалу. — Приду. Не серчай, что вспомнилось. Темное тоже не забывается. — Темное ушло, Тим. Светлое осталось. Мы подымаемся из подвальчика на залитую солнцем улицу, а в ушах звенят серебряные трубы Довженко:ОТПЛЫТИЕ
Черно-белый красавец «Иван Котляревский» стоит у причала морского вокзала. Длинные руки лебедок играючи перебрасывают грузы в разверстые пасти трюма. Многоэтажный дворец над ним пока еще пуст — театральный зал перед премьерой, причем иллюзию дополняют контролеры у трапа в белоснежных куртках и фуражках с золотыми «крабами». Где-то наверху, на пятом или шестом этаже, и наша каюта на открытой палубе, над которой вытянулись одна за другой серыми дельфиньими тушами шлюпки, покрытые натянутым брезентом. Теплоход был копией «Александра Пушкина», на котором я ходил в круиз из Ленинграда в Гавр прошлой осенью, — тот же черный остов и белые палубные надстройки, та же радиомачта и косо срезанный конус трубы с полоской сверху — этаким алым галстуком на белом моряцком мундире. Мы только что отобедали в ресторане на вокзальной веранде и сидим у чемоданов на причале на приятном морском сквознячке. До отплытия еще больше часа. Я молчу. — Ты что раскис? — спрашивает Галка. — Жарко. — Мне не хочется объяснять. — Здесь совсем не жарко. Грустно, что уезжаем, да? — Грустно, конечно. — Встречи с прошлым не всегда радуют. — Галя! — зовет кто-то рядом. Я оборачиваюсь и вижу, как немолодая, хорошо скроенная блондинка в небесно-голубых брюках и желтой кофточке бросается к Галке. — Ты провожаешь или едешь? — Еду, конечно. — Мы тоже. Шлюпочная палуба. Полулюкс. Сто двадцать четвертая. У нас тоже шлюпочная палуба и такая же каюта-полулюкс. Но Галка не хвалится. — Ты с кем? — не унимается блондинка. — С мужем. Знакомься. Я встаю. — Гриднев, — говорю как можно суше: блондинка мне не нравится. — Сахарова Тамара, — отвечает она и, подумав, добавляет: — Георгиевна… А у тебя интересный муж, Галина, — она оглядывает меня с головы до ног, — и одет… — Старый пижон, — смеется Галка. — Из какой сферы? Наука, искусство, спорт, торговля? — Пожалуй, наука, — говорю я неохотно. — Доктор или кандидат? Кто-то спасает меня от допроса. С криком «Миша!» блондинка ныряет в сутолоку у трапа. — Что это за фея? — Моя косметичка. — Зачем тебе косметичка? — Работа в Институте судебной экспертизы еще не избавляет меня от необходимости следить за своей внешностью. — А это ее муж, наверно? — Вероятно. Я с ним незнакома. Мужчина с иссиня-черной бородой с проседью, примерно моего роста и моего возраста, даже не посмотрел в мою сторону. — Чем он занимается? — Оценщик в комиссионном магазине на Арбате. — Интеллектуальная профессия. — Зато выгодная. Может поставить твой пиджак за полсотни, положить под прилавок и позвонить своему знакомому, падкому на шмотки. А тот еще подкинет ему четвертной. — В криминалистике это имеет определенное название. — Имеет. — Что-то меня не тянет к такому знакомству. — Для твоей профессии полезны любые знакомства. Я ставлю чемоданы на освободившуюся скамейку и не собираюсь вставать. — Пусть все пройдут. Да и Тимчука пока нет. — А я тут, — возвещает обладатель запорожских усов в украинской расшитой рубашке. В руках у него бутылка пива и два бумажных стаканчика. Третий с мороженым. — Этот, должно быть, для меня, — смеется Галка и целует Тима в его пушистые усы. — Какой богатырь! Прямо из Гоголя. Был Остап, стал Тарас. Ты что вчера про меня Сашке наговорил? Я объясняю: — Это она о нашей прогулке в прошлое. О пиршестве воспоминаний. — Пиршество воспоминаний, — назидательно говорит Галка, — хорошо в трех случаях: для мемуариста, для юбиляра и в праздник, когда встречаются ветераны войны. — Для меня вчера и був праздник, — подтверждает Тимчук. — А для меня праздник сейчас — это отдых, Тим. От московской сутолоки, от воспоминаний и телевизора. Несколько минут мы оживленно болтаем. О том, о сем — ни о чем. Галка вдруг смотрит на часы и перебивает: — У нас еще сорок минут. Успею послать телеграмму маме. Пусть не тревожится. — С теплохода пошлешь. — Не знаю. Там все по часам расписано. А здесь ходу всего четыре минуты. Она убегает, оставляя нас одних, и мы вдруг убеждаемся, что говорить больше не о чем. Все переговорено. Но и в молчании обоим тепло и радостно. Мимо нас к табачному киоску торопливо проходит человек с иссиня-черной бородой и военной выправкой. Что-то неуловимо знакомое вдруг настораживает меня в этом облике. — На бороду дивишься? — спрашивает Тим. — Дело не в бороде. — А кто это? — Муж одной Галкиной знакомой. Некто Сахаров. А может, и не Сахаров, это она Сахарова. Что-то цепляет глаз в нем, а что — не знаю. Мы смотрим ему вслед. Он покупает пачку сигарет, возвращается и, не обращая на нас никакого внимания, закуривает в двух шагах от нашей скамейки. Теперь он отчетливо виден — так сказать, крупным планом. — Узнал? — спрашивает Тимчук. Когда он встревожен, то говорит, не балуясь украинизмами. — Боюсь утверждать. — А я узнал. — Сходство часто обманывает. Слишком уж давно это было. — Тогда я разговаривал с ним как с тобой — лицом к лицу. — А шрам на подбородке? Его даже борода не скрывает. — Шрама не было. Может, потом? — Когда потом? Забыл? Тимчук молчит, потом произносит с твердой уверенностью: — Он. Я уже ни в чем не уверен. Мало ли какие бывают совпадения. — Глупости, Тим. Показалось. — У меня глаз крановщика. Наметанный. Не придется тебе отдыхать, полковник. — Чудишь. Такие вещи проверять да проверять. — Вот и проверишь. Кончился твой отпуск, друже полковнику. Я смотрю вслед уже шагающему по трапу бородачу. В чем же сходство? Не знаю. Но оно есть. Не подслушал же мои мысли Тимчук — узнал. — Если понадобится — телеграфь. Прилечу для опознания, — говорит он. — О чем вы? — подбегает Галка. — Да ни о чем. Чудит Тимчук. Мы обнимаемся на прощание. Он настороженно, даже встревоженно серьезен. — Так если что, телеграфируй. А может, и до Одессы доедешь. — О чем он? — повторяет Галка. — Чушь зеленая, — говорю я и, подхватив чемоданы, иду к трапу.Ялта
ЗНАКОМСТВО
Мы с Галкой наплавались в бассейне и теперь сидим в шезлонгах на открытой солнцу кормовой палубе — я под тентом, Галка на солнцепеке; вероятно, рассчитывает вернуться из рейса мулаткой. Рядом с ней на туристском надувном матрасе Тамара лениво ведет свой женский загадочный разговор. Именно загадочный: мужчинам не дано понимать женщин. Бородатый муж Тамары играет тут же у натянутой на палубе сетки в волейбол не то со студентами, не то с молодыми кандидатами наук. Играет отлично, почти профессионально, вызывая завистливые реплики зрителей: «Посмотри на „бороду“. А подачка? Во дает!» Он подвижен, ловок и вынослив, как тот старый конь, который, как известно, борозды не испортит. Впрочем, слово «старый» к нему не приклеишь, даже «пожилой» не подходит. Куда мне… Я искоса внимательно наблюдаю за ним, силясь уловить что-то знакомое. Иногда улавливаю, чаще нет. Возникает нечто мучительно памятное и сразу же исчезает. А он даже не смотрит на меня, не видит и не интересуется — играет беззаботно и с удовольствием. Нет, мы с Тимчуком определенно ошиблись. Тут даже не сходство, а так, что-то вроде как на дрянных фотокарточках, какие наклеивают на сезонные пригородные билеты в железнодорожных кассах. Воспользовавшись тем, что Тамара снова отправилась в бассейн, я подвигаюсь к Галке. — У нас два свободных места за столиком в ресторане, — говорю я с наигранным равнодушием. — Пригласи своих знакомых. Пусть пересядут. — Тебе же не понравилась эта пара. — Все лучше, чем одним сидеть. Новые люди. Да и веселее. — Тебя Тамара заинтересовала? — Скорее, ее муж. У Галки хитро прищурены глаза. — Любопытно, почему? — Красивый мужчина. — Так это я должна интересоваться, а не ты. — Вот ты и заинтересуйся. — Зачем? — Хорошо в волейбол играет. — Тут что-то не то. — Может быть. А ты все-таки их пригласи. Тамара возвращается из бассейна, и Галка, лукаво взглянув на меня, берет, что называется, быка за рога. — Тамара, у вас интересные соседи за столиком? Тамара морщится: — Два желторотых юнца. Вон они играют в волейбол с Мишей. — Пересаживайтесь к нам. У нас как раз два свободных стула и столик не у прохода. — Если ваш муж, конечно, не возражает, — вставляю я. — Муж мне никогда не возражает, а потом с вами же интереснее. Посмотрим. Первый крючок я забросил. — Кстати, обед сегодня на час раньше. На подходе к Ялте, — добавляет Тамара. — Уже одеваться пора. А потом на экскурсию в Алупку. Идет? — Я поеду, — говорит Галка. Я молчу. Поедет ли он? К обеду являемся в полном параде. Женщины раскручивают разговор сразу, как магнитофонную ленту. Мужчины сдержанны и церемонны. — По сто для аппетита перед обедом? — предлагаю я. — Давайте. — У вас «Столичные»? — Нет, «Филипп Моррис». Закуриваем. — Оригинальная специальность у вашей жены. Эксперт-криминалист. — О криминалистике я уже забыла, — роняет Галка: по-видимому, ей не хочется раскрывать перед посторонними секреты профессии. — Сижу на экспертизе старых документов. Недавно определяла подлинность пометок Чайковского на где-то найденных нотах. Галка невольно подыгрывает мне. Не нужно, чтобы он знал или догадывался о моей работе. — А вы? — тут уже спрашивает он. Галкина рука лежит на столе. Я многозначительно сжимаю ей пальцы. — Я юрист, — говорю. — К сожалению, не Кони и не Плевако. Рядовой член коллегии защитников. — Уголовный кодекс? — Нет. Разводы, наследства, дележимущества. Галка не проявляет ни малейшего удивления: поняла, что я начал пока еще неизвестную ей игру. — Ну да, — лениво бросает он. — Невесело у вас получается. — У вас веселее? — Пожалуй, нет. Я уже после войны Плехановский кончил. Директора универмага из меня не вышло. Главбуха тоже. Верчусь мало-помалу в комиссионке. — Золотое дело эта комиссионка, — хвастливо провозглашает Тамара. — Не преувеличивай, — кривится он. — Работа как работа. Не лучше твоей. Что-то в его интонации тотчас же останавливает его рубенсовскую красавицу. Теперь она занята только ножом и вилкой. А он? Неудачник или играет в неудачника? Но ведь эти игры — дешевка. При его спортивной ухоженной внешности и умных, очень умных глазах. Я внимательно ищу в них давно знакомое. И нахожу. Неужели мы с Тимчуком не ошиблись? А он только вежливо слушает или спрашивает, глядит на меня, как на чистый лист бумаги, на котором сам же напишет: «Сосед по столику, спутник по рейсу. Не очень интересен. Общих тем нет. Скучно». Это если мы с Тимчуком ошиблись. А если нет? Я изменился, конечно, за тридцать лет. Галка тоже, но узнать нас можно. Особенно ему, если это он. Тогда где же встревоженные искорки в глазах, растерянный жест, невольно сжатые губы, дрогнувшие пальцы, пусть чуть дрогнувшие, но я бы заметил. Глаз наметанный — профессия. А тут — ничего. Съел суп, отставил макароны — не любит. Пьет фруктовый компот. И слова бросает равнодушно. Разговор поддерживает главным образом Галка: — Вы почти профессионально играете в волейбол. Любите спорт? — Больше по телевизору. — Бросьте. Сразу виден тренинг. — У нас дома и боксерские перчатки, и груша, — опять-таки не без хвастовства вставляет Тамара. И опять он кривится. Откровенность жены ему явно не нравится. — Я и стреляю неплохо, — цедит он. — В роте был снайпером. Мне хочется спросить, где он воевал, но понимаю, что он назовет именно те места, где воевал Сахаров. А потом, это можно сделать и позже. Разговор о военном времени не должен быть преднамеренным. И тут я опять настораживаюсь, видя, как он закуривает. Берет сигарету двумя пальцами, отставив мизинец, чиркает зажигалкой, затягивается и тут же, вынув сигарету изо рта, глядит на тлеющий ее огонек. Тот самый жест, который и насторожил нас с Тимчуком на причале. Жест, который я помню все тридцать лет как неотплаченную пощечину. Теплоход гудит, подъезжая к ялтинскому причалу. Официантки разносят билеты на экскурсию в Воронцовский дворец в Алупке. Там жил Черчилль в дни Ялтинской конференции, и, честно говоря, меня это мало интересует. — Я не поеду, — говорит Сахаров. — Я тоже, — немедленно присоединяюсь я. — Дамы поедут вдвоем, а господа по-мужски посидят чуток в баре. Не возражаете, Михаил Данилович? Он молча кивает. Взгляд вежлив, но равнодушен. Ни любопытства, ни тревоги. — Только я не очень разговорчивый собеседник, — лениво бросает он, — извините. — Я тоже не из болтливых, — поддакиваю я. А дальше происходит все как по-писаному. Мы провожаем жен до автобуса и уже готовы повернуть к трапу, как он предлагает: — Может, пройдемся по набережной? Выпьем по стакану каберне. Из полутемного массандровского магазина мы выходим разморенные вином и прогулкой по размягченному солнцем асфальту. Диалог невнимательно-безразличный. — Не люблю Ялты. Одна набережная и узкие, пыльные улочки, ползущие в гору. — А санатории? — Лучшие санатории за Ялтой — в Ливадии и Мисхоре. А здесь один пляж. Кстати, он под нами. Выкупаемся? — В бассейне чище. — Бассейн — это коробочка. А я плавать люблю. Не хотите — подождите на берегу. Минут двадцать, не больше. Он выбрал клочок пляжа почище, проковылял по камням к воде, и вдруг, нырнув, быстро уплыл вперед, почти невидный в прибое. Я тотчас же засек воспоминание. В шестнадцать лет я так же поджидал его на пляже в Лузановке, а он — если то был он — мелькал движущейся точкой вдали. Он и в детстве резвился дельфином, не обращая внимания на оградительные буйки. Опасно поддаваться навязчивой идее и подгонять под нее все, что просится подогнать. Начнем с исходного пункта: Сахаров есть Сахаров. Преуспевающий оценщик комиссионного магазина. Муж влюбленной в него пышнотелой блондинки. Неглуп, практичен. Нравится женщинам, но не кокетничает. Так не ищите знакомого в незнакомом, полковник, не будите давно уснувших воспоминаний. Подозрительность — плохой исследователь человеческих душ. На теплоход мы возвращаемся и сразу — в бар. Мальчишка в белой курточке переставляет на стойке бутылки с иностранными этикетками. — Попробуем мартини, Михаил Данилович, — предлагаю я тоном знатока-дегустатора. Сахаров улыбается: — Это вам не загранрейс. В лучшем случае подадут фирменный или дамский. Правда, бой? Я настораживаюсь. Реплика режет ухо. Мальчишке тоже. — Я не бой. Если говорите по-русски, обращайтесь, пожалуйста, как полагается. Молодец бармен, хотя тебе и не больше семнадцати лет. Срезал-таки оценщика. А может быть, тот сказал это нарочно, с целью подразнить меня: вот тебе, мол, и промах разведчика, лови, мил друг, если сумеешь. Как говорится, «покупка» вполне в духе моего давнего знакомого Павлика Волошина. Сахаров, игнорируя реплику бармена, не очень заинтересованно спрашивает. — А что же есть в репертуаре? — Могу предложить «Черноморский». Это обыкновенная смесь ликера, водки и коньяка. Гусарский «ерш». — Как на войне, — смеется Сахаров. — Мы так же мешали трофейный ликер, чтобы отбить сладость. — Где воевали? — мимоходом спрашиваю я как можно равнодушнее. — Где только не воевал! И под Вязьмой, и на северо-западе. Продолжать ему явно не хочется, и я не настаиваю. Отставляю с отвращением «ерш» и потягиваюсь: — Ну что теперь делать будем? Шляфен или шпацирен геен? — По-немецки вы говорите, как наш старшина из Рязани. — А вы? Он пожимает плечами. — Научился немного в лагере. — В каком? — В плену. На Западе. — По вашей комплекции не видно. Разве шрам только. — Американцы, захватив лагерь, откармливали нас, как индеек. А шрам — это с детства. Нырнул неудачно, рассек о камень. Выходит, Сахаров есть Сахаров, энный человек со случайным сходством с кем-то, тебе очень знакомым. Настолько знакомым, что у тебя даже при мысли о нем холодеет сердце. Но пусть оно не холодеет, тем более, как нам тогда сообщили — потом, позже, — нет в живых этого человека. Обычной гранатой-лимонкой разнесло его в куски на бывшей Соборной площади. А бросил гранату даже не наш парень, то есть не из нашей группы: Седой знал его, а мы нет. Я, признаться, очень огорчился, что это была не моя граната. Ну что ж, полковник Гриднев может теперь бездумно продолжать свой круиз по Черному морю. Но… Сахаров, прежде чем свернуть в коридорчик, где находится его полулюкс, снова закуривает. И снова знакомый жест. Два пальца, отставленный мизинец и пристальный задумчивый взгляд на тлеющий огонек сигареты. Такие привычки неискоренимы потому, что их не замечают и о них не помнят. И они индивидуальны, как отпечатки пальцев, двух одинаковых быть не может. Нет, бездумный круиз не продолжается.Я И ПАУЛЬ ГЕТЦКЕ
Сидя в кресле каюты на шлюпочной палубе, я подытоживаю воспоминания и впечатления дня. Более тридцати лет назад, когда Павлик Волошин уезжал в Берлин к отцу, он уже курил присланные отцом английские сигареты «Голдфлейк». Курил щегольски, держа сигарету большим и указательным пальцами, отставив при этом мизинец, и вынимал ее изо рта, поглядывая на тлеющий огонек. Точно так же он закурил ее и в сорок третьем году, когда появился в Одессе у своей матери на улице Энгельса, вынужденно переименованной в дореволюционную Маразлиевскую. Был он в черном мундире СС, в звании гауптштурмфюрера и в должности начальника отделения гестапо, я не знал точно, какого именно отделения, но интересовался он, как и все в гестапо, главным образом одесским подпольем. Он вежливо и церемонно поцеловал руку Марии Сергеевне, театрально обнял меня как старого школьного друга и закурил. Тогда я и узнал, что зовут его уже не Павлик Волошин, а Пауль Гетцке, по имени мачехи, оставшейся в Мюнхене. Отец его к тому времени уже умер. Навязанную мне роль старого друга я сыграл без преувеличенной радости, но и без растерянности и смущения. Встретились два бывших школьных приятеля и поговорили по душам о прежней и новой жизни. — Кавалер Бален де Балю. Помнишь, маркиз? — Конечно, помню. — Кого из ребят встречаешь? — Мало кого. Разбрелись люди. Тимчука видел. — Тимчука и я видел. Он у румын в полиции. Думаю взять его к себе. — Твое дело. Я с ним не дружу. — А из девчонок кто где? — Кто-то эвакуировался, кто-то остался. — Галку встречаешь? — Нет. Из дома меня выселили. В твоей светелке живу. — Мать правильно поступила. Комната мне не нужна. А ты почему из города не удрал? — В армию меня не взяли — плоскостопие. А эвакуироваться трудно было. — Ты ж комсомольцем был. — Как и ты. Волошин-Гетцке захохотал и потрепал меня по плечу. — Грехи молодости. Гестапо тоже не обратит внимания на твое комсомольское прошлое. Хочешь, редактором сделаю? — Поганая газетенка. Уж лучше наборщиком. — Значит, душой с Советами? — С Россией. Русский я, Павлик. — Не Павлик, а Пауль. Я теперь немец по матери. По второй матери, баронессе фон Гетуке. Она усыновила меня и воспитала в духе новой Германии. Какой на мне мундир, видишь? Я промолчал. Я видел и внешность и нутро гауптштурмфюрера, так радостно продавшего свою Родину и народ. Даже сдержанная Мария Сергеевна после его ухода сказала мне с нескрываемой болью: — Это уже не мой сын, Саша. Чужой. Совсем, совсем чужой… Я попробовал сыграть: — Что вы, Мария Сергеевна! Павлик как Павлик. Только зазнался. — Нет, не зазнался, Саша. Онемечился. — Грустно, — сказал я. — Не только. Страшно. Мне тоже было страшно. По краю пропасти идти не хотелось. Но Седой сделал неожиданный вывод: — Перебрасывать тебя в катакомбы пока необходимости нет. Даже наоборот. Листовки, конечно, бросишь, а из школьной дружбы с гестаповским чином можно извлечь и пользу. Рискнешь? Я думал. — Если боишься, не неволю. — Не боюсь. Трудно. — А мне не трудно? — Так ведь играть надо. А какой из меня актер. — Сыграть нейтрала не так уж сложно. Немножко испуга, растерянности, сомнений. А вражды нет. — Да мне каждое слово его ненавистно. В глаза плюнуть хочется. — А ты гляди с завистью на правах старого друга, которого жизнь прибила. — Сорвусь. — Не исключено. А кто из нас не рискует? И я рискнул. Пауль пришел через несколько дней в воскресенье. Пришел не столько к матери, которой он церемонно целовал руку, сколько ко мне. Влекли, должно быть, школьные воспоминания, возрастные ассоциации, возможность пооткровенничать с человеком, который для гестаповца безопасен. А может, и пощеголять хотелось тем, как изувечили душу русского школьника гитлерюгенд и впрыскивания речей Розенберга и Геббельса. Разговаривали мы свободно, не стесняясь, спорили и убеждали друг друг — я с позиции «прибитого жизнью» нейтрала, он с высоты счастливчика, удачливого игрока, новоиспеченного хозяина жизни. — Удивляюсь твоей ограниченности. Неужели тебя, будущего юриста, удовлетворяет деятельность типографского наборщика? — А где университет, чтобы юрист будущий стал настоящим? — После войны мы откроем университеты. Не очень верь демагогии Геббельса: она для быдла. Каждый здравомыслящий немец понимает, что управлять Украиной без украинцев, а Россией без русских будет невозможно. Понадобятся специалисты во многих областях знания. Конечно, командовать будут победители, но и побежденным останется немалый кусок пирога. — А кто жует этот кусок пирога? Жулье, подонки, прохвосты и уголовники. — Издержки первых лет войны. Кого же выбирать из вас, если интеллигенция удирает при нашем приближении или отсиживается в наборщиках? Все вы поклонитесь после победы. — Чьей победы? — За такие вопросы даже школьных друзей отправляют в гестапо. — Прости, Пауль, но я ведь не тупица и не баран, на которых рассчитана пропаганда профашистской «Одесской газеты». Я спрашиваю тебя именно как школьного друга: а сам ты веришь в победу? Я не играл в искренность, я был искренним во всем, кроме обращения к гауптштурмфюреру Гетцке как к старому школьному другу. Он верил. — У нас, как тебе известно, вся Европа и большая половина Европейской России. Не так долго ждать. — А Сталинград? — Эпизод. Случайный просчет. Он нажал двумя руками крышку стола, словно хотел его сдвинуть, — жест, который мне запомнился с первой встречи после его появления в Одессе и которым он словно хотел подчеркнуть свое желание переменить тему беседы, — и добавил: — О шахматах не забыл? Может, сыграем партийку? Партию эту — я играл белыми с открытым центром — он выиграл легко и красиво. В середине игры создалось парадоксальное положение, когда белые одним махом могли вырвать победу. И я сделал этот ход конем, обусловливающий, казалось бы, неизбежное поражение черных. Но у черных был единственный контршанс, парадоксальный, я повторяю, контршанс — его трудно было найти, и все же Пауль нашел этот опровергающий, достойный выдающегося мастера ход и выиграл позицию, а затем и партию. — Вот тебе и ответ на твой миф о Сталинграде, — сказал он. Я не спорил, хотя величины были несоизмеримы, а сравнение смехотворно, но партия сама по себе была очень эффектной, я хорошо запомнил ее, и, как оказалось, не зря. Третий разговор в светелке Павлика носил уже официальный характер. Павлика не было, школьного приятеля не было, старого одессита не было. Был гауптштурмфюрер Гетцке, черномундирный эсэсовец и следователь одесского гестапо. — В городе опять появились листовки, Гриднев. Я неопределенно хмыкнул: — Что значит опять? Они уже два года как появляются. — Когда я приехал, они исчезли. — Не считаешь ли ты, что подпольщики тебя испугались? — Не знаю. Но после моего появления в Одессе листовок какое-то время не было. — А чем я, собственно, обязан этой высокой консультации? — Листовки набираются в типографии «Одесской газеты». Я засмеялся: — У нас на каждого линотиписта свой агент сигуранцы! Строки не наберешь без просмотра. — Есть и ручной набор. — Акцидентный. Несколько стариков набирают афиши, объявления управы и приказы комендатуры. Проследить за ними легче легкого. — И все-таки листовки появляются в городе. — Не проще ли предположить, что еще до эвакуации Одессы нужный шрифт был вывезен из типографии и где-нибудь в городе налажен набор листовок? — Подпольную типографию разгромили два месяца назад. Я уже затребовал всю документацию из сигуранцы. Погляжу, куда она меня выведет. Я знал, куда выведет. Федька-лимонник понятия не имел о подпольной типографии. Федька-лимонник охотился за мной как за причастным к распространению листовок. Он не знал ни моего имени, ни моей клички, а сигуранца не знала моей новой квартиры. По одному, несомненно, поверхностному описанию найти меня не могли. Но Пауль Гетцке умел думать и сопоставлять факты. Моя работа в типографии «Одесской газеты» — это он знал. Мое жительство у дяди Васи установлено добровольными или вынужденными показаниями соседей. Мое описание Федькой-лимонником кое-что все-таки добавляло. А разгром явочной квартиры и мое появление у Марии Сергеевны были еще легче доказуемым совпадением. Седого в Одессе не было, и никто, кроме него, не мог бы переправить меня в катакомбы. Ночью во время комендантского часа, когда на улице не было ни души, двое молчаливых эсэсовцев отвезли меня в штаб-квартиру гестапо. Отвезли довольно вежливо, не надевая наручников и не толкая прикладами автоматов в спину. Гетцке встретил меня в кабинете без дружеских излияний, молча указал на место возле стола и произнес с любезной улыбкой: — Ты, как я понимаю, не удивлен, Гриднев. Так поговорим по душам, без игры в нейтралов и школьных друзей. Я молча ожидал продолжения. — Я изучил всю документацию по делу явки на Ришельевской, — продолжал Пауль. — Сообщение известного нам одессита, не очень уважаемого как личность, но вполне подходящего как свидетель, ничего не говорит о подпольной типографии, однако довольно точно описывает тебя как постоянного жильца этой квартиры. Описание подтвердили и соседи по дому. Но дело даже не в описании. Донос, мой друг, прямо обвиняет тебя в авторстве и распространении листовок со сводками Советского информбюро. Учитывая твою работу в типографии «Одесской газеты», я склонен думать, что обвинение звучит довольно правдоподобно. Подтверждается оно и другим обстоятельством: в день разгрома явки ты уцелел и по счастливой случайности встретил на Дерибасовской мою мать, которой и объявил о поисках новой квартиры. Мотивировал это выселением из дома на Канатной, хотя из того дома тебя выбросили еще в сорок первом году. Итак, все сходится, мой школьный друг. В твой нейтрализм, между прочим, я никогда не верил: такие, как ты, могут быть только врагами. Я сразу понял это после твоего отзыва об «Одесской газете» и прохвостах, на которых мы опираемся. Актер ты плохой, сыграл свою роль плохо, и спектакль, я думаю, уже окончен. Я продолжал молчать. Все было ясно. Но оказалось, еще не все. — Я мог бы тебя, конечно, подвергнуть обычной процедуре допроса, но ты слишком хлипкий, и после обработки моими молодчиками из тебя уже ничего не выжмешь. Одним подпольщиком будет меньше, только и всего. Но мне нужен не один, а вся ваша группа. И я придумал, как до нее добраться. Тебя не будут ни бить, ни подвешивать, ни прижигать сигаретами, ни топтать сапогами. Ты уйдешь отсюда таким же чистеньким и свеженьким, как пришел. Никто, кроме матери, не знает, что ты был у нас, но на нее можно положиться. С этой же минуты, однако, каждый твой шаг будет под нашим наблюдением, и с кем бы ты ни встретился, кого бы ни посетил, даже просто перемолвился с кем-либо на улице, тот будет схвачен немедленно. Знаешь, как рыбу берут сетью? Мелкую вышвыривают, крупную — на таган. Так мы и переловим всех твоих действующих и перспективных связных, а может быть, выйдем и на кого покрупнее. Игра стоит свеч, мой школьный товарищ, и мы в нее поиграем, чего бы нам это ни стоило. Что скажешь, наборщик Гриднев? Или у тебя язык отнялся от страха? — А чего ты, собственно, ждешь: согласия или отказа? Он хохотнул: — Тебе нельзя отказать в присутствии духа. Так, значит, начнем игру. Он позвонил. Вошел один из доставивших меня охранников. — Отправьте этого господина домой, — сказал гауптштурмфюрер по-немецки. — Обращаться вежливо и учтиво. Никакого насилия. Меня увели. Мария Сергеевна встретила нас с каменным лицом, не говоря ни слова, и так же молча проводила меня в мою светелку. Один из гестаповцев остался на улице. Утром его, вероятно, должны были сменить. До конца комендантского часа оставалось всего четверть суток. Тишина и темнота не только пугают, но и заставляют думать. Не зажигая света, я думал. Моя квартира считалась явочной. Не получая от меня сведений, Седой мог явиться сам или прислать связного. Из типографии меня, конечно, выкинут, сделав это в присутствии тайных или явных гестаповцев, которые наверняка проследят любую мою попытку с кем-нибудь встретиться и что-то кому-нибудь передать. Даже Тимчука я не мог предупредить о вызове в гестапо: взяли бы и Тимчука. Оставалась Галка или, вернее, ее чердак с дыркой в чулане. От дома на Маразлиевской до моего бывшего обиталища на Канатной можно было дойти за десять минут. В опасности оккупационной ночи эти десять минут могли растянуться до часа. У выхода на Маразлиевскую, как я и предполагал, дежурил шпик. Выхода на Канатную из дома не было. Но если спуститься из окна во двор, взобраться по крыше дворового погреба на двухметровую каменную стену, можно было перемахнуть во дворик другого дома, выходившего на Канатную. До цели оставалось еще четыре дома, шесть подъездов, двое ворот и кусок еще одной полуразрушенной стены — шагов семь-восемь. Можно было нарваться на патруль, а может быть, и нет: все-таки шесть подъездов и двое ворот. Тишина и темнота не только угрожают, но и хранят. Самое трудное было спуститься из окна второго этажа в чернильную мглу двора. Водопроводная труба у окна была дряхлая и ржавая, но боялся я не упасть, а загреметь. Тогда конец. Я стоял у открытого окна и слушал тишину, как сладчайшую музыку. Что значили в сравнении с ней Бетховен или Моцарт! Она пела о риске, о свободе, об удаче гасконца Бален де Балю. Я потянулся к трубе и, обхватив ее коленками, повис. Она выдержала. Медленно, метр за метром я опустился на каменные плиты двора. Никого. Канатная встретила такой же чернильной тьмой. Ни одного освещенного окна, ни одного фонаря, ни одной звезды в небе. И ни одного патрульного. Четыре дома, шесть подъездов я прошел, прижимаясь к стене. У груды битых кирпичей на мостовой по-пластунски переполз на угол бывшей улицы Бебеля — румынское название ее я забыл. Подъезд был открыт, обе двери его кто-то давно снял на растопку. Беззвучно, как кошка на охоте, я добрался до чердака. Он был заколочен, но я знал, что гвозди фальшивые — одни ржавые шляпки, и рванул дверь на себя. Она открылась со зловещим уханьем… Я так и замер в ожидании тревоги. Но тревоги не было; дырку чердака, засыпанную соломой, нашел без труда и нырнул в знакомый чуланчик, громыхнув некстати подставленным стулом. В дверь чуланчика тотчас же просунулась Галка в белой ночной рубашке — я только эту рубашку и видел, но Галка почему-то сразу разглядела меня. — Ты? — Я. — Что-нибудь случилось? — Да. — Погоди минутку, я оденусь. Я постоял в двери, потом шагнул в комнату, освещенную огарком свечи. Галка была уже в халатике и поправляла сбившиеся на лоб волосы. — Провал, — сказал я и сел к столу. Галка закрыла рот рукой, чтобы не вскрикнуть. — Седой? — Пока только я. И я рассказал Галке о разговоре в гестапо. — Надо тебе бежать. И немедленно. — Куда и как? — У тебя же есть ночной типографский пропуск. — Пропуск отобрали в гестапо. — Попробуй тем же путем вернуться домой. Я предупрежу товарищей. — О том, что я прокаженный? Не поможет. Пауль заберет всех моих школьных друзей. Для профилактики. Первой будешь ты. — Я скроюсь. Других предупредим. Важно дождаться возвращения Седого. Что-нибудь придумает. — У нас нет времени. — Что же ты предлагаешь? — Уничтожить Павла. Пострадаю только я. — Чему поможет это самопожертвование? — Подполью. Галка задумалась. В свете огарка ее лицо казалось серым, как асфальт. — Есть выход. Я разбужу Тимчука. Ты знаешь, ему нужно постучать в стенку с лестницы. Спит чутко. Через Десять минут явился Тимчук, заспанный, но одетый и с автоматом через плечо. — У нас добрых три годыны, — сказал, выслушав. — Выведу вас как арестованных без ночных пропусков, вроде бы в комендатуру, а на самом деле к Кривобалковским катакомбам. Вход знаю. — А патруль? — Прошмыгнем. Если не поверят, кончим. Больше двух человек не ходят. Ты одного, я другого. — Он протянул мне новенький «вальтер». — Стреляй в упор, прижав дуло к телу, — меньше шума. Как мы дошли, вспоминать не хотелось. Длинно и муторно. Но все-таки я доказал Паулю Гетцке, что даже один просчет в партии может окончиться поражением сильнейшего. Потом нам сказали, что гауптштурмфюрер Гетцке бренное свое существование закончил. Его убили гранатой на Соборной площади, когда он, выйдя из машины, зачем-то пошел к киоску напротив. Узнали Гетцке только по документам, так как лицо было обезображено взрывом гранаты. Повторяю, я долго жалел потом, что то была не моя граната.Я НАЧИНАЮ РОЗЫСК
Лента воспоминаний раскручивается и исчезает. Я встаю с кресла и подымаюсь на капитанскую палубу. Капитан встречает меня в точно сотканном из сахарной пудры мундире с пуговицами и нашивками, отливающими червонным золотом. Он высок, русоволос и красив, этакий экранный вариант моряка. Создает же господь бог такую картинную человеческую породу. К тому же он еще и умен. Внимательно рассмотрев мое служебное удостоверение, он приглашает меня в кабинет. Хорошие копии Тернера и обрамленная тонким багетом гравюра легендарного парусника «Катти Сарк» украшают стены. — Чем обязан? — спрашивает он. — Есть подозрение, что один из пассажиров рейса выдает себя за другого. Пока только подозрение. Возможно, это честный советский гражданин, а быть может, государственный преступник. Хорошо замаскированный и очень опасный. — Что требуется от меня? — Обеспечить мне радиотелефонную связь с Одессой, а возможно, и с Москвой. Гарантировать полную секретность операции. — А если он сойдет в первом порту? Скажем, здесь же, в Ялте, или в Сочи? — Пока он, надеюсь, ничего не подозревает. Да и невыгодно ему раскрываться: он уверен, что против него никаких доказательств. — Я не должен знать, кого вы подозреваете? — Фамилия его Сахаров. Сидит с женой за нашим столиком в ресторане. Никаких инцидентов в пути, полагаю, не будет. В радиорубке я связываюсь по радиотелефону сначала с Одессой. Полковника Евсея Руженко знаю лично, представлений не требуется, и разговор начинается сразу же, без преамбулы. — Звоню с теплохода «Иван Котляревский». Стоим в Ялте. — В отпуску? — Прервал отпуск. Срочное дело, Евсей. — Излагай. — Есть подозрительный человек среди пассажиров. Проверить надо. И немедленно. Узнай все, что известно из сохранившихся в Одессе немецких архивов времен оккупации о следователе гестапо гауптштурмфюрере Гетцке. Пауль Гетцке. Записал? Он же Павел Волошин, родившийся и учившийся в Одессе. Кстати, в одной школе со мной. Как он попал в Германию и превратился в Пауля Гетцке, рассказывать долго. Узнаешь у Тимчука — тоже соученика, а сейчас крановщика в одесском порту. Под именем Гетцке, точнее, фон Гетцке, Павел и вернулся в Одессу в сорок втором году. А в конце сорок третьего его убили на площади Советской Армии, бывшей Соборной. Подробности найдешь в архивах. Лично я думаю, что это камуфляж: убит другой с документами Гетцке, с дальним расчетом, понимаешь? В общем, для опознания мне нужны, если сохранились, его фотокарточки и образцы почерка. Разыщи также оставшихся в живых свидетелей, которые могут вспомнить что-либо о его привычках, вкусах, манерах и особенностях поведения. Меня интересуют не допросы, а поведение вне службы. Может быть, уцелели его неотправленные письма на родину или, что более вероятно, какие-нибудь записки, пометки на документах, резолюции. Имеются ли сведения о его друзьях и родственниках в Германии. — Ясно. — Материал шли по фототелеграфу на адрес нашего ведомства в Сочи, а лично со мной связывайся в любое время на теплоходе. — Бу… сде, как говорит Райкин. Все? — Пока все. В Москве тем же способом по радио связываюсь со своим непосредственным помощником и заместителем майором Корецким. Кратко объяснив, откуда и зачем я звоню, тщательно перечисляю все, что необходимо сделать сегодня и завтра. — Единственное неизвестное в уравнении — личность самого Сахарова. Подробности метаморфозы Волошин-Гетцке узнаешь от полковника Руженко в Одессе. Свяжись немедленно. Кстати, обсудишь и возможности дальнейшего превращения Гетцке в оценщика московской комиссионки Сахарова. Бесспорных доказательств этого превращения у меня нет — только личные впечатления и несколько схожих примет. Нужно что-то более веское. Вот и попробуем это веское отыскать. Возраст у Сахарова приблизительно мой: пятьдесят два — пятьдесят три. По его биографии — воевал, был в плену, освобожден американцами и возвращен (выясни: беспрепятственно или со скрипом) на родину, в Москву. Учти, что из биографии его для нас существенны главным образом довоенный и военный периоды, а также пребывание в плену вплоть до проверки его по возвращении в расположение наших частей. Очень важны фотоснимки довоенного и военного периодов, письма, записки и вообще образцы его почерка того времени. Есть ли родные и знакомые, знавшие его до войны, во время войны и особенно в лагере военнопленных до освобождения его американским командованием. Интересно, встречались ли они с ним после его возвращения из плена и не нашли ли каких-либо странностей, не соответствовавших его прежним привычкам, манерам, облику и характеру. — Месяцы работы, — слышу я в ответ. — Месяцы сожми до недели. Сегодня вторник, а в субботу я должен знать, тот ли это Сахаров, за которого он себя выдает. Держи связь со мной через капитана «Котляревского», а образцы почерка и фотоснимки передавай по фототелеграфу в Сочи, Сухуми, Батуми и Новороссийск. Завтра мы будем в Сочи, послезавтра в Сухуми и так далее. Ночь плывем, день стоим. И еще: все добытое должно извлекаться осторожно, так, чтобы у опрашиваемого не возникло никакого беспокойства и тревоги. Лучше всего действовать под видом фронтового друга, интересующегося судьбой своего соратника. Теперь главное. Доложи генералу обо всем, что я тебе рассказал, и попроси разрешения на расследование. Это прежде всего. Если разрешит — а, думаю, так и будет, — создавай группу. Подбери лучших. Виктора, например. — У Виктора срочное задание. — Ну Ермоленко. Остальных на твое усмотрение. Возвращаюсь в каюту и нахожу Галку, аппетитно высасывающую сладкую мякоть груши. — Как развиваются события? — спрашивает она, лукаво прищурив глаз. — События? Какие события? — Делаю невинное лицо и получаю в ответ Галкино привычное: — Не финти. Удивление в квадрате. Не проходит: Галка безжалостно анатомирует: — Тебя что-то заинтересовало в Тамаркином муже. Вы еще на причале с Тимчуком к нему присматривались. Думаешь, не заметила? Заметила. И за обедом ты явно играл. Во-первых, скрыл от него свою профессию… — Почему? Я и в самом деле юрист. — Но не член коллегии защитников. Во-вторых, твои актерские интонации — я-то их отлично знаю. Наигранное безразличие и чем-то обостренный интерес. Так ведь? — Допустим. — Может быть, это не государственная тайна и не закрытая для простого смертного? — Для тебя нет. Даже больше: твоя работа в институте криминалистики, близость к одному нашему общему делу в прошлом, твой здравый смысл и умение отличать в поведении человека ложь от правды и фальшь от искренности позволяют включить тебя в группу. — Ничего не понимаю. Какая группа? — Ты и я. Нас поддерживают одновременно Москва и Одесса. — Шутишь? — Насчет группы — да. А серьезно — начинаем расследование, как только придет «добро» из Москвы. Словом, отпуск кончился, как верно отметил упомянутый тобою Тимчук. — А нельзя без загадок? — Загадка только одна. Кто такой Сахаров? — Откуда этот внезапный и непонятный для меня интерес? Пришлось раскрутить перед Галкой ту же ленту воспоминаний. Галка слушала серьезно и взволнованно, отражая на лице всю смену эмоций — от тревоги до недоверчивости. К концу моего рассказа последняя явно пересилила. — Пауль Гетцке — Сахаров? Но его же убили в конце сорок третьего. — По лицу убитого узнать не могли: оно было обезображено взрывом гранаты. Личность его установлена только по документам. — Но задание ликвидировать Гетцке было же согласовано с Седым. — Несомненно. Но в кого бросил гранату Терентий Саблин, боевик из второй группы Седого, мы так и не узнали. Терентий был убит осколком той же гранаты. — Значит, предполагаешь камуфляж? — Не я один. Предполагал и Седой. Только у нас не было доказательств. — А какие были основания для такого предположения? — Вторая граната. Один из наших пареньков, страховавший Терентия, слышал два взрыва, один за другим. У Терентия была всего одна граната. Кто же бросил вторую? И зачем? Возникло предположение, что о подготовке покушения на Гетцке знали в гестапо и вместо Пауля поставили другого с его документами. — Не могу понять, — вздыхает Галка. — Чего? — Смысл подстановки ясен. А вторая граната зачем? — Чтобы нельзя было опознать убитого. Терентий бросал под ноги — удар мог пощадить лицо. Вторую гранату бросили в голову. — Не проще ли было Паулю перевестись из Одессы, не прибегая к столь сложным и кровавым мистификациям? Я уже не могу сидеть. Я хожу взад и вперед между койками каюты, размышляя вслух. — Видишь ли, во-первых, Волошин-Гетцке игрок. В картах — блеф и риск, в шахматах — неожиданность и атака. Таков он и в жизни. «Проще» для него неинтересный тактический ход. Во-вторых, у берлинского начальства Пауля были, по-видимому, на него свои расчеты. Уже тогда гитлеровская разведка забрасывала к нам и в сопредельные славянские страны специально подобранных агентов на длительное оседание. Посылали человека на случай, если понадобится в будущем. Жил бы законспирированный, незаметный до того, пока не потребуется, Гетцке был для этого идеальным кандидатом. Родной для него русский язык, знание правовых норм и моральных устоев советского общества, его эстетических вкусов и бытовых черт плюс преуспевающая деятельность на гестаповском поприще и наиболее ценимые качества империалистического разведчика — ум, хитрость, жестокость и неразборчивость в средствах. Все остальное уже было делом техники. — А почему ты решил, что Сахаров — это Волошин? — Узнал его. И не я один. — Видела. На причале. — Тон Галки уже становился чуть ироничным. — Интересно, по каким признакам вы его узнали? Я, например, и сейчас не узнаю. — Ты знала его мальчиком. В эсэсовском мундире не видела. В «Пассаже» он не жил, по улицам разъезжал в машине, а в гестапо, к счастью, тебя не допрашивал. — Пусть так. Но за три десятка лет человек иногда меняется до неузнаваемости. — Например, отращивает бороду. — Давай без сарказма, — уже сердится Галка. — Я не знаю, потому и спрашиваю. — А я и объясняю. Ты знала Павлика Волошина, но не встречалась с Паулем Гетцке. А мы с Тимчуком встречались. И неоднократно. Лицом к лицу, как говорится. — И что же в лице Сахарова оказалось волошинским? — Во-первых, глаза. Или, точнее, что-то общее в них, собирательное: холодное недоверие к собеседнику, колючий огонек, умение скрывать что-то свое подспудное, другим неизвестное. Я не могу сформулировать точно эту общность глаз, но, заглянув в глаза Сахарова, внутренне содрогнулся — столь знакомыми они мне показались. — Это не для прокуратуры. — Конечно. Впечатление не доказательство: показалось, приснилось, привиделось. Есть, правда, и другая общность портрета. Похожи лоб, высокий взлет бровей, ноздри хищника, маленькие уши. Увы, все это не «особые приметы» — найдешь у множества лиц в толпе. Но есть какие-то штрихи индивидуальности, неповторимые оттенки личности, характерные, присущие только одному человеку привычки. Один пробует языком когда-то беспокоивший его зуб, отчего лицо чуть-чуть кривится и морщится. Другой в минуту задумчивости теребит мочку уха, третий предпочитает чесать затылок, четвертый полуприкрывает рукою рот, когда удивляется. По таким привычкам часто безошибочно угадываешь сходство. Галка напряженно молчит, думает. Глаза по-прежнему недоверчивы. — У Павлика была своя манера входить в воду с пляжа, — вспоминает она, — нырял под волну на мелководье и плыл под водой, пока позволяло дыхание, затем выскакивал на волну, как дельфин, и уплывал далеко в море, почти невидный с берега. Впрочем, это тоже не «особая примета». Так купаются многие. — В том числе и Сахаров. — Где это ты видел? — На пляже в Ялте, когда вы уезжали на экскурсию. — Смешно. — Скорее любопытно. Не «особая примета», согласен. Но есть и особая. У Павлика Волошина, когда он начал курить, появилась и своя манера закуривать: затянуться, вынуть сигарету изо рта двумя пальцами, отставив мизинец — этакий одесский лихаческий шик, — и посмотреть на тлеющий огонек папиросы. Точь-в-точь так же закуривает и Сахаров. Привычка настолько слилась с его личностью, что он забыл о ней как об «особой примете». Мелкий просчет, но просчет. — А ты рискнешь утверждать, что такая же мальчишеская привычка не сохранилась с детских лет и у некоего Сахарова? — Не рискну, конечно. Приметы не убеждают, а настораживают. — А шрам? — вдруг вспоминает Галка. — У Павлика его не было. — Возможна пластическая операция. — Не подгоняешь ли ты доказательства к версии? Бывают такие следователи. — Знаю, что бывают. Повторяю, я еще ни в чем не убежден, но причин для настороженности все больше и больше. Тут уже не только мистика интуиции и случайность совпадений «особых примет», настораживают и шероховатости в биографии Сахарова. — Успел узнать? — Да, из его рассказа. Кстати, говорит о важных событиях с полнейшим безразличием к теме, с какой-то подчеркнутой равнодушной интонацией. Как о нечто само собою разумеющемся. Воевал, был в плену, сидел в лагере для военнопленных, освобожден американцами, и, по-видимому, без всяких сложностей. — Н-да… — задумывается Галка. Искорки недоверия в ее глазах гаснут. Глаза уже не щурятся, они широко открыты, сосредоточенны и серьезны. — Обычный в те годы способ заброски агента, — говорит она. — Придется проверять по двум каналам. — Уже начал. Пока ты любовалась алупкинскими красотами, я переговорил с Москвой и Одессой. Завтра получу первую информацию. Разговор обрывается, мы приходим к одной мысли, которой будут теперь отданы все наши думы, силы и чувства. — А все-таки жаль, — говорит она, — что отпуск кончился.Сочи
Я РАЗГОВАРИВАЮ С ОДЕССОЙ
Завтракаем на подходе к Сочи. На палубе тридцать градусов в тени, а здесь, в ресторане, кондиционеры снижают жару до восемнадцати. Свежо и прохладно. Официантки в накрахмаленных фартучках разносят кофе по-варшавски с пастеризованным молоком. Разговор не клеится. Сахаров, как и вчера, молчалив и сумрачен. Тамара злится — должно быть, поссорилась с мужем; вышла к завтраку с покрасневшими веками и разговаривает только с Галкой о предстоящей экскурсии в Мацесту и Хосту. Я молча дожевываю сырники и вздыхаю: — Предпочел бы хороший бифштекс по-деревенски. Когда-то у Волошиных их очень хорошо готовила домработница Васса. Он спрашивает: — Почему по-деревенски? — С поджаренным луком, — поясняю я. — Так он когда-то именовался в ресторанных меню. — Не знаю, — пожимает он плечами, — до войны по ресторанам не хаживал. А сейчас они без названия. Просто бифштекс с луком. Лучше всего их готовят в Берлине. — В Берлине? — недоумеваю я. — Я имею в виду ресторан «Берлин», — снисходительно поясняет он. — В Одессе в «Лондонской» готовят не хуже, — заступается за Одессу Галка. — Что это «Лондонская»? — интересуется Сахаров. Я вмешиваюсь: — Так называлась раньше гостиница «Одесса» на Приморском бульваре. По привычке старые одесситы ее и сейчас называют «Лондонской». — С раскрашенным Нептуном в садике? — улыбается Сахаров. — В воскресенье с Тамарой там обедали. Неплохо. А вы, значит, тоже одессит? Спрашивает он, как обычно, лениво, без особой заинтересованности. Именно так спросил бы Сахаров. Если же это Пауль, то не узнать меня он не мог, и вопрос, конечно, наигран. Кстати говоря, мастерски, по актерской терминологии — «в образе». Ну а мой «образ» позволяет не лгать. — Конечно, одессит. Вместе с Галиной в одной школе учились. — И воевали в Одессе? — Оба. Вместе были в оккупации. В партизанском подполье. — Страшно было? — На войне везде страшно. — Верно, — соглашается он. — В плену тоже было горше горького. А что сильнее — страх перед смертью в открытом бою или ежедневный поединок с гестапо? Если Сахаров — это Пауль, то он допускает просчет. Подлинный Сахаров не должен был бы интересоваться чужой и безразличной ему Одессой, да еще в далекие оккупационные годы. Тогда ему, Сахарову, как говорит он сейчас, самому было несладко, и обмениваться воспоминаниями такой Сахаров едва ли бы стал. Тут Пауль из «образа» вышел. И я с готовностью подымаю перчатку. — Страх смерти на войне дело привычное. О нем забываешь, в подполье тем более. Нет ни бомбежек, ни артобстрела. Поединок с гестапо, конечно, не игра в очко, но мы выигрывали и такие поединки. Да и не раз. Я посмотрел на Галку — она порывалась что-то сказать, но не сказала. И Сахаров перехватил этот взгляд. Он снова «в образе», задумчивый и незаинтересованный. Понял ли он свой актерский просчет, или настолько убежден в своей неразоблачимости, что ничего и никого не боится? Это совсем в духе Пауля. Игрок всегда игрок — врожденное свойство характера не заслонишь никакой маской. Похоже, что он играет наверняка. Узнал, но не боится, хорошо замаскирован и может поиграть со мной в кошки-мышки. Пока мои данные — воспоминания, ощущения, приметы, предположения — все это, как говорит Галка, не для прокуратуры. Акул не ловят на удочку — нужен гарпун. Может быть, мне даст его Одесса или Москва? Долго ждать не приходится. К столу подходит официантка и, нагнувшись ко мне, тихо спрашивает: — Вы товарищ Гриднев Александр Романович? — Так точно. — Капитан вас просит подняться к нему на мостик. — Интересно, зачем это вы ему понадобились? — неожиданно любопытствует Сахаров. Я мгновенно импровизирую: — Так ведь это наш старый одесский знакомый. С его помощью мы и получили эту каюту. Ведь билеты на круиз давно распроданы. — Я знаю, — тянет Сахаров. — А как зовут вашего капитана? — Невельский Борис Арсентьевич. Старинная родовая фамилия русских мореплавателей и землепроходцев. Хорошо, что я предусмотрительно узналимя и отчество капитана. Но с какой стати Сахаров спросил меня об этом? Проверить? Поймать на сымпровизированной выдумке? Пожалуй, когда я уйду, он с пристрастием допросит Галку. Ничего, она вывернется. Я подымаюсь на капитанскую палубу, припоминая все сказанное за столом. Ничего особенного. Мелочи, нюансы. Например, демонстративное подчеркивание своего незнания Одессы, его интерес к нашим переживаниям в одесском подполье, но, может быть, мне только это показалось. Ладно, подождем. Капитан выходит навстречу мне к верхнему трапу. — Скорее в радиорубку, — торопит он. — Вас уже ждут. Меня действительно ждет у радиотелефона в Одессе Евсей Руженко. — Долго же ты добирался из ресторана. Минут десять жду, — ворчит он. — Да, но, сам понимаешь, я не хотел показать Сахарову, что спешу к телефону. Тем более это его, кажется, заинтересовало. — Сахаров — это воскресший Гетцке? — Есть такая думка. — Подтверждается думка. Донесением Тележникова секретарю подпольного райкома. — Какого Тележникова? — Ты же в его группе был. Седого не помнишь? — Седого забыть нельзя. Забыл, что он Тележников. Старею. Так о чем донесение? — О двух гранатах. Не наша граната убила Гетцке. — Я это знаю. — Тележников уверен, что нам вместо Гетцке подсунули другого. — Это я тоже знаю. Меня интересует его досье. — Досье нет. Или его вообще не было, или его изъяли заранее, еще до отступления. — Я так и предполагал. Что же удалось узнать? — Мало. Нет ни его фото, ни образцов почерка. Ни одной его записки, ни одного документа, им подписанного. Со свидетелями его деятельности тоже не блеск. Никто из попавших к нему в лапы не уцелел. Хозяйка квартиры, где он жил, бесследно исчезла во время отступления последних немецких частей из Одессы. Осталась в живых лишь ее дочь, находившаяся в то время у родственников в Лузановке. Ей было тогда десять лет, и многого она, естественно, не запомнила. Помнит красивого офицера, хорошо говорившего по-русски, нигде не сорившего и даже пепел от сигарет никогда не ронявшего на пол. Вот ее собственные слова: «Он курил только безмундштучные сигареты, курил медленно, любуясь столбиком пепла. Как-то подозвал меня и сказал: „Смотри, девочка, как умирает сигарета. Словно человек. Остается труп, прах, который рассыплется“. Иногда он с мамой раскладывал пасьянсы и даже научил ее какому-то особенному, не помню названия. Кажется, по имени какого-то короля или Бисмарка». — А еще? — нажимаю я. — Еще Тимчук. — Тимчука оставь. Я уже говорил с ним в Одессе. — Он добавляет одну деталь, о которой тебе не рассказывал. В минуты раздражения или недовольства чем-либо Гетцке кусал ногти. Точнее, один только ноготь. На мизинце левой руки он всегда был обкусан. — Это все? — Скажешь, мало за одни сутки? Но мы еще кое-что выловили. Мать Гетцке, Мария Сергеевна Волошина, до сих пор живет в Одессе. Говорит следующее: «Павлик и в детстве кусал мизинец, я корила его, даже по рукам била — не отучила. Осталась эта привычка у него и когда он вернулся сюда уже в роли немецкого офицера. Я уже не делала ему замечаний: он был совсем, совсем чужой, даже не русский. Друзей у него не было, девушек его я не знаю. Хотя, правда, он рассказывал мне об одной, дочери какого-то виноторговца в Берлине. Имя ее Герта Циммер, я запомнила точно: очень уж смешная фамилия. Павлик говорил, что даже хотел жениться на ней, но немецкая мачеха его, баронесса, не дала согласия на брак, пригрозив, что лишит наследства». Пока все. — Как ты сказал — Герта Циммер? — Точно. — Спасибо. Это уже улов. Продолжай в том же духе. Документацию перешли мне в Москву. А связь поддерживай с «Котляревским» с ведома и разрешения капитана. — Хороший мужик. Знаю. — Очень уж элегантен. — В загранрейсах требуется. И в своем деле, и в отношениях с людьми безупречен. Можешь полагаться на него в любой ситуации. Капитан предупредительно встречает меня у входа в свою суперкаюту: — Заходите, Александр Романович. Очень хочется полюбопытствовать. — Что ж, полюбопытствуйте. — Угощу вас настоящим ямайским ромом, остался от марсельского рейса. — В другой раз с удовольствием. А сейчас, сами понимаете, разговаривал с Одессой, надо кое-что осмыслить и взвесить. — А как ведет себя неизвестный в заданном уравнении? — С отменным спокойствием. — Не сбежит? — Не думаю. Очень в себе уверен. Кстати, он был за столом в ресторане, когда официантка передала мне ваше приглашение, и крайне заинтересовался. Ну, я и сымпровизировал, сказав, что мы с вами знакомы еще по Одессе и даже каюту на теплоходе получили с вашей помощью. Не возражаете? Тогда просьба: разрешите зайти к вам с женой, когда будете свободны. Версия закрепится, и я могу уже без подозрений навещать вас, когда это потребуется. — Превосходно, — дружески улыбается капитан, — сегодня же вечером и приходите ужинать. Уверяю вас, что ужин будет не хуже, чем в ресторане. — И с ямайским ромом? — спросил я. — И с ямайским ромом.Я РАЗГОВАРИВАЮ С МОСКВОЙ
Галка ждет меня в каюте переодетая в другое платье и в новые туфли — видимо, собралась на прогулку в город. — На экскурсию? — интересуюсь я. — Нет, решили на городской пляж с Тамарой и Сахаровым. — Он тоже едет? — А ты разве нет? — Не могу. Жду вызова из Москвы. Скажешь, что не хочу тащиться по жаре через весь город. Обойдусь душем. Если спросит, конечно. — Спросит. Он явно обеспокоен твоим визитом к капитану. Я поддержала версию о знакомстве, не знаю, насколько убедительно, но поддержала. — Сегодня вечером поддержим ее оба. Мы ужинаем не в ресторане, а у капитана. По его специальному приглашению. Обязательно похвастай этим перед Сахаровым. Не специально, а к слову, без нажима. Ну а в разговоре обрати внимание на левый мизинец Сахарова. — Ноготь обкусан? — улыбается Галка. — Тоже мне сыщик. Я это давно заметила: он кусает его, когда задумывается. Или просто проводит кончиком языка, когда кусать уже нечего. Скверная привычка, но едва ли веское доказательство. — Даже не доказательство, а штришок. Еще один штришок к портрету Волошина-Гетцке. Ну а на пляже ты уточни еще один. Когда он заплывет подальше от берега и вы останетесь с Тамарой вдвоем, заговори о картах. Найди повод. Скажем, преферанс, покер, смотря на что клюнет. Упомяни и о пасьянсах. Обязательно о пасьянсах. — Терпеть не могу пасьянсов. Что-то вроде козла, только без стука и в одиночку. — Ну а по роли пасьянсы — твое любимое развлечение. Узнай, любит ли она их, если любит, обещай научить ее пасьянсу какого-то немецкого короля или Бисмарка. Старик пробавлялся ими в часы досуга. Галка настораживается. — Зачем тебе это? — Проверить одесскую информацию. — Есть что-нибудь интересное? — Мало. Перерыли все архивы — и ничего. Ни досье, ни фото, ни приказов, ни докладов, даже подписи нет. А образец почерка, сама знаешь, одна из вернейших «особых примет». Можно изменить биографию, даже внешность, только не почерк: специалисты-графологи всегда найдут общность, как его ни меняй. И если почерк настоящего Сахарова — это почерк бывшего Пауля Гетцке, значит, на руках у меня по меньшей мере козырной туз. — Может быть, жива его мать? — Жива и живет в том же доме. Но он никогда не писал ей. Ни одного письма, даже поздравительной открытки. — А если потревожите его немецкую мачеху? Возможно, она тоже жива. — Где? В Мюнхене? Попытаться, конечно, можно, но исход сомнителен. Есть другой вариант. По словам Волошиной, у Пауля в Берлине была невеста, некая Герта Циммер. Немцам свойственна сентиментальность, и возможно, что Герта Циммер, если она жива и живет в Берлине — пусть в Западном, найдем, — все еще хранит заветное письмо или фотокарточку с трогательной надписью любимого, разлученного с нею навеки. — Зыбко все это, — вздыхает Галка. — Не мог он предусмотреть всего. Где-нибудь да просчитался, какой-нибудь след да оставил. Хоть кончик ниточки. А мы ее вытянем. С этой зыбкой надеждой я и остаюсь на опустевшем теплоходе. Бассейн спущен. Без воды он неприветлив и некрасив. Снова возвращаюсь в каюту в ожидании вызова из Москвы. Но Москва молчит. Неужели Корецкий ничего не узнал? Не может быть. Что-то уже наверняка есть — накапливает, скряга, информацию. Уже час прошел — Сахаровы вот-вот вернутся. И, вспомнив к случаю о Магомете и горе, решительно подымаюсь в радиорубку. Снова связываюсь по радиотелефону с Москвой. — Почему не выходишь на связь? — говорю я недовольно замещающему меня Корецкому. Он сдержан и чуть-чуть суховат. — Торопитесь, товарищ полковник. — Меня, между прочим, зовут Александр Романович. А тороплюсь не я — время торопит. Есть что-нибудь? — Прежде всего был у генерала. Доложил все подробно. Он заинтересован, да и знает вашу интуицию. Короче, есть «добро». И по делу кое-что есть… — Давай кое-что. — Сахаров живет в Москве с сорок шестого. Окончил Плехановский в пятидесятом. Работал экономистом в разных торгах, сейчас в комиссионке на Арбате, соблазнился, должно быть, приватными доходами, которые учесть трудно. Женат с пятьдесят девятого, до этого жил холостяком, обедал по ресторанам, вечеринки, гости, девушки, но сохранил, в общем, репутацию солидного, сдержанного человека. Жена — косметичка по специальности, практикует дома. Детей нет. — Все это преамбула, мне знакомая. Дальше. — Не судился и под следствием не был. Служебные характеристики безупречны. Образ жизни замкнутый, хотя профессия его и жены предполагает обширный круг знакомых. Но ни с кем из них Сахаровы не поддерживают близких отношений. Это точно. Даже телефон у них звонит крайне редко. — Откуда это известно? — От соседей. Телефон у Сахаровых в передней. Стенка тонкая. Каждый звонок слышен. — Беллетристика. Давай факты. — Есть одна странность. Он побывал в двух лагерях для перемещенных. Мотивировка правдоподобная. Один разукрупнялся, в другой перевели. Перебросили партию, не подбирал близких ему дружков. В результате в группе одновременно с ним проходивших проверку не оказалось ни одного, кто бы хорошо знал его: пробыли вместе не более месяца. Но гитлеровский концлагерь, где он отбывал заключение, Сахаров назвал точно, перечислил все лагерное начальство и даже часть заключенных, находившихся вместе в одном бараке. Проверили — все совпало, только товарищей по заключению не нашли. Назвал Сахаров и часть, где воевал, имена и фамилии командира и политрука, точно описал места, где попали в окружение, и даже упомянул солдат, вместе с ним отстреливавшихся до последнего патрона. И еще странность: в списках части, вернее, остатков ее, вышедших из окружения, нашли его имя, и документы нашли, и фотокарточка подтвердила сходство, а вот свидетелей, лично знавших его, не обнаружилось: кто убит, кто в плену, кто без вести пропал, не оставив следа на земле. Много таких было, как Сахаров, вот и ограничились тем, что нашли и узнали. Ну, проштемпелевали и отпустили домой в Апрелевку, в сорока километрах от Москвы. — Ты говоришь, фотокарточка. Где она, эта карточка? — В протоколах упоминается, а в деле нет. — А что есть? — Фотоснимки Сахарова и образцы его почерка в анкетах и служебных документах только послевоенные. Ни одного довоенного документа мы, к сожалению, не нашли. — А у родственников? Есть у него какие-нибудь родственники? — спрашиваю я уже без всякой надежды. И получаю в ответ настолько неожиданное, что каменею, едва не уронив трубку. — Представьте себе, есть, полковник. Мать. — Жива? — Голос у меня срывается на шепот. — Живет в Апрелевке под Москвой, — отчеканивает Корецкий с многозначительной, слишком многозначительной интонацией. Я молчу. Молча ждет и Корецкий. Живая мать, признавшая сына после возвращения его из армии. Это, как говорят на ринге, нокаут. Все здание моих предположений, догадок и примет рассыпается, как детский домик из кубиков. А может быть, она слепа, близорука, психически ненормальна? Слабая надежда… — Говорили с ней? — Говорили. — Кто? — Лейтенант Ермоленко. Он и сейчас в Апрелевке. Получил полную, хотя и неутешительную, информацию. — Подробнее. — Мать Сахарова зовут, как в пьесах Островского, — Анфиса Егоровна. Год рождения тысяча девятисотый. По словам Ермоленко, крепкая и легкая на подъем старуха. Муж умер в тридцатых годах от заражения крови И до войны и в войну работала учительницей младших классов в апрелевской средней школе, в пятьдесят шестом ушла на пенсию, как она говорит, хозяйство восстановить — дом, огород, ягодник. Денег у нее много. Пенсия, клубникой приторговывает, да сын помогает. Средства у него, мол, неограниченные. Неограниченные. Раз. Есть зацепка. К вопросу о средствах еще вернемся. — Легко ли узнала сына после его возвращения? — Говорит, что сразу, несмотря на бороду. Тот же рост, тот же голос и шрамик, памятный с детства. Внимательный, говорит, сынок, памятливый. Все, мол, вспомнил, даже ее материнские наставления и горести. — Всегда был таким? — Ермоленко ее подлинные слова записал. Неслух неслухом был, говорит, дитя малое, ребенок, но с годами к матери добрее стал. А в войну возмужал, горя да страху натерпелся, вот и понял, что ближе матери человека нет. Тут Ермоленко и спроси: в чем же эта близость выражается, часто ли они видятся, навещает ли он ее, один или с женой, а может, она сама к ним ездит? Старуха замялась. Ермоленко подчеркивает точно, что замялась, смутилась даже. Оказывается, они почти и не видятся. Наезжает, говорит, а как часто — мнется. Некогда, мол, ему, большой человек, занятой. А она сама в Москву не ездит — старость да хвори. Была один раз — заметьте, Александр Романович, всего один раз за годы его семейной жизни, — с женой познакомилась, а говорить о ней не хочет: подходящая, мол, жена, интеллигентная. И сразу разговор оборвала, словно спохватилась, что много сказала. Хороший, мол, сын, ласковый, хоть и не навещает, а письма и деньги шлет аккуратно. Вот вам и близость, которая зиждется только на взносах в материнскую кассу. — А велики ли взносы? — От прямого ответа уклонилась: не обижает, батюшка, не жалуюсь. По мнению Ермоленко, старуха двулична, и я, пожалуй, с этим согласен. Язык нарочито простоватый — этакая деревенская кумушка, — а ведь по профессии учительница с хорошим знанием русского языка. Не та речевая манера. А зачем? Чтобы вернее с толку сбить? Ну, сыновние взносы-то мы проверили. Раза четыре в год она получает почтовыми переводами по пятьсот-шестьсот рублей. А когда Сахаров сам приезжает — не часто, раз в два-три года, — материнская касса опять пополняется. Уже натурой. Вот показания соседки, портнихи из местного ателье. Зачитать? Не загружаем коммуникации? — Зачитывай. Пока не гонят. — «Когда сын в гостях, двери всегда на запоре, даже окна зашторивают. Сын гостит недолго — час, а то и меньше — и тут же отбывает на машине, у него собственная, сам правит. А петом Анфиса хвастается обновами: то пальто демисезонное с норкой, то шуба меховая, то трикотаж импортный. Опять, говорит, прибарахлилась, спасибо сыночку — уважает». А не кажется ли вам, Александр Романович, что уважение это больше на подкуп смахивает? — С каких пор он высылает ей деньги? — С первых же дней, как обосновался в Москве, с сорок шестого. — Даже в студенческие годы, когда жил на стипендию? — Сахарова говорит, что он и тогда хорошо подрабатывал. Переводами с немецкого для научных журналов. Язык, мол, он в плену выучил. Выучил. Что может выучить узник гитлеровского концлагеря, кроме приказов и ругани охранников и капо? — Мы проверяем бухгалтерские архивы соответствующих издательств, — говорит Корецкий. — Гонораров за переводы Сахарова пока не обнаружено. Еще зацепка. Я вспоминаю реплику Корецкого о том, что Сахаров иногда пишет матери. — Она сама читает письма? — Сама. — И почерк не показался ей изменившимся? — Он выстукивает письма на машинке, чтобы ей, мол, было легче читать. Интересно, зачем оценщику комиссионного магазина так уж необходима пишущая машинка? Неужели только для того, чтобы облегчить чтение писем старушке матери? Непохоже на Пауля, даже в его новой роли. Вероятнее другое: его корреспонденция шире, и среди его адресатов есть лица, кому не следует писать от руки. — Ермоленко интересовался, — продолжает Корецкий, — не сохранились ли у нее ученические тетради сына, его довоенные письма, поздравительные открытки или документы, лично им написанные. Оказывается, все погибло в конце войны в их сгоревшем от пожара деревянном домике. Самому Сахарову едва удалось спастись, настолько внезапным и сильным был вспыхнувший в доме пожар. — Причины пожара? — Она не знает. Решили, что поджег спьяну случайный прохожий, бросивший окурок на крыльцо, где стояла неубранная корзина с мусором, — забора тогда у дома не было. Я думаю. Могла ли гитлеровская разведка вовремя позаботиться об уничтожении всех следов, связывающих Сахарова с его прошлым? Могла, конечно. И старуху, возможно, ожидала та же участь, что и ученические тетради ее сына. И только безоговорочное признание его сыном, пожалуй, и сохранило ей жизнь, да еще и создало сверхнадежное прикрытие преступнику. А было ли оно честным, это признание, уже не установишь. Минимум сорок тысяч рублей в нынешнем исчислении, полученных за двадцать пять лет от «сына», плюс подарки, общая стоимость которых, вероятно, также исчисляется в тысячах, прочно и глубоко похоронили все ее сомнения, даже если они и были. — А как отнеслась она к расспросам Ермоленко? Насторожит старуху — насторожится и Сахаров. Что ей стоит предупредить его? — Любую телеграмму можно прочитать на теплоходе. У вас же в радиорубке. А я думаю, что никакой телеграммы не будет. Схитрил Ермоленко. Представился ей как журналист, собирающий материал для очерков о мужестве советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны, в частности о тех, кто остался в живых после гитлеровской лагерной мясорубки. Старуха клюнула наживку не задумываясь. — Что же сейчас задерживает Ермоленко? — спрашиваю я. — Надеется разыскать друзей детства Сахарова или тех, кто знал его до войны и, может быть, видел после возвращения. — Когда же он появится? — Видимо, завтра. Так условились. — Ну а теперь условимся мы. Нужны подробности первой встречи Сахарова с матерью. Может быть, есть свидетели, кто-либо присутствовал, заметил что-нибудь — ну, удивление или недоверие: с трудом узнала, скажем. Ее рассказ Ермоленко уже обусловлен сложившимися отношениями Сахаровой и ее псевдосына. Интересны же ее первые рассказы о встрече — наверное, говорила кому-нибудь: ведь в ее окружении это сенсация. И еще. Проведем другую касательную к биографии Сахарова. Свяжись с берлинской госбезопасностью и попроси о помощи. Хорошо бы узнать: жива ли и где находится бывшая невеста гауптштурмфюрера Пауля Гетцке, некая Герта Циммер, дочь известного виноторговца, и в случае ее досягаемости — не сохранились ли у нее какие-либо письма или фотокарточки с автографом Гетцке. Если да — пусть окажут любезность: переснимут и вышлют. — Попробую, — соглашается Корецкий. — Действуй, — напутствую я его и выключаю связь. Теплоход стоит у сочинского причала. В коридорах, салонах и барах ни души — все в городе. Только у бассейна на шлюпочной палубе суетится молодежь: его снова наполнили, и девушки в купальниках, подсвеченные снизу, кажутся пестрыми экзотическими рыбами в зеленоватой цистерне аквариума. Здесь мне делать нечего — стар. Может быть, стар и для молчаливого поединка, который начал с надеждой выиграть без осечки. Смогу ли? Настораживает не только железобетон легенды, но и личность ею прикрытого. Пауль Гетцке не просто военный преступник, скрывшийся в тихом омуте заурядной московской комиссионки. Залег сом на дно под корягу и не подает признаков жизни. Нет! Не зря же его дублировали во встрече со смертью в оккупированной Одессе, и не зря он дублировал незаметно исчезнувшего в германском концлагере Сахарова. Как это было сделано, выяснится впоследствии, а зачем, ясно и сейчас. Пока же сом лежит под корягой.Я РАССКАЗЫВАЮ ГАЛКЕ
С пляжа Галка возвращается одна — Сахаровы остались обедать в городе. — А потом снова на пляж. У нее даже шкура задубела на солнце, а он из воды не вылезает. Мы с Тамарой три часа провалялись на пляже, пока он плавал. — За буйки? — Конечно. Марафонский заплыв на полдня. И знаешь что? Мне все кажется, что он не просто плавает, не из удовольствия… Галка колеблется, не решаясь высказаться определеннее. — Тренируется? — подсказываю я. — Вот именно. Ты не боишься, что он сбежит, скажем, в Батуми? Граница рядом. — Не сбежит. Во-первых, это не просто граница, это наша граница. Даже с аквалангом не проскользнешь. А во-вторых, он слишком уверен в своей безопасности. При желании он мог бы остаться за пределами нашей страны в одной из своих туристских поездок. Ведь у него наверняка были такие поездки? — Тамара говорит, что были. Кажется, в Чехословакию ездили или в Швецию. Куда-то еще. — В Чехословакию он ездил, возможно, только для связи с кем-нибудь, кто одновременно туда приезжал с Запада. А в Швеции вполне мог остаться. Но не остался, как видишь. — Тогда не возникала опасность разоблачения. Галка, наверно, права. Опасность разоблачения возникла. Он, безусловно, узнал и меня и Галку еще на морском вокзале в Одессе. Поверил ли он в мой юридический камуфляж? Вероятно, нет. Члена коллегии защитников я сыграл наудачу с апломбом, но, как говорится, по касательной, неглубоко и неубедительно. Близость Галки к криминалистике, должно быть, насторожила. Я пробую представить себя на его месте. Первая реакция, понятно, настороженность. Гриднев и Галка, конечно, узнали его, но скрывают, делают вид, что поверили в гедониста из комиссионного магазина, любителя вкусно и сытно жить. А если игра, то зачем? Сомневаются, не убеждены, растеряны или же, замаскировавшись, решительно начали, как у них говорят, разоблачение военного преступника? Любительски неумело или опираясь на специальную выучку профессионалов? Вероятнее первое. Сначала присмотреться, прислушаться, разглядеть получше, проверить поточнее, а потом уже действовать, на ходу передоверяя розыск специалистам этого дела. А куда пойдут специалисты? В архивы, искать следы Пауля Гетцке — будем считаться с их терминологией, — казнен по приговору одесского подполья, а довоенный Сахаров почему-то не оставил следов. Ни школьных тетрадок, ни дневников, ни писем. Документация Наро-Фоминского райвоенкомата, где призывался Сахаров, утрачена в годы войны, архивы гитлеровских концлагерей уничтожены в панике германского отступления, документированная биография Сахарова начинается с возвращения из плена. Чистенькая биография, без пятнышка, подкрепленная неопровержимым свидетельством матери, радостно встретившей своего без вести пропавшего сына. И уймутся сыщики, как бы ни божился Гриднев, что я — Гетцке, а не Сахаров. Так предположительно может рассуждать Сахаров, судя по его поведению на борту «Котляревского». А заплывы? Почему же не поплавать, если умеешь. — Между прочим, все сходится, даже пасьянсы. Только не Тамара — он сам их раскладывает. Страстишка. О пасьянсе Бисмарка поэтому пришлось умолчать. Тон у Галки бодрый, с этакой самоуверенностью удачливого рыбака, твердо рассчитывающего на то, что рыба от него не уйдет. Охладим. — Пасьянсы, Галочка, на весах Фемиды как доказательство идентичности Сахаров-Гетцке весят не больше, чем его манера закуривать, купаться и грызть ногти. А на его чаше весов — гиря. Весомая. Короче говоря, в Апрелевке, под Москвой, живет родная мать Сахарова. Галка недоумевает. — Почему в Апрелевке? Ты же сказал — в Одессе. — В Одессе живет Волошина, а в Апрелевке — Сахарова. Галка пугается. — Мать настоящего? — Мать настоящего. — Неужели же она поверила и признала этого? — Увы. — Значит, мы ошиблись. У Галки бледность сквозь загар матово-серая. Я рассказываю Галке о послевоенной биографии Сахарова, не скрывая своих сомнений. Ошиблись? Не убежден. Конечно, признание матери — беспроигрышный вариант, но… — Что меня смущает, Галчонок? Личность матери. Какая мать — не пенсионерка, не инвалид, а работающая, с вполне приличным заработком, согласится получать от сына-студента, не имеющего ни специальности, ни штатной работы, нынешних двести, а тогда по две тысячи рублей ежемесячно? Говорит, что сын хорошо подрабатывал переводами с немецкого языка. Оставим «язык» и вникнем в «переводы». Можно ли было зарабатывать в конце сороковых — в начале пятидесятых годов, не будучи специалистом-переводчиком, случайными переводами не менее трех тысяч в месяц? Две ведь он посылал матери, а самому что-то нужно было: квартира, питание, транспорт, кино, девушки — не монахом жил. И посуди, какая мать, даже простая полуграмотная женщина, не заподозрила бы чего-то нечистого в происхождении таких денег у рядового студента? А эта — учительница, интеллигентка — даже не задумалась и, хотя учителей в подмосковных школах совсем не избыток, тотчас же ушла на пенсию, как только закон позволил. Чтобы ничто не мешало клубничку возделывать да на рынок сплавлять. И как легко она, без огорчения, без обиды, отказалась от личных встреч, согласилась на подмену их реденькой даже не перепиской, а просто отпиской на пишущей машинке. Галка безжалостно подытоживает мои экскурсы в психику Сахарова. Я не прерываю, жду. — Может быть, вызвать Волошину из Одессы? — вдруг спрашивает она. — Настоящая мать против псевдоматери. — Волошиной сейчас дороже всего собственное спокойствие. Сына она фактически потеряла еще до войны, во время войны не вернула его, мысленно похоронила после взрыва партизанской гранаты и воскрешать сейчас едва ли захочет. Тем более для скамьи подсудимых. — Откажется от признания? — Убежден. — А Сахарова так просто не откажется. — Просто — да. А если усложнить? Если доказать опасность избранной ею позиции, убедить, что Сахаров-Гетцке все равно будет разоблачен? В ответе я не нуждался: на лице Галки было написано все, что она думает. Фактор времени! Разоблачить Волошина-Гетцке необходимо до его возвращения в Москву, иначе он оборвет все связи и затаится. Еще раньше поэтому должен состояться решающий разговор с матерью Сахарова — ведь Гетцке может предупредить ее письменно или по телеграфу. До нынешнего дня он этого не сделал: из Одессы не мог, в Ялте я не отходил от него ни на шаг, а телеграфировать с теплохода не отважится, понимая, что это будет прямой уликой. Значит, телеграмму он мог послать только из Сочи сегодня, после того как избавился от наблюдения Галки, вернувшейся на теплоход. Личного телефона у матери Сахарова в Апрелевке нет, поэтому междугородная телефонная связь исключается, но Гетцке мог позвонить и кому-либо из своих агентов, поручив ему предупредить или обезвредить Сахарову. — Обедай одна, Галина. Я иду в город, — говорю я. Галка ни о чем не спрашивает: все поняла. Только подсказывает: — Смотри не столкнись. Сегодня они обедают, наверное, где-нибудь поблизости от пляжа, Я думаю — успеешь. И я успел. К сожалению, старого друга моего, Николая Петровича, в управлении не оказалось: отдыхал где-то у себя на Полтавщине. Однако Корецкий времени не терял: о расследовании здесь знали, из Москвы шифрограмма пришла, и вежливый и решительный майор обещал сделать все, что требовалось: получить разрешение прокурора на арест местной корреспонденции Сахарова, задержать письма и телеграммы, отправленные им в подмосковный поселок Апрелевку, а также проследить все его телеграфные и телефонные переговоры с Москвой, имеющие хотя бы косвенное отношение к интересующей нас ситуации. Всю информацию я должен был получить завтра утром на теплоходе после его прибытия в Сухуми. Тут же я связался с Москвой и Сухуми. В Сухуми потребовал задержать до проверки всю телеграфную корреспонденцию, адресованную Сахарову до востребования, а в Москве снова вызвал Корецкого. — Что случилось? — удивился тот. — Проследите за Сахаровой. Ее могут предупредить или даже устранить — не исключена и такая возможность. Не прозевайте. Проконтролируй всю ее переписку, в особенности телеграммы на ее имя, которые могут прийти в эти дни. Вообще с ней требуется разговор по душам, откровенный и бесхитростный, — не сомневаюсь, что поймет. Только с таким разговором придется подождать — нет еще у нас данных для этого разговора. — Между прочим, звонил Ермоленко. — Есть новости? — Нашел кончик ниточки к однополчанину Сахарова. Подробности завтра к вечеру. — Только учти: у нас в запасе четыре дня. А точнее, даже три. В воскресенье с трапа «Котляревского» на одесский причал должен сойти уже Пауль Гетцке, а не Михаил Сахаров. И сойти с полагающимся эскортом. Вот так. На теплоход возвращаюсь раньше Сахаровых. Отлично. Не придется подыскивать объяснения своей внеплановой экскурсии в город.Сухуми
«ПОШЕЛ КУПАТЬСЯ ВЕВЕРЛЕЙ»
Я просыпаюсь рано, часов в шесть или в семь, не знаю точно, — наручные часы на столе, и очень уж не хочется к ним тянуться. Сквозь зашторенные окна просвечивает мутное, дождливое небо с сизым оттенком воедино смешавшихся моря и туч. Галка спит, уткнувшись носом в подушку. Да завтрака можно еще часок полежать, подумать. Длинный вчерашний вечер, а информации — кот наплакал. Сахаровых до ужина мы видели; что они делали в городе, не знали, а у капитана, естественно, ничего обсуждать не могли. И только тогда уже, когда все было съедено и выпито и закурили мы с капитаном по настоящей гаванской сигаре, он как бы мимоходом напомнил мне о том, что на время ужина спряталось у меня в подсознании. — А я вашего бородача знаю, — неожиданно сказал он. — Вы его за нашим столиком видели? — Нет, с мостика. На шлюпочной палубе. Вы рядом стояли. — А откуда же вы его знаете? — Прошлой зимой был в Ленинграде. Обедал в «Астории», дня три-четыре подряд. Так он в компании немцев тоже там обедал. Столы рядом. Я его и запомнил — очень уж колоритная внешность. — Вы сказали: в компании немцев? — Да, туристов из ГДР. Он сидел с ними. И говорил как немцы. Я немецкий знаю. — Вы не ошиблись? Может быть, случайное сходство? — Нет, не ошибся. На зрительную память не жалуюсь. «Выяснить, был ли Сахаров прошлой зимой в Ленинграде», — мысленно отметил я и тут же подумал: а что, если он не подтвердит этого? Тратить время на запросы и розыск? И что это даст? Захотелось поболтать на языке, который он считал родным в годы своего гестаповского бытия. Ничем он при этом не рисковал и ничего не боялся: мало ли о чем можно разговаривать за ресторанным обедом. Кстати, я тут же поинтересовался, не слышал ли капитан, о чем они разговаривали. — По-моему, они интересовались антиквариатом. Что ж, это вполне согласуется с новой ролью Пауля Гетцке, в которой он, по-видимому, весьма преуспел. Я сказал об этом Галке, когда возвращались от капитана, и она со мной согласилась. Встречи Сахарова, если они и планировались, происходили едва ли в столь многочисленной и шумной компании. Но одно было для меня несомненно: подлинный Сахаров, вырвавшийся живым из концлагеря, едва ли стал бы искать встречи с немцами только для того, чтобы поговорить на их родном языке. И мне вдруг ужасно захотелось сказать ему, Сахарову-Гетцке, о том, что капитан запомнил и узнал его. Интересно, подумал я, сумеет ли он не вздрогнуть, не смутиться, сохранить свое каменное спокойствие и, должно быть, многократно отрепетированную, равнодушную усмешечку? Случай тотчас же представился. У лифта мы лицом к лицу столкнулись с Сахаровыми, подымавшимися с палубы салонов из кинозала. Я мгновенно сыграл слегка захмелевшего человека, шумно обрадовался и обнял обоих вместе, как старый друг. Сахаров осторожно отстранился, а Тамара спросила: — Роскошный был ужин? — Мировой! А какой ром! Жидкое золото! — Красиво изъясняетесь, — поморщился Сахаров. — Предпочитаю всяким ромам хороший армянский коньяк. — Коньяк тоже был, — продолжал я, умышленно не замечая его насмешливой снисходительности, — а капитан вас знает, между прочим. Сахаров не вздрогнул, даже не моргнул, только чуть-чуть насторожился. — Странно, — сказал он, — я даже его в лицо не знаю. Никогда не встречались. — Встречались. Вместе обедали зимой в ленинградской «Астории». — Я не обедал зимой в ленинградской «Астории», — отрезал Сахаров. — Капитан ошибся. Мало ли бородатых людей на свете. Со мной часто кланяются незнакомые люди. Я отвечаю из вежливости. Тема ленинградского обеда была исчерпана, развивать ее не имело смысла, и мы разошлись по каютам. Но я все-таки попал в цель: Сахаров уклонился от объяснений, предпочел умолчать о пустяковом, но, видимо, существенном для него событии. — Не спишь? — спрашивает Галка, подымая с подушки голову. — Не сплю. — В Сухуми не выйдешь. Дрянь погода. — Дрянь. — Ты что так односложен? Все о вчерашнем думаешь? — Думаю. — И зря. Ерунда все это. — То, что он скрыл свои контакты с немцами? — А что подтверждает эти контакты? Свидетельство капитана? Но он действительно мог ошибиться: бородатых людей на свете вполне достаточно для такой ошибки. И вообще, ты только на меня не сердись, Сашка, но дело, как говорится, швах. — Чье дело? — Твое. Наше с тобой. Никаких фактических доказательств того, что он Гетцке, а не Сахаров, у тебя нет. На психологических штришках обвинения не выстроишь. Тем более когда у него такой непробиваемый щит. — Мать? — Да. Она не сознается. — Мы постараемся доказать ей опасность такой позиции. — На все твои доказательства она будет твердить одно: я мать. Кто лучше матери знает своего сына? Это мой сын — и все. Попробуй опровергни. — А если доказательства будут неопровержимы? — А у тебя есть эти доказательства? — Пока нет. — Вот я и говорю, что швах дело. — Я не столь пессимистичен. К тому же у нас еще три дня. Кое-что выяснится сегодня в Сухуми. — Пойдешь в город? — Конечно. — В такой ливень? — Подумаешь, ливень. У меня плащ есть. — Как ты объяснишь Сахаровым свое путешествие? Никто же не сойдет с теплохода. — Никак не объясню. Дела. И пора уже открывать карты. Пусть настораживается. В ресторане за утренним завтраком разговор только о дожде. Животрепещущая, волнующая всех тема. Подошли к сухумскому причалу сквозь толщу низвергающейся с неба воды. В город выходить нельзя. Сахаровым я ничего не объясняю — объяснит Галка, когда я уже буду на берегу. А пока лениво тянем жвачку разговора, никого и ни к чему не обязывающего, как вдруг Сахаров проявляет неожиданный интерес к профессии Галки. Она охотно посвящает его в детали своих криминалистических экспертиз. — Интересная у вас профессия, — говорит он, — не то что у вашего мужа. — Почему? — возражает Галка. — У Сашки тоже интересные дела попадаются. — У адвокатов по нынешним временам не может быть особенно интересных дел. Интересные дела только у следователей с Дзержинской или Петровки, тридцать восемь. Я бы не спрашивал Гетцке о том, что он считает особенно интересным делом, но мне любопытно, что скажет об этом представитель торговой сети. Он отвечал охотно: — Я где-то читал, что не может быть создано ни детективного романа, ни детективного фильма, скажем, о краже зонтика. Преступление должно быть масштабным, чтобы заинтересовать публику. — Мне, как адвокату, известны только дела о разводах и разделе имущества. Крупными их, пожалуй, не назовешь, но интересные были. — Расскажите, — просит Тамара. — Как-нибудь в другой раз, — вежливо улыбаюсь я и встаю. — В город не собираетесь? Не надумали? — С ума сошли! Он же на весь день — типичный сухумский ливень. А мы думали в обезьяньем питомнике побывать — так разве тронешься! Хоть к причалу автобусы подавай — никто не поедет. — Тамара явно расстроена. — Даже в бассейн идти не хочется — солнца нет. Буду вязать что-нибудь, как примерная домохозяйка, или пасьянсы с Мишей раскладывать. — А вы, оказывается, любитель пасьянсов? — стараясь не быть ироничным, говорю Сахарову. Но Сахаров не реагирует, сам спрашивает: — В шахматы играете? Хотите партию? Я с сожалением отказываюсь: — Не сейчас. Может быть, после обеда или вечером в курительной. Я тут кое-какой материал из Москвы захватил — просмотреть надо. У меня ведь и сухумские клиенты есть, — загадочно говорю я и, не давая возможности Сахарову сделать ответный выпад, ретируюсь в свой коридор полулюксов. В каюте мы с Галкой устраиваемся на диванчике у окна и молчим. В дождливом мареве сухумский порт выглядит прибалтийским, утратив все обаяние кавказской Ниццы. И пальмы, и портовые краны одинаково серы. Людей не видно. Лишь кое-где пробегают по асфальтовым пирсам портовики в длинных дождевиках с капюшонами. — Сейчас пойдешь или подождешь, когда дождь кончится? — спрашивает Галка. Дождя я не боюсь, а подождать подожду. Может, Одесса или Москва вызовут в рубку. Да и Корецкому надо еще подытожить собранные вчера материалы. Часок посижу, подумаю. — Думай не думай, а его не поймешь, — вздыхает Галка. — Ну с какой стати он о преступлениях заговорил? Зачем? — Он то осторожничает, то рискует, мы хладнокровно и расчетливо накапливаем шансы. Я почти догадываюсь, зачем он пригласил меня играть в шахматы. — Зачем? — Скажу после партии. Хочу проверить свою версию. — О чем? — О терпении. Сколько можно безмолвно ждать? — Темно что-то. — Подожди вечера — высветлю. Час проходит, а дождь не кончается и Москва молчит. Вздохнув, преображаюсь в морского волка во время шторма — только капюшон от дождя заменен видавшей виды кепкой — и резюмирую: — «Пошел купаться Веверлей, осталась дома Доротея». Придумай какое-либо объяснение, Доротея, если спросят о моем внезапном исчезновении. Не зря же я намекнул о мифических сухумских клиентах. И я окунаюсь в дождь.ДВА ПРОСЧЕТА ПАУЛЯ ГЕТЦКЕ
В нашем сухумском отделении меня уже поджидали. Абхазские товарищи оказались радушными и общительными хозяевами. Черноусый майор Алания действовал с неколебимой решительностью. — Во-первых, садись, товарищ полковник, и обсохни. Небеса разверзлись — ничего не поделаешь. Насквозь промок, вижу: даже с пиджака капает. Ну а во-вторых, поделись с нами своими заботами. С закрытыми глазами, понимаешь, говорить трудно, а вот ты и приоткрой их, насколько нужным считаешь. Самую суть, конечно. Я изложил «самую суть» и добавил, что прежде всего хочу познакомиться с сообщением из Сочи, а затем поговорить с Москвой о дальнейшем расследовании. Алания молча выслушал и сказал: — Извини, товарищ полковник. Есть другое мнение. Сочи и Москва пять — десять минут подождут. А прежде всего надо, я думаю, связаться с Батуми и предупредить пограничников: вдруг сбежит? Они, конечно, и так не пропустят, но три глаза лучше, чем два. У тебя его фотокарточка есть? Мысленно соглашаясь с майором, извлекаю из бумажника моментальный снимок Сахарова, сделанный во время его игры в волейбол на открытой палубе. Сахаров — гол, бородат и мускулист — снят в прыжке за летящим навстречу мячом. — Бороду он может сбрить, — говорит Алания, задумчиво рассматривая снимок, — а вот фигуру ни в одном костюме не спрячешь. Снимок тебе не нужен, нет? Отлично. Подожди две минуты. Он берет телефонную трубку, говорит несколько слов на родном языке, из которых мне знакомо только одно — Батуми, ждет, нетерпеливо постукивая пальцами по столу, затем оживляется и произносит целую тираду, в которой я уже ни слова не понимаю. Положив трубку, спрашивает: — Перевести? Перевожу. Со всеми тонкостями художественного перевода. Сигнал ваш принят, товарищ полковник. Пограничники будут предупреждены. Батумские товарищи обо всем позаботятся. Снимок я перешлю им сегодня же по фототелеграфу. Они его размножат, разошлют кому надо, встретят вашего бородача на причале, проводят по городу, засекут все адреса и встречи и доложат вам по прибытии. — Оперативно работаешь, — говорю я. Он удовлетворенно улыбается и достает мне из папки на столе телефонограмму из Сочи. Она адресована майору Алания для передачи прибывающему на теплоходе «Иван Котляревский» полковнику Гридневу, то есть мне.«На морском вокзале Сахаровым сдана телеграмма Сахаровой в Апрелевку. Приводим текст: „Если обо мне будут спрашивать зпт говори как условились зпт в долгу не останусь тчк“. Телеграмма скопирована и отправлена. Корреспонденции до востребования на имя Сахарова в почтовых отделениях Сочи не обнаружено».Итак, стоического спокойствия уже нет, он встревожен, даже вынужден приоткрыть сущность своих взаимоотношений с матерью Сахарова. Конечно, телеграмма еще не доказательство камуфляжа, но уже повод к законным вопросам ее автору. О чем тревожится сын, упрашивая мать говорить «как условились»? А это заключительное «в долгу не останусь»! Разве оно не говорит о некой меркантильности отношений сына и матери? Интересно теперь, что приготовила мне Москва Вызываю Корецкого. Отвечает без обычной своей суровости, даже с каким-то оттенком радости. — Наконец-то, Александр Романович! Я уже звонил вам на теплоход. Есть новости. — Докладывай. — Сахарову вторично не беспокоили. Но вчера вечером она получила телеграмму. — Знаю. И текст знаю. Пока ни о чем ее больше не спрашивайте. Еще не время. — О ниточке Ермоленко. Живет в Апрелевке некий Хлебников Виктор Васильевич, отставной гвардии майор, сейчас на пенсии. Набрел на него Ермоленко в поисках довоенных дружков Сахарова. Но оказалось, что Хлебников даже не был знаком с Сахаровым, хотя и призывался почти в одно время с ним втом же военкомате. Простой номер, правда? Но тут-то и выглянул на свет малюсенький кончик ниточки. Вскоре после демобилизации Хлебникова заехал к нему его однополчанин Бугров; как мы установили, было это за несколько месяцев до появления в Апрелевке Сахарова. С Хлебниковым Бугров прошел в одном, как говорится, строю до сорок второго года, пока, тяжело раненный, не смог выйти из окружения. Очутился в плену, долго болел, чуть не погиб в лагере для военнопленных, потом с группой товарищей удалось ему бежать. Случилось это в горах Словакии; беглецов спасли партизаны, вместе с которыми они и сражались до воссоединения с наступавшими советскими войсками. «Много интересного рассказал Бугров, — вспоминает Хлебников (это я уже справку Ермоленко читаю), — а потом вдруг спросил: „А ты здешнюю учительницу Сахарову случайно не знаешь?“ — „Не знаю, — говорю, — а тебе зачем?“ — „С сыном ее я в плену был, погиб он геройски, вот я и заехал сюда рассказать ей об этом, да не застал — где-то на курорте лечится. Может, ты ее повидаешь и передашь?“ — „Уволь, — говорю, — тяжко с такой вестью к старухе идти, да и нужно ли? Ждет, наверно, сына живым, глаз не смыкает, а мы ее топором — погиб, мол, и точка. А что геройски или не геройски, матери одна беда: о сыне плакать“. Бугров подумал и согласился: „Может быть, — говорит, — ты и прав, пожалуй, лучше рану не бередить“. Ну и уехал. А уже после отъезда его я узнал случайно, что сын учительницы Сахарозой живой вернулся, значит, ошибся Бугров, а как бы мы теперь в глаза ей смотрели!» Ермоленко сразу понял: ниточка! Опять сказал, собирает материал о подвигах советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны, и адрес Бугрова узнал. Сегодня с утра мы проверили. Есть такой в Тобольске: Бугров Иван Тимофеевич, старший механик авторемонтной базы. Ермоленко час назад уже туда вылетел. Свяжется со мной вечером. Я на мгновение окаменел, оцепенел, остекленел — слов у меня нет, чтобы выразить то состояние, в которое меня повергло сообщение Корецкого. Если Ермоленко точно записал рассказ Хлебникова, а в художественных вольностях Ермоленко уж никак не обвинишь, то слова Бугрова определенно звучат как свидетельство очевидца. Не бывает бесследных преступлений, говорил мой учитель полковник Новиков; какие хитрости ни придумывай, какую методику камуфляжа ни применяй, след всегда останется — только сумей найти. Теперь даже твое дыхание уловят, даже запах твой в пробирку соберут, даже крохотный волосок твой, выпавший, когда ты машинально прическу поправил, выдаст тебя как миленького. А тут не запах, а человек живой. Очевидец. Как говорят на ринге, нокаутирующий удар. Хук справа. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять… Аут! Меня возвращает к действительности далекий голос Корецкого: — Александр Романович, где вы? Линия не в порядке? — В порядке линия, — говорю. — Задумался. — Сейчас еще больше задумаетесь, только меня предупредите, — смеется Корецкий, и в смехе этом что-то непохожее на его обычную суховатую сдержанность: должно быть, нечто особенное удалось Корецкому, если он так смеется. — Представьте себе, — говорит, — нашли Герту Циммер. В Берлине. За одни сутки нашли. — Что?! — кричу я. — Ту самую. Бывшую невесту бывшего Гетцке. Только она умерла в сорок шестом году от грудной жабы. — Чему же ты радуешься, Коля? — тихо спрашиваю я. — Исполнилась все-таки месть Кримгильды. — Ничего не понимаю. Какой Кримгильды? — Из «Песни о Нибелунгах». Кажется, там есть такая. — Брось загадки. — Есть бросить загадки, — меняет тон Корецкий. — Докладываю, товарищ полковник. Гауптштурмфюрер Пауль фон Гетцке действительно бросил Герту Циммер накануне войны, о чем и уведомил ее кратким письмом, в котором категорически отказался от своих обещаний жениться. Герта Циммер поплакала, спрятала письмо в черную папку с шелковыми тесемочками, в которой уже находились все прочие письма ее жениха, засушенные цветы, даримые им к памятным дням, и тому подобные реликвии неудавшегося романа, и положила папку на вечное хранение в папин сейф. После падения Берлина виноторговец-папа сбежал в западную зону, дочка померла, а в квартире поселилась ее племянница, Минна Холм, которой и досталась в наследство заветная папка. Так вот, товарищ полковник, Минна Холм и сейчас живет в той же квартире, только папки у нее уже нет. Я молча жду — очень уж загадочно звучит сообщение Корецкого, а после заключительной реплики так и хочется написать: «Конец первой серии». Вторая серия начинается тотчас же после многозначительной паузы. — Нет этой папки, товарищ полковник, а есть рассказ Минны Холм нашему берлинскому коллеге Рудольфу Бергману, стенографически записанный и переданный нам по телеграфу. Сейчас он передо мной. — По-немецки? — Нет, уже в переводе. Читать или изложить вкратце? Не загружаем линию? — Не твоя забота. Читай. Корецкий откашливается и читает со вкусом, на манер диктора Центрального телевидения: — «Бергман (после выяснения анкетных данных собеседницы и преамбулы к появлению папки с реликвиями несостоявшегося замужества). А почему фрейлейн Циммер не сожгла эти ненужные ей реликвии? Холм. Она хотела вернуть их Паулю после его женитьбы на избраннице баронессы. Зачем? Я тоже спрашивала: зачем? Оказывается, она лелеяла мечту напомнить ему обо всем в дни его семейного счастья. Своеобразный метод отмщения обидчику. Бергман. Просто странный. Гетцке в лучшем случае выбросил бы все это в мусоропровод. Холм. Я ей то же самое говорила. Но она, как бы вам сказать, была очень несовременна. Словно сошла со страниц романов Марлит начала века. Вы не читали „В доме коммерции советника“? Я тоже не читала до того, как поселилась у тети. Сентиментальная чушь. А это была ее любимая книга. И, уже умирая, она просила меня непременно вернуть все фото и письма Паулю, если я о нем что-то услышу. Бергман. И вы вернули? Холм. Не ему лично. От него пришел человек, подтвердивший мне все обстоятельства их вынужденной разлуки с тетей, и попросил вернуть все фото и письма Пауля. Откровенно говоря, я сделала это с удовольствием. И просьбу тети выполнила, и от хранения дряни избавилась. Пришедший, не снимая перчаток, открыл папку, сверил с имевшимся у него списком все письма и фотокарточки и объявил, что одной фотографии не хватает, а именно той, где тетя и Пауль были сняты вместе на Балтийской косе. Куда она завалилась, я не знала, искать не хотелось, и я тут же сымпровизировала, сказав, что именно эту карточку тетя сожгла, потому что господин Гетцке был снят вместе с нею. Пришедший молча выслушал мои объяснения и только спросил: „А вы точно это знаете?“ — „Еще бы не точно, — говорю, — когда это при мне было“. Ну, он собрал всю эту муру и откланялся. А совсем недавно я нашла эту злополучную карточку под счетами за квартиру в том же сейфе, где папка лежала, — у нас этот сейф и сейчас вместо комода. Хотела было выбросить, да закладка понадобилась — листала я в то время новый учебник английского языка. Карточка и сейчас в этой книге». Корецкий опять откашлялся и закончил обычным своим говорком без театральных эффектов: — Собственно, сейчас эта карточка, или, вернее, ее фотокопия, переданная по телеграфу, лежит у меня на столе рядом со стенограммой. Бравый эсэсовец и волоокая Гретхен на песчаной отмели и надпись на обороте: «Божественной Кримгильде от влюбленного Зигфрида. Май 1940 года». Я знаю, о чем вам не терпится сейчас спросить. Сверял ли я почерк герра фон Гетцке образца сорокового года с почерком гражданина Сахарова семидесятых годов? Я молчу. Спросить не решаюсь. Страшно. — Не дышите в трубку, Александр Романович. Сверял. Может, и похоже: точно утверждать не могу. Один текст по-немецки, к тому же готическим шрифтом, другой — по-русски, да еще с дистанцией в тридцать лет с лишним. Отправил на графическую экспертизу. — Когда ответ? — Обещают завтра утром. — Звони на теплоход, а если не застанешь, сам позвоню из Батуми. Спасибо, Коля, за все. За оперативность, за точность, за удачу. Я благодарю, что называется, от души. На работе в Москве я сдержанней и строже даже с Колей Корецким, которому уже давно за сорок, но которого по-прежнему зову Колей. Так не от зазнайства это, честное слово, а от отеческой привязанности к человеку, которого знал еще толстогубым мальчишкой. И не зря я поблагодарил его «за удачу», не ошибся в выборе слова. Ведь удача сама не приходит. Трудом добывать, не одними талантами, выдержкой добывать, смекалкой, умением не прозевать и не повторить ошибок противника. Два раза просчитался наш противник в своей игре: прозевал боевых друзей Сахарова и заветную папку бывшей невесты. А вероятно, и еще просчитался где-то, и не раз, и не два — и нашли бы мы те другие ошибки, если бы не нашли этих. Обязательно бы нашли. А может, и найдем… С такой убежденностью я и возвращаюсь на теплоход. Дождь давно уже кончился, небо и море повторяют друг друга, как в зеркале, отлакированные дождем пальмы неправдоподобно блестят на солнце, и город просушен насквозь: от гальки в порту до прибрежных нагорий. А в растекающейся по улицам толпе туристов я неожиданно встречаю Сахаровых и Галку. Я даже не успеваю придумать что-нибудь, как верная моя Галина тотчас же приходит на выручку. — Со щитом иль на щите? — спрашивает она. — А ты как думаешь? — Заплатил? — подсказывает она. Я мгновенно ориентируюсь. — Сейчас двести, остальные в Москве после рассмотрения кассации. — Ну и гонорары у вас! — удивляется Тамара. — Больше профессорских. — А вы думаете, легко выиграть дело в Верховном Суде Союза, если оно уже проиграно во всех предыдущих инстанциях? — И вы надеетесь выиграть? — Надеюсь. Появились доказательства по вновь открывшимся обстоятельствам. Ими и воспользуемся. До сих пор молчавший Сахаров улыбается этакой коварной улыбочкой. — Я видел с прогулочной палубы, как вы героически уходили в ливень, и спросил вашу супругу: в чем причина сего геройства? И вы знаете, что она мне ответила? — Пошел купаться Веверлей, — смеется Галка. — А вы помните, как продолжается песенка? «И — о судьбы тяжелый рок: хотел нырнуть он головою… Но голова тяжелее ног — она осталась под водою», — сказал он. Не верит. Ну и пусть не верит. — В моем варианте, — говорю я, — Веверлей не тонет, а уверенно плывет к берегу. Сейчас же он идет обедать в «Абхазию», потому что на теплоходе пообедали без него.
СНИМАЕМ МАСКИ
Ужинают тоже без меня — я слишком поздно обедал и не хотел есть. Сижу в каюте и машинально черчу пляшущие фигурки. Когда-то Конан-Дойль создал тайну шифра из таких фигурок, которую и разгадал его хитроумный герой. А у меня даже нет тайны. Все ясно. Есть уравнение, в котором известен ответ, но которое я не могу пока доказать. Икс-Гетцке равен игреку-Сахарову, а почему? Что скажут зет — Бугров и данные графической экспертизы? Вот доказательства неравенства уже есть. Свидетельство родной матери. «Сынок мой любимый, ласковый, всегда был ласковым, а что бороду отрастил — так ведь мода теперь такая: с усами либо с бородой. И шрамик с детства памятный. Что? Косметический шрамик? Не знаю. Придумываете вы что-то… Исследовали? А кто вам позволил неповинного человека исследовать?» В самом деле, кто нам позволил? Не можем же мы только подозреваемого, да еще без достаточных юридических оснований, тащить в лабораторию без его желания и воли. Ни один прокурор такого разрешения не даст. Предъявите обвинение, юридически обоснованное, и делайте, что положено по закону. Если мама вмешается, лапки складывай или давай доказательства, маму изобличающие. А чем ее изобличишь? Деньги сын дает? Правильно делает — хороший сын. Вещичками из комиссионки снабжает? Так не украдены вещички, а куплены. Нет, с налету этой теоремы не решишь. Мама вмешивается, как аксиома, доказательства не требующая. Я вспоминаю вежливую и доброжелательную Марию Сергеевну Волошину — настоящую, родную мать — и усмехаюсь. «Мой сын жив? Вздор. Не может этого быть, если он убит лет тридцать назад. Мертвые не воскресают. Вы говорите, убит другой? Не верится. За тридцать лет он бы дал знать о себе. Зачем же опознание незнакомого мне человека? Если это сын, я не хочу его знать, тем более что он сам не признает меня матерью». — «Мария Сергеевна, мы привлекаем вас как свидетеля, вы обязаны согласиться на опознание». — «А в чем вы его обвиняете?» — «Во многих преступлениях, Мария Сергеевна, в серьезных преступлениях против народа и государства». — «Смертная казнь?» — «Не знаю, это решит суд». — «Так что же, вы хотите, чтобы я стала его палачом?» Тут уже не до усмешки, полковник Гриднев. Именно так это и будет, если ты другими средствами не докажешь, что икс равен игреку. В таком умонастроении и застает меня Галка. — Сахаровы пошли в кинозал. Какой-то детектив, не то «Береговая операция», не то «Возвращение „Святого Луки“». Пошли, еще не началось. — Не хочется. Старье. «Святого Луку» мы зимой в клубе видели. Занятно, но не убеждает. — В чем не убеждает? — В закономерной победе следствия. Не явись парень с повинной, и картина бы уплыла за границу, и бандит бы ушел. — У нас тоже нет доказательств — одни подозрения. — Будут и доказательства, — говорю я и рассказываю о двух просчетах Пауля Гетцке. Галка задумывается. — Идентичность почерка — это уже доказательство. Но будет ли экспертиза безоговорочной? — Есть еще свидетельство Бугрова. — А ты уверен в этом свидетельстве? Был ли Бугров очевидцем гибели Сахарова или только слыхал о ней? И тот ли это Сахаров, что интересует нас? Может быть, это вообще не Сахаров, а по каким-то неведомым нам причинам только назвался Сахаровым: в плену многие меняли имена и фамилии, если документов не было. — Типичный плюрализм, Галка. — Что за штука? — Множественность истин, имеющих одинаковое право на существование. Но истина-то всегда одна. — А в чем она, эта истина? Может, это заблуждение, а не истина? — Завтра узнаем. — А сейчас иди в бар. После кино он с тобой в шахматы играть собирается. Не избегай его, чтобы не вызывать подозрений. — Подозрения у него давно уже превратились в уверенность. Разговор о Веверлее помнишь? — По-моему, Тамарка ни о чем не догадывается. — Наверное. Таких жен в свою жизнь не пускают… А в шахматы я с ним сыграю, даже с удовольствием. Еще один вариант психологической дуэли. — Будь осторожен, Сашка. — Не волнуйся. У нас дуэль без оружия. Состязание умов. И партию мы сыграем этюдную, с жертвами только на доске. Но аллегорическую. Гамбит Гриднева. — Мне почему-то смешно, хотя Галка даже не улыбается. В баре пусто и прохладно, даже холодно после палубной жары: кондиционеры отпускают явный излишек прохлады. Поэтому вместо коктейля с ледяными кубиками в бокале беру кофе по-турецки с коньяком. За шахматами устраиваюсь в уголке с настольной лампой — идеальная обстановка для турнирных раздумий. Партнера еще нет. Машинально делаю ход королевской пешкой и вспоминаю… А не сыграть ли мне ту же партию, какую играл с Паулем в его бывшей светелке на Маразлиевской? Памятная партия. Восстанавливаю в памяти ход за ходом — получается. Вот он, остроумнейший прорыв в королевскую ставку противника и не менее остроумная ее защита. Но будет ли Пауль сегодня играть именно так? Может, он давно забыл эту партию? Да и зачем мне дразнящий экскурс в прошлое? Чтобы еще раз поймать его на подброшенную наживку? Но Пауль неглуп и насторожен. Он будет рассуждать примерно так: «Гриднев повторяет хорошо знакомую ему и мне позицию. По инерции шахматной мысли? Нет, конечно. Просто хочет лишний раз удостовериться, что я — это я. Значит, я должен сыграть иначе, как сыграл бы Сахаров, а не Гетцке. Обязательно иначе, даже проиграть, может быть. Расслабить Гриднева, заставить его усомниться в каких-то выводах, ведь доказательств у него нет — одна интуиция». Именно так и будет рассуждать Пауль и опять просчитается. Не на повторе партии хочу я поймать его, а именно на том, что он от повтора откажется. — Сами с собой играете? — выводит меня из раздумий знакомый насмешливый голос. Я смахиваю шахматы с доски и парирую: — Нет, просто разбираю партию Спасский — Фишер. — Конечно, выигрышную для Спасского? — Конечно. Меня интересуют находки Спасского, а не его просчеты. — Что верно, то верно, — говорит он, — надо уметь рассчитать все возможные варианты. — Этого даже ЭВМ не может. — Я не о шахматах, — говорит он и садится в кресло против меня. — Давайте начнем с середины партии, которую вы только что разобрали. — Зачем? — недоумеваю я. Но он быстро и уверенно расставляет фигуры в той самой позиции, которая только что была на доске. Не в партии Спасский — Фишер, а в партии, сыгранной мною с Волошиным-Гетцке тридцать лет назад в оккупированной Одессе. Я не могу скрыть своего удивления — настолько это для меня непонятно и неожиданно. Что он затеял? Маневр? Ход в игре? С какой целью? Во имя чего? А он улыбается: — Не ожидал? Я все еще молчу. — Твой ход, маркиз. Не пугайся. «Дорогу, дорогу гасконцам, мы с солнцем в крови рождены!» — Теперь он уже откровенно смеется — никакой бравады, продиктованной страхом или тревогой. — Снял, значит, маску, — говорю я. — Пора. — Между нами двоими — снял. — Что означает «между нами двоими»? — То и означает. Жен своих мы в этот предбанник не пустим. Для них я — Сахаров. И для моей и для твоей. Или ты уже рассказал по дурости? — Пока еще нет, — маневрирую я. — Я так и думал, если не врешь. Да нет, пожалуй, не врешь. Ты ведь службист. И не просто, а из КГБ. Данные розыска посторонним не разглашаются. Небось думал, что я в твою адвокатуру поверю? Ты такой же юрист, как я депутат бундестага. — Между прочим, я все-таки юрист. — Не думаю, что тебя это очень вооружило… Что пьешь? Кофе? Подожди, я у бармена коньяк возьму. Разговор будет долгий. Мгновенно ориентируюсь: Пауль начинает игру. Смысл ее мне неясен, но я уже внутренне мобилизован — тренер, которому неизвестны расчеты противника. — Пришел в себя, друг мой ситный? — смеется Пауль. — Ну хоть честно признайся, не ожидал такого хода? — Не ожидал. — Небось смертельно хочется узнать, почему это Пауль фон Гетцке вдруг начинает затяжной прыжок с парашютом? — Без парашюта, — поправляю я. — Ты в каком звании? — вдруг спрашивает он. — Генерал? Едва ли. Для генерала у тебя даже за тридцать лет беспорочной службы талантишка маловато. Полковник, наверное. Самый подходящий для тебя чин. Так вот, твердокаменному полковнику, сменившему тридцать пар штанов на страже государственной безопасности, по штату положена этакая служебная самонадеянность. «Все мое, — сказал булат». Ан нет, не все. — Все, — решительно подтверждаю я. Теперь уже знаю, что говорить, и всю его игру на пять ходов вперед вижу — пустое это занятие, вроде «козла» во дворе. — Все, — повторяю я, — и ничего тебе не останется, бывший гауптштурмфюрер. Даже колонии строгого режима тебе не гарантирую. — Но ведь на беззаконие не пойдешь. За грудки не схватишь и в каюту с задраенным иллюминатором не запрешь. — Не запру. Он засмеялся беззаботно и весело. — Значит, глотнем по малости и закурим. Жены нас не ждут: в шахматы сражаемся — мешать не будут. Обстановка для разговора по большому счету самая подходящая. Тихо и светло, совсем по Хемингуэю. — Интересно, когда это ты его читал? — После войны, конечно… Да не уклоняйся, знаю, о чем спросить хочется. Почему раскрылся, да? Думаешь, раскололся Пашка Волошин, спекся, скис? Еще на причале заметил, как вы с Тимчуком сразу нацелились. Должно быть, тут же решили: струсил. И пошло. Художественный театр, право. Работник прилавка Сахаров и адвокат Гриднев. Раскольников и Порфирий Петрович. Ну и подвели нервишки нибелунга, бежать некуда, подымай лапки и кричи: «Гетцке капут!» Никогда не говорил так ни Павлик Волошин, ни Пауль Гетцке. Выходит, подвели все-таки нервишки. А впрочем, может, и не подвели — играет. Новую роль играет, даже не роль — эпизод, как говорят в кинематографе. А в глазах хитрая-прехитрая усмешечка, даже настороженности прежней нет — одно удовольствие, смакование выигрыша, пусть небольшого, а все-таки выигрыша: удивил, мол, да еще как удивил. — А ведь я игрок, — продолжает Пауль, словно прочтя мои мысли, — и играю наверняка. Гауптштурмфюрер Пауль фон Гетцке убит в оккупированной Одессе. Что убит — известно, что воскрес — не доказано. Точнее, доказательств у вас не было и до сих пор нет. Одни гипотезы, юридическая цена которым ноль без палочки. Никаких следов не оставил убитый Гетцке. Чистый лист бумаги, на котором вы ничего не напишете. Дальше. — Пауль хитренько подмигивает и загибает еще палец. — Сахаров тоже поручик Киже. Одно воспоминание. Ну а теперь загнем третий палец. Сахаров, из плена вернувшийся, живой и действующий, честный и незапятнанный, четверть века не нарушавший ни Уголовного, ни Гражданского кодексов. И наконец, последнее: мать, встретившая героя-сына, любимого и любящего, возвращенного судьбой вопреки похоронке. Кто посмеет усомниться в этом? Кто не постыдится посягнуть на счастье матери, нашедшей пропавшего без вести сына? Вот так-то, товарищ полковник… А открылся я тебе из тщеславия. Дань инфантильности. Помнишь, как мальчишками соревновались: кто кого?.. Ты меня узнал, копаешь, надеешься. Не ищите и не обрящете. Садиться в камеру не собираюсь. — А я не собираюсь тебя арестовывать, — говорю я. — Пока! — Что значит «пока»? — Загляни в толковый словарь. Пока есть пока. До поры до времени. Числись Сахаровым, вкушай плоды семейной идиллии, оценивай штаны в комиссионном магазине и поздравляй мамашу с днем ангела. Словом, ходи по земле, пока она не разверзнется. — Ну что ж, выпьем тогда за удачу. Каждый за свою. — Он разливает коньяк по рюмкам. — С тобой не пью. — Вчера же пил. — Пил с Сахаровым в порядке участия в этом спектакле, а с Гетцке не буду. Сейчас антракт. Он залпом выпивает свою рюмку, откидывается в кресле и дружески улыбается — по-моему, даже искренне. — А все-таки ты мне нравишься, Гриднев. Всегда нравился. Потому я тебя в гестапо и не изувечил. Красоту твою пощадил. — Гнусно ты все рассчитал, но хитро. Многие бы завалились, если б я не ушел. — С Тимчуком ушел? — С Тимчуком. — Я так и думал. И Галку предупредил? — Конечно. — Наутро мы к ней пришли — пусто. Тут я и понял, что ты меня переиграл. С уважением, между прочим, кавалер Бален де Балю. Вот и ты играй с уважением. — А я не играю. Я работаю. — Это ты так начальству говоришь Да, Гриднев. Ничего до сих пор не понял. Он допивает коньяк и долго молчит, закуривая свой «Филипп Моррис» обычным волошинским манером. Я не могу сдержать улыбки, которую он, впрочем, не замечает. Нет, не стальные нервы у бывшего гауптштурмфюрера, и ржавеет железо его легенды. И предупредительную телеграмму Сахаровой послал, и со мной поиграл, и что-то еще, наверное, придумает. Ну а моя задача ясна: ждать. Время пока работает на меня. И снова насмешливые искорки у него в глазах. Может быть, уже и придумал еще что-то. Нет, не придумал — просто расставляет по местам шахматные фигурки. — Спать еще рано, — говорит он, — да и не заснем мы с тобой, пожалуй. Лучше отвлечемся — сыграем партию. Шахматы не выпивка — к дружбе не обязывают.Батуми
ПОСЛЕ ШТОРМА
Просыпаюсь поздно. Шторм, разыгравшийся к утру, задержал теплоход в пути. Уже одиннадцатый час, а мы еще только на подходе к Батуми. Да и заснули вчера поздно — Галка и сейчас посапывает: сказался ночной разговор. Вернулся я из бара около полуночи, Галка уже поджидала меня. Когда я рассказал ей все, очень подробно рассказал, со всеми своими ощущениями и психологическими мотивировками, она тотчас же сделала вывод: — Напуган. Смертельно напуган. — Риска он не боится. — Риска? Чем же он рисковал, скажите на милость? Что ты узнал его — он заметил; что работаешь в КГБ — догадался. В маске или без маски, он все равно для тебя Пауль Гетцке, неубитый, приспособившийся и близкий к разоблачению. Ничем он не рисковал, глупости! А мотивировка — липа. Из тщеславия, дань инфантильности! Чистейшей воды липа. Ты же сам учуял подтекст: напуган. Открыл карты для того, чтобы ты их открыл. Меня упорно не оставляла тревожная мысль: не сбежал бы он из Батуми. И даже не за границу: туда он не рискнет уходить — не экипирован, не готов, да и пограничники предупреждены В Москву он может рвануть, в Москву. На самолете или поездом. Ему туда раньше нас попасть нужно. Если он и вправду резидент, то оборвет все связи, уничтожит все, что может его изобличить, и, возможно, успеет скрыться. А самое главное, еще больше запугать старуху, мамашу его распрекрасную. Если она не станет молчать — ему конец. Впрочем, он не дурак: сам к старухе не сунется, понимает, что все пути к ней мы перекрыли. Значит, будет искать что-то другое… Честно говоря, я не был подготовлен к решению. О возможности побега предупредили пограничников — так. Но в Сухуми меня заверили, что каждый его шаг в Батуми будет взят под контроль. Значит, нужно встретиться с оперативной группой раньше, чем она возьмет Сахарова под наблюдение и помешает его бегству в любом направлении. Рискну? Рискну, пожалуй. Любое промедление может сорвать операцию. Я потянулся за сигаретами и тут же получил по рукам. — Стоп! — сказала Галка. — Брось курить. Хватит одной пачки! — Она вырвала у меня вторую, к которой было потянулся. — А все-таки интересный у тебя, Сашка, был разговор, остросюжетный. (Я только хмыкнул в ответ.) Не находишь? Зря. Ужасно интересно вот так просто, в мирнейшей, можно сказать, обстановке, за чашкой кофе с врагом своим встретиться. С оголтелым врагом, смертельно тебя ненавидящим, готовым на все — хоть пулю в упор в переносицу, хоть бритвой с размаху по горлу, — и разговаривать вот как мы с тобой, с глазу на глаз, о самом для вас сокровенном… Об Одессе хоть вспомнили? — Вспомнили. Они к тебе наутро из гестапо пришли, а тебя нет. Пусто. Так и сказал: «Переиграл ты меня, кавалер Бален де Балю». — Даже прозвище помнит. — Да, Галка, Пауля не проведешь. Вторично он откровенничать не будет. Обязательно заподозрит, Только, пожалуй, прямые контакты с ним уже не нужны. В Батуми и Новороссийске будем обедать и ужинать в городе. Или у капитана. Подумаем. — Насторожится еще больше. — Пусть. Теперь уже не страшно. — Зато мне страшно. — Только если упустим… Так мы и проговорили почти до рассвета, пока не начался шторм. Нашу многоэтажную громадину хотя и плавно, но изрядно покачивало. Я вышел на палубу. В предрассветном сумраке ничего не различалось, кроме свинца неба и моря да белых гребней волн у самого борта — дальше они тускнели и размывались. Стоять было холодно и тоскливо. Я вернулся в каюту, лег и, как это ни странно, заснул под качку. Разбудил меня телефон. Трубку сняла Галка. — Да. Доброе утро… Это Тамара, — добавляет она уже для меня шепотом. — Почему такой голос? Только проснулась. Что? Вторую смену завтрака? Проспали, конечно. Все шторм — не могла спать из-за качки. Нет, нет, не беспокойтесь. — Галка прикрывает рукой телефонную трубку и шепчет: — Сахаров предлагает сходить к шеф-повару и соорудить для нас завтрак в каюте… Спасибо, Тамарочка. Поблагодари Михаила Даниловича и скажи, что мы завтракаем у капитана. Да, да. Уже договорились. — Что за вольт, Галка? — удивляюсь я. — А ты хочешь, чтобы Сахаров принес тебе завтрак из ресторана? — Шеф может послать официантку. — А если Сахаров все-таки принесет сам? — С какой стати? — Подумай. Ты очень уверен в том, что ему не захочется подсыпать тебе чего-нибудь в чай или кофе? — Яд в кофе! Этим занимались, насколько я помню, Рене-флорентинец у Дюма и Чезаре Борджиа у Саббатини. Даже Сименон не подвергал Мегрэ такой вульгарной опасности. — Почему обязательно яд? — витийствует Галка. — Есть и снотворные. Имеются и другие токсические средства, позволяющие положить человека на больничную койку. Ты же сам говорил, что ему важно попасть в Москву раньше нас. — Между «важно попасть» и «попасть» не один шаг. Боюсь, что даже и яд теперь ему уже не поможет… А где же все-таки будем завтракать? — Может быть, в кафе на причале? — Причала еще не видно. Придется к твоему варианту прибегнуть. — Какому варианту? — Позвонить капитану. Но телефон сам предупреждает меня. — Вас просят срочно в радиорубку. — Одевайся, Галка, и будь готова, — говорю я, срочно приобретая подходящий для палубы вид. — Когда позвоню, подымайся наверх. В Москве меня уже дожидается у телефона Корецкий. — Очень коротко, Александр Романович. Есть уже данные экспертизы по фотокарточкам. На фотоснимках Сахарова в 1970 году и в 1946-м после возвращения из плена установлено приблизительное тождество оригинала с оригиналом фотокарточки Пауля Гетцке, присланной из ГДР и датированной 1940 годом, с учетом, конечно, допустимых возрастных изменений. — Почему приблизительное? — На снимке Гетцке нет шрама на лице и несколько иная конфигурация губ. — И шрам и складка губ могут быть результатом косметической операции. — К сожалению, снимки даже при увеличении не позволяют установить косметическое вмешательство. Я вздыхаю. — Значит, остается лаборатория. — Лабораторное исследование может быть проведено только после ареста обвиняемого. — Знаю, Коля, знаю, — устало говорю я. — А как обстоит дело с идентификацией почерков? — Пока никак. Эксперты в чем-то еще сомневаются. Окончательный результат экспертизы получим часа через два. — Значит, в два позвоню по ВЧ. — Лучше в три, Александр Романович. До трех обязательно позвонит Ермоленко. Предварительные данные обнадеживают. Бугров именно тот Бугров, который был в сорок шестом в Апрелевке, и Сахаров, о котором шла речь, именно тот Сахаров, который нам нужен. Ермоленко обещал позвонить тотчас же, как только все детали разговора с Бугровым будут уточнены. — В три так в три, — согласился я. — Лишний час музыки не испортит. А как наблюдение в Апрелевке? — По плану. Пост у дома и наблюдение за передвижением по городу. Пока тихо. — Главное, не допускать встреч с неизвестными в городе лицами. — Учтем, — отчеканивает Корецкий и кладет трубку. Завтрак у капитана сервируется, едва я успеваю высказать свою просьбу. Мало того, мы получаем приглашение и на все дальнейшие завтраки, обеды и ужины вплоть до прибытия в Одессу. В личных контактах с Сахаровым уже необходимости нет. Главное сейчас — это встреча с батумской опергруппой раньше, чем Сахаров сойдет с теплохода. Но и тут решение уже подготовлено. И даже, я бы сказал, с некоторым театральным эффектом. Пока мы завтракаем и слушаем занимательные капитанские байки о корабельном житье-бытье в загранрейсах, к теплоходу подходит катер из батумского порта, и высокий грузин в штатском появляется в капитанской каюте с просьбой немедленно связать его с полковником Гридневым. Все понятно. Я извиняюсь перед капитаном и выхожу с грузином на мостик. — Старший лейтенант Лежава, — представляется он, — жду ваших распоряжений. — Вы обо всем предупреждены или нужны разъяснения? — Задача поставлена так. Сахаров должен быть опознан по фотоснимку. Снимки розданы. Мы встречаем его у трапа, следуем за ним по городу, засекаем все встречи и разделяемся в зависимости от ситуации. — Сколько у вас человек? — Четверо. С нами легковая машина и мотоцикл. — Учтите главное: его ни в коем случае нельзя упустить. — Мы не упустим, а погранохрана предупреждена. — Погранохрана не понадобится. За границу он не побежит. Вероятнее всего, попытается удрать на самолете в Москву. — Билетов в Москву уже нет. На все рейсы до утра. — Он может ждать до утра. Смущены? Что делать тогда, узнаете. А пока разберем другие варианты. Во-первых, можно достать билет и по блату. — Постараемся пресечь и эту возможность, товарищ полковник. — Можно вылететь в Москву и с других аэродромов. Скажем, из Сухуми, Адлера или Тбилиси. А туда добраться не так сложно. — Будет сложно. Предупредим кассира. — В городе не одна касса. Можно уйти в Сочи и на «Комете». В Сухуми тем более. А до Тбилиси поездом ночь езды. Вариантов много. Ну так вот: если он опередит или перехитрит вас, задержите его хотя бы под предлогом, что он не то лицо, за которое себя выдает, что требуется проверка подлинности его документов, и вызовите меня — я буду у вас в управлении. Это на случай, если он попытается бежать из Батуми. Если вернется на теплоход, не спускайте с него глаз, куда бы он ни направился. Наблюдение и днем и ночью. Учтите, что он отличный пловец и легко может вплавь добраться до берега. Все это диктует необходимость по крайней мере двоим из вас сопровождать нас до Одессы. — Нас предупредили об этом, товарищ полковник. — Кто поедет? — Я и лейтенант Нодия. — Вот и отлично, — улыбаюсь я. — Будем работать совместно. Дополнительные распоряжения получите по возвращении на теплоход. Каюту мы вам подберем поближе к Сахарову. А пока займите пост у лифта на шлюпочной палубе и ждите, пока он не выйдет из каюты. Третья от вестибюля, номер сто двадцать четыре. Вы его сразу узнаете, если он не сбрил бороду, а я думаю, что не сбрил. Он будет с женой — эффектная крашеная блондинка лет сорока, жемчуг в ушах, жемчужная нитка на шее. Пойдете вслед за ними, чтобы наблюдающие у трапа действовали безошибочно. Важно не упустить его. — Будет исполнено. — Старший лейтенант машинально тянет руку ко лбу, но, вспомнив, что он в штатском, виновато раскланивается и уходит. Хороший, по-видимому, работник, толковый и не болтливый. С такими легко. — Вторая палуба вниз, — говорю ему вслед. — А я здесь все знаю, товарищ полковник, — оборачивается он, спускаясь по трапу к подвешенным в гнездах шлюпкам. Мы выходим с Галкой на мостик. Капитан уже на посту, вводит судно в устье портовой бухты. Медленно, как в кадре набегающей кинокамеры, движется навстречу причудливая конструкция порта — панорама зданий, кранов, цистерн, больших и малых судов у причалов на фоне зеленого амфитеатра нагорий с россыпью белых и кремовых домиков. Я люблю это зрелище нарастающего перед глазами порта с его пестрой палитрой красок и праздничной суетой на причалах и набережных. Как хорошо наблюдать эту сцену, когда ты беззаботен и счастлив той полнотой радости, какую дают эта высота неба, жар солнца, ленивая синь моря и бронзовый загар на лицах встречающих. Галка так и смотрит сейчас — с радостным чувством свободы от житейских забот, забыла даже спросить о прервавшем наш завтрак госте с военного катера. Впрочем, ошибаюсь — вспомнила. — Ты кого это высматриваешь в толпе? — Видишь двух парней у трапа? Один в желтой водолазке, с усиками, другой — в майке. Типичные «бичи». А вон еще один у машины. И мотоцикл вдали у стеночки. — Твои люди? — Предполагаю. — Это их тот парень прислал? Оттуда? — Ага. — Я так и подумала. Больно вышколен, только что каблуками не щелкает. — Он и должен быть вышколен. Старший лейтенант по званию. С нами до Одессы поедет. — Зачем? — Может понадобиться. — Договорились? — Конечно. Обо всем, что требуется. Давай вниз, хочу с Сахаровым на палубе потолкаться, пока они на берег не сошли. Сахаровых мы встречаем двумя этажами ниже, у лифта. Они явно собрались на берег. У Тамары импортная пляжная сумка с головой тигра на белом пластике, на руке у Сахарова переброшен аккуратно вывернутый подкладкой наверх пиджак. — На экскурсию или на пляж? — интересуется Галка. Тамара обиженно морщится: — Я хотела на экскурсию. Потрясная прогулка в ботанический сад на Зеленом Мысу. Но Миша почему-то не хочет. — А вы куда? — спрашивает он с обычной сахаровской незаинтересованностью, словно и не было у нас никакого разговора вчера. — Сейчас никуда. Подождем, пока не схлынет эта туристская толчея. А там, вероятно, тоже на пляж. Кстати, — говорю я Сахарову, — за буйки там плавать вам не удастся. Охрана. Он молча пожимает плечами все с той же наигранной безразличностью. Все идет как задумано: старший лейтенант Лежава в летней кремовой распашонке неотступно следует за Сахаровым. Он и в кабину лифта с ними вошел, и шагает сейчас за ними по трапу. — Интересно, зачем Сахарову пиджак? — спрашивает Галка: тоже заметила. — А ты не догадываешься? — Кажется, да. — Погляди-ка на этих ребят у трапа. Вот один уже садится на мотоцикл — думаю, в аэропорт махнет. Другой поплелся за нашей парочкой, а третий идет к машине. — Кто это? — Ты же его только что в лифте видела. — Ясно. — Все идет по плану. У меня еще два часа свободного времени. В город ехать рано, а Галка теряет день. — Ты бы на пляж поехала, — говорю я, — все-таки лучший пляж на побережье. Тамару найдешь. Вероятно, зареванную. — Почему? — Он же оставит ее на пляже. Вот ты и утешишь. — А ты? — Мне лишь через два часа надо быть в управлении. Кстати, может быть, я сегодня и не вернусь на теплоход. Возможно, мне придется срочно лететь в Москву. На сутки. Завтра, может быть даже утром, вернусь в Новороссийск. Как раз к теплоходу. — Почему вдруг такая спешка? — Все зависит от сложившейся ситуации, вернее, от некоторых ее обстоятельств. Каких, сам еще не знаю. Но, вероятнее всего, лететь придется. — В связи с Бугровым? — Не только. Это одна из связок, не больше. И не будем уточнять, Галочка. Всему свое время. — А ведь верно сказал Сахаров: ты все-таки службист, Сашка. — Обстоятельства, — неопределенно говорю я. — Задачи разделяются. Мне — одна, тебе — другая. Добровольно или вынужденно, но Сахаров обязательно вернется на теплоход. Будет рваться ко мне — не пускай. Скажи, что я нездоров, повысилось давление или сердце пошаливает, — словом, что-нибудь придумай. Врач будет предупрежден. Дверь каюты держи всегда на запоре, ключ при себе. Предупреди стюардессу, чтобы второй ключ никому не давала. Вот, собственно, и все. А заканчивать операцию будем на перегоне Новороссийск — Одесса.ОБЛАВА
Вахтанг Мгеладзе, немолодой уже грузин в звании подполковника, говорит по-русски с легким акцентом. А внешне он чем-то напоминает Ираклия Андроникова, этого мастера короткого рассказа, — если не лицом, то каким-то только ему присущим обаянием. — Похож? — улыбается он. — Многие говорят, а чем похож, понятия не имею. И рассказывать ничего не умею. Вместо рассказа я вам лучше рапорт Лежавы прочту. — «Нинико, бери карандаш и стенографируй. Подполковника на месте нет, а у меня срочное донесение. Пиши. Полковник Гриднев задание уточнил. Надо не только проследить Сахарова во время его передвижений по городу, засечь все его встречи и явки, но и никоим образом не выпустить его из города. Только на теплоход — и никаких других вариантов. Первый вариант провалился сразу: в кассах аэропорта билетов на Москву не было. Только он вышел в зал ожидания и объявил во весь голос: „Друзья, — говорит, — кто захочет уступить мне билет в Москву, плачу вдвое“. Никто не откликнулся. А он, как на рынке, еще громче: „Очень нужно, товарищи, поскорее попасть в Москву — человек при смерти! Может, кто с женой едет, так я и два билета возьму. По сто рублей, деньги на бочку“. Тут кто-то зашевелился. Ну а мы тоже не простачки. Милиционер под боком — сразу в бой. „Не шуми, — говорит, — генацвале, нехорошо получается. А еще хуже спекуляцию разводить. Кто билет продаст, заберу обоих“. Тут он извинения попросил: „Очень нужно, — говорит, — товарищ, простите“. Ко второй кассе пошел, на местные рейсы. А там уже Нико Гавашели сидел. „Продажа билетов, — говорит (это он уже с начальством согласовал), — временно прекращена ввиду нелетной погоды“. — „Какая же нелетная погода, — кипятится Сахаров, — когда на небе ни облачка!“ — „Здесь нет, — говорит Нико, — а в горах грозовой фронт, понял?“ Ну Сахаров наш совсем заскучал. Стоит сейчас в дверях, пока я по телефону докладываю, что и как, и размышляет, куда податься. Торадзе с Нодия уже у машины, меня ждут. Вот он шагнул в дверь, прощай пока, Нинико, некогда мне: бегу, догоняю. А Гавашели уже на вокзал помчался — на случай, если Сахаров в Тбилиси надумает с вечерним скорым. Будешь расшифровывать, смотри не перепутай — зарежу». Я невольно не могу сдержать улыбки, но и тревоги скрыть не могу — очень уж энергично действует Сахаров, очень уж ему хочется раньше меня в Москву попасть. И денег никаких не жалеет. — Эх, не упустили бы, товарищ подполковник, — не могу я сдержаться. Он смотрит на меня с таким успокаивающим радушием, что тревога моя тает, как мороженое на его блюдце. — Извини, дорогой, не угощаю: совсем растаяло, — говорит он, поймав мой взгляд, — и давай так. Полковника и подполковника пока отменим, мы не на смотре. Я — Вахтанг, ты — Сандро, все, как у вас говорят, проще простого. Задача твоя мне ясна: из Сухуми предупредили. Ему не уйти. Мне уже все ясно: брать его ты не хочешь или потому, что цепочка, которая за ним тянется, тебе неясна, или потому, что оснований для ареста пока еще нет. Думаю, второе вернее. Так? — Так, — говорю я, — основания в Москве добывают, а мне важно не выпустить его с теплохода, до Одессы довезти. Двух я у тебя забираю — предупрежден? — Поедут Лежава и Нодия. От таких ни по морю, ни посуху не уйдешь. Будь спок, как там в Москве говорят, Райкин, кажется? А Сахаров этот что, из-за рубежа? — Нет, — вздыхаю я, — из-за рубежа давно бы взяли. А то с сорок шестого в Москве живет. А в сорок третьем в Одессе в гестапо подвизался в чине гауптштурмфюрера. По национальности русский, по обстоятельствам немец, а по духу подлец. — Тогда зачем спешить? Взять можно и позже, пусть гуляет до поры до времени. А пока нащупай всю его агентуру — связных, явки, шифровки, тайники, почтовые ящики. — Нельзя. Нет времени. Он узнал меня и сразупонял, что открыт. Главное для него теперь — уйти от следствия. И если мы не разоблачим его до возвращения в Москву, он преспокойно оборвет все связи и с милой улыбкой предложит Немезиде ничью. А это, сам понимаешь, нас никак не устраивает. А если возьмем его до возвращения в Москву, то хоть кончик ниточки да останется. А там, смотри, и весь клубок размотаем. Вот он и рвется в Москву нас опередить. — Почему бы тебе там его не встретить? У тебя же все шансы попасть в Москву раньше. — Может, и придется слетать на сутки. Спецрейс устроишь? — А почему нет? Туда и обратно. — Обратно не сюда, а в Новороссийск, к теплоходу. Он сегодня вечером отойдет, в Новороссийске утром будет. А мою поездку сейчас с Москвой согласую. Мгеладзе хрустит пальцами и вздыхает сочувственно. — А жаль небось отпуска, а? На таком теплоходе только жить-поживать, а не шпионов ловить. Я сам прошлым летом на «Шота Руставели» такой же круиз проделал. Бассейн — царский, можно сказать, коньячок к ужину, пивком залейся. Я сам люблю и на сквознячке посидеть, и шариками на бильярде постукать, и кофейку у Махмуда вкусить — есть у нас такой мусульманин, кофе как аллах варит. — Да, — говорю, — жаль, конечно, — и вздыхаю. И не пляж в голове, а мечущийся по городу Сахаров и Корецкий в Москве у телефона. С ним я и соединяюсь по ВЧ. — Есть новости? — спрашиваю. — Вагон! Ермоленко встретился с Бугровым и уточнил все, что требуется. Сахаров Михаил Данилович бежал вместе с Бугровым из заключения в феврале сорок пятого года во время транспортировки лагерного эшелона на запад. Обстоятельства побега и события, ему предшествовавшие, очень интересны, но это не телефонный разговор. Главное же в том, что Бугров лично знал Сахарова, сражался с ним бок о бок в Словацких Татрах и даже получил от него фотокарточку, на которой они сняты вместе на биваке партизанского отряда Славко Бенека. Второе: Бугров категорически утверждает, что Сахаров погиб в марте того же года, когда он в составе партизанской пятерки прикрывал переброску отряда в горах. Погибли они близ Махалян на Братиславском шоссе. Там и похоронены, и памятник им поставлен — гранитная глыба с именами, среди которых и Сахаров. Снимок этот тоже имеется. — Значит, Бугров не очевидец гибели Сахарова? — перебиваю я. — Нет, но он принимал участие в захоронении погибших. Кроме того, одному из группы прикрытия, хотя и тяжело раненному, все же удалось спастись. Это Янек Ондра, бывший пулеметчик отряда. Сейчас он директор одного из телевизионных ателье в Братиславе. — Вот что, Коля, — опять перебиваю я, — немедленно после разговора со мной свяжись с Братиславой. Попроси товарищей помочь нам. Пусть постараются найти этого Ондру и взять у него письменные показания о гибели группы прикрытия, и Сахарова в частности. Объясни товарищам срочность всего этого дела… — Уже связались, — не без гордости сообщает Корецкий. — Ответ ожидаем сегодня же. — Лады, — говорю я, — дальше. Бугрова — в Москву, сам понимаешь. Вместе с Ермоленко и всей документацией по делу. Тоже сегодня. — Уже вылетели. Будут часам к шести, если в пути ничто не задержит. — В голосе Корецкого уже звучит торжество угадавшего все шесть номеров в очередном тираже «Спортлото». — Теперь, я думаю, Александр Романович, можно и к старухе. К псевдомамаше Сахарова. Сослаться на то, что это какой-нибудь другой Сахаров, ей не удастся. Он все рассказал Бугрову: и кто его мать, и где она живет и работает. И об отношениях с ней рассказал. Не очень, оказывается, любила она сыночка. Парень о вузе мечтал, а она его работать заставила: деньги, мол, дома нужны. Учеником к мяснику на рынок определила; мясники, говорит, теперь лучше инженеров живут. А уходя в свой последний бой, Сахаров так и сказал Бугрову: «Найдешь, если жив будешь, в Апрелевке матушку, так передай ей, что подарков не шлю, а если умереть придется в бою, так умру с честью, ни имени своего, ни Родины не опозорив». Бугров бы так и передал, если б нашел ее по приезде, ну а потом, как мы знаем, по совету однополчанина своего передумал. Я полагаю завтра же ее навестить и поговорить по душам, благо основания для такого разговора у нас имеются, если, конечно, — добавляет он, — не будет других указаний. — Будут, Коля, — говорю я, понимая, как огорчу я сейчас человека. — Навещу ее я, и не завтра, а сегодня же вечером. После того, как встречусь с Бугровым. Корецкий долго молчит, так долго, что я уже начинаю думать, не произошло ли где-нибудь разъединения на линии. — Ничего не понимаю, — доносится до меня наконец его недоумевающий голос, — вы откуда говорите, Александр Романович? — Из Батуми, Коля. И в течение ближайшего часа отбываю в Москву. — А как же Сахаров? — Пока он мечется по городу в поисках билета на самолет. Надеется попасть в Москву раньше меня. — И вы допустите? — Нет, конечно. Его сопровождает в странствиях целая опергруппа, надежно его блокирующая. В конце концов, если понадобится, прибегнем к крайним мерам. — Будете брать? — Зачем? Просто попросим по-хорошему не покидать теплохода до прибытия в Одессу. — На теплоходе палуб много, кают еще больше, а пассажиров по пальцам не сосчитаешь. — Зато выход один, Коля. К трапу. — Можно и через борт. Вплавь, если плавает. А плавать он умеет — в гестаповских школах и не тому выучат. — Умеет, Коля! И до берега доплывет — что днем, что ночью. Только к борту его не подпустят. — Что ж, вам виднее, — не очень охотно соглашается Корецкий. Пусть огорчается. Дело есть дело. — Задержи Бугрова и Ермоленко до моего прибытия, — заканчиваю я разговор. — Надеюсь, до семи буду, если погода позволит. Постарайся к этому времени и Ондру найти. Сам понимаешь, как важны сейчас его показания. Бугров плюс Ондра плюс памятник на могиле Сахарова — вот наши три роковые для Гетцке карты. И пиковая дама из Апрелевки ему уже не поможет. Я расстаюсь с Корецким, но телефон меня не отпускает. Звонит городской аппарат. Мгеладзе слушает, говорит что-то по-грузински и передает трубку мне. — Докладывает Лежава, товарищ полковник, — слышу я знакомый баритон. На этот раз рапорт старшего лейтенанта суховат, точен и лишен «вольностей» вроде «генацвале» и пресловутого «объекта», оброненных им в телефонной беседе с симпатичной стенографистской Нинико. — Звоню из отделения милиции морвокзала, куда только что доставлен задержанный нами гражданин Сахаров. Прорваться ему не удалось ни в Сочи, ни в Тбилиси. Правда, на железнодорожном вокзале через носильщика достал билет на тбилисский скорый, но проинструктированная нами милиция задержала и носильщика и незаконного владельца билета, добытого спекулятивным путем. Конечно, потом их отпустили, а билет вернули в кассу для продажи в порядке живой очереди. Гражданин Сахаров в очереди стоять не захотел, а помчался в порт. Задержись мы хотя бы минуты на две, он бы ушел: как раз в этот момент отходила от причала «Комета» в Сухуми. Он уже прыгнул с пристани на борт, но Торадзе успел все-таки остановить судно. Прямо с причала мы и доставили задержанного в отделение милиции. Задержание объяснили, как вы приказали: есть, мол, подозрение, что он выдает себя за другого, и требуется проверить подлинность его документов. Задержанный гражданин Сахаров проявил спокойствие и выдержку, не ругался и не кричал, только сказал, что обжалует незаконное задержание в прокуратуру города. Ни я, ни Нодия при этом не присутствовали — держимся в стороне, ведь нам еще придется встречаться на теплоходе, — а участвуют в задержании Торадзе и Гавашели. Так какие же будут указания, товарищ полковник? — Сейчас приеду. Предупредите об этом задержанного, не называя моей фамилии. Все. На моих часах без пяти три. Рейсовый самолет в Москву в шестнадцать сорок. Говорю Мгеладзе: — Спецрейса не надо. Обеспечь место в рейсовом. У меня еще полтора часа. Успею. Через десять минут я уже у морвокзала. Машину на подходе останавливает Лежава. — Докладываю, товарищ полковник. Задержанный Сахаров вместе с Торадзе и Гавашели находится в дежурке отделения милиции. Жду ваших распоряжений. — Думаю, что Сахарова следует отпустить, пусть вернется на теплоход. А вам необходимо продолжить за ним наблюдение, как мы условились. Будьте наготове. Еще раз учтите: пловец первоклассный. В разговор не вступайте, но, если спросит что, отвечайте вежливо и по существу. Ко мне в каюту не допускайте: болен, мол. На теплоходе буду завтра. Тогда и поговорим. Сахаров при виде меня не удивлен и не рассержен — видимо, был уверен, что приеду именно я. — Что за детские игры? — спрашивает Сахаров, когда мы остаемся одни. — Это не игра, а операция по задержанию государственного преступника. — Тон у меня официален и строг. — Есть уже ордер на арест? — ухмыляется Сахаров. — Покажи. — Это не арест, а задержание гражданина Сахарова по подозрению в том, что он не то лицо, за которое себя выдает. — Так ты же не в милиции работаешь, Гриднев. — Дело гауптштурмфюрера Гетцке проходит по моему ведомству, Сахаров. — Партбилетом рискуешь. — Ничуть. Нарушения процессуальных норм не будет. Твердо надеюсь, что буду иметь все основания просить прокурора о превращении твоего задержания в арест. — А если не дождешься? Я развожу руками, стараясь подчеркнуть огорчение. — Тогда твое счастье. Вернешься в Москву к своим арбатским пенатам. Сахаров молчит, долго думает, поджав губы, потом с явным удовольствием (как это у него получается, не понимаю) лениво потягивается и говорит: — Есть смысл подождать, кавалер Бален де Балю. Считай, что предложение принято. И мы выходим вместе, как два вполне расположенных друг к другу спутника по морскому пассажирскому рейсу. Торадзе и Гавашели исчезают, а Лежава и Нодия, видимо, следуют за нами, должны, хоть даже я их не замечаю. Уже выходя из лифта, решаюсь сыграть. Полузакрыв глаза, прижимаюсь к стенке и тяжело вздыхаю. — Что с тобой? — спрашивает Сахаров. — Сердце, — выдавливаю я с трудом, — по-ша-ли-вает… — И еще раз вздыхаю, приложив руку к груди. — Я провожу тебя до каюты, — говорит он. Я, молча кивнув, соглашаюсь. Он доводит меня до двери, но, прежде чем открыть ее, я шепчу: — Не вздумай удрать. Как бы я сейчас ни чувствовал себя, тебе все равно не уйти. Возьмут тут же, у трапа. Я не бросаюсь словами, ты знаешь. — И, открыв дверь, хрипло говорю удивленно встречающей меня Галке: — Валидол! Сахаров, по-моему, еще стоит за дверью, и я, приложив палец к губам — молчи, мол, — сажусь на койку и продолжаю шепотом: — Валидола не требуется. Как только Сахаров уйдет, я незаметно должен уйти. — Значит, все-таки летишь? — В шестнадцать сорок. — Вернешься завтра? — Рассчитываю. — А мне как держаться? — Главное, поддерживай версию болезни. С Тамарой и Сахаровым встречайся как можно реже. Держись сдержанно и огорченно. Все-таки я заболел и вынужден лежать в каюте. И мы расстались, чтобы встретиться завтра в Новороссийске.Москва
МИХАИЛ САХАРОВ
Я иду по широкому рабочему коридору, такому же родному и близкому, как и коридор моей московской квартиры. Останавливаюсь у двери со знакомой табличкой, стучу. — Входите, — отвечает голос Корецкого. Я вхожу и с удовольствием — не скрываю этого — наблюдаю немую сцену. Ермоленко и Корецкий. Что в их молчаливом приветствии? Радость или смущение, тайное недовольство от внезапного визита начальства или скрытый вздох облегчения, снимающий какую-то долю ответственности, тяжелой и, несомненно, тревожащей. — Из Домодедова? — спрашивает Корецкий. — Ага. — Почему же не позвонили, Александр Романович? Мы бы машину прислали. — Подумаешь, Цезарь прибыл. Добрался и на такси. Я сажусь в кресло напротив Ермоленко, оставляя Корецкого на моем привычном месте за письменным столом, на котором теперь нет ни одной бумажки. Педантичный Коля, или, вернее, если принять во внимание звание и возраст, Николай Артемьевич Корецкий, в отличие от меня прячет все папки в сейф или в ящики стола, оставляя девственно чистым зеленое сукно под стеклянной плитой. — А где же Бугров? — спрашиваю я удивленно. — В столовой, — отвечает Ермоленко. Он без пиджака, в одной тенниске: в Москве тоже батумская жара. — За полчаса до вас прибыли. Я-то успел перекусить, а ему не удалось. — Со щитом иль на щите? — лукаво осведомляюсь я. — Темпов не учитываете, Александр Романович, — обижается Ермоленко. — Стали бы мы с Бугровым спешить, если б Фемида нам не содействовала. Да и Фортуна тоже. Любит высокий стиль. — А ну-ка без риторики, юноша. Серьезно. С чувством, с толком, с расстановкой. Докладывайте. — По порядку, Александр Романович? — С апрелевской разведки. — Хотелось бы начать с матери Сахарова, но о ней в заключение. А начнем с соседей. За тридцать лет они переменились — кто умер, кто переехал, кто и до войны Сахаровым не интересовался. Помнит его один Суконцев, старик пенсионер. «До войны, — говорит, — складный мальчишка был, бедовый, но услужливый. Как-то раз в огороде помог, разок или два вместе на рыбалку ходили. А после войны только и видел его мельком, когда к матери на машине приезжал, — сначала на „Победе“, потом на „Волге“. Бородатый, солидный, словно директор треста; на меня даже не взглянул, не то чтобы поздороваться да старика вспомнить. Но я не расстраивался: кто он мне? Не сын, не племяш, я старше его на двадцать лет — мог и запамятовать: подумаешь, десяток окуней когда-то вместе выловили». С опознанием Сахарова соседями, как видите, не получилось. А довоенных дружков его я не нашел — ни парней, ни девушек. Даже странно, Александр Романович, показалось, словно их ветром сдуло. Указали мне на двух: Алексея Минина, одноклассника, — вместе с ним призывался, а после войны в местном продмаге работал, — так он за несколько месяцев до возвращения Сахарова трагически, можно сказать, погиб: ночью его на шоссе грузовиком сшибло. Кто сшиб, как, почему — неизвестно. Грузовик, оказывается, накануне со стоянки угнали, а потом где-то у Вострякова бросили. Начальник милиции так и сказал: «Пьяная авантюра — угнали, сбили, испугались, бросили». Никого не нашли. Второй, кто бы мог опознать Сахарова, тоже отпал: мясник с рынка Василий Жмых — у него Мишка Сахаров до призыва подручным работал. Так опять задача. Пил Жмых крепко. В армию его не взяли — хромой; жена бросила, детей не было — вот и пил с рыночных доходов. А когда Сахарову вернуться, Жмыха мертвым в канаве нашли: делириум тременс, как говорят врачи. Смерть от перепоя — не придерешься. Я делаю предостерегающий жест рукой — остановись, мол, погоди. Навязчивая мысль приходит в голову, я еще ее осознать не могу, но Ермоленко уже понимающе улыбается: — Тоже ухватились, товарищ полковник? И меня зацепило. Почему это два человека, единственные два человека, которые близко знали довоенного Сахарова и могли бы опознать его при встрече после войны, вдруг оба почти в одно и то же время погибают якобы от несчастного случая? — Не торопись, Ермолай, не кроссворд разгадываем, — прерывает его Корецкий. — Признаков насильственной смерти не было. Теперь тем более их не найти — дело давнее. Гипотезы о неслучайности нам ничего не дают. — Но подтверждают версию о проникновении фиктивного Сахарова в Советский Союз. Видимо, настоящий Сахаров был похож на Волошина-Гетцке. Их свели в лагере — об этом вам, товарищ полковник, Бугров расскажет, он слышал все от самого Сахарова. Ну а потом как обычно: уничтожение документов, фотокарточек и образцов почерка «довоенного» Сахарова… Примеры работы фашистской разведки нам, к сожалению, известны. — Кстати, — перебиваю я, — каковы данные экспертизы по идентификации почерков? Корецкий вынимает папку, в которой на видном месте красуется любительское фото памятного мне по Одессе черномундирного гестаповца Гетцке и светловолосой Герты Циммер, симпатичной немочки с арийским профилем. Несмотря на отсутствие бороды и тридцатилетнюю разницу в возрасте, при желании можно увидеть и сходство между бритым Гетцке и бородатым Сахаровым. Но только при желании — прокуратура и суд могут и усомниться. Сходство почерков, уже известное мне из телеграфных переговоров с Корецким, — надписи на обороте карточки и расписок Сахарова на документах из комиссионного магазина, — более определенно. Экспертиза подтверждает идентичность (по наклону букв, и по расстоянию между ними, и по характеру нажима), но делает все-таки оговорочку. Экспертов несколько смущают те же тридцатилетняя дистанция между образцами и отличие немецкой остроугольной готики от округленной плавности русского рукописного текста. Если судья не буквоед, оговорочка, быть может, роли и не сыграет, но кто знает, равенство Гетцке — Сахаров и тут может быть не доказано. — Зато с Бугровым порядок, — утешает меня Ермоленко и, зная мою шахматную страстишку, добавляет: — Классический эндшпиль, товарищ полковник. Смертельный и неожиданный ход конем. Но мне почему-то невесело. — Документы по версии Бугрова подобраны? — спрашиваю я у Корецкого. Вместо ответа он так же молча извлекает из стола вторую папку, в которой несколько фотоснимков и сообщение из Братиславы в двух экземплярах — перевод и оригинал. На первом, явно любительском снимке, но снятом при хорошем дневном освещении, два бородача в овечьих меховых безрукавках и немецких солдатских сапогах, должно быть снятых с мертвых фашистских карателей. В руках у обоих «шмайсеры». Позади каменный горный уступ и прилепившаяся к скале тощенькая сосенка. Как я ни вглядываюсь в лица, не нахожу в них ничего знакомого. На обороте снимка надпись по-русски, сделанная, по-видимому, трофейной авторучкой: «Другу и соратнику Ване Бугрову на память о хорошем дне. Много фашистских сволочей под этой скалой полегло. Михаил». А ниже — другой текст, тоже по-русски, но другими, более свежими чернилами и другим почерком: «Снято в конце марта сорок пятого года в Словацких Татрах после разгрома отряда немецко-фашистских карателей». — Внизу это Бугров написал, — поясняет Корецкий. — Вот этот слева, ростом поменьше. А это — Сахаров, — указывает он на бородача со «шмайсером», стоящего у края обрыва. — Вот его увеличенное изображение, сделанное уже у нас в лаборатории. На этом снимке крупно лицо бородача, чем-то напоминающего Волошина-Гетцке. Но только чем-то. Может быть, лоб и нос похожи, может быть, шрам, вгрызающийся в бороду на щеке. Но, в общем-то, лица разные: и бороды непохожие, по-разному растут и завихряются, другие глаза, другие губы. Я сравниваю лежащий рядом снимок Сахарова из комиссионки, лишний раз убеждающий, что действительный Сахаров отнюдь не двойник фиктивного — так, случайное сходство, даже не близкое, а весьма поверхностное сходство лиц, которое можно увидеть в фототеках «Мосфильма». — Ни малейшего сходства! — радостно утверждает Ермоленко, выхватывая у меня карточку Сахарова-Гетцке. — Все другое: и глаза-щелочки, и борода из парикмахерской. Вот шрам только… Торопится парень с выводами. Жаль даже охлаждать его. Но это делает за меня Корецкий: — Есть сходство, увы. Хоть различий, конечно, больше, но различия-то и могут обернуться против бугровской версии. Ведь снимков довоенного Сахарова у нас нет. На кого он похож, на того или на этого? И спросить некого, кроме мамаши. Вот тут-то и есть закавыка. Он прав: закавыка действительно есть, но есть и возможность ее обойти. — Передай снимки по бильдаппарату в Одессу. Пусть проверят у Волошиной, какой из двух бородачей больше похож на ее сына. Пошли сейчас же. Может, к утру и ответ получим. Мне все равно раньше завтрашнего утра не вылететь. Корецкий уходит со снимками, и мы остаемся одни. Ермоленко молчит из деликатности, не решаясь заговорить первым. Молчу и я. Думаю… Все-таки различия лиц на обоих снимках — это наш шанс, а не наших противников. Они, эти различия, подкрепляют нашу основную версию. Бугров лично знал человека на фотокарточке, снятой в партизанском краю в Словакии, знал его и живым и мертвым, видел простреленное тело его в кустарнике близ Михалян, где стоит сейчас приземистый гранитный обелиск с выбитыми на нем именами погибших. Я беру снимок и читаю:Михал Сахаров! Что можно выдвинуть против этого высеченного на камне свидетельства? Может быть, у погибшего было другое имя? Может быть, он по каким-то причинам только называл себя Сахаровым? Но зачем русскому советскому человеку даже на территории, занятой врагом, до последнего дыхания боровшемуся против фашистской скверны, — зачем партизану и антифашисту скрывать свое настоящее имя от друзей и соратников? Ведь он назвал не только себя, но и свое местожительство в СССР, имя и адрес матери, которой и послал слова предсмертного прощания. А может, под его именем все же захоронен кто-то другой? Может быть, Бугров ошибся, что-то помешало ему узнать в убитом своего боевого товарища, и не точное знание, а только догадка обусловила список имен на памятнике? Но ведь жив и другой свидетель, непосредственный участник последнего боя партизанской пятерки. Я беру сообщение из Братиславы — гриф ведомства, дата, краткая сопроводиловка к стенограмме беседы с директором телевизионного ателье в Братиславе Ондрой Янеком.ЯРОСЛАВ МИТИЧ
АНТОН ГОЛЕМБА
МИХАЛ САХАРОВ
ЧЕСЛАВ ВОДИЧКА
«Вопрос. Где вы находились в феврале — марте 1945 года? Ответ. В составе партизанского отряда майора Бенека в Словацких Татрах. Вопрос. Расскажите о вашей последней боевой операции. Ответ. Мы прикрывали отход отряда в районе Кропачева. Пять человек — я, Големба, Водичка, Митич и Сахаров. Вопрос. Вы лично видели в бою Сахарова? Ответ. Он находился на огневой позиции в трех метрах от меня. Мы держались около часа, пока нас всех не перебили каратели. Я был тяжело ранен, лежал без сознания, и гитлеровцы сочли меня тоже убитым. Вопрос. Сахаров не менял позиции во время боя? Ответ. Нет. Михал был убит первым, и я занял его позицию. Вопрос. Вы были уверены, что он убит? Ответ. Пуля попала в глаз и размозжила затылок. Вопрос. Можно ли было узнать его после смерти? Ответ. Конечно. Лицо его не очень пострадало».— Спасибо, Ондра. В своем братиславском ателье ты взял сейчас за горло еще одного фашистского выродка, который думает, что ушел от возмездия. Последние слова я невольно произношу вслух и тотчас же слышу ответный возглас Ермоленко: — Не ушел и не уйдет, товарищ полковник! Фактически он изобличен, и мы накапливаем свидетельства уже не столько против него, сколько против его псевдоматери. Соображает Ермоленко. Это и есть направление нашего главного удара. Именно здесь должна быть прорвана оборона Волошина-Гетцке. Если прорвем — всё! — Трудная старуха, — продолжает Ермоленко, — хитрая и расчетливая. Ничего от сердца, от чувства — все от рассудка, расчета. Это не только мое впечатление. Ни один сосед, с кем бы я ни говорил, доброго слова о ней не сказал. Надменна, хвастлива и жадна. Летом и осенью на крылечке спит, чтобы в сад никто не забрался. Охотничье ружье у нее для этого есть — солью заряжено. Я, правда, не видел, но соседи уверяют, что есть. — Сплетни, возможно. — Может, и сплетни. Только в поселке ее никто не любит, и она никого. Все у нее кляузники да пакостники. «Неужто все?» — спрашиваю. «Все, батюшка, все. Клубника у меня уродится, так норовят какую-нибудь гадость подбросить, спелу ягодку попортить». — «И ваш сын, — говорю, — потому ни с кем здесь не знается?» — «Потому, батюшка, потому что порядочному человеку с подонками говорить не о чем. Не того огорода капуста». — Так и разговаривала? — Именно так. Этакая гоголевская Коробочка, только тощая, как палка от щетки. На слова не скупится, а ни одному слову не веришь. «Мать я отзывчивая, сына не беспокою, от дела не отрываю, рада и минутке, какую мне уделит…» Прямо этикетка с консервной банки. На этикетке — материнская нежность, а в жестянке — сберкнижка. Только на последних минутах приоткрылась — человеческим языком заговорила. Злым, но искренним. Я ее еще раз о подарках сына спросил. «А это вас, — говорит, — совсем не касается и отношения к мужеству советских военнопленных не имеет. И вообще не кажется ли вам, что наш разговор несколько затянулся? — И, прямая, не сгибаясь, подходит к двери, распахивает ее и, указывая перстом на крыльцо, цедит сквозь зубы: — Прошу!» Тут Ермоленко вздыхает и грустно заканчивает: — Вот где у вас закавыка, как говорит майор Корецкий, а не в сходстве или различии почерков и лиц. Тут лицо ясное, замороженное. Для такого коловорот нужен, а не простое человеческое слово. Трудный у вас разговор будет, Александр Романович. — Боюсь, что да. — Когда встреча? — Думаю, сегодня. — Прочтите мой доклад Николаю Артемьевичу. Там все подробно изложено. — Прочту обязательно. Хотя майор Корецкий уже по телефону мне все изложил. Во всяком случае, главное. В этот момент щелкает дверная ручка, и я слышу голос Корецкого: «Входите, Иван Тимофеевич». В комнату протискивается кряжистый, бритоголовый, моих лет человек с рабочими, неотмываемыми от масла и смазки руками. Он явно не знает, куда их девать: в карманы неудобно, за спину несподручно, по швам не положено. Ему бы гаечный ключ да пассатижи в привычные пальцы, а тут приходится, как газетчику, рассказывать да писать. — Бугров Иван Тимофеевич, — представляется он. Я приглашаю его сесть.
БУГРОВ ВСПОМИНАЕТ
— Ну что ж, начнем, Иван Тимофеевич, — говорю я, включая магнитофон. Бугров смущается. — Я ведь уже рассказывал все как было, товарищ следователь, товарищу Ермоленко рассказал. Боюсь, как бы не напутать чего. — А вы не бойтесь, Иван Тимофеевич, — успокаиваю я его, — рассказ ваш нам очень пригодился, а сейчас я официально допрашиваю вас как свидетеля по делу Волошина-Гетцке. — Закурить можно? — спрашивает Бугров, неловко шевеля пальцами: ему явно не нравится слово «допрашиваю». — Курите и не смущайтесь. Вот, взгляните, пожалуйста, — я раскладываю перед ним несколько фотографий. — Узнаете кого-нибудь? Бугров долго смотрит на карточки, потом выбирает сахаровскую, говорит неуверенно: — Вот этот вроде на Мишу Сахарова походит. Здорово походит, а все ж не он. Что-то не то, чужое, не могу понять что, но лицо другое… — Где вы познакомились с Сахаровым Михаилом Даниловичем? — В седьмом бараке лагеря для советских военнопленных в горной Словакии, в районе Гачево-Мяты. Было это в августе или в сентябре сорок четвертого года. В конце лета. Сахарова вместе с транспортом других заключенных перевели из концлагеря, эвакуированною в связи с наступлением Советской Армии. Выглядел он измученным, но держался бодро. Не то чтобы страха или подавленности, даже душевной тоски, которой там многие наши болели, я у него не заметил. Вот эта внутренняя гордость советская, которую не истребили ни унижения, ни каторжный труд, и возмущала лагерное начальство Из пяти месяцев пребывания в лагере он половину в карцере просидел. Только однажды вдруг что-то переменилось. — В нем? — Нет. В отношении к нему. Меньше стали придираться на выработке, меньше теребили в бараке. Он сразу подметил перемену и сказал мне: «Не к добру это, Ваня. Должно быть, отправят скоро в небесную рейхсканцелярию». Однажды наш капо, подлец, из уголовников, дезертир из штрафной роты — Мохнач мы его называли, — направляет его к коменданту. Конец, думаем. Жду его, а сердце болит: увидимся ли? А он и вернулся. «Ну что, — спрашиваю, — били?» — «Нет, — говорит, — пальцем не тронули. Только непонятный был разговор: пытали меня о том, о сем, а зачем, неизвестно». И рассказал, что сначала нечто вроде медицинского осмотра прошел. Всего осмотрели, а шрам на лице даже сфотографировали — именно шрам, а потом уже все лицо и в фас и в профиль, хотя карточки наши в лагерной картотеке уже имелись. А тут даже в рот заглянули, все зубы пересчитали, какие остались. И все требовали: «Говори правду, а не то в расход». Может быть, они и по-другому это называли, это я Мишины слова по-своему переиначиваю, а смысл тот. Все чтобы по правде. Сахаров, конечно, удивляется: «Зачем все это вам? Если шпионом хотите сделать — не выйдет. Родину не продам». А они смеются: «Нет, шпионом ты нам не нужен, просто мы ищем среди вас людей, которых Советская власть обидела». — «А меня, — говорит Сахаров, — она не обижала». — «Так, может быть, — спрашивают, — родные тебя обижали?» — «А родных никого у меня нет, — говорит Сахаров, — кроме матери. Строгая, — говорит, — была, резкая, шалостей не прощала, но мать — это мать, и обижаться на нее не следует». Тут они, как он рассказал, потрещали меж собой по-немецки и сказали, чтобы в барак возвращался. — А кто был на этом допросе в комендатуре, Сахаров не рассказывал? — спрашиваю я у Бугрова. — Сейчас уже не помню, — признается он. — Кажется, кто-то из лагерного начальства и какие-то чужие штурмфюреры — не знаю я их званий, — те же бешеные собаки в черных мундирах. Сахаров только вскользь о них упомянул, уж очень удивил его самый допрос. — А после допроса что было? — Ничего. Все как будто по-прежнему. Та же мука мученическая на выработке и в бараке, и тот же брандахлыст на еду, та же солома на подстилку. А когда его в карцер опять посадили, Миша даже обрадовался. «Слава богу, — говорит, — никаких перемен не будет». Вернулся он дня через три, вид прежний, как у загнанной кобылы, чуть с ног не валится, только с лица опять смурной, недоверчивый. «Не пойму, Ваня, — говорит, — их механики. И карцер не прежний, теплее как будто, и солома на полу, да и не один я в карцере, а с парнем, одних лет со мной, в плен попал, говорит, под Харьковом. С тех пор, как и я, в лагерях мытарится. Штангу до войны выжимал, а сейчас, смеется, вешалкой стал». Про вешалку, я понимаю, он для красивого словца сказал, потому, что, по словам Миши, выглядел, по нашему положению, сытно. Миша даже подумал, что подсадную утку ему подкинули, а потом усомнился. На побег не подговаривает, о товарищах не расспрашивает, а болтает все о родной Одессе-маме, где он родился и вырос. О школе рассказывает, об улицах, о море, даже скумбрию копченую вспомнил. Ну, Сахаров и отошел. Тоже стал вспоминать и о доме рассказывать. Не понравился мне этот разговор в карцере: зря говорил Миша, расчувствовался. А вдруг все-таки одессит этот действительно утка подсадная? Но Сахаров не поверил. «А что, — говорит, — он от меня выведал? Как я пять двоек за один день домой принес, как на рынке мясо рубить учился — где кострец, где огузок — или как у матери цветные карандаши стащил да на рынке продал. И, честно говоря, Ваня, это я матери соврал, что карандаши продал, а на самом деле одноногой Верке подарил — на костылях она ходила, поездом ногу отрезало. Да только одесситу этого не рассказал, не захотелось как-то. Вот и вся моя информация — поди, мол, стучи. Нет, — говорит, — Ваня, не стукач он, не паразит, а такой же, как и мы, горемыка». То, что рассказал сейчас Бугров, бесценно, и я немедленно его прерываю: — Давайте уточним, Иван Тимофеевич. Итак, Сахаров рассказал одесситу про пять двоек, заработанных за один день в школе, про то, как мясо рубить учился и как цветные карандаши у матери стащил и на рынке продал? — Точно. — А вам сказал, что карандаши не на рынке продал, а больной девочке подарил? — Точно. Именно так и сказал. — Ну а потом? — Потом страшно было. Два десятка заключенных из нашего барака, в том числе и меня с Мишей, включили в партию смертников. Значит, так… Я слушаю тихий рассказ Бугрова не прерывая. Не новая, но всегда страшная история массового истребления людей, у которых уже отняли все, кроме жизни. Теперь отнимали и жизнь Печей в лагере не было, захоронение в скальном грунте требовало больших запасов взрывчатки, сжигать штабелями тоже было невыгодно: человек горит долго, нужно топливо, а горючее в «третьей империи» уже стали в те дни экономить. Предназначенных к ликвидации наиболее истощенных и уже неспособных к работе людей пересылали специальными эшелонами в концлагерь побольше, где и сжигали их в специально оборудованных лагерных топках. В такой транспорт попали и Сахаров с Бугровым. Он рассказывал об этом нескладно, но образно. Я почти сам ощущал эту грохочущую тьму на колесах, смрад от набитых на грязных нарах, как спички в коробке, немытых, некормленых, нездоровых людей, их тяжелое свистящее дыхание, эту мучительную ломоту в костях, ледяной холод не топленного в январскую стужу вагона. Я почти видел вырезанную самодельным ножом дыру в основании вагона, ее полуобрубленные, полуобломанные края, ее рябящую пустоту, позволявшую человеку броситься в межрельсовую гремящую тьму, не зацепившись о края выреза. Кто-то не рискнул броситься: слишком страшно, да и все равно помирать. Кто-то прыгнул не раздумывая по той же причине: все равно помирать. Выпрыгнуть из вагона удалось всем рискнувшим — охрана ничего не услышала и тем более не увидела в темноте безлунной январской ночи, но спаслись далеко не все. Многие так и остались лежать на скальном грунте. Бугров ушибся, но встал, нашел без памяти лежавшего Сахарова; к счастью, и тот ничего не сломал и не вывихнул. Потом к ним присоединились еще четверо, и всю ночь шли они по горной тропе ощупью, цепляясь за кусты и спотыкаясь о камни. Двух в темноте потеряли — должно быть, свалились где-то без сил, а остальные еще полдня карабкались по горному обледеневшему склону, пока не наткнулись на партизанский патруль. Обогрелись, привыкли, прижились. Мало-помалу преодолели и языковой барьер, благо язык-то ведь тоже славянский, что-то в нем и так было понятно, без перевода. Воевали умело, профессионально, заслужив одобрение и уважение новых друзей. Эту часть рассказа Бугров почти скомкал, даже на скороговорку перешел, и его можно было понять: война всюду одинакова, если ею движет ненависть к твоим поработителям. — Вы и в отряде вместе держались, Иван Тимофеевич? — Точно. Всегда рядышком, как свояки. — Ну и как, грустил он по дому, вспоминал что-нибудь? — Кто из нас не грустил тогда, товарищ следователь? За тысячу верст от дому — заплачешь, когда друзей да любимых вспомнишь. У меня вот невеста была… — А у Сахарова? — Не было у него невесты. Рассказывал, что всегда был замкнутым парнем, больше интересовался книжками, а не девушками. Нравилась ему какая-то дивчина в полку, но даже ее имени не назвал. — А о матери вспоминал? — Не было у него матери. Я недоуменно переглядываюсь с Ермоленко и Корецким. Реплика Бугрова настораживает. Что он хочет этим сказать? — А эта, которая в Апрелевке, не мать, а мачеха. Мать-то от родов умерла, а в метрику соседку вписали, учительницу. Как и почему это вышло, Сахаров не знал. Может, потому, что учительница эта за его отца замуж хотела выйти и ребенка на свое имя взяла, чтоб привязать крепче. Жадная до денег всегда была, а отец Миши много зарабатывал на фабрике граммофонных пластинок. Разбирал, говорит, на антресолях старые отцовские бумаги и нашел письмо его из больницы к жене. Заражение крови у него тогда определили, оттого и умер. А в письме написал, чтоб мальчишку берегла, правды ему не открывала, что, мол, это и ему и ей хорошо. У него будет мать, а не мачеха, а у нее — сын, на которого в летах и опереться можно. Миша даже зубами скрежетал, когда рассказывал. Ценность того, что говорил Бугров, определялась не новизной или неожиданностью, а тем, что он полностью раскрывал характер Анфисы Егоровны Сахаровой и психологические мотивы ее преступления. Не только жадность к деньгам побудила ее признать сыном чужого и, несомненно, опасного человека и не только его вероятный шантаж утвердил ее в этом признании, но и трезвый расчет, что ее слово — слово матери — всегда будет решающим в споре о личности сына, но и равнодушие к судьбе пасынка, который, как она знала от Гетцке, был сожжен в топке гитлеровского концлагеря. — А не говорил ли вам Сахаров, как она реагировала на его открытие? — Он не сказал ей: испугался, что выгонит. А куда ему деваться в пятнадцать лет без паспорта и без денег? Так и жили как кошка с собакой: она помыкала, он терпел. Потому и просил меня ей передать, чтобы подарков не ждала от него, а я, честно говоря, был даже доволен, что не застал ее в Апрелевке, когда приезжал к Хлебникову. Ну а рассказывать ему обо всем не стал: не близкий он Сахарову человек, не его дело. — Значит, псевдосын так и не знает, что он псевдопасынок? — говорит Корецкий. Я доволен. — Еще одно преимущество в нашей беседе с Анфисой Егоровной. — Я смотрю на часы — половина девятого. Есть шанс, что еще успею попасть в Апрелевку и наверняка застану ее у телевизора. — Магнитофон возьмете? — Зачем? Мы просто поговорим. По душам. А магнитофон включим, когда мадам будет у нас на допросе сидеть. Я без плаща, в штатском, даже без головного убора. Самый подходящий вид для разговора по душам с «пиковой дамой».ТРУДНЫЙ РАЗГОВОР
Большая комната, торшерный сумрак, цветной экран телевизора, обстановка «жилой комнаты», чешская или финская, не знаю, но, по-видимому, не так давно купленная. Хозяйка дома стоит передо мной в длинном домашнем халате, высокая, голубовато-седая, как говорят, хорошо сохранившаяся для своих лет, но очень уж прямая и угловатая. Лицо строгое, даже суровое, с синеватой складкой ненакрашенных губ и действительно пронзающими насквозь глазами. Она возвращает мне мое служебное удостоверение и не играя в безразличие, а искренне безразлично спрашивает: — Где же ордер? — Какой ордер? — На арест или на обыск. — Вы меня не поняли, Анфиса Егоровна. — Я стараюсь быть любезным, хотя и с оттенком суховатости. — Я к вам по делу, очень важному и для меня и для вас, визит неофициальный, необходимость поговорить. — Значит, допрос? — И опять ошиблись, Анфиса Егоровна. Просто разговор по душам, без протоколов и записей. Виноват, что потревожил вас поздно, но вы, как я вижу, еще не ложились спать. И телевизор включен. Кстати, вы его выключите, он нам не понадобится. — Тогда снимите пиджак и садитесь к столу. — Зачем же пиджак? — удивляюсь я. — Неловко как-то, я в подтяжках, неэстетично. Да у вас и не жарко. — Но и не холодно. И пусть без эстетики, зато без всяких записывающих приборов — не знаю, что у вас там в карманах. Повесьте пиджак вон на тот гвоздик, от стола подальше. Я повинуюсь и возвращаюсь к столу; хорошо еще, что подтяжки импортные — белые, как у гимнастов на снарядах: этакий пожилой тренер между двумя занятиями. — Что же вас интересует? — спрашивает она, оставаясь и на стуле такой же прямой и жесткой. Великолепно «держит спину» — сказал бы о ней хореограф. — Меня интересует ваш сын после его возвращения с войны, с первого появления в этом доме, с первых минут вашей встречи. — Я бы хотела знать, почему это вас интересует. — Я объясню несколько позже. А сейчас попрошу ответить: как прошла ваша встреча? Сразу ли вы узнали его? В чем-то он изменился, что удивило или смутило вас? Каков был, так сказать, эмоциональный тонус этой минуты? Она недоуменно пожимает плечами. — Странный вопрос. Очень странный. Встретились как мать и сын после долгой разлуки. Эмоциональный тонус? Смешно. Я уже и на возвращение его не надеялась. А что удивило? Ничего не удивило. Ну, повзрослел, почернел, отрастил бороду, но как может близкий человек остаться неузнаваемым? Я вспоминаю слова Ермоленко о двуличности Сахаровой и об ее «речевой манере» с подделкой под народный говорок. Двуличность сразу же подтверждается: речевая манера уже совершенно другая. Сейчас это действительно бывшая учительница, трезво мыслящая, с быстрой реакцией и привычной ей речью вполне интеллигентного человека. Ермоленко она не разгадала, а я ей сразу открылся, ну и сообразила, конечно, в какой манере ей вести разговор. О Ермоленко, между прочим, и она вспомнила. — О встрече с сыном я уже, кстати, рассказывала. Спрашивал меня тут один. От вас или из газеты. — Возможно. Только нынешний ваш рассказ странно не совпадает с рассказом вашей соседки, Аксеновой. Она была невольным свидетелем этой встречи — выстиранное белье развешивала на смежном заборе. По ее словам, вы встретили сына на крыльце, удивленно спросили: «Что вам угодно?» — «Мама! — воскликнул он. — Я же Миша, неужто не узнала?» Вы долго всматривались, не спускаясь вниз, потом сказали: «Странно. И голос не узнаю». — «Это у меня после контузии», — пояснил он, взбежал по ступенькам, обнял вас и втолкнул в дверь. Аксенова твердо уверена, что все произошло именно так. — А вы знаете, кто такая Аксенова? Первый кляузник и доносчик в поселке. Ее кляузы уже надоели всем и в милиции и в райкоме. — Зачем же ей лгать в данном случае? Никакого смысла и никакой выгоды. — Смысл один — сделать гадость, — брезгливо цедит Анфиса Егоровна. — И едва ли вас украшают поиски информации на помойке. Да и зачем, собственно, эта информация? Почему ваше ведомство интересуют такие детали, как радостный смех или возглас удивления при встрече? И какая разница в том, узнала ли я сына сразу или спустя две минуты, на крыльце или в доме? — Потому что мы располагаем сведениями, что ваш так называемый сын, Михаил Данилович Сахаров, совсем не то лицо, за которое себя выдает. Она не удивлена, не испугана, только чуть-чуть вздернула брови. Великолепная выдержка: получила телеграмму от Сахарова и соответственно подготовилась. — Для серьезного разговора, по-моему, совершенно несерьезная постановка вопроса. Вы говорите матери, что ее сын не сын, а чужой дядя. Цирк. Отвечаю тем же: — В основе вашей бравады — неправда. Человек, который называет себя Сахаровым, во-первых, не Сахаров, во-вторых, не ваш сын. — Бред. Я не слепа, не глуха и психически нормальна. — И все-таки не вы его мать. — А кто же, по-вашему? — Рискну сказать правду. Нам известна его настоящая мать. Это Мария Сергеевна Волошина. Живет в Одессе и может дать показания. Сахарова по-прежнему «держитспину». Ни тени смущения. — Значит, еще не дала показаний. И не даст, если не идиотка. Проиграет иск в любой судебной инстанции. Конечно, я понимаю, что спрашиваете здесь вы, а не я. Но разрешите все-таки спросить: что общего у взыскателя алиментов с задачами государственной безопасности? — Речь идет не о взыскании алиментов, что вы сами прекрасно понимаете, — говорю я, вкладывая в слова всю необходимую здесь суровость. — Речь идет о розыске преступника. Гражданин СССР, проживающий в Москве с паспортом Михаила Даниловича Сахарова и называющий себя вашим сыном, на самом деле Павел Волошин, русский по национальности, одессит по месту рождения, эмигрант по личному выбору, нацист по убеждению, сумевший сменить русскую фамилию Волошин на немецкую Гетцке, гауптштурмфюрер по званию в годы немецко-фашистской агрессии, гестаповец по месту работы и палач по призванию, на совести которого сотни жертв — повешенных и расстрелянных, угнанных на каторжные работы в Германию и просто замученных пытками в одесском гестапо. Еще в конце войны была подготовлена переброска Волошина-Гетцке в СССР под видом бывшего военнопленного Сахарова, что и удалось ему при вашем вольном или невольном содействии. — Но где же тогда мой настоящий сын? — Она задает этот вопрос с легким оттенком иронии, так, чтобы не подумали, что она поверила. Но я уточняю и уточняю. — Гетцке и его хозяева полагают, что Сахарова сожгли в лагерной топке. Его и должны были сжечь. Но ему удалось обмануть палачей и бежать. О побеге случайно никто не узнал, а его, истощенного и больного, подобрали и вылечили партизаны Словакии. — Он жив? — К сожалению, убит. — А почему я должна этому верить? Я вынимаю уже известные мне фотокарточки из папки Корецкого — снимки Сахарова, средний и крупный план, и обелиск с его именем на Братиславском шоссе. Она долго и внимательно рассматривает фотографии. — Может, это какой-нибудь другой Сахаров? Может быть, даже не русский, словак? Тут написано не Михаил, а Михал. — Так его называли в отряде. — Еще раз повторяю: почему я должна этому верить? — Дополнительные аргументы потом. Прежде всего сходство. — Оно не убеждает. Похож, но не очень. Я кладу перед ней снимок Сахарова из комиссионки. — Этот более похож? — Конечно. И шрам заметнее. — А если этот шрам только результат косметической хирургии? — Докажите. — В свое время и это будет доказано. — В свое время. А пока вы ничем не доказали, что этот Сахаров с памятника и есть мой настоящий сын. Кто, кроме матери, может знать это? Чей голос для правосудия будет весомее ее голоса? — Есть такой голос, Анфиса Егоровна. Есть. Голос близкого друга и боевого соратника. Есть свидетель, лично знавший Михаила Даниловича, знавший все о нем и о вас, — друг, которому ваш сын перед своим последним боем поручил разыскать вас в Апрелевке и передать свой прощальный привет. Неужели же вы и теперь не верите? Она молчит. Глаза опущены. Лихорадочно подыскивает новый контраргумент или готова сдаться? Нет, не готова. — А этот свидетель уже видел моего Мишу? — Пока еще нет. Но, несомненно, увидит. — Это у вас называется опознание? Допустим, что оно состоится. Допустим, что ваш свидетель не узнает в моем сыне своего Сахарова. Но кому же поверит суд? Родной матери, знающей своего сына добрых полсотни лет, или какому-то постороннему человеку, рассказывающему байки о другом постороннем человеке, лично мне неизвестном, но почему-то именующем себя моим сыном? Может быть, кому-то в лагере было выгодно назваться Сахаровым? Может быть, мое имя, адрес и какие-то детали биографии сына он узнал от него самого. А если все это лишь авантюра, смысл которой сейчас уже едва можно раскрыть? Где-то убит и похоронен неизвестный мне человек под именем Сахарова. Есть его имя на камне и свидетельство другого, неизвестного мне человека. Но почему я должна верить, что убит и похоронен мой сын, когда он уже четверть века живет и работает рядом? Смешно. У живого человека появился мертвый двойник. Человек-невидимка. Поручик Киже. — У этого поручика вполне реальная внешность, так что не будем гадать, кому поверит или не поверит суд, — говорю я, укладывая фотокарточки в папку. — Хотите чаю? — вдруг спрашивает она. — Я сейчас подогрею чайник. Он еще теплый. — Не откажусь. Разговор наш не окончен. — А зачем его продолжать? Не к чему. Попьем чайку и расстанемся. Мне вы ничего не доказали. Доказывайте на суде. — На суде мы предъявим вам обвинение в пособничестве государственному преступнику. Она смотрит на меня в упор немигающими злыми глазами. Какая сила волн у этой женщины и как боялись ее, должно быть, и дети и учителя. — Прежде чем предъявить обвинение мне, вы должны арестовать моего сына, предъявив обвинение ему. А если вы добиваетесь от меня выгодных вам показаний, значит, оснований для его ареста нет. — Ваши показания могли бы только ускорить дело, а оснований для ареста у нас достаточно. — Каких? Что у вас есть, кроме этих неубеждающих фотографий, сплетен соседей и сомнительного свидетельства о бывшем русском военнопленном, явившемся в партизанский отряд без документов, назвавшемся именем Сахарова и не оставившем после своей смерти никаких юридических доказательств того, что он якобы говорил вашему подставному свидетелю? Не сдается старуха. Может быть, я ошибся, неверно повел разговор, допустил какие-то просчеты, чего-то не предусмотрел? Сахарова по-прежнему убеждена, что ее материнский авторитет прикрывает ее Гетцке несокрушимым щитом. Ну что ж, попробуем еще раз крепость щита. — Хотите доказательств? У нас они есть, со временем мы вам их предъявим. А пока у нас, как говорится, беседа по душам. — Никакого желания продолжать ее у меня нет. Вздорные обвинения в адрес честного человека… — Вы о Сахарове? А между тем этот честный человек сам узнал меня и откровенно и цинично признался, что вы — его верный друг и союзник. — И этому тоже прикажете верить? — Пока я вам ничего не приказываю. — А разговор, конечно, протекал без свидетелей и никак не записывался? — Как и наш с вами. Она усмехается. — Что ж, продолжайте. — Все это бравада, конечно, — он напуган. Об этом говорит и его отчаянная телеграмма вам. Не делайте удивленных глаз, мы знаем ее содержание и знаем, что вы ее получили. Поэтому и ваше упорство не удивляет. Оно вытекает из того, что произошло между вами. — Вы, как господь бог, все знаете. — Если не знаем, так догадываемся. Хотите, я вам расскажу, как вы стали его сообщницей? Сначала вы его не узнали: борода, голос, глаза, манеры — все другое. Не мог так перемениться мальчишка, ушедший из дома пять лет назад. Но он напомнил вам многое, чего не мог знать никто другой, кроме Миши. Смеясь, он вспомнил о пяти двойках по всем предметам за один день, о том, как разделывал говядину и свинину на рынке, как продал там украденные у вас цветные карандаши… — Вы действительно бог. — Все совпадает, да? А между прочим, Сахаров все это сам рассказал Волошину-Гетцке, подсаженному к нему в лагерный карцер. Многое рассказал о себе, и эти байки в частности Только не все рассказал: карандаши, например, не продал, а подарил больной девочке. Так что мы знаем даже больше, чем ваш псевдосын. Вас подкупил его рассказ, а главное, подарки — два чемодана продуктов и тряпок. Вот тут-то и погасли ваши сомнения; не все ли равно, какой сын — похожий или непохожий, зато щедрый и уважительный. О вражеском лазутчике вы даже и не подумали, «шпионская» литература еще не появилась тогда на книжном рынке. А когда сомнения вновь возникли и укрепились, было уже поздно: щедрый сын предстал в роли умудренного шантажиста. На явку с повинной вы не решились и потянули лямку сообщницы. Страх заглушил последние остатки совести: вы понимали, что Гетцке не пощадил бы свое прикрытие, если б хоть чуточку в нем усомнился. Вот вам и сказка о доброй бабушке и тороватом волке. Она отодвигает чашку с остывшим чаем и встает из-за стола такая же прямая и угловатая. — Кстати, последний поезд уже ушел. — У меня машина. — Я тоже встаю. — Где сейчас Миша? — На теплоходе. Завтра мы с ним увидимся. — Передайте привет от матери. И тут я наношу ей последний удар: — А не от мачехи? Она вскрикивает: — Что?! — И вскрик этот ломает «палку от щетки», спина уже согнута, голова ушла в плечи. — Вы же не родная мать Михаилу Сахарову, и он знал об этом. — Неправда! Она потрясена. Для нее уже ясно, что мы многое знаем и продолжать лгать рискованно. В глазах откровенный испуг, может быть, потому, что открыта не столь существенная, для нее, но, как ей казалось, наиболее сокровенная тайна. — К сожалению, для вас правда, Анфиса Егоровна. Михаил прочел письмо отца из больницы, которое тот писал вам перед смертью, — холодно разъясняю я. Вздох облегчения: — Этого письма давно уже нет. — Но еще живы соседи, которые знают, как было вписано ваше имя в свидетельство о рождении Сахарова. Легко узнать и о смерти его настоящей матери. Мы оба молчим: она — взволнованно, я — выжидательно. Наконец она подыскивает какие-то нужные ей слова. — Допустим, что вы правы. Но какая разница для вас, сын он мне или пасынок? Я его с пеленок вырастила. — Разница есть, увы. И неожиданная для вас. Подлинный Сахаров знал об этом, а фиктивный не знает. Так что подумайте обо всем, Анфиса Егоровна. До свидания. Она останавливает меня, что-то решившая, снова спокойная. — А свидание это состоится, вероятно, у вас на Лубянке? Я не разубеждаю ее. — Вот тогда и поговорим. Я буду отвечать, а вы — записывать. А разговора по душам, извините, не вышло. Меня она не провожает. Я иду по дорожке к калитке расстроенный. Не буду же я уверять генерала в том, что это победа…ВОЕННЫЙ СОВЕТ
Но генерала уверять не приходится. — Конечно, это совсем не победа, — резюмирует он мой доклад. Генералом мы его зовем за глаза, а в глаза — Алексеем Петровичем. Нас же он называет по-разному. Меня — Романычем (сколько лет прослужили вместе), Корецкого — по фамилии, Ермоленко, как младшего, — просто по званию. Когда сердится, по званию обращается ко всем подчиненным. Сейчас он не сердится. Он размышляет. — Ты рассчитывал на большее, но расчет обернулся просчетом. — Крепкая старуха, — вставляет Ермоленко. — Не люблю жаргона, старший лейтенант. Избегайте его хотя бы в моем присутствии, — морщится генерал. — Но кое-чего мы все-таки добились. Сахарова смущена, пожалуй, даже испугана. Доказательств так много, и весомость их столь ощутима, что отвергнуть их с маху трудно. И прочность «материнского авторитета» уже не кажется ей такой уж бесспорной. В конце концов, она конечно же понимает, что ей грозит. Кстати, в обоих случаях — признается она сейчас или позже — ответственности ей все равно не избежать. Это она уже поняла. Но понимает и другое. Даже если мы и докажем сообщничество, она в любом суде добьется смягчения приговора: обманулась, мол, сходством, сыновней почтительностью, его знанием их довоенной жизни. Ей и о шантаже говорить не нужно. Если Гетцке ее не продаст, то версия «обманутой матери» пройдет даже у самого строгого прокурора: много ли можно требовать от старого человека, особенно когда ему уже семьдесят с лишним лет. Так зачем же признаваться сейчас, когда мы сами даем ей отсрочку? Преступник еще не арестован, может быть, ему посчастливится скрыться. Ведь не исключена такая возможность. Даже вы сами об этом подумали, ну а ей и бог велел. Скроется Гетцке — «обманутая мать» обманет любого следователя. — Значит, Алексей Петрович, ты считаешь, что я допустил просчет? — Ты просчитался в цели, а не в средствах. Средства правильные. Откровенный разговор, систематизация доказательств, точный анализ соединенного — и цель достигнута. Только не та цель. Ты рассчитывал сразу закончить дело. Одним росчерком. А дело-то далеко не закончено. В нем, как в драматическом произведении, есть своя завязка, экспозиция, кульминация и развязка. В пять дней подошли к кульминации. Но развязки еще нет. И где ее сделать, когда и как — вот об этом и надо думать. У Ермоленко уже готов ответ: — Где? Здесь. Летим в Новороссийск, берем Сахарова. В Москве допрос. Медицинское исследование происхождения шрама. Опознание. Очные ставки. — С кем? — спрашиваю я. — Хотя бы с Волошиной и Бугровым. — Волошину я бы не стал беспокоить. Я хорошо знаю Марию Сергеевну. Она нам не поможет. Не подпишет смертный приговор сыну. — Резонно, — поддерживает меня генерал. — Кстати, от нее уже получен ответ. Я перехватил его, не обижайтесь. Волошина из предъявленных фотографий выбрала оценщика из комиссионки, именно он, по ее словам, больше похож на ее сына. Но категорически подтвердить тождество отказалась: борода, шрам, тридцать лет не видела, привыкла к мысли, что он погиб, и все такое прочее. Для нас существенна лишь первая реакция — почти опознала сына в нашем бородатом клиенте. На большее рассчитывать не приходится. Да и без Волошиной у нас достаточно объективных свидетельств. А с Бугровым как: сначала арест Сахарова, а потом опознание? Я много думал об этом. Арестованный Гетцке станет отчаянно обороняться. Его знали в Одессе, видели в лагере, изучали на проверке после возвращения из плена. Кто-нибудь уцелел из его гестаповской агентуры, жив кто-то из сахаровских довоенных друзей, однополчан, лагерных однобарачников. На допросах и очных ставках Гетцке будет психологически вооружен и на встрече с Бугровым найдет защиту. Нашла же ее Сахарова, не раздумывая опорочившая и сына, и его боевого товарища. Гетцке же наверняка придумает еще более тонкий и расчетливый ход. Значит, встречу с Бугровым в интересах следствия лучше будет провести до ареста. На теплоходе. В самую неподходящую минуту, когда Пауль психологически расслабится. Такую минуту можно заранее подготовить, а ее эмоциональную окраску сымпровизировать. Тут и должен сыграть свою роль, не может не сыграть эффект неожиданности. Так я и поясняю свой план генералу. — Добро, — ободряет он меня, — есть резон. — Есть еще резон, Алексей Петрович. Но у нас с Корецким тут согласия нет. Майор предлагает арестовать Сахарова на теплоходе сразу же после опознания его Бугровым. — А ты возражаешь. — Возражаю. И вот почему… — Погоди, — останавливает меня генерал и к Корецкому: — А где вы держать его будете? — На теплоходе найдем помещение, Алексей Петрович. — А где охрану возьмете? — Там у нас два оперативных работника из батумского управления. Генерал задумывается и снова ко мне: — А почему возражаешь? — Я предлагаю отсрочить арест до прибытия в Одессу. Сбежать ему некуда — от Новороссийска до Одессы нет остановок. А на борту круглосуточное наблюдение. — Слишком уж хитроумная затея. И что она даст? — Он уже растерян, психически подавлен и напуган. В Батуми пытался всеми способами попасть в Москву раньше нас. Чтобы встретиться с Сахаровой, может быть, даже ликвидировать ее и скрыться — в Москве у него, вероятно, есть такая возможность Но оперативность и находчивость батумских товарищей предотвратили побег. А вчера я предупредил, что в случае появления его на берегу он будет немедленно взят под стражу. Так что пребывание его на борту теплохода пока гарантировано. Но отсрочка ареста дает и надежду. Он великолепный пловец и вблизи берегов Одессы может рискнуть вплавь добраться до любого из прибрежных городков или поселков, а там поездом или с попутной машиной скрыться где-нибудь поблизости, может быть, даже податься в глубинку. Шанс, конечно, минимальный, один из ста, но он обязательно им воспользуется: он у него единственный. Тут-то мы его и возьмем. Корецкий уже не спорит, и «добро» генерала завершает наш военный совет. Утро уже позади, до отлета самолета часа полтора, решаем встретиться и пообедать на аэровокзале. Бугров дремлет за столом, мужественно прогоняя сон кофе и сигаретами. — Не выспался, — извиняется он, — плохо спал на новом месте. Бессонница. — В самолете выспитесь, — утешает его Ермоленко. В самолете наши места не рядом, поэтому инструктирую Бугрова тут же за обедом: — На теплоходе, как только войдете, Иван Тимофеевич, подымайтесь лифтом на палубу салонов, смело шагайте по коридору до первой открытой двери. Это или курительная, или бар. Там мы вас и найдем, пока не обеспечим места для вас и Ермоленко. Запомните твердо: на теплоходе мы незнакомы, не замечайте меня и не подходите, пока я не позову вас сам. Связь поддерживаем через Ермоленко. К теплоходу на причал в Новороссийске прибываем в пятом часу. Жарко. Летнее кафе морвокзала почти пусто, и только у грузовых отсеков нашего черно-белого красавца рабочая суета. Грузовые лебедки тянут на тросах какие-то контейнеры и бочки. Плывут в воздухе «Москвичи» и «Волги» пассажиров — их переправляют после вояжей с кавказских дорог через Новороссийск в Одессу. У поручней на верхних палубах теплохода никого — послеобеденный отдых. Подымаюсь на лифте один, оставляю следующую кабину Ермоленко и Бугрову. Не нужно, чтобы нас видели вместе. Только бы не налететь на Тамару или Сахарова… Но путь свободен. Ермоленко не дожидаюсь — он сам найдет батумских товарищей, все координаты у него есть — и, стараясь как можно осторожнее и быстрее проникнуть в наш каютный коридор, который, к счастью, пуст, как в вагоне ночью, подхожу к двери своей каюты. Нажимаю ручку — заперто. — Кто? — слышу я голос Галки из-за двери. — Здесь живет фрейлейн Костюк из городской управы? — вспоминаю я пароль нашей одесской подпольной группы. Дверь открывается, и я попадаю в объятия Галки. — Поспел все-таки! — К развязке, — уточняю я.Новороссийск — Одесса
КОНЕЦ
Обмениваться впечатлениями уже некогда, так как Галка сразу же ошарашивает новостью. На мой вопрос, где Сахаров, она делает круглые глаза и хватается за голову. — Сахаров здесь, но Тамара сбежала. — Как сбежала? — Он перехитрил нас. Послал Тамару в Москву. — Когда? — Должно быть, утром. После завтрака. Уже за обедом он появился один и доверительно сообщил, что Тамара получила телеграмму о болезни матери и вылетела из Новороссийска в Москву. На самолет он ее не провожал — наверное, помнит твое предупреждение, но о телеграмме соврал. Я просила капитана проверить, была ли такая телеграмма, оказалось, что не было. Но факт остается фактом: Тамара уже в Москве, проморгали вы ее. — Еще не в Москве. Первый рейс, с которым она могла улететь, что-то около трех Успеем. Отправляюсь в радиорубку и по радиотелефону соединяюсь с Москвой. Корецкого нет, но я добываю самого генерала. — Алексей Петрович, промашка. Ругаться будете потом — времени мало. Пока ближайший самолет еще не прибыл из Новороссийска, необходимо послать людей встретить Тамару Сахарову и проследить ее путь из аэропорта. Брать ее, пожалуй, не стоит. Нет основания, да и бесполезно. Пусть себе едет в Апрелевку. Анфиса Егоровна уже все продумала и соображает, что спасать надо себя, а не Сахарова. Если же Тамара поедет по другим адресам, пусть проследят. Генерал молчит несколько секунд — видимо, сдерживается. — Хорошо, — говорит он замороженным голосом. — Других промашек нет? — Пока нет, — отвечаю я. Продолжать разговор уже незачем — у генерала времени в обрез. А я иду к капитану К счастью, ждать его не приходится — он у себя. — Когда у вас закрываются бары? — спрашиваю я. Капитан несколько удивлен: — В двенадцать. А что? — Можно закрыть один пораньше? То есть не совсем закрыть, а для пассажиров. Бармен уйдет, а мы останемся. — Понимаю. — Капитан задумывается, мысленно подбирая для нас подходящее помещение. — Крайний бар без курительной. Последний по левому коридору. Вывеска: «Близ Диканьки». Идет? — Идет. — Когда? — Часов в десять-одиннадцать, когда вам удобнее. — Хорошо. Я скажу бармену. Он оставит вам ключ. Много вас? — Я да он, да еще трое. Почти джаз-оркестр, только без музыки. — Надеюсь, и без стрельбы? — Что вы, капитан! Это только генеральная репетиция. После разговора с капитаном разыскиваю Лежаву. — Порядок, товарищ полковник. Я с ним Нодия оставил. Оба ныряют. — Не заметил слежки? — По-моему, нет. — Что-то не верится. У него гестаповская выучка. — Так мы для него все на одно лицо. Наших ребят из Грузии здесь полно. Любимое грузинское развлечение летом — батумский круиз. — А как он себя ведет? — Беспокойно. Часто ссорится с женой. Уединяется. Пьет. — А жену вы проморгали. — Так вы же сами, товарищ полковник, выключили ее из наблюдения. — Знаю. Мой промах. А за Сахарова вы в ответе. За каждый шаг. Сегодня вечером после отплытия из Новороссийска, часов в одиннадцать, будьте оба у бара «Близ Диканьки». Держитесь незаметно, но так, чтобы я мог позвать вас в любую минуту. Остается Галка, и все происходившее на теплоходе в мое отсутствие будет выяснено. Галка ждет на шлюпочной палубе против нашей каюты. — Как прошел ужин вчера, когда я уехал? — Сахаров не явился. Пришла одна Тамара с растекшимися ресницами и распухшими веками. Говорит, что поссорились. Я посочувствовала и, воспользовавшись настроением, поинтересовалась ее семейной жизнью. Обеспечены они вот так, — Галка подносит два пальца к горлу, — но атмосфера дома ненастная. Живут замкнуто, дома у них, кроме Томкиной клиентуры, никто не бывает; у нее самой какие-то шашни, но Сахаров смотрит сквозь пальцы: либо это его не интересует, либо устраивает. Но мне кажется, что-то все-таки связывает их кроме брака. Во всяком случае, с недавнего времени. А пить он начал только здесь, на теплоходе, что крайне удивляет Тамару: в Москве она этого не замечала. В общем, две разные жизни, в чем-то, конечно, связанные кроме брачных уз, но, должно быть, совсем, совсем недавно. Какой-то потаенный страх сквозит в словах Тамары, а раньше — я ведь ее давно знаю — никогда этого не замечала. Я пропускаю мимо ушей все сказанное Галкой. Сейчас меня интересует другое. — Когда ты увидела Сахарова? — Сегодня за обедом. По-моему, он был даже рад, что Тамара уехала. — Радость понятна. Только это ему уже не поможет. — Подвел итоги? — Подведу сегодня вечером. — Тебе сейчас нельзя выходить из каюты. По-моему, он поверил, что ты болен. — Поверил или не поверил, это уже не имеет значения. Операция заканчивается. — Где? — «Близ Диканьки». Есть такой бар на теплоходе. Поближе к двенадцати ночи. Ты не ходи. — Я понимаю, что доктор Ватсон тебе уже не нужен. — Не обижайся, Галчонок. Ты свое дело сделала. — А если он вооружен? — Ты думаешь, у нас дуэль? «Возьмем Лепажа пистолеты, отмерим тридцать два шага…» Нет, Галка, только психологический этюд. — Время неподходящее. В двенадцать бары уже закрываются. — Наш бар будет открыт до утра. Так что не жди меня ночью. — Я обнимаю ее за плечи и добавляю: — А теперь пойду искать «школьного друга». Галка не понимает. — Зачем? — Надо же предупредить его о вечере на хуторе «Близ Диканьки». Я нахожу его за бассейном в шезлонге, греется под заходящим уже за море солнцем. Он сидит голый, в одних плавках и больших черных очках. Я присаживаюсь на корточки рядом и спрашиваю: — Отдыхаешь? Он молниеносно оглядывается по сторонам, не слышит ли кто-нибудь, и, убедившись, что рядом никого нет, усмехается: — Как видишь. А тебе ведь следует в лазарете лежать. — Отлежался. — Ой ли? В этом «ой ли» я слышу нескрываемую иронию. Значит, не верил и не верит. — А ты, пока я болел, уже вышел на связь? Он снимает очки и смеется: — Ты о жене? — В Москву послал? — Ага. — Не поможет. — Утешайся, если ты уже с ордером. — Пока еще нет. — Не надейся. В любом суде проиграешь. — Поживем — увидим. А пока поговорить треба. — О чем? — Узнаешь. — А если откажусь? — Не откажешься. Не в твоих интересах. — Допустим, но не здесь же. — И не сейчас. Есть бар в конце коридора. Рядом с музыкальным салоном. Скажем, в половине одиннадцатого. Свидетелей не будет. Кто в кино, кто на концерте. Самое подходящее место для рандеву. А что нам нужно? Бутылку пива или пару коктейлей. — Не нравится мне все это. — Не нравится, когда надевают наручники. А для этого, к сожалению, еще не пришло время. Теперь он уже откровенно хохочет: — Признаешься в бессилии? — Пока да. Пока. — Ну что ж, поговорим, если тема подходящая. Какой бар? «Близ Диканьки»? Страшная месть, да? — Еще не страшная. — Ладно, приду. Теперь я отправляюсь на розыски Ермоленко и Бугрова. Оба отсыпаются в отведенной им каюте. Вскакивают как по команде. — В половине двенадцатого уйдет бармен, и войдете вы. Напоминаю: ни слова о Сахарове, о лагере, о партизанах, о войне. Пусть не знает, кто вы и откуда. Твердо запомните. Это приказ. Ясно? — Точно, — чеканит Бугров. — Не подведете? — Не подведу, товарищ полковник. — Добро, — копирую я генерала.«БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
Длинный узкий коридор пуст. Лишь в конце его в дверях музыкального салона, откуда доносится чье-то микрофонное пение, маячит Нодия в сером костюме. Его никак не примешь за сыщика. С тоненькой стрелкой усов и модными бачками, молодой развлекающийся грузин, каких десятки среди пассажиров. Он стоит вполоборота к невидной из коридора эстраде так, что вход в интересующий меня бар остается в поле его зрения. Лежавы еще нет Должно быть, он придет позже, чтобы не бросаться в глаза. Я смотрю на часы: двадцать минут одиннадцатого. Прошло около часа после отплытия, теплоход уже в открытом море, далеко от Новороссийска. В четверть одиннадцатого я, как было условлено, отправился в бар. Признаться, у меня не было полной уверенности в удаче. Галка так и сказала: «Прав твой Корецкий. Нечего было церемониться здесь с опознаниями, а снять его с теплохода в Новороссийске и отправить под стражей в Москву». Но очень уж соблазнил «эффект неожиданности». В случае успеха он обеспечивал нам полную и безоговорочную победу, почти обезоруживал противника и вдребезги разбивал «материнский авторитет». Возможно, я недооцениваю изворотливости и вооруженности Пауля. Развязка близка, но так не хочется ее отдалять. С тайной тревогой я и вхожу в полутемный бар. Пауль уже здесь, один-одинешенек в далеком уголке за зеленой лампой. Перед ним уже ополовиненная бутылка армянского коньяка с парадом из звездочек. Слова Тамары о том, что он непривычно много пьет, и количество выпитого меня успокаивают: значит, нервы у него не выдерживают. — И даже успел заправиться? — Присоединяйся… — Спасибо. Предпочту пиво. — Поединку пиво не поможет. Слабеешь. — Наш поединок начался не сегодня, — парирую я. — Думал, сбегу? Куда? — Теплоход велик. Поди прочеши эту громадину — хлопот не оберешься. — А зачем это мне? Бегут из безвыходного положения. А в безвыходном положении ты, а не я. — Почему? — Хочешь арестовать, а не можешь. Придется потом выпускать с извинениями, Это полковнику-то! Он явно издевается. Не хочется отвечать: не базар. — Доказательства добывая? Где, в Москве или в Одессе? — В Берлине. Его глаза суживаются, как две щелочки. Удивлен или испуган? — А что в Берлине? — Скажем, Герта Циммер. Вздох облегчения. Почти неслышный, но все же явственный. — Нет давно уже Герты Циммер. Провоцируешь. — А твои письма к ней? — И писем нет. Ни одной строчки. Даже подписи. — А фото на Балтийской косе с дарственной надписью? Он ставит недопитый бокал на стол. Стекло подозрительно звякает. — Значит, она его не сожгла? — Увы. — Просчет, — цедит он. — Писал я тогда по-немецки. — Экспертиза подтвердила тождество. — Экспертиза не безгрешна. А в Одессе у меня чисто. Архивы вывезены, агентура уничтожена. — Есть свидетели. — Кто? Ты — следователь. Тебе даже дело мое вести не положено. Отведу по личным соображениям. Жена твоя не годится по тем же мотивам. Кто же остается? Тимчук? — Кстати, Тимчук опознал тебя с первого взгляда. — К старости память слабеет. Да и Тимчук человек замаранный. На двух хозяев работал. Кому суд поверит: бывшему полицаю или родной матери? Я смотрю на бармена. Облокотясь на стойку, он читает книгу. Значит, нет еще половины двенадцатого. Надо уйти с одесской темы. — А ты уверен в показаниях Сахаровой? — Ты не знаешь Анфисы Егоровны, — улыбается он. — Это же Васса Железнова. Кремень. Не следует рассказывать ему о моей беседе с Анфисой Егоровной. Пусть надеется. Это его единственный шанс уйти от разоблачения. В моих интересах сейчас даже укрепить эту веру — тем беспроигрышнее будет мой план. — Да, — притворно вздыхаю я, — допустил промах, проворонил Тамару… — Мельком бросаю взгляд на часы: — Теперь она уже, к сожалению, в Москве. — В Апрелевке, кавалер Бален де Балю. Твоя шпага опять сломалась. Интересно все-таки, на что ты надеешься? — На количество доказательств. Как тебе известно, оно всегда переходит в качество. — Я не марксист, а прагматик. Верю только в реальные силы и реальные обстоятельства. — Помню, ты так же рассуждал и в Одессе, когда собирался с моей помощью выловить всю нашу подпольную группу. Он благодушно отхлебывает коньяк. Сейчас он совсем расслабился. Бармен уже убрал все бутылки и уходит, оставляя ключ в замке. Пауль оглядывается: — Кажется, бар уже закрывают. Сейчас нас выгонят. — Погоди. Именно сейчас и начнется самое интересное. В бар входят Ермоленко и Бугров. Пауль вскакивает. — Сядьте, гражданин Сахаров, — говорю я официальным тоном, — мы вас долго не задержим. Подойдите, Иван Тимофеевич. Бугров подходит ближе, Ермоленко остается поодаль. — Вы узнаете этого человека, гражданин Сахаров? — спрашиваю я. Сахаров недоуменно пожимает плечами: — В первый раз вижу. Теперь я обращаюсь к Бугрову: — А вы его знаете, Иван Тимофеевич? — Никак нет, товарищ полковник. — Вглядитесь получше. — Я поворачиваю настольную лампу так, чтобы Бугров мог лучше разглядеть лицо Сахарова. — Не узнаете? — Не узнаю, товарищ полковник. — Ну что ж… — вздыхаю я. — Вы свободны, Иван Тимофеевич. Ермоленко, проводите товарища в его каюту и возвращайтесь сюда. Оба уходят. — Что это было? — спрашивает Гетцке. Он больше удивлен, чем взволнован. — Неудавшееся опознание, — говорю я. — К сожалению, тебе везет, Пауль. Наш свидетель не опознал в тебе гауптштурмфюрера Гетцке. Он хохочет. Хохот нервный, почти истерический. — Смеяться рано, — строго говорю я. — Мы еще не в Одессе. Он хочет что-то сказать, потом молча допивает коньяк в бокале, театрально раскланивается и говорит: — Благодарю. И уходит. Я остаюсь. Проведена, так сказать, часть опознания. Бугров не узнал в Сахарове эсэсовца Гетцке. О настоящем Михаиле Сахарове речи пока не было. Будет еще, будет… Ермоленко возвращается с бутылкой пива, захваченной из другого бара. — Что будем делать, Александр Романович? — Ждать. — Я все-таки не понимаю, почему вы так провели опознание? — Как — так? — Ну, вполсилы, что ли… Бугров-то Сахарова опознать мог, а не Гетцке. — Еще опознает. Потом. А сегодняшний день расцени как отвлекающий ход. Пусть Гетцке поверит, что мы на ложном пути. — Как думаете: поверил? — Кажется, поверил, — отвечаю я. — Поверил в нашу неудачу, в то, что мы смущены и растеряны. Фактически мы дали ему отсрочку, возможность действовать. — Как? — Он уже давно напуган, Ермоленко. В миссию жены он не верит. На непреклонность Сахаровой уже не надеется. Еще в Батуми он понял, что изобличен, что мы ищем каких-то последних, решающих доказательств. Точки над «и». Сейчас он почти убежден в том, что мы этой точки поставить не можем, ждем до Одессы. В Одессу мы прибываем под утро, значит, еще до рассвета он попытается обмануть нас и скрыться. С пробковым поясом — а такие пояса есть в каждой каюте — марафонскому пловцу добраться до берега не составит труда. — Рискованно, Александр Романович. — Он в цейтноте, Ермоленко. А в цейтноте, если вы играете в шахматы, как известно, делают самые рискованные, самые роковые ходы. Вот я и жду такого хода. Помните, что я говорил генералу? Возьмем его у трапа. — Какие будут приказания? — Прежде всего договоритесь с электриком. Необходимо выключить свет в вестибюле и остановить лифт. До рассвета. С капитаном все согласовано. Коридор остается освещенным и просматривается насквозь. Его блокируют с двух сторон Лежава и Нодия. Невидимые в темноте, они отлично видят дверь из каюты. Вы лично блокируете лестницу — единственный путь на нижние палубы. Я прикрываю вас из кабины остановленного лифта — дверь будет открыта. Ермоленко уходит. До двух ночи я лежу, прикорнув на диванчике у большого стола. Теплоход чуть-чуть покачивает — трудно будет плыть даже марафонцу в такую погоду. Но я твердо убежден, что Пауль все-таки рискнет. Не будет ждать до Одессы. На что я рассчитывал бы в его положении? На свою силу и ловкость, на быстроту реакции, на оружие, наконец. Хотя он и ехал в свой туристский рейс, не ожидая разоблачения, привычка иметь оружие у людей его профессии — вторая натура. А я обещал капитану, что стрельбы не будет. Кто знает, может быть, обойдемся и без стрельбы — нас все-таки четверо. Два часа — минута в минуту. Я выхожу и подымаюсь по лестнице в затемненный вестибюль на шлюпочной палубе. В темноте натыкаюсь на прижавшегося в стене человека. — Ермоленко? — спрашиваю я шепотом. Он шепчет в ответ: — Тсс… в кабину лифта нельзя. Она остановлена этажом ниже. Косяк света из коридора тускло очерчивает какую-то тень. Лежава или Нодия? Я не вижу — значит, не видит и он. Подымаюсь ступенькой выше и занимаю пост на лестнице, ведущей наверх, в капитанское царство. Пауль туда не пойдет — слишком высоко, — но пост удобен: в двух шагах дверь на подветренную галерею, к поручням еле-еле освещенной шлюпочной палубы. Медленно, жестоко медленно тянется время. Начинает ломить ноги, как бывало, когда стоял на часах. Ермоленко не шелохнется, Лежава или Нодия — тоже. Молодежь — не те кости, не тот вес. Где-то в коридоре еле слышный щелчок. Кто-то повернул ручку двери, кто-то почти бесшумно шагнул из каюты. Я говорю «почти», потому что улавливаю даже шелест шагов в резиновых тапочках. Шаг — замер, еще шаг — опять тишина: ждет, не раздастся ли где-нибудь подозрительный звук. Наконец в тусклом косяке света появилась смутная фигура в купальном халате. «Почему в халате?» — мелькнула мысль. Но соображать было некогда. Тень из угла вестибюля — Лежава или Нодия — метнулась навстречу. Человек в халате отскочил, выбросил вперед руку с черным предметом в кулаке. Пистолет? Но выстрела я не услышал — только негромкий щелчок, Лежава или Нодия откинулся со стоном, закрывая лицо руками. Я не считал секунд, но мне показалось, что мы с Ермоленко бросились к выходу из коридора одновременно. Черный предмет в руке человека в халате снова щелкнул, но промазал: Ермоленко успел ударить противника головой в грудь и тут же отлетел, отброшенный сильным пинком ноги. Но я уже вцепился сзади, выворачивая руку с неизвестным оружием. Человек в халате вскрикнул от боли и выронил его на пол. Однако и я не остановил его: руки обхватили что-то жесткое, облегающее тело под халатом, и халат остался у меня в руках, а человек выскользнул и метнулся к двери на палубу. Тут его и настиг второй наш наблюдающий, и удар тяжелым пистолетом по голове свалил бежавшего на пол. Я освещаю фонариком вестибюль. Гетцке лежит на полу в одних плавках, толстом пробковом поясе, помешавшем мне обхватить его, и с самодельным полиэтиленовым рюкзаком на спине, в котором, наверно, упакована одежда. Лежава стоит согнувшись, протирая глаза рукой. — Ранен? — спрашиваю я. — Кажется, нет. Но не могу открыть глаз. Жжет. Ермоленко поднимает с пола короткоствольный, почти игрушечный пистолет и говорит с уважением: — Заграничная штучка. Стреляет ампулами со слезоточивым газом. Сеанс, как говорится, окончен. Нодия помогает Лежаве добраться до бара и промыть глаза. Мы с Ермоленко тащим бесчувственного Гетцке на диван, где я провалялся до двух часов ночи, снимаем пробковый пояс и кое-как напяливаем на лежащего куртку и брюки, спрятанные в полиэтиленовом рюкзаке. Там же деньги и документы на имя Сахарова — видно, не предусмотрел необходимости запастись фальшивым паспортом. — Надень ему наручники и прикрой халатом, — говорю я Ермоленко. — Сейчас очухается… Двадцать пять минут третьего. Меньше получаса потребовалось для развязки операции, начатой шесть дней назад. Шесть дней розысков, междугородных переговоров, психологических поединков, морского и воздушного вояжей и одной рискованной схватки. Разве выразишь в этом коротком перечне все, что было пережито в эти тревожные дни! Если бы не удар Нодия, Гетцке еще мог бы попытаться уйти. Но не ушел бы! Я все рассчитал точно, кроме халата, из которого он так удачно выскользнул почти у самой двери на палубу. Пауль открывает глаза, удивленно оглядывает окружающих, пробует двигать руками, скованными наручниками, поправляет плечами с трудом напяленный нами пиджак. Говорить он не может или не хочет, только опускает веки, чтобы не видеть нас. — Дайте ему коньяку, — говорю я. Он сжимает зубы и отворачивается. — Конец, Пауль, — заключаю я. По коридору слышатся чьи-то шаги. Теплоход просыпается.СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО
В Одессе, что уже согласовано с капитаном, мы сходим первыми, как только опускается трап. Впереди Ермоленко, за ним Лежава и Нодия, поддерживая под руки опустившего голову Сахарова, который теперь уже не Сахаров, а Волошин-Гетцке, последним я, сразу попадающий в объятия «Тараса Бульбы». — Спиймали все-таки того чоловика! — радостно возвещает он. — Поймали, Тим. — Значит, на вареники ко мне не поедешь? — Не поеду, Тим. Приедешь ты ко мне. Вызовем для опознания. Волошина уводят к ожидающей нас тут же на причале машине. — Проводи Галку, Тим, — говорю я. — Пусть ожидает меня в аэропорту. — До побачення, — кивает он. Еще одно прощание с прошлым, а впереди уже разговор с генералом. — Поздравляю, Романыч, — слышу я в ответ на мой краткий доклад, — а у нас тоже хорошие новости… Я жду продолжения. — Сахарова все-таки явилась с повинной. Все подтвердилось. Ты как в воду смотрел. — Задержали? — Зачем? Показания записали. Все ясно. Никуда она не сбежит и от суда не уйдет. Только в строгости приговора я, честно говоря, сомневаюсь. — А как с Волошиным? — Проще простого с Волошиным. Дело доведет Корецкий. Вот так. Я не могу скрыть разочарования. — Почему он, а не я? Генерал долго молчит. Я слышу, как он постукивает пальцами о стеклянную доску стола. — У тебя другая задача, Романыч, — наконец говорит он. — С Волошиным, по сути дела, все уже кончено, а вот Тамара Сахарова по возвращении домой сняла медную дощечку с двери. Не случайно сняла, ты сам предполагал нечто подобное. Мы, конечно, вернули дощечку на свое место, и теперь в квартире наши люди. Ищем связей и, безусловно, найдем. Вот ими ты и займешься. Только это, конечно, другое дело. Генерал прав. Это уже совсем другое дело.Сложи так
1
Уже давно ночь. Кругом тихо. Жена, должно быть, тоже давно спит в своем санатории в Пицунде, а я сижу, не раздеваясь, у письменного стола и думаю, думаю, думаю. Думать мне никто не мешает. Впрочем, ни о чем особенном я не думаю, а только мысленно смотрю на воинский билет, паспорт и затрепанный роман Агаты Кристи на английском языке «Убийство Роджера Экройда». Книжка, как выяснилось, скрывает ключ к зашифровке секретной переписки, прочесть которую, кроме адресата, никому не дано. Но, честно говоря, книжка эта, несмотря на всю свою для нас важность, только маячит перед глазами, а вижу я паспорт с именем и отчеством моего Ягодкина и фотокарточкой человека, на него совсем непохожего. Звонок телефона — этакий чуть-чуть журчащий зуммер, — я терпеть не мог пронзительных телефонных звонков ни дома, ни на работе, они оглушали только в приемной и тотчас же гасли, переведенные на мой аппарат, преображаясь в такое же, как и сейчас, зуммерное журчание. — Полковник Соболев слушает, — говорю я. — Майор Жирмундский приветствует, — галантно, но чуть насмешливо отзывается голос в трубке и тут же уже без всякой официальности продолжает: — Не разбудил? — Нет, не сплю. Думаю. — Жену вчера проводил на юг и скучаешь? Не рановато ли? — Не совсем точно. Скучаю, конечно, но не думаю о ней. — Железная коробочка спать не дает? — Допустим. Есть новости? — Кое-что. Экспертиза номер один: на двух страницах у Агаты Кристи ключ для шифровки текстов на английском языке. К сожалению, мы можем только шифровать, а не расшифровывать. Текстов для расшифровки пока еще нет. — Пока? — Я и не рассчитываю найти их сейчас — там уже два бульдозера котлован для нового дома роют. А вдруг появятся? Мало ли как бывает. Ведь остались же люди — кто, пока неизвестно, — но подходили же они иногда к его киоску с газетами. Кому-то из них предназначались доллары из той пачки, что была в коробке. Кому и за что? И от кого он сам получил эти доллары и тоже за что? — Нам же искать ответ. — Сизифов труд. — А может быть, он и не работал сейчас, а только состоял в резерве? — размышляю я вслух. — За это тоже иногда платят. Отпечатки пальцев выявили? — На Агате Кристи их как горохом рассыпано. А на пачке долларов все пять пальцев те же, что и на коробочке с мелочью в его газетном киоске, — пальцыЯгодкина. Муровский оперативник, что нашел труп, снял у него отпечатки пальцев. Все сходится. — Ты сказал «пальцы Ягодкина»? — уточняю я. — Но это не его имя. Не того, на чье имя выписаны военный билет и паспорт. Жирмундский смеется. Он очень доволен. — Между прочим, как показала экспертиза номер два, в документах все подлинное — не подкопаешься. Ты скажешь, что выдавал их Новорузский военкомат в сорок восьмом году и девятнадцатое отделение московской милиции в пятьдесят пятом? Верно. Вполне допустимо, что есть или был другой, известный тебе Ягодкин, а документами его воспользовался профессиональный разведчик, шифрующий свои донесения не по-немецки, а по-английски. Мы, Николай Петрович, тоже не сидим сложа руки. Пока ты жену провожал, мы кое-какую военно-архивную пыль встряхнули. И выяснили, что сгоревший в состоянии полного опьянения во время пожара в однокомнатной дворницкой сторожке киоскер-пенсионер Ягодкин был Ягодкиным еще в 1946 году после возвращения из плена. Тогда же была запрошена указанная им воинская часть, в составе которой он якобы участвовал в военных действиях, и получен ответ, что Михаил Федорович Ягодкин действительно числился в списках личного состава указанной им части до марта 1944 года, когда он пропал без вести. Совпали и названные им имена и фамилии командиров роты, батальона и полка, из которых к моменту проверки оказался в живых только комполка, да и тот лица его не помнил: мало ли было солдат у него — всех не запомнишь. Проверили по спискам — сходится. Что в плену делал? На заводе работал — вот свидетельства. А почему это вдруг у немцев такая снисходительность к военнопленному? Тоже объяснил: на заводах в Германии к этому времени уже рабочих рук не хватало, вот и подбирали из военнопленных — тех, кто поздоровее да посильнее. У многих никаких документов нет, а у этого все чистенько. Ну и пропустили сволочь затаившуюся. Вот только с военным билетом у него нескладуха. Выдан он ему почему-то под Москвой в Новой Рузе, и в графе прохождения военной службы упомянута только воинская часть, в которой он служил до сорок четвертого года, а дальше все волшебно преображается. Уже он не пропал без вести, а тяжело ранен и решением медицинской комиссии от военной службы освобожден. Липа явная… С этой липой он и московский военкомат прошел, поселился в опустевшей после эвакуации дворницкой сторожке в Марьиной роще и подрабатывал к пенсии по инвалидности торговлишкой в газетном киоске. Может, он и не работал на заславшую его разведку, но кто-то нашел его недавно — доллары-то новенькие. Ну и запил Ягодкин со страху, спьяну и сгорел, а может, и нарочно себя поджег. Трудно все-таки за доллары Родину продавать, бывает, что и сдадут нервы. По-моему, логичная версия? Я терпеливо дослушиваю «логичную версию» Жирмундского и говорю: — У Гадохи не сдали бы. Его «вышка» пугала. А высшая мера ему давно была уготовлена. — Ты о ком? — недоумевает Жирмундский. — О нашем милом покойнике. Это Гадоха Сергей Тимофеевич, бывший сержант той же роты, в которой служил и Ягодкин. Трубка долго молчит, прежде чем взорваться вопросом. — Откуда сие известно? — Я лично знал Ягодкина. Мы однолетки с Мишей, оба сироты, из одного детдома, оба «фабзайцы», даже жили в одном общежитии. А в сорок первом году оба семнадцатилетними парнишками еще до призыва пошли в ближайший московский военкомат и попросились на фронт. Просьбу нашу уважили и отправили в одну часть, в которую потом перевели и Гадоху. Откуда, не помню. Кажется, из штрафной роты. Вот так и бывает, друг мой Саша, жил и работал я в одном городе, можно сказать, бок о бок с подлейшим предателем и убийцей. И ни разу не встретился, хотя, быть может, и не узнал бы его: он усы и бороду отпустил. — А ты не мог ошибиться? Ведь борода и усы резко меняют облик. — Только фотокарточка на паспорте могла вызвать сомнения, а на военном билете он бритый и молодой. Ошибка исключена. Есть и еще одна примета: на левой руке у Гадохи татуировка: большой синий якорь у кисти и женское имя — Нина. — Что за Нина? Вопрос явно из мгновенно пришедших в голову. — Понятия не имею. Тогда, в войну, не поинтересовался, а теперь поздно. — Но ты же не видел труп. — Его осматривал Маликов из уголовного розыска. Он же снял и отпечатки пальцев. Вчера вечером я созвонился с ним с аэродрома и заехал к нему на Петровку. Словом, друг мой Саша, ошибка здесь, повторяю, исключена… …Маликов принял меня внимательно, но без особого интереса: дело, мол, не мое, а ваше. На пожарище он поехал, потому что кто-то из соседнего дома в МУР позвонил, когда пожарные в полусгоревшей сторожке труп нашли. Он, Маликов, труп осмотрел, даже оттиски пальцев взял и все гадал: убийство или самоубийство. А вероятнее всего, несчастный случай. «Втихаря он жил, — сказал участковый, — ни с кем компанию не водил, а пил один, у Катьки-добренькой самогон бидонами покупал — она уже два раза по таким делам привлекалась, а с поличным поймать пока не могли: где-то под Москвой варила и полные бидоны по заказчикам развозила». Не будет же Катька дом поджигать… И погиб-то старик по своей вине мертвецки пьяный: у него на вскрытии литр самогона в желудке нашли. Наверно, тлеющий окурок или недогоревшую спичку в стенку швырнул и не заметил, как оторвавшиеся обои загорелись. Где уж тут заметить, если в беспамятстве был. А огонь по ватной дверной обивке полез, трухлявая дверь запылала — и пошло. Когда Маликов приехал, пожар уже потушили, только две обгоревшие стенки от сторожки остались да обожженное человеческое тело. А тут пожарные инспектору медную шкатулку подают: в стенном тайнике нашли под обоями. Что было в шкатулке, полковник Соболев знает, и начальник отдела ему лично объяснил, почему в уголовном розыске решили переслать ее органам госбезопасности. — Когда вы осматривали труп, — спросил я инспектора, — вы не заметили татуировки на левой руке выше кисти? — Большущий якорь и «Нина» почти до локтя. — Спасибо за информацию, — сказал я, — и за то, что переслали шкатулку нам. А у меня к вам еще просьба. Не могли бы вы заглянуть в архивы довоенных лет и посмотреть, не проходил ли у вас по какому-нибудь уголовному делу некий Гадоха Сергей Тимофеевич. Если проходил и у вас имеются его отпечатки пальцев, то вы бы могли сравнить их с теми, которые сняли с трупа. Вы сделаете это сами или мне следует обратиться к начальнику отдела? Последнюю реплику я добавил только из вежливости, потому что был уверен в ответе. — Зачем? — улыбнулся он, мгновенно сообразив, что я знаю о сгоревшем Ягодкине гораздо больше его. — Я с удовольствием сделаю это и сам и, если отпечатки сойдутся, немедленно же поставлю вас в известность. Может быть, в этом случае придется подключиться и нам: есть еще не закрытые дела. — Лично я думаю, — сказал я, — что прежнее ремесло он оставил и прежние связи не возобновил, хотя наличие крупной суммы долларов в шкатулке, может быть, и не исключает валютных операций. Словом, там видно будет. Возможен и такой вариант: мы закрываем дело, а вы открываете его снова. Ведь нам и вам интересен не сам погибший, а его сообщники и преемники… Разговор этот был позавчера, а сейчас, плохо доспав ночь, я сижу у себя в управлении и вызываю Жирмундского. — Я уже на месте, Саша. Заходи. Когда разговор у нас неофициальный, мы всегда с ним на «ты» и зову я его Сашей. Он сын моего боевого товарища, с которым мы вместе дошли до Берлина и который очень много для меня сделал в труднейшей обстановке, осложнившей мою военную жизнь в сорок четвертом году. Мы были рядышком и после войны в нашей военной комендатуре в немецком городе Хаммельне, и в дни мира, когда подрастал Саша, после пришедший по стопам покойного отца в органы безопасности. Здесь он обнаружил незаурядный талант чекиста, а приобретенный опыт работы позволил ему в конце концов почти догнать меня: теперь он майор и мой ближайший помощник. В этой роли он был просто неоценим, особенно в тех случаях, когда в круг нашей расследовательской деятельности попадали молодые люди, которых он, естественно, знал лучше, легче понимал, точнее улавливал их настроения и мысли. Мы даже подружились с ним, как говорится, «на равных», несмотря на разницу в возрасте, — уж очень многое нас сближало. И взаимная симпатия, и его тяга холостяка к семейному, и общность интересов, и любовь к музыке — он собирал современные джазовые записи, я — классику в концертном исполнении. Да и встречались мы не только по службе. По вечерам он часто забегал ко мне поиграть в шахматы или разобрать только что опубликованную партию Карпова или Таля, а то и просто поужинать у нас. Сейчас мы одни, и Саша, даже не поздоровавшись, словно мы только что виделись, молча садится против меня и выкладывает на стол потускневшую медную шкатулку, пересланную нам из уголовного розыска. Она уже прошла через экспертизу, и все в ней разложено, как и было при получении: затрепанный томик Агаты Кристи в лондонском издании Макмиллана, пухлая пачка новеньких десятидолларовых купюр и военный билет с паспортом на имя Ягодкина, все данные которых я уже помню наизусть и точно знаю, кого они прикрывали. — Ничего интересного, кроме шифра, — говорит Жирмундский, кивнув на шкатулку. — А чем интересен шифр? — Можно хоть предположить страну, для которой он предназначен. — На английском языке можно шифровать для любой страны. — Лжеягодкин пришел к нам из оккупированной Германии. Его могли завербовать либо Гелен, либо американцы. — Не торопись. Его наверняка завербовали еще гитлеровцы. — А перевербовали преемники. И, пожалуй, если Гелен, то язык был бы немецким. Зря Сашка упирает на шифр. Он бесполезен, когда нечего расшифровывать. Ну, узнал я Гадоху, а дальше? Что он делал у нас в стране после войны? — Работал киоскером, получал за что-то новехонькую валюту, — задумчиво говорит Жирмундский. — Получал или получил? Может, это были первые полученные им доллары. А для чего? Для себя лично или для расплаты с агентами? Профессия киоскера таит неограниченные возможности якобы случайных, но всегда обусловленных связей. — Я жду звонка из угрозыска, — говорю я. — А что он нам даст? — Я просил Маликова выяснить, не проходил ли у них Гадоха по каким-нибудь уголовным делам в довоенные годы. Тогда сохранились и отпечатки пальцев, и можно сравнить их со снятыми у Лжеягодкина. А установив тождественность его и Гадохи, потрясти старые связи. Вдруг жив кто-нибудь из прежних дружков, отбывающих новые сроки или «завязавших». Может, и подскажут они, с кем встречался Гадоха после войны, что замышлял. В разговоре с Маликовым я усомнился в том, что бывший налетчик и «вор в законе» уже в новой роли вспомнит о своих старых знакомствах. Ни одна иностранная разведка не позволит своему агенту рисковать уголовным промыслом. Но, может быть, я и ошибся, и связи он все-таки сохранил. Подождем звонка Маликова. Маликов позвонил к концу дня. — Вы угадали, товарищ полковник, отпечатки нашлись и совпали. Настоящее имя и фамилия сгоревшего в дворницкой действительно Сергей Гадоха. Он проходил у нас по делу о нападении на кассиров сберкассы в Хамовниках в сороковом году и через два года из тюрьмы был отправлен на фронт. Нашелся и один из его сообщников, некий Круглов по кличке Длинный. Он тоже воевал, но вернулся уже со снятой судимостью и с боевыми наградами. С Гадохой после войны он не встречался и о судьбе его ничего не знает… Найденный кончик ниточки обрывается. Я иду к генералу и докладываю ему все, что мне известно по делу о присланной из угрозыска медной шкатулке с английским шифром и американскими долларами. Сходимся на временной отсрочке расследования. Гадоха умер, не оставив никаких следов, к кому-то ведущих, а следить за новым киоскером бессмысленно: о Ягодкине он даже не слыхал, а своих покупателей не запоминает. — А в каких отношениях ты был с Гадохой на фронте? — спросил Жирмундский. Пришлось рассказать.2
Помню теплую сентябрьскую осень в Москве сорок первого. Желтеют листья на деревьях, витрины магазинов завалены мешками с песком, окна домов перечерчены белыми бумажными крестами, якобы защищающими стекла от воздушной волны, если упадет бомба по соседству; комендантские патрули на улицах, на бульварах — приземленные сигары аэростатов — ночных стражей города. Мы с Мишкой Ягодкиным ехали от окраины к центру в полупустом вагоне метро — занятия в школе еще не начались из-за нехватки ушедших в ополчение преподавателей, а на заводе нас еще не оформили, так что свободного времени было много. Рядом ребята, на вид — наши однолетки, но уже одетые по-военному в гимнастерки и ватники, пели нестройным хором: «…уходили комсомольцы на гражданскую войну». Женщина рядом плакала, а наши с Мишкой сердца сгорали от зависти. Где-то на полпути, кажется на Комсомольской, поезд был задержан — по радио уже ревели сирены воздушной тревоги. Из метро не выпускали, и мы минут сорок толкались среди пассажиров. Молчание окружало нас, тревожное, суровое молчание. — Дальше не поедем, — сказал Мишка. — А куда поедем? — Назад. — Почему? — удивился я. Мишка не сразу ответил, он что-то думал, что-то решал. — Хватит! — сказал он. — Сачковать надоело. Такие же, как мы, парни в армию идут, а мы? Прямо из метро в военкомат! Вот так. — Но мы же допризывники. Таких не берут. — Возьмут. Попросим, и возьмут. И нас действительно взяли. Спросили о родных. Родных не было: оба детдомовские. Спросили о занятиях. Кончились занятия, объяснили мы. Оглядели нас, прикинули — видят: подходящие парни. Ну и направили нас на медицинскую комиссию. — А где учить будут? — спросил Мишка у военкома. — Найдем место, — сказал военком. — «Тяжело в учении, легко в бою», — говорил Суворов. У вас, ребятки, к сожалению, будет наоборот. Подучим вас наспех и налегке, а ратному делу по-настоящему обучаться в бою будете. Вот так и очутились мы с Мишкой Ягодкиным в одной роте пехотного полка энской, как говорится, дивизии. Вместе учились обороняться и наступать, вместе с боями и до Вислы дошли. Об этом долгом и тяжком пути я Жирмундскому не рассказывал. О войне он узнал много и без меня, да и не моя воинская судьба интересовала его сейчас, а лишь тот поворот ее, причиной которого был ефрейтор Гадоха Сергей Тимофеевич. Появился он у нас уже в сорок третьем или, кажется, в начале сорок четвертого года, переведенный из штрафной роты бывший уголовник, но отличившийся в боях и даже получивший звание ефрейтора. И у нас он выделялся отменной находчивостью и отвагой, ходил в разведку, возвращался с удачей, и его за эту удачу командование отличало. Был он сметливым и расторопным, умел дружить и очень нравился полковым красавицам в военных гимнастерках и санитарных халатах. Да и со мной, хотя я и был уже старлеем, держался соответственно уставу, но не без желания понравиться и заслужить похвалу, а выговоры и замечания выслушивал почтительно и согласно. Именно потому командир разведвзвода Толя Корнев, наш друг и ровесник, с которым мы познакомились в том же московском военкомате, и взял с собой в разведку Гадоху и Ягодкина, первого — по способностям, второго — по рвению: Мишка был не очень умелый солдат, но старательный и упрямый. Да и отвагой его бог не обидел. Случилось это в местечке Пасковцы на правом берегу Вислы. Река уже была близко, но крупные фашистские соединения, сосредоточенные на побережье, все еще мешали нам ее форсировать. Потому и выходил их маленький отряд на береговые тропы, чтобы разведать у польских рыбаков, где фронт более растянут и, следовательно, облегчит нам возможность прорыва. Здесь их и ждал провал, как выяснилось впоследствии, заранее запланированный. В старом ольшанике на заболоченной тропе они обнаружили крестьянскую хату, запущенную и, казалось, необитаемую. Никого кругом не было, хотя прибрежный лес мог скрывать и хорошо замаскированные передовые немецкие посты. Разведать хижину Гадоха вызвался первым. — Порядок, товарищ старший лейтенант! — крикнул он. — Идите за мной. — И вошел в хату. Они побежали, рванули дверь и удивиться даже не успели, как их схватили и обезоружили. Большая горница была полным-полна фашистских солдат. Сумел ли Гадоха заранее как-нибудь предупредить их или сделал свое черное дело, заранее не сговариваясь, никто не знал, конечно, но предательство было очевидным и умышленным. — Зольдатен? — спросил Гадоху высокий подтянутый офицер. — Старший лейтенант Корнев и рядовой Ягодкин, — в струну вытянулся Гадоха. — Больше русских здесь нет. Нас только трое в разведке. — Сука! Я всегда знал, что ты когда-нибудь продашь, вор в законе, — сказал Ягодкин. Их тут же, не допрашивая, избили и связанных увезли в штаб. Там уже допросили. Какого полка? Какой дивизии? Где расположена? Сколько пушек? Они молчали. Снова избили. Допрашивали и били. Допрашивали и били. Корнев захлебывался кровью, но молчал. Молчал и Мишка. Почему-то их не расстреляли тут же, а почти в бессознательном состоянии переправили через Вислу в штаб дивизии. Может быть, рассчитывали, что они все-таки заговорят, когда очнутся. Они и заговорили. Только между собой. — Опять будут бить, — сказал Корнев. — Будут, — прошамкал Мишка. У него уже не было зубов. — Сдохнем, наверно. — Если пристрелят, — согласился Мишка. — А может, и выживем. Лишь бы кости не перебили. Выжили. А затем крестный путь военнопленного, длинные дороги, вагоны даже без подстилки для скота, переезды и переотправки, вагон отцепляли и прицепляли к другим составам, их — более или менее здоровых — почти не кормили и не поили, а умирающих и больных просто пристреливали и выбрасывали из вагонов под откосы железнодорожной насыпи. А в конце пути — лагерь на лесистых склонах Словакии. Лагерь номерной, без названия и даже без печей для сжигания трупов. Время от времени окончательно выдохшихся людей партиями отправляли в другие лагеря с более совершенным аппаратом уничтожения. А те, кто еще был в состоянии работать, шагали в каменоломню, где дробили камень, складывая его в штабеля, которые потом перегружали в железнодорожные составы. Тех, кто падал от усталости и не мог подняться, тут же приканчивали выстрелом в затылок, а трупы бросали в ров. Когда он наполнялся, его засыпали камнями, рядом копали новый и так далее… Комендантом лагеря был эсэсовец Пфердман, садист и убийца, такой же, как и его «коллеги» в Освенциме или Майданеке, Треблинке и Дахау. Но самым страшным был даже не он, а капо барака, старый знакомый — Гадоха. Как он попал сюда, ни Корнев, ни Мишка не знали, возможно, чисто случайно, да и встретил он их с нескрываемым удивлением, впрочем тут же обернувшимся почти ликующим торжеством. — Старший лейтенант Корнев! Какая приятная встреча! Не ожидал, но доволен. Житуха райская у нас. И сшиб его с ног одним ударом под ложечку. — Вот такие пироги, старший лейтенант, — ухмыльнулся Гадоха и обернулся к Ягодкину. — А тебе, хмырь болотный, я оставлю памятку на всю жизнь. Если выживешь, конечно. И, отстегнув от пояса длинную резиновую, почти не гнущуюся дубинку, он ткнул ее в левый глаз Ягодкина. Тот даже не вскрикнул, лишь закрыл выбитый глаз рукой. — Твоя власть, Гадоха, — сказал он. — Только ведь за все рассчитаться придется. — Я и рассчитаюсь, — не промедлил с ответом Гадоха, — я еще много раз о себе напомню. Ну а теперь марш в барак! Второй ряд от двери, койки третья и четвертая. Он каждый раз напоминал о себе. Присядешь на минуту у глыбы песчаника — удар дубинкой: встать! Оступишься — подсечка. Пройдешь мимо и не поклонишься — карцер. А карцер — это каменный мешок, из которого сам и не вылезешь: жди, когда тебя вытащат по приказанию Гадохи. Но в карцере он не держал более суток: Пфердману требовалась здоровая рабочая сила. А иногда Гадоха милостиво отзывал Корнева из каменоломни: ему хотелось поговорить. — Рассчитываемся, старший лейтенант? — похохатывал он. — За нас рассчитаются, Гадоха. — Кто? — Твои бывшие однополчане, Гадоха. В лагере уже знали о стремительном наступлении советских армий по всему фронту, и Гадоха догадывался, что и пленные о том знали. Поэтому и не последовало тогда удара дубинкой. Он только задумчиво нахмурился. — Не дойдут сюда ваши, — проговорил он, не отрывая глаз от своих порыжевших сапог. Теперь уже Корнев усмехнулся. — Непременно дойдут. Вот тогда и рассчитаемся, Сергей свет Тимофеевич. В ответ не последовало ни пинка, ни удара. Молча встал Гадоха и, не оборачиваясь, пошел по каменному карнизу каменоломни. Он чуял опасность: советские войска тогда освобождали Польшу. С этой минуты он еще более ожесточился, страх уже прорастал в нем. По ночам стал напиваться замертво в лагерном кабаке для охранников, а возвращаясь, избивал всех спящих на нижних койках, мимо которых он проходил в свою отгороженную от общих «спальню». Больше всего доставалось Мише Ягодкину. Корнева он почему-то не трогал. И конец наступил, пожалуй, даже раньше, чем он рассчитывал. Заговор задумал Миша Ягодкин, сговорившись с соседями по койкам. Однажды поздним вечером, когда Гадоха еще не вернулся с очередной пьянки, он сказал Корневу: — Сегодня ночью накроем Гадоху. — Как это? — не понял тот. — Ночью, когда пьяный войдет, мы на него и прыгнем. Всей восьмеркой. Командует Арсеньев. Он старше нас и по годам и по званию. Свяжем, кляп в рот, а потом и повесим здесь же, на потолочной балке. — Так ведь расстреляют наверняка. — Всех не расстреляют. Ну а мне все равно. Я и так уже кровью харкаю. — Допустим, нас восьмерых. А если и других с нами? Им тоже все равно? — А ты, у других спрашивал? Я интересовался. Возражений нет. За этим гадом давно кровавый след тянется. А говорят еще, что он весь барак в ближайшие дни на уничтожение отправит. Только самых сильных оставит. А есть у нас такие? Корнев внимательно оглядел барак, насколько позволял свет двух тусклых лампочек, подвешенных на железных балках под крышей. Никто не спал. Все ждали. Гадоха пришел около часа ночи — так показалось, потому что в двенадцать гасили фонари снаружи за окнами. Он не успел даже крикнуть, как на него спрыгнули со всех восьми коек. Тут же связали, сунули грязную тряпку в рот и поволокли к первой же балке, на которую кто-то забросил веревочную петлю. Все делали молча, без суеты, но поспешно. А через две-три минуты связанный Гадоха уже болтался в петле. Он провисел всего несколько секунд и не успел задохнуться: в первую из этих секунд в бараке появился помощник Пфердмана, власовец Амосов. Сопровождали его — должно быть, для ночной проверки — двое охранников. — Что здесь делается? — закричал он. — Снять немедленно! — И сказал что-то по-немецки одному из охранников. В ту же секунду автоматная очередь срезала веревку под балкой. Гадоха грузно шлепнулся на бетонный пол и застыл. — Развязать! — приказал Амосов. Нашлись такие, что повиновались и развязали. Гадоха был еще жив. Он дышал прерывисто, странно булькая. Но не двигался. — Транспортирен зи герр Гадоха нах доктор Крангель, — сказал Амосов охранникам. Сказал, с трудом подбирая слова: немецкий он знал плохо. А когда унесли Гадоху, обернулся к пленным: — Стоять! — скомандовал он. — Построиться в две шеренги и ждать моего возвращения. И вышел. — Будут расстреливать. Вероятно, каждого пятого, — сказал Арсеньев, бывший майор Советской Армии. — Вот спички. Я отсчитываю двадцать восемь… — Почему двадцать восемь? Нас тридцать, — перебил кто-то. — Корнев и Ягодкин исключаются. Гадоха их предал. Из-за него они и попали в плен. Так не погибать же им за Иуду. Никто не возражал, кроме них двоих. Но Арсеньев тотчас же оборвал протест. — Слушать мою команду! Мы хотя и пленная, но часть Советской Армии, а я старший по званию. Так вот: я отбираю из двадцати восьми спичек шесть и отламываю половину у каждой. Это будут пятое, десятое, пятнадцатое, двадцатое, двадцать пятое и тридцатое место в очереди. Корнев и Ягодкин будут вторым и третьим. Начинаем! Все разобрали спички. Уже не помню, кому достались поломанные, но кому-то достались. Арсеньев стал первым. — Может, с первого и начнут, — шепнул он. — Тогда весь порядок изменится, — сказал Корнев. — Значит, не судьба. Расстреляли каждого пятого.3
Гадоха не умер. От кого-то из заключенных Корнев узнал, что он лежал в немецком госпитале где-то под Братиславой с повреждением шейных позвонков и горловых связок. — Говорить уже может, — предположил Арсеньев, — и в первую очередь выдаст вас. Больше он никого не запомнил: в стельку был пьян. А вы у него как занозы в памяти. — Может, уже выдал, — вздохнул Ягодкин. Разговор был после лагерного ужина. — Бежать вам надо, — сказал Арсеньев. — Отсюда не убежишь. Проволока под током, пулеметы на вышках. — А из каменоломни? — Там же охранники с автоматами. — Есть шанс, — улыбнулся Арсеньев. — Один-единственный. Если до завтра вас не возьмут, я утречком покажу вам кое-что в каменоломне. Надо только найти возможность остаться там на ночь. А такой способ есть. Под утро, слезая с койки, Арсеньев сказал: — Пристраивайтесь на работе со мной рядышком. Новый капо мест не знает, мешать не будет. Он даже лиц наших не помнит. Они так и сделали. Арсеньев подвел их к выступу скалы, повисшему над каменной тропкой на высоте человеческого роста. Даже пройти под ним было страшно: вот-вот обрушится. — Мы подрубили его снизу и сверху, думали — упадет. Тогда и разбивать его будет легче. Ан нет: он все висит. Теперь мы с Афоней и Хлыновым полезем наверх и добьем его кувалдой и ломом. Он и рухнет. — А нам что делать? — не понял Мишка. — Стать под ним и прижаться к стене. Конечно, когда капо отойдет подальше. А охранники на карнизе не увидят. Они еще раз оглядели нависшую глыбу. — Нас же в лепешку раздавит. Костей не соберем. — Может быть, и раздавит, — согласился Арсеньев. — Но по элементарным техническим расчетам глыба упадет не плотно к стене, а с просветом не менее полуметра. Это я вам как бывший инженер говорю. А просвет, где вы стоите, завалит осыпь. Конечно, риск есть, но в лагере вы и двух дней не выживете. Ну а камешки, которыми вас засыплет, не крупные, обычная осыпь — выдержите. И дышать сможете — осыпь неплотно ляжет. А им доложим, что вас скалой раздавило — все и сойдет: здесь не спасают. Капо шел мимо. Они заработали молча, застучав ломом по соседней стене. Капо равнодушно прошел, не оглядываясь. — Важно продержаться до ночи, — продолжал Арсеньев, — а ночью, когда стемнеет, вы пробьетесь сквозь осыпь, завалите дырку — и ау! — А куда — ау? — спросил Ягодкин. — В горы. Словацкие Татры, слышали? Здесь, говорят, партизаны орудуют. — Может, и ты с нами, майор? — сказал Корнев. — Скала троих не прикроет. А я и в лагере продержусь — силен еще, не выдохся. Может быть, и наших дождусь. Капо вот-вот должен был повернуть обратно. — Начинаем, ребятки, — шепнул Арсеньев. Они втроем полезли на верх уступа, а Корнев и Михаил присели под ним, плотно прижавшись к стенке. Наверху застучали кувалдой и ломом. Трудно сказать, сколько минут прошло, как вдруг треск и удар каменной массы о камень оглушили Корнева. Сразу навалилась и осыпь. Он прикрыл голову руками, но острые камни били по ним, сдирая кожу. Досталось и плечам и коленям, но между ними и рухнувшей каменной глыбой действительно оставалось еще добрых полметра. Бывший инженер не ошибся. — Жив, Мишка? — спросил Корнев почему-то шепотом, хотя даже крик сквозь настил каменной осыпи был бы не слышен. — Ушибло здорово, — отозвался Мишка, — и лоб порезало. — Сильно? — Заживет. Крови, видать, немного. Только давит крепко. Тяжко будет стоять. Действительно на плечи и голову сильно давил не очень толстый, но плотный слой щебенки, осыпавшейся сверху. Мелкие острые камешки сыпались на них при каждой попытке подвинуться или встать. Тогда они сели, благо щебенки под ними не было. Что происходило снаружи, они не слышали: никто не стучал по камню и не тревожил осыпи. Вероятно, те, кто работал поблизости, подойти не рискнули, а для капо, которому уже, наверное, доложили о случившемся, их гибель была бесспорной. Вот так они и просидели до ночи, боясь пошевелиться и почти не разговаривая. Камень поглощал звук, но говорить они все-таки не смели — вдруг услышат. И ночь не увидели, а почувствовали — нагретый за день камень стал холодеть и даже сквозь слой щебенки явно запахло сыростью. Наконец Корнев решил: пора! И рванулся вбок, закрывая лицо руками. Осыпь подалась легко, и под градом мелких осколков дробленого камня он выбрался наружу. Ягодкин, не увидев, а услышав его маневр, рванулся в другую сторону и тоже выбрался. Было совсем темно и тихо: на ночь в каменоломне не оставляли охраны. А лагерь вдали доживал вечер. Горели прожекторы на вышках, шел по проволочной ограде смертельный ток, несли вахту охранники. Никто и не думал, что отсюда можно бежать. А они бежали. Я избавил Жирмундского от подробностей странствия Корнева и Ягодкина по чужим горам. Да и о чем рассказывать? О том, как плелись двое дистрофиков по горным тропам, продираясь сквозь кусты можжевельника, шли, по сути, в неизвестность, зная только, что первый же встречный или поможет, или выдаст. Через двое суток их нашел хозяин ближайшей охотничьей хижины бесчувственными от голода и усталости. Он сразу все понял, они были в изорванных полосатых лагерных рубахах. Он помог добраться до сеновала, накормил и, ни о чем не спрашивая, положил спать, прикрыв хорошенько сеном: по ночам здесь было холодно, как зимой. Наутро он привел еще двоих в крестьянских теплых куртках с немецкими «шмайсерами» за плечами. Разговаривали с трудом, но кое-что поняли: при всей несхожести славянских языков в них всегда есть много похожих слов, иначе звучащих, а все же знакомых по смыслу. Тут же спасенных переодели и переобули и повели еще выше в расположение не очень многочисленного и разнобойно вооруженного партизанского отряда. Что можно рассказать о жизни в отряде? Она была недолгой, но дружной, научились понимать друг друга, вместе ходили в разведку, вместе нападали на малочисленные немецкие транспорты и отстреливались, уходя от карателей, иногда осмелившихся забираться и в эти заоблачные выси. У гитлеровских оккупантов здесь не было крупных военных соединений, а местные квислинговцы сами боялись партизан, как чумы. И все же наконец их накрыли. Резервная немецкая мотопехотная дивизия отходила на север из Братиславы на укрепление отступающих от Дуная гитлеровских армий. Ее фланговые соединения и напоролись на лесистых склонах на маленький словацкий партизанский отряд, не успевший отойти в горы. Бой был неравный. Партизаны потеряли больше половины бойцов, остальным удалось прорваться на скалистые горные тропы, труднодоступные для мотопехоты. Корнев с Ягодкиным прикрывали отступление, и почти в безнадежном положении им все же удалось обмануть противника, укрывшись в одной из скальных трещин. Таких трещин-пещер в здешних Татрах довольно много, и найти их было нелегко: требовалось время, а времени у гитлеровцев как раз и не было. Ограничившись круговым пулеметным обстрелом, они прекратили преследование. И тут свершилось самое страшное, что Корнев мог ожидать. Мишу Ягодкика ранило в живот. Пуля застряла где-то в тазобедренной части, и внутреннее кровоизлияние буквально убивало его у Корнева на глазах. — Прощай, Толя, — прохрипел Миша, когда Корнев нагнулся, чтобы положить его поудобнее. — Не трогай. Кончается Мишка Ягодкин. — Погоди, Миша, — бессмысленно лепетал Корнев, с трудом сдерживаясь, чтобы не завыть от отчаяния. — Вот дотащу тебя до деревни — она совсем рядом. Там и врача найдем, и тебя выходим. — Не успеешь, — сказал он, переходя на шепот, — ты даже не знаешь, где эта деревня… Посиди рядышком, пока я доживу положенное мне… И не хорони меня… Завали камнями потяжелее, чтобы зверье не добралось: земля здесь каменистая, глубоко не вскопаешь… Так и остался Корнев один, двадцатилетний парень, почувствовавший себя в одно мгновение постаревшим на четверть века. Два дня пробыл в пещере, пока не кончились партизанские сухари, захваченные в поход: завалил тело покойного друга камнями. А дальше был уже путь к своим, к наступавшим с юго-востока советским армиям. В словацких деревнях, где он проходил, их тоже ждали, гитлеровских карателей и полицаев как метлой вымело, а его, да еще в партизанской овечьей безрукавке, всюду встречали как родного: оставайся, мол, и живи, вместе дождемся. Но он шел и шел, пока не встретил наконец в одном из поселков советскую пехоту на марше. Корнев был счастлив, его приняли тепло и участливо, но он уже был готов к ожидавшим его неприятностям. И они не замедлили последовать: им заинтересовался дивизионный смерш в лице майора Осипова. Он не осуждал его: кем для него мог быть человек, говорящий по-русски, но оказавшийся на вражеской территории в чужой крестьянской одежде, да еще с немецким «шмайсером»? Соотечественником? Возможно. Но и среди соотечественников были предатели и немецко-фашистские агенты. Да и подтверждающих его рассказ документов у Корнева не было: настоящие остались в воинской части, из которой он уходил с Ягодкиным и Гадохой в разведку, а ни в концлагере, ни в партизанском отряде документов не выдавали. Правда, приютившие его крестьяне засвидетельствовали его участие в партизанском отряде, а выжженное клеймо на руке подтверждало и лагерь. Но Осипова это не удовлетворяло, он настаивал на направлении в тыл для специальной проверки. И тут Корневу опять повезло. Командиром полка, в расположении которого он очутился, был… я. Да, да, я, тогда уже майор, очень обрадовавшийся «воскрешению» старого друга. Я тотчас же подтвердил Осипову, что Корнев действительно Корнев, бывший старший лейтенант, и, договорившись с дивизионным начальством, под свою ответственность оставил его в полку рядовым. Начав войну рядовым, он и продолжал ее рядовым, только опыта, находчивости и умения ориентироваться в любых обстоятельствах у него было много больше, чем раньше. Для солдат он был своим парнем, ему верили и не чурались как разжалованного, командиры хвалили, а я сам частенько в затишье навещал старого друга, подтверждая, что скоро придут из нашей прежней роты запрошенные мною документы и все восстановится — и его имя, и солдатская честь. И этак через месяц уже на труднейшем пути к Берлину документы наконец пришли. — Старший лейтенант Корнев, — отчеканил вызвавший его Осипов, — возвращаю вам ордена, партийный и военный билеты. Ваше счастье, что в ротной канцелярии у вас они уцелели. — Спасибо, товарищ майор, — радостно вздохнул Толя. — Значит, все-таки поверили и в мое пребывание в концлагере, и у словацких партизан. — Лагерь, упомянутый вами, уже освобожден, — невозмутимо ответил Осипов, его ничуть не задел скрытый упрек. — К сожалению, фашистские хозяева лагеря, удрав на запад, захватили с собой и всю его документацию. Но кое-кто из бывших его заключенных вспомнил вас и ваш сенсационный побег. Легко представить, как приятно мне тогда было сказать Толе: — Принимай роту, командуй… А спустя месяц или больше он — уже в звании капитана — командовал батальоном на Зееловских высотах, а в Берлине майором закончил войну. Я не рассказывал сейчас об этом Саше — он слышал все и от меня, и от самого Корнева, который до самой своей смерти шесть лет назад — инфаркт, подорвал все же сердце в лагере, — дружил и со мной, и со старшим Жирмундским. И не только слышал, но и читал: после войны Толя Корнев закончил литинститут, много писал, и была у него повесть о фантастическом побеге двух военнопленных из лагеря смерти в Словакии. Вон она — стоит на полке в моем кабинете, только фамилии героев в ней изменены…4
Итак, дело Лжеягодкина было закрыто. Ни мы, ни уголовный розыск не могли раскрыть его связей. Тайна тысячи долларов и английского шифра в медной шкатулке так и осталась неразгаданной. Я был убежден, что, проникнув в Советский Союз с документами на имя Михаила Федоровича Ягодкина, Сергей Гадоха не вернулся к своему уголовному прошлому. Расследование уголовного розыска подтвердило, что ни одно из крупных преступлений за послевоенные годы — ни вооруженные ограбления сберегательных касс, ни угон и перепродажа автомашин, ни хищения — не было связано с именами Гадохи или Ягодкина. Да и документы на имя Ягодкина могли изготовить для него лишь те, кому досталась вывезенная из лагеря документация. Для чего — ясно: его могли обучить в одной из бывших немецко-фашистских разведывательных школ. Почему новые хозяева выбрали для этого Гадоху, тоже ясно. Во-первых, он русский, во-вторых, готовый на все уголовник, предатель в дни войны, полицай и капо в оккупации. В деле Гадохи для меня все было ясно, кроме одного: чем он занимался в Москве в своем газетном киоске, кроме продажи периодики, значков и открыток? Но и на этот вопрос вскоре был добыт ответ. Мы получили любопытное, загадочное и неожиданное письмо. Принес его сам автор, адресовалось оно «следователю по делам иностранных разведок». А неожиданным и загадочным было даже не содержание письма, а имя, отчество и фамилия его автора: Я г о д к и н М и х а и л Ф е д о р о в и ч. Новый Ягодкин. И опять Михаил Федорович. И снова совпадение — не мой. Я читаю и перечитываю письмо в присутствии лукаво улыбающегося Жирмундского. Он уже прочел его и уже наверняка сделал свои выводы из прочитанного. А я снова читаю:«Уважаемые товарищи! Пишет вам М. Ф. Ягодкин, зубной врач-протезист, работающий в стоматологической поликлинике Киевского района. Я участник Великой Отечественной войны, имею боевые награды, в плену не был и на оккупированной врагом территории не проживал. Родственники за границей у меня есть, но связи с ними не поддерживаю, хотя и получаю иногда от них переводы. За границу после войны ни разу не выезжал, даже в социалистические страны по профсоюзным туристским путевкам. В Москве до прошлого года я жил на Шереметьевской в Марьиной роще, а потом переехал в отдельную квартиру в кооперативном доме на улице Дунаевского. Сообщаю вам об этом так подробно, потому что это имеет непосредственное отношение к вчерашнему происшествию в поликлинике. На прием ко мне явился без записи сравнительно молодой человек в дорогом импортном костюме и рубашке в красную клеточку. Оказалось, что иностранец. По-русски он говорил хорошо, но очень уж тщательно выговаривал все буквы, как это делают иностранцы, так и не сумевшие освоить нашу русскую, а в особенности московскую разговорную речь. Я сказал ему: „Ваша фамилия? По-моему, вашей лечебной карточки у меня нет“. А он в ответ: „Это неважно. Я к вам от дяди Феди. Он ждет посылку“. — „Какого еще дяди Феди? — недоумеваю я. — Нет у меня такого“. А он спрашивает: „Ваша фамилия Ягодкин?“ — „Ягодкин“, — подтверждаю я. — „Михаил Федорович?“ — „Точно“. — „Вы переехали сюда из Марьиной рощи?“ — „И это верно“. — „Так почему же вы не отвечаете как положено?“ Тут уже я рассердился и говорю: „Вы меня с кем-то путаете. Приходите без записи, а у меня прием“. Он помолчал немного, должно быть сознавая свою ошибку, извинился и вышел. А вечером, размышляя об этом непонятном визите, я вспомнил две фразы посетителя: первую — „Я к вам от дяди Феди. Он ждет посылку“ и вторую — „Так почему же вы не отвечаете как положено?“. А вдруг это пароль? Значит, был другой Ягодкин, который знал дядю Федю и мог ответить как положено. Происшествие это меня очень встревожило, и я решил, что нужно обо всем рассказать вам. А вы уж разберетесь, что надо делать».К письму приложена визитная карточка автора с адресами и телефонами его поликлиники и квартиры. Я долго молчу, пока не вмешивается Жирмундский: — Ну что скажешь, дядя Коля? — Раздумываю. — О чем? Пожалуй, все ясно… Иностранец шел к сгоревшему Ягодкину, но дворницкая и соседний дом уже снесены, соседи разъехались — спросить не у кого. Ну и узнал адрес Ягодкина в ближайшем окошечке Мосгорсправки. — Мосгорсправка дает адрес дома, а не места работы. — А может быть, он заходил и домой, узнал у соседей, где работает Ягодкин? — Почему у соседей? — Может быть, дома никого не застал. — А почему он не пошел к Ягодкину в киоск? Для связного это было бы разумнее. — Возможно, ему дали явку в дворницкую. — Опять «может быть» и «возможно». Вот ты и проясни. Побывай у Ягодкина или позвони ему, пригласи к себе. Для него это даже лучше: сплетен не будет. Да и я смогу зайти на разговор. — Значит, мне допрашивать? — удивился Жирмундский. — Не допрашивать, а расспросить. И не только о происшествии, а и о жизни вообще. Женат или холост, как живет, чем интересуется, с кем дружен. Так сказать, прощупать личность, характер, реакцию на вопросы, склад мышления. Если нужно будет, я вмешаюсь. Жирмундский удивлен еще более, недоумевающий взгляд, полное непонимание моей пристрастности. — Неужели ты его в чем-то подозреваешь? — почти растерянно спрашивает он. — Нет, конечно, — разъясняю я. — Просто хочется знать побольше об авторе письма. Больше всего терзало меня сомнение или совпадение, если хотите, — еще один двойник Ягодкина! Случайно? Вероятнее всего, именно так. Наверно, Соболевых в Москве десятки, и наверняка есть среди них и Николай Петрович. Так стоит ли удивляться, что к нам в поле зрения попал еще один Ягодкин?.. На другой день Жирмундский уведомил меня по телефону, что автор письма уже получил пропуск и направляется к нему в кабинет. Подождав чуток, захожу туда и я. Вхожу без стука, и Ягодкин тотчас же оборачивается. Ничего знакомого в нем — никогда его не видел. Высок, худ, недлинные волосы с проседью, подстриженные усы и черноморский загар: видно, недавно приехал с юга. Я в штатском, звания моего он не знает, и потому я вежливо, но деловито обращаюсь к Жирмундскому: — Разрешите поприсутствовать, товарищ майор. И в ответ на согласный Сашин кивок сажусь позади Ягодкина. — Вы можете поподробнее описать этого иностранца? — спрашивает Жирмундский. Ягодкин отвечает не сразу, подумав, словно вспоминая, и в голосе его не слышно нинастороженности, ни волнения. — Отчего же, конечно, могу. Помню довольно ясно — хорошо рассмотрел. О том, как был он одет, я уже вам писал, а вообще: ростом пониже меня, не атлет, даже со склонностью к полноте, блондин, стрижен коротко, вроде меня, глаза чуть прищуренные с пронзительным, изучающим вас взглядом, ни усов, ни бороды, даже модных теперь бачек нет, а нос прямой, чуть-чуть с горбинкой. — Ну что ж, — замечает Жирмундский. — Описание довольно подробное. Можно с вашей помощью сделать фоторобот. — Пожалуйста, — соглашается Ягодкин. — А вы не можете указать тех, кто еще видел его в поликлинике? — Мои пациенты, ожидавшие приема. Фамилии и адреса можете записать по лечебным карточкам. Я скажу, чтобы вам дали их в регистратуре. Жирмундский вежлив и дружелюбен. Расспрашивает, по-деловому интересуется. — А как он узнал, где вы работаете? — Понятия не имею. Он знал даже, что я переехал сюда из Марьиной рощи. — Может быть, он заходил к вам домой? — Не знаю. Дома никого не было. Я сейчас не женат. — Холост? — Нет, разведен. Пока живу один. — Может быть, он заходил к вашим соседям? — Где? В Марьиной роще? Так дом снесен, и все разъехались кто куда. А с новыми соседями я почти незнаком. Где работаю, знают только в правлении ЖЭКа. А там никто обо мне не спрашивал. — Тогда расскажите просто о себе, — улыбается Жирмундский. — Вы были женаты, развелись. А где сейчас ваша жена, под какой фамилией живет и где работает? — А какое отношение это имеет к происшествию в поликлинике? — Возможно, прямое. Он мог получить адрес поликлиники и у вашей бывшей жены. — Я не поддерживаю отношений с моей бывшей женой. — Ягодкин сух и холоден. — Линькова Елена Ивановна. Живет в Москве. Получила однокомнатную квартиру. Где именно, не знаю. Я считаю, что пора мне вмешаться. — В письме к нам вы называете себя участником Великой Отечественной войны. Где вы воевали, на каком фронте, в какой части и в каком звании? — А почему я должен отвечать на этот вопрос? — совсем раздраженно откликается Ягодкин. — И почему вам? Вы это можете выяснить сами, если хотите. — Хотим, — говорю я. — Но сначала спросим у вас. Ваше письмо интересно, и уже потому многое в нем требует проверки. Поймите: не зная, как и, главное, почему этот иностранец нашел именно вас, мы вообще ничего не сможем объяснить. Ни себе, ни вам. Я понимаю раздражение Ягодкина. Так и должен вести себя любой сохраняющий свое достоинство человек, непричастный к описанной в письме ситуации. Не он создал ее в поликлинике, не он виноват в ней, так почему же интересуются его прошлым, явно не имеющим к ней отношения? Но мой тон и настойчивость все же побуждают его отвечать. — На Юго-Западном фронте с начала войны. Призван в Минске, — он называет военкомат, часть, куда был направлен, имена командиров полка и роты. — Начал войну рядовым, кончил служить старшим лейтенантом. Имею два ордена. Снят с учета в сорок третьем году по свидетельству медицинской комиссии о негодности к военной службе. После ранения два года не мог ходить: так было повреждено колено. Передвигался на костылях, потом с палочкой, да и теперь хромаю. А как воевал, спросите у моего ротного. Сейчас он под Москвой, директор дома отдыха в Старой Рузе. — А после войны где работали? — спрашивает Жирмундский. — Сначала учился. — В Минске? — В Минске уже никого у меня не было. Отец и мать погибли в эвакуации. Товарищи помогли устроиться в Москве, поступил в Московский стоматологический. По стопам отца — он тоже был протезистом. На этом, я думаю, моя биография исчерпана, — иронически заключает Ягодкин. — Думал помочь опознать врага, а вышло, что сам на допрос попал. — Неужели вы не понимаете разницы между допросом и товарищеской беседой? — говорю я. — Вы действительно помогли нам, и не только тем, что написали о происшествии в поликлинике. До этого разговора вы были в наших глазах лишь автором заинтересовавшего нас письма, теперь же мы узнали человека, которому не стыдно рассказать о прожитых годах. Вот так, товарищ Ягодкин. Ну а сейчас мы займемся фотороботом. У вас есть еще время? В лаборатории мы отнимем у вас не более получаса. А затем мы сообща создавали портрет искомого иностранца. На экране в темном зале плыли перед нами высокие лбы, прически с короткой стрижкой, щеки с различной степенью пухлости, носы с горбинкой. Ягодкин отбирал, отвергая и подтверждая. Наконец портрет составлен. — Похож? — спрашиваем мы у Ягодкина. — Никогда не думал, что могу описать его так наглядно. На этом и заканчивается наша встреча.
5
Поручив Жирмундскому проверить в архивах военную биографию Ягодкина, я решил сам съездить к его ротному командиру, ныне директору подмосковного дома отдыха. Обмелевшая Москва-река, лиственно-хвойный лес по краям шоссе и в зеленой лесной глуби его белый каменный корпус современной постройки: профсоюзный дом отдыха «Лебедь». Директор Жмыхов Андрей Фомич. В кабинете директора чисто, как в больничной палате. Письменный стол с креслом, два стула, диванчик; на стенах ни плакатов, ни лозунгов. Директор встает за столом, пожимает руку, спрашивает: — Только что приехали? — Только что, — отвечаю я и показываю ему служебное удостоверение. — Ого, — говорит он с уважением. — Простите, товарищ полковник. Что же вас интересует в моей служебной деятельности? — Не в вашей служебной деятельности, Андрей Фомич, а в вашем военном прошлом. Не помните ли вы своего однополчанина, старшего лейтенанта вашей роты, Ягодкина Михаила Федоровича? Жмыхов наклоняется ко мне, в глазах удивление. — Конечно, помню. Я встречался с ним и после войны. Он даже отдыхал у нас, товарищ полковник. А что случилось? — Меня зовут Николай Петрович. Ягодкин проходит у нас как свидетель по одному делу. И меня интересуют не его послевоенные, а именно военные годы. Как воевал, не был ли в окружении, ездил в командировки в другие части? — Отлично воевал, два раза представляли его к награде. В окружении не был, как и вся наша часть. В командировки не ездил. Ничего подозрительного. — Я и не ищу подозрительного, Андрей Фомич. Просто интересуюсь человеком как личностью. — Но интересуетесь-то вы не мной, а моим подчиненным. А я знаю, где вы работаете. Все понятно: смерш? — Сейчас другая терминология, Андрей Фомич. Расспрашивать дальше было бессмысленно. Все совпадало с рассказом Ягодкина. Другая биография, другой Ягодкин. У него никто не крал биографии, как украли ее у моего. И люди, что это сделали, даже не подозревали, что в нескольких кварталах от местожительства, отведенного Лжеягодкину, преспокойно жил еще один Ягодкин с теми же паспортными данными. Отсюда и ошибка связного, не нашедшего на месте человека, с которым он шел на связь. Надо искать связного. Нашли его быстро. Опознали его в таможне Шереметьевского аэропорта. Им оказался некий Франц Дроссельмайер, представитель одной швейцарской часовой фирмы. Был в СССР недолго, ознакомился с нашим часовым производством и выяснял возможности коммерческих связей. Но опознали его по фотороботу все-таки слишком поздно: накануне он уже улетел на родину. В Москве был, оказывается, впервые. Ничем, кроме производства часовых механизмов, не интересовался, в театрах не бывал и встречался только с корреспондентом одной швейцарской газеты. Ничего особо интересного я не узнал, кроме одного поразившего меня обстоятельства. Дроссельмайер не говорил по-русски, он всюду объяснялся через переводчика. Мы нашли и этого переводчика, все подтвердившего: по-русски Дроссельмайер мог произнести только два слова: «спасибо» и «хорошо». Так он или не он заходил к Ягодкину? Я решаю выяснить это сам. Надо ехать к Ягодкину. Заехать ненароком, без приглашения, как бы проезжая мимо: больно уж он обидчив. Возвращался, мол, домой и решил заглянуть и поблагодарить его за помощь, да и показать не составленный нами совместно фоторобот, а подлинную фотокарточку Дроссельмайера. Но тянуло меня к однофамильцу Миши и другое. Что-то мне не понравилось в его письме и в личной беседе. Не могу объяснить что… Вероятно, разговор с ним на разные темы, о житейском обиходе и домашнем уюте — ведь мы с ним, можно сказать, сейчас холостяки поневоле, — поможет мне заглянуть в душу и понять недопонятое. На небольшом асфальтовом плацу возле его подъезда, где я оставляю машину, стоит еще одна «Волга» — голубая и совсем новая или ухоженная настолько, что ее можно принять за новую. Спрашиваю у старичка в подъезде: чья? «Ягодкина, — говорит. — Кому же еще такие машины покупать — деньжищ тьма. А вы к кому?» — «Да к нему же», — говорю. «Зубки, значит, сменить хотите, — ухмыляется старичок, видно, до сплетен охочий. — Третий атаж. Квартира с медной дощечкой». Подымаюсь без лифта — невысоко. Звоню. Колокольчик за дверью откликается музыкально и весело. Дверь открывает сам Ягодкин. Он в пижаме и теплых туфлях. Глаза блестят — или поспорил жарко, или выпил. Последнее подтверждает легкий винно-водочный ветерок, дохнувший из комнаты. Блеск в глазах сменяется недоумением, даже растерянностью, впрочем, тотчас же скрытой. — Господи боже мой, — уже умиляется он. — Сам полковник Соболев удостаивает меня вниманием. Проходите, полковник, у меня несколько не прибрано: только что поужинал в теплой компании. Да вы не беспокойтесь, мы одни. А пиджак снимите: у меня жарко. Делаю первый вывод: уже постарался узнать мою фамилию, должность и звание. Зачем? Естественное любопытство при воспоминании о человеке в штатском, так строго говорившем с ним в кабинете майора? Может быть. Но от кого он мог это узнать? Остатки ужина убраны. На столе никакой еды. Только шампанское, коньяк, лимонные дольки в сахаре да еще джин и пепси-кола вместо тоника. Гостей, видимо, было много, судя по количеству бутылок и рюмок. Широко живет протезист с новенькой «Волгой» и таким интерьером: старинная мебель, дубовые стулья с медной лампой, заказные стенды с книгами и вольтеровское кресло у телевизора. — Может быть, коньячку выпьем? — предлагает Ягодкин, убирая посуду. — Я сейчас рюмки переменю. — Не беспокойтесь, Михаил Федорович, — останавливаю я его. — У меня не тот возраст, и сердце надо беречь. А о звании моем забудьте: вы не у меня на службе. И, как и у вас, у меня есть тоже имя и отчество. Николай Петрович, к вашим услугам. — Тогда чем обязан? — спрашивает он. В голосе уже сухость, которую следует размочить. Учту. — Хочу поблагодарить вас, Михаил Федорович, — говорю я. — За ваше письмо и бдительность. Кажется, вашего посетителя мы нашли. Вот он, поглядите. — И я кладу на стол фотокарточку Дроссельмайера. — Он! — обрадованно узнает Ягодкин. — Вы уверены? — вновь спрашиваю я, положив фотографию обратно в бумажник. — Несомненно, — уточняет Ягодкин. — Именно он. — И говорил с вами по-русски… — без акцента? — Без малейшего. — Больше он вас беспокоить не будет. Кстати, от кого вы узнали о моей должности и фамилии? Ягодкин не смущается. — У одного из ваших работников. Проходил по коридору, искал кабинет майора и обратил на себя внимание кого-то из проходящих мимо. «Вы к полковнику Соболеву?» — спросил тот. Я взглянул на повестку и сказал, что к майору Жирмундскому. Ну а когда вы зашли в кабинет и заговорили при майоре таким начальническим тоном, я уже понял, с кем имею дело. Признаю, что Ягодкину нельзя отказать в сметливости, а мне в недостаточной осторожности. Подвели меня не вопросы, а тон, каким они были заданы. Не рассчитал чутья и догадливости собеседника. И все-таки он меня вроде бы побаивается, чувствую. Почему? — А ведь уютно у вас, — говорю я будто бы невзначай. — Уходить не хочется. Плесните-ка мне коньячку чуток, как говорится, посошок на дорогу. А я пока на ваши книги взгляну. Подхожу к стендам. Подписные издания, классики, переплетенные тома дореволюционных журналов, вроде «Исторического вестника», полный Дюма в издании Сойкина и другие, явно букинистические приобретения. А Ягодкин тем временем уже поставил на стол два чешских широких бокала. — Присаживайтесь, — приглашает он. — Армянский коньяк десятилетней выдержки. Лучше «Мартеля». Редкость по нынешним временам. — И на книжных полках у вас немало редкостей, — замечаю я не без зависти, но и не без умысла: пусть знает, что я тоже библиофил, скорее разговоримся. Проходя к столу мимо открытой двери в соседнюю комнату, мельком вижу журнальный столик с кляссером большого формата. — Хорошую библиотеку собрали, — говорю я. — И давно это у вас? — Подбираю мало-помалу. Всю жизнь, в общем, с тех пор, как начал работать. Спросите, на какие денежки? Догадываетесь небось, сколько все эти редкости стоят? Охотно отвечу. Выгодная у меня специальность, Николай Петрович. Много заработать можно и без хищения государственных средств. Во-от что его волнует!.. Ну, милый Михаил Федорович, это уж не моя компетенция. Тут вами другое ведомство заинтересуется, если надо будет… — А как насчет государственного времени? — Время проверить трудно. Оно растяжимо. И служебное время можно объединить со своим. Никакой фининспектор не учтет приватных заказов. — А я не фининспектор. Мне интересны ваши книги, а не их стоимость. Кстати, вы и марки собираете? Я мельком заметил ваш кляссер в соседней комнате. — Старое хобби, — улыбается Ягодкин, — еще мальчишеское увлеченье, потом надолго забросил, а за последние годы вдруг начался рецидив. Собрал довольно крупную коллекцию марок. Тематика — полярная почта. Все связанное с Арктикой и Антарктидой, все экспедиции и открытия. — Гашеные или негашеные? — спрашиваю я, не проявляя большого интереса к ответу: в филателии я нешибко разбираюсь. — И те и другие. Мои коллеги-филателисты часто предпочитают только гашеные, но я не фанатик. У меня, как у Ноя, каждой твари по паре. Хотите взглянуть? — Нет, спасибо. Я не филателист. Коньяк выпит, засиживаться неудобно. Узнал я немного, но какие-то черты личности проявились: приобретатель. Современная разновидность мещанства… Извиняюсь, что отнял время у любезного хозяина, встаю и еще раз благодарю его за проявленную бдительность. — Может быть, еще встретимся, — говорю я. — Упаси бог! — с картинным испугом откликается он. — Беда, когда вы балуете вниманием нас, грешных. Вот тогда и чувствуешь, что выглядишь грешником. Скажете: негостеприимно? Согласен. Но с госбезопасностью лучше не сталкиваться. Я за нейтралитет. Вечером я у Саши Жирмундского. Теперь он хозяин. Уже не шахматы, а телевизор. Футбольный матч между киевским и московским «Динамо». Болеем, конечно, за москвичей. О Ягодкине молчу, сказать-то ведь, в сущности, нечего. Но Жирмундского не обманешь. В перерыве между таймами он спрашивает с ухмылкой: — Ну, посмотрел все-таки, как он живет? — Хороший ты чекист, Саша, — говорю я. — Догадливый. — А я и не догадывался. Просто спросил у твоего водителя, куда ты ездил после работы. — Богато живет, — говорю. — Голубая «Волга», антикварная мебель, бар с армянским коньяком десятилетней давности и прочими десертными винами, а библиотека — позавидуешь! Даже «Молодость Генриха Четвертого» Понсон дю Террайля на полках стоит. Все три тома. — Да-а, — тянет Саша. — Я в Доме книги на Калининском один видел. Семьдесят пять рублей цена! Вот тебе и зубной технарь. — Только интересного для нас, Сашенька, в нем ничего нет. А приватная деятельность на ниве зубных коронок и пластмассовых челюстей — это для фининспектора забота. Да он и сам это знает и, видимо, не очень нас боится. Попивает коньячок редкой крепости в соответствующей компании и смакует свой кляссер с коллекцией марок.6
После моего доклада генералу дело о сигнале Ягодкина откладывается в резерв, вплоть до возможного вторичного приезда Дроссельмайера в Москву. Пока сведений о его деятельности на поприще иностранных разведок к нам не поступало. Просто трудился в своей часовой фирме, той самой, от которой приезжал в Москву ее представителем. Зарубежные разведчики, правда, часто пользуются крышей какой-либо из торговых или промышленных фирм, но в данном случае могло быть иначе. Или он был строжайше засекречен даже от хозяев фирмы, или вообще не был разведчиком. А если так, то возникает некая сумма противоречий. Кто лжет, Дроссельмайер или Ягодкин? Или Дроссельмайер действительно хороший разведчик, или Ягодкин выдумал всю эту историю в гостем из-за границы? Но как же он сумел составить тогда почти точную фотокопию гостя? Может быть, он где-то видел его и запомнил? И тут уже вполне закономерен вопрос: для чего понадобилась ему эта игра в бдительность? Или эта игра только следствие психической ненормальности? Шутка скрытого шизофреника, вообразившего себя Джеймсом Бондом из Марьиной рощи. А вдруг здесь что-то другое, куда более серьезное и опасное? — Может быть, Ягодкина все-таки еще раз «прощупать»? — докладываю я генералу о своих размышлениях. — А зачем? — недоумевает он. — Дело приостановлено. Швейцарский немец удрал. Агент его, хотя вы и не доказали, что он именно его агент, благополучно «сыграл в ящик» и разоблачен посмертно, а настоящий Ягодкин отнюдь не его замена. Так можно любого прохожего заклеймить. Как при Анне Иоанновне: кричи «Слово и дело» и хватай за шиворот. Ведь ты у него был и ничего интересного не нашел. — Можно и с его друзьями потолковать. — Ведь у тебя не только обвинений, а и подозрений нет. Нет даже основания для таких подозрений. Вот так, братец, жми, да не пережимай. Получив «указание» начальства, призадумываюсь. Все-таки что-то меня беспокоит в Ягодкине, что-то недосказанное. — Ведь перешла же к кому-то агентура Гадохи, — размышляет Жирмундский. — Нет, конечно. Но все же кому-то предназначались новенькие доллары из шкатулки Гадохи. — Судя по сумме, обнаруженной в этой шкатулке, покойный был довольно прижимист. Может быть, шкатулка подкармливала его самого? Но в советские рубли доллары в кармане не превращаются. Их кто-то должен был продавать или обменивать. — Придется проверить, нет ли «валютчиков» в окружении Ягодкина. С проверкой, однако, решили не торопиться: времени у нас много, а подозрений — кот наплакал. — Побываем сначала у его бывшей жены, — предлагаю я. — Попробуем и поликлинику. — С поликлиникой подождем, — не соглашается Жирмундский. — Что могут подсказать там, кроме сплетен о его частной практике? А для дирекции он чист и прозрачен, как промытое стеклышко, — лучший протезист, мастер своего дела. Да так оно и есть: жулика бы здесь не держали. Лучше начнем с его бывшей жены. Ее отношения с ним, судя по его реплике, вероятно, на грани «холодной войны». — Наговоры брошенной и обиженной? — Не исключено. А вдруг не наговоры? Вдруг обиженной, но объективной? Адрес ее известен: живет в новом доме у станции метро «Варшавская». Телефона у нее нет. Ну и рискнем без звонка. — А если она сообщит Ягодкину о нашем визите? — Вряд ли. Да если и так, что с того? Он понял, что интересен нам. — Скорее, ОБХСС… — смеется Жирмундский. Линькова Елена Ивановна действительно дома. И одна. Тугой узел волос на затылке и морщинки у глаз ее старят. Следы былой миловидности еще заметны, но лишь следы. И одета скромно. В строгом костюме, и никаких украшений — ни колец, ни серег. Явно не вписывалась она в изысканный интерьер Ягодкина. Мы представляемся и получаем приглашение зайти в комнату, по-видимому служащую и гостиной и спальней. Завтракает и ужинает хозяйка на кухне, откуда и приносит на стол уже заваренный крепкий чай, должно быть только что приготовленный. — Мы к вам, очевидно, не вовремя, — говорю я. — Вы собирались чай пить, а мы нагрянули. — Будем пить вместе. Чай-то я умею приготовить, с молоком, по-английски, — отвечает она и ставит на стол молочник и весьма аппетитные булочки. — То немногое, что умею… — Вы были в Англии? — мгновенно реагирует Жирмундский и, по-моему, слишком заинтересованно. Но она откликается просто и доверчиво: — Да, в Лондоне. Месяца три назад. На симпозиуме по вопросам судебной медицины. Я ведь в специальном институте работаю, имею некоторую причастность к человековедению. А что вас привело ко мне? — Ваш бывший муж, — говорю я. Лицо ее каменеет. — Нас с ним уже ничто не связывает, и, вероятно, я не смогу быть вам полезной. — Именно вы и можете, — вмешивается Жирмундский. — Вы же его знаете лучше, чем мы. Она все еще очень сдержанна. Видимо, ей совсем не нравится тема уже начатого разговора. Но тон Жирмундского настойчив, я бы сказал, даже повелительно настойчив. — Я действительно его знаю, — неприязненно говорит она, — но… — А зачем «но»? — смеется Жирмундский. — Мы тоже убеждены, что вы знаете. Улыбается и она. — Чем же он мог заинтересовать ваше высокое ведомство? Я отвечаю примерно так же, как и в беседе со Жмыховым. — Он проходит у нас свидетелем по одному важному делу. Какого именно, говорить не будем. Где он работает, мы знаем, и характер работы нам известен. Нас интересует другое. Его личная жизнь, быт, привычки, склонности, увлечения, знакомства. Вы уже сказали, что имеете некую причастность к человековедению. Такую причастность имеем и мы. Вот вы и расскажите нам о нем все, что знаете. — А что ж это вы ко мне, а не я к вам? Гора к Магомету? — Были рядом, вот и рискнули, — улыбается Саша. — А Магомета к горе — так дело-то неспешное, зачем пророка беспокоить. — Я и пророк, — смеется она и снимает улыбку вдруг, сразу: — Задавайте вопросы. Так будет легче. — Давно ли вы разошлись? — Год назад. Сегодня ровно год. Самый счастливый из последних трех лет моей жизни. — Почему? — Год без Ягодкина. — А долго ли вы прожили вместе? — Почти два года, а вернее, всего только год, когда я жила как в тумане, сознавая всю трагическую для меня нелепость этого брака, все изо дня в день растущее отвращение к этому человеку. Ну а второй год был попросту годом сосуществования на одной территории с правом невмешательства в личные дела каждого. Мы только старались поменьше встречаться, а встречаясь, молча терпели друг друга, откладывая формальный развод до разъезда. Вас, наверное, интересует, как и почему возник этот союз совсем несхожих натур, да, если хотите полярных, антагонистических духовно. Только боюсь, что мое свидетельство будет необъективным, не в пользу Ягодкина. Мы с Жирмундским молчим, не скрывая своего интереса к рассказу. Тогда она, глотнув уже остывшего чая, продолжает: — Вышла я замуж тридцати семи лет — возраст, как говорится, не свадебный. Случилось это пять лет спустя после смерти моего первого мужа. Он тоже был врачом, как и я, и погиб, можно сказать, на боевом посту во время холерной эпидемии в Северной Африке. И показалось мне это пятилетнее одиночество холодным и неуютным. Бывает, знаете, так у не совсем еще старых баб. Вот тут я и познакомилась с Ягодкиным — в Ялте, в гостинице, где он, как и я, жил без санаторной путевки. Оба соседи по коридору, оба одиноки и свободны — он тоже похоронил свою первую жену и еще не обзавелся новой. Неглупый, интеллигентный, не лишенный мужского обаяния, но в свои пятьдесят два года казался моложе лет на десять и, надо отдать ему справедливость, умел развлечь скучающую курортницу. Тут и началась у нас этакая ресторанно-музыкальная круговерть с транзисторами и магнитофонами, с винными подвальчиками и барами, с пляжами и пикниками, с гонками на яхтах и мотолодках. Я никогда не жила такой жизнью и, как легкомысленная девчонка, поддалась ее сомнительным соблазнам. Я сознавала их временность, знала, что вернусь в Москву к обычной для меня обстановке — долгим часам работы в институте, нечастым вечерним встречам с друзьями-сослуживцами и одиночеству дома за книжкой или за подготовкой диссертации, которую так и не смогла тогда защитить. Но когда пришло время уезжать, Ягодкин вдруг предложил мне стать его женой. Я сама не понимаю, почему согласилась так сразу и так легко — должно быть, все-таки боялась ждавшего меня одиночества. Полюбить друг друга мы еще не успели, ну просто потянуло двух одиноких к какой-то человеческой близости, и не следовало бы, конечно, торопиться с женитьбой, но уж очень хотелось мне домашнего уюта и мужской заботливости. Она задумывается, и губы ее кривятся не радостью, а горечью недобрых воспоминаний. — Так и была я наказана за то, что непростительно даже девчонке: месяц курортной канители — и нате, пожалуйста, законный брак. Михаил Федорович Ягодкин и Елена Ивановна Линькова — хорошо, что фамилию свою сохранила, не пришлось после развода паспорт менять — обитают в двухкомнатной квартире в маленьком каменном особнячке в Марьиной роще. Соседей своих он мгновенно переселил в мою прежнюю комнату, а я очутилась под крылышком мужа, который постепенно стал раскрываться. И открылось моим глазам нутро человека-приобретателя, мещанское до самых бездонных глубин нутро. Два холодильника у нас доверху были забиты продовольственным дефицитом. Мало, скажете? Так прибавьте еще и библиотеку с уникальными книгами, которые никогда и не раскрывали, только ласково поглаживали их древние корешки. Мебель в квартире за два года три раза менялась. То югославский или финский модерн, то старинная антикварная краснодеревщина, а на стенах — либо старая грузинская чеканка, либо иконы подревнее, купленные у какого-нибудь церковного старосты. Сначала мне казалось, что он просто болен «вещизмом», думала его, как говорится, перевоспитать, ну, вылечить, что ли. Но через полгода уже поняла: не я его вылечила, а он меня опоганил. Мне все чаще и чаще виделось, что именно с таких, как он, Маяковский «Клопа» писал, и Ягодкин, как и Присыпкин, тяготился уничижительностью своей фамилии. Уж как ему хотелось быть не Ягодкиным, а скажем, Малиновским или Вишневским. Так не могу, говорит, дело не позволяет. И все развлечения, кроме телевизора, отменил сразу, всех моих друзей разогнал, а своих принимал только днем, когда меня дома не было. Мы настораживаемся. Уже появились друзья. Когда, кто, откуда? — После замужества, когда мы еще раз на курорте побывали и уже заперлись у себя в Марьиной роще, как в скиту, появились двое. Первый пришел, когда мужа не было, днем, а я дома оставалась, приболела немножко. Вошел затрепанный какой-то, в сальном пиджаке и нестираной рубахе без галстука. Опухший, отекший, небритый. «Муж, — спрашивает, — дома?» Я говорю: «Скоро придет». — «Ну а я подожду, дорогуша, сколько хошь подожду, потому что, кроме него, мне идти некуда. Однополчанин он мой, дружок-фронтовичок. А ты, — говорит, — водочки мне сообрази, закуски не надо. А без водочки не могу, с утра во рту капли не было». Посетитель меня не удивил, мало ли какие однополчане у него были, но повел себя муж при виде его странновато. Сначала даже не узнал как будто. А бродяга ему: хи-хи да ха-ха, вспомни, милок, дружка старого. И тогда муж сыграл спектакль — и улыбку, и объятия, и прочие излияния дружелюбия. «А ты, Леночка, — говорит, — оставь нас вдвоем, мы тут посидим, прошлое вспомним». Долго они сидели, а потом друкок-фронтовичок исчез, со мной не попрощавшись, я на кухне была. «Что это за личность?» — спрашиваю у мужа. «Так, — говорит, — человечек из прошлого. Даже фамилию забыл, только кличку и помню: Хлюст. Из штрафной роты он к нам попал, вместе из-под Минска драпали, ну а теперь вроде в беде: жалко. С блатными опять связался, милиция по пятам идет. Вот я и решил посодействовать. Денег дал на дорогу, записку написал знакомому директору завода из Тюмени: пусть поможет бывшему фронтовику устроиться по-человечески. А там, глядишь, и судимость снимут за давностью». Вот и вся история с дружком. Ну а потом, этак через год с лишним, когда мы фактически уже разошлись и вот-вот должны были разъехаться, к Ягодкину пожаловал гость. Уже не фронтовичок в грязной рубахе, а джентльмен в клетчатом пиджаке, блондин лет тридцати пяти, с длинной по-модному шевелюрой. Познакомил нас Ягодкин, представил мне его как профессора стоматологии из Риги. Помнится, Лимманисом его назвал. Я так подробно об этом рассказываю лишь потому, что Ягодкина после его визита словно подменили. Появились какие-то пьяные девки, не то манекенщицы, не то продавщицы из каких-нибудь торгов — одна даже, помнится мне, торговала у нас в молочном киоске напротив. Да и привечал-то он их не для себя, а для новых дружков своих, из которых одни возникали и пропадали, другие задерживались дольше, бражничая по вторникам и четвергам, в его выходные дни в поликлинике. Были среди них и люди интеллигентные на вид, и просто подонки, которые у винных прилавков на троих соображают. А неизменно присутствовали в компании двое, их-то я и запомнила. Один из них, грузин московского розлива — без малейшего акцента говорил, — по имени Жора, а фамилию не знаю. Был он молод, этак лет тридцать, в сыновья Ягодкину годился, а хозяйничал за столом как первый министр в его правительстве. Второй тоже ходил под Ягодкиным, но больше помалкивал да поглядывал, кто это мимо открытой двери на кухню идет. Звали его — тоже без фамилии — Филей. Впрочем, Ягодкин как-то проболтался о нем, сказав кому-то по телефону: свяжись, мол, с нашим механиком Филькой Родионовым, он тебе машину в любой цвет перекрасит. Я сказала как-то Ягодкину, вскользь сказала, между прочим: зачем, мол, тебе этот подонок? А Ягодкин засмеялся и говорит: «Это для тебя он подонок, моя бывшая женушка, а на станции техобслуживания он бог Саваоф, поневоле поклонишься, если моя „Волга“ уже на ладан дышит». Кстати, тут он солгал: «Волга» у него была нестарая, в прекрасном состоянии. Может, в том была как раз Филькина заслуга. Не вмешивалась я и в его страсть к маркам: все его закулисные знакомства как раз и связаны с марками. Он часами торчал в обществе филателистов на улице Горького или в марочном магазине на Ленинском проспекте, с кем-то перезванивался и все о марках. Скрывал он от меня и свою любовницу. Ну а вы сами понимаете, как я к этому относилась: пусть хоть десяток заводит, мне-то ведь все равно. Вот так и прошла моя жизнь с Ягодкиным. Больше и рассказывать нечего. Возвращаемся домой. Жирмундский за рулем что-то посвистывает, улыбается. А я молчу. Столько узнал, что не разложишь в мыслях, как пасьянс на столе. А вдруг сойдется? — А ведь я знаю, о чем думаешь, товарищ полковник, — замечает многозначительно Жирмундский. — О том же, что и ты. — Я свое уже додумал. Я моложе, и у меня быстрее реакция. А ты сейчас комплектуешь вопросы, вытекающие из рассказа Линьковой. — Кстати, зла она на Ягодкина, по-бабьи зла, хотя и притворяется равнодушной. — Ее понять нетрудно: наш Ягодкин — личность явно несветлая. Но рассказ-то ее, если из него личные обиды вычесть, любопытен. И без вопросов не обойдешься. Почему солгал Ягодкин? Сказал, что не знает адреса своей бывшей жены. Боится он ее, что ли? Кто был этот латыш, и почему он исчез, оставив Ягодкина с непростым решением «начать жизнь по-новому»? Он ненавидел свою фамилию, но изменить ее не решался: дело якобы мешало. О каком деле говорил он? О своей специальности? Но не все ли равно, какую фамилию носит дантист, даже весьма в Москве популярный? Кто был дружок-фронтовичок, угнанный им за тысячи верст от Москвы? И где сейчас этот дружок-фронтовичок? С кем был связан Ягодкин в своем марочном промысле? И какую роль в его окружении играли пресловутые Жора и Филя? — А ведь из этих вопросов может сложиться версия, — заключает Жирмундский. — Только для кого? Для нас или для уголовного розыска?7
И версия действительно складывается, правда, на одних предположениях основанная, ни одним фактом не подтвержденная. Все же на ее основании я подаю рапорт генералу о продолжении расследования личности Ягодкина. И вот я на очередном приеме у начальства, готовый к защите своей версии (или, вернее говоря, права на эту версию). — Упрям, — улыбается генерал, он сегодня в отличном настроении, и это повышает тонус моей уверенности в победе. — Раскручивай свою гипотезу. Начинай с азов. И я еще раз излагаю весь ход собственных мыслей, так красноречиво сформулированных Жирмундским в своем вопроснике. — Версия складывается не из вопросов, а из фактов, или, точнее, из доказательств, найденных в процессе расследования. — Разумное предположение тоже может быть источником версии, а я как раз и прошу расследования в поисках ее доказательств. — Ладно, выкладывай свое разумное предположение, — соглашается генерал. — С чего начнешь? — С военных лет. Допустим, что уже в те годы в распоряжении гитлеровской разведки оказывается необходимая документация на двух советских людей с некоторой возрастной разницей, но с одинаковым именем, отчеством и фамилией. Какая идея может возникнуть у хозяев этой разведки или у их преемников сразу же после войны? Ведь ставка на «двойников» не есть нечто новое в разведывательной практике. — Допустим, — опять соглашается генерал. — Тогда допустим и другое. Поскольку один из «двойников» считается уже несуществующим, то его анкетные и биографические данные, составленные с помощью предателя, этому же предателю и присваиваются. С поддельными документами и надежной биографией он возвращается из плена, проходит проверку, приезжает в Москву и легко находит себе жилье в Марьиной роще. — Почему именно в Марьиной роще? Случайно? — задает вопрос генерал. — Нет, не случайно. При ставке на «двойников» местожительство их в одном районе обязательно. Вы это поймете из дальнейшего изложения моей гипотезы. Так вот, этот «двойник», именуемый по паспорту Ягодкиным, а на самом деле Гадохой, поступает на работу киоскером, живет замкнуто, с преступным миром не связан, пьет в одиночку, не заводя дружков-алкашей, и в конце концов погибает пьяный. Случайно, как предположили в угрозыске? Может быть, и случайно… Работал плохо или вообще не работал, пил без просыпа. За какие-то дела он получал или получил свою пачку долларов — лично я думаю, что она была единственной. А вручили ему ее на подготовку агентуры для «двойника». Не обязательно той, что необходима для разведывательной деятельности, а той, что может быть полезной, скажем, крупному мошеннику-дельцу или аферисту-хищнику. Вероятно, и здесь Гадоха не преуспел: помешал страх перед разоблачением. Ягодкину, возможно, и передали кое-кого из купленной Гадохой шпаны, но едва ли это была хорошо организованная и законспирированная агентура разведчика. Просто порученцы для разных дел. — А зачем они Ягодкину? — Пока еще не могу ответить, товарищ генерал. Темно еще все здесь очень, не скоро высветлишь. Но вы помните одно местечко из рассказа Линьковой, где Ягодкин, тяготясь уничижительностью своей фамилии, говорит, что ему бы хотелось быть Вишневским или Малиновским. Хотелось бы, да дело не позволяет. А дело, оказывается, могло быть: ждать. Ждать под крышей Ягодкина, потому что, когда придет время, хозяева будут искать Ягодкина, а не Вишневского. И нашли его наконец. Линькова о латыше говорит, но латыш ли? Гадать не будем, но дело пошло. А генерал, улыбаясь, слушает внимательно, не перебивает. Хотя мог бы давно это сделать, а не перебивает: ждет. И я знаю, чего ждет: у него два козыря. Во-первых, Ягодкин, мол, сам в управление пришел, и заявление его почти неопровергаемо: был ведь иностранец в поликлинике и мог ошибиться адресом, к другому Ягодкину шел и тоже, представьте себе, совпадение, из Марьиной рощи. А во-вторых, военная биография Ягодкина чистым-чиста: отступал, наступал, на оккупированной противником территории не был. Где ж завербовать его могли? Неувязочка у вас, полковник Соболев. Выстрелил, да промазал. Ну, тут я уж делаю предупреждающий выпад, «парэ», как говорят на фехтовальной дорожке. — То, что Ягодкин к нам пришел, было его первой ошибкой. Возможно, испугался он смерти киоскера, проверки испугался: вдруг да заинтересуемся мы соседом-однофамильцем? А тут — честный гражданин с чистой биографией — проверяйте, товарищи, я сам к вам пришел. Нет пока у меня никаких доказательств, только штришки из рассказа Линьковой, но не верю я ему, слишком уж все гладко у него. Какой-то перебор в правдоподобии, какой-то пережим. И военная биография его, по чести говоря, меня не убеждает. Отступали они из Минска с боями, врассыпную или десять дней по болотам, по ольшанику под бомбежкой шли, да немцы то и дело десанты выбрасывали. Ну обходили их помаленьку, отстреливаясь, отбиваясь, пушки в болоте вязли, из полка меньше двух рот на соединение с дивизией вышли. Больше трети личного состава потеряли, ну и Ягодкин уцелел. Ротный это подтверждает точно. А вот как шел он, когда друг друга в лесу то и дело теряли, когда и сообразить было некогда, кто рядом идет, а кто позади застрял, это еще вопрос. Мало ли что могло с солдатом случиться. Ну, попал в расположение вражеского десанта, прикончить не прикончили, а завербовать могли, если трус и подлец. — Опять предположения, — вздыхает начальство. Но вздыхает оно сочувственно, понимает, как трудно здесь выделить микроложь из в общем-то правдивой картины, понимает, что сомнения возможны, но для дела-то нашего важны не сомнения, а доказательства. — А доказательства добудем, товарищ генерал. Есть такая вероятность. Жмет меня рассказ Линьковой о ягодкинском дружке-фронтовичке, который, как он сам сказал, вместе с ним из-под Минска драпал. Почему это Ягодкин его в сибирские дали загнал, ведь, если милиция по следам идет, его и в Тюмени накроют как миленького. Что-то не нравится мне эта придуманная Ягодкиным ссылка «в сибирскую глушь». Либо это неправда, либо глупость. Ну а в глупости его не обвинишь. Вот и надо сейчас этого дружка-фронтовичка найти. В этом, думаю, нам угрозыск поможет. Из штрафной роты — во время войны, блатной — после войны, мимо угрозыска наверняка не прошел. А когда найдем, удача здесь — всему чаю заварка. — А если неудача? — Допустим. Но предположение все-таки остается, пусть пока и недоказанное. С другой стороны подойдем. — Гадания! — Согласен. Но у него, несомненно, что-то связано с марками. Должно быть связано. Иначе трудно понять эту внезапную необъяснимую страсть. Учтите, что я только перечисляю векторы, по которым должно направляться расследование. Марки — один из таких векторов. Я думаю связаться с Обществом филателистов и, если позволите, послать туда нашего человека. Ведь есть же у нас кто-нибудь, собирающий марки или знакомый с техникой и тактикой собирательства. Генерал впервые за время нашего разговора решительно и даже с удовольствием соглашается. — Это ты хорошо придумал, Соболев. Найдем мы у нас такого человека. А с обществом сам сговорись. Коллекционеры там настоящие, с редчайшими собраниями марок, участники не только наших, но и зарубежных выставок. Там тебя и с нужными людьми сведут, и Ягодкина твоего оценят как собирателя: что у него от липы, что от сердца. И нашему пареньку там будет легко, кому нужно — откроемся, кто сможет — поможет. В общем, добро, Соболев. Действуй.8
Возвращаюсь от генерала. А меня в кабинете уже Саша дожидается. — А у меня новости. Я настораживаюсь. — Какие? — Нашли дружка ягодкинского — Филю. — Что за личность? — Гигант мысли, — смеется Жирмундский. — Работает сей Филя по фамилии Родионов на станции технического обслуживания автомобилей. Царь-механик, как о нем говорят. Все умеет. А живет в Косине. У него там собственный дом с участочком за забором. Высо-о-окий забор — доска к доске. Соседи говорят, от автомобилей там покоя нет. — Молодец, — хвалю помощника. — Полковником будешь. Смеется, нахал редкостный. — А мне, дядя Коля, полковника мало. Я в генералы мечу. Я решительно меняю тон. — Прежде всего запомни: впредь никакой несогласованной личной инициативы. А теперь слушай. В Косино пошлешь наших людей, пусть разузнают побольше о Родионове. Во-вторых, найди любовницу Ягодкина: она нам понадобится. Жору пока не трогай — повременим. И наконец, подыщи у нас какого-нибудь парня, понимающего в филателии. Я сам поговорю с ним. При тебе поговорю, чтобы ты был в курсе. А сейчас ты мне больше не нужен. У меня свои дела на Огарева, шесть. — Секрет? — Почему секрет? Дело общее. Следы Хлюста найти нужно. Помнишь дружка-фронтовичка, которого Ягодкин почему-то в Тюмень загнал? Только думаю я, что не в Тюмень. Зачем? Разве не мог он спрятать его, скажем, у Фильки Родионова за высоким забором. Ведь милиция за Хлюстом по пятам шла, так именно Линькова и выразилась. А где же, по-твоему, безопаснее — у Фили или у какого-то директора в Тюмени? Почему я решил искать эти следы не на Петровке, 38, а на Огарева, 6, тоже было продумано. Ведь если бы он в Москве орудовал, то давно бы связался с Ягодкиным. И неспроста он так нахально явился к тому за помощью, а потому, что в этой помощи Ягодкин не мог ему отказать. Что-то связывало их — тесное и недоброе. И не в Москве гастролировал Хлюст, а на периферии. Так и следы его надо было искать в других городах и весях, иначе говоря, в Минвнуделе, где следственными делами ведал мой товарищ, тоже полковник, Женька Вершинин, коллега по юридическому. И помочь ему мне было, как говорят, легче легкого. Так и вышло. Встретились мы с Вершининым как давние друзья, и суть дела он понял сразу. «Есть, — говорит, — у меня необыкновенный памяти человек, Афанасий Иванович. Непременно вспомнит сразу же, только кличку скажи, и дело припомнит, и в архиве найдет». Пригласили мы его. Я ему и объяснил, в чем дело. — Хлюст? — говорит. — Был такой, лет двенадцать по суду получил, да война вызволила, срока не отбыл, сразу в штрафную роту попал, а потом в Ростове уже дезертировал. Ну, во время воины не до него было, выпал, как говорится, из поля зрения. А после войны опять попался на спекуляции трофейными автомашинами. Новый срок дали. Сбежал. И начал он угнанные машины из Москвы на юг перегонять. Сначала «Победы», потом «Волги». Долго мы за ним гонялись, перекупщики попадались, а он нет. Года два назад взяли. По анонимке взяли: кто-то донес. Анонимкой для ареста мы не воспользовались, конечно, ну а по следам указанным прошли. В Сызрань он машины перегонял, заводской номер сбивал, городской номер менял, кузов в другой цвет перекрашивал. А с новым номером бывшая серая,а теперь зеленая «Волга» в Тбилиси к некоему Кецховели шла, там и перепродавалась. И документы подделывали, а концов мы так бы и не нашли, если б до Кецховели не добрались. — Я помню это дело, — говорит Вершинин, — там человек шесть орудовало, и среди них Клюев Никита Юрьевич. Он и есть Хлюст. По кличке я бы не вспомнил, но у Афанасия Ивановича память как магнитофонная запись. Теперь этот Клюев в колонии строгого режима сидит. — Устрой мне с ним встречу, Вершинин, — говорю я после ухода майора. — В колонию я сам съезжу. И анонимное письмо это дай мне для поездки. Серьезное у меня дело, и враг наш пострашнее твоего Хлюста будет.9
Принимает меня сам начальник колонии. Объяснил, что Клюев нужен мне не по его делу, а по моей работе в Комитете государственной безопасности. Нужен как свидетель и очень важный свидетель. В кабинет, который начальник колонии специально отвел мне, вводят Клюева. Лет ему немало, этак годков на пять больше, чем мне, но выглядит он отлично. Аккуратный весь, гладкий, будто и не в колонии. Только глаза колючие: смотрят недобро и недоверчиво. — Похоже, не из уголовки вы, а повыше, — замечает он, потому что я молчу, пока ни о чем не спрашивая. — Что значит повыше? — начинаю я разговор. — Такой же полковник, как и Вершинин. Только из другого ведомства. — Ну, ваше ведомство мне ни к чему, касательства не имею. А полковника Вершинина всю жизнь помнить буду. Без него ни Кецховели бы не нашли, ни меня. — Кецховели же нашли. До тебя взяли. — Он не выдал. Другая сволочь стукнула. Об анонимке я пока молчу. Напечатана она на пишущей машинке без подписи. Ну, машинку-то мы, конечно, найдем, только не она сейчас мне важна, а реакция Клюева. Ведь об анонимке этой он ничего не знает, ему ее не показывали, просто к делу подшили, и сейчас, в начале разговора, о ней упоминать рано. Ягодкина он так просто не выдаст, хотя и почти точно уверен, что отправил его Ягодкин не в Тюмень, а в эту колонию. Но к анонимке мы еще подойдем, время есть. Нужен предварительный разговор — для знакомства. — А почему это я вам понадобился? — интересуется он. — Ищем мы одного человека, а ты, друг любезный, его хорошо знаешь. — Ошибочка, гражданин начальник. С чекистскими подследственными мы дел не имеем. Да и дела наши не угрожают государственной безопасности. — Но иногда они на руку именно тем, кого мы ищем. Хлюст молчит, что-то соображая. Может быть, и вспомнил он Ягодкина, а может, и нет. Только он говорит, на этот раз не кривляясь: — И все-таки ошибочка вышла, гражданин начальник. Не по адресу вы ко мне приехали. — А может, и по адресу, штрафник Клюев. — Почему штрафник? — обижается он. — Честно работаю, у старшого спросите. — Я не о здешней твоей работе говорю. Вспомни войну, сорок первый год, минские болота в ольшанике. Ты в рядовой штрафной роте был, Клюев. Вспомни, как ваш полк из-под Минска отходил, все смешалось. Не повзводно шли, а по двое, по трое. Так кто с тобой рядом шел? — Многие шли. Разве всех вспомнишь? — Но одного-то ты запомнил, Клюев, и кого запомнил, мы знаем. Что-то вдруг потухло в глазах у Клюева. Запретная зона памяти. Отключил, и все тут. — А если знаете, то чего же спрашиваете? — С Ягодкиным ты шел, — говорю я. — Михайлой вы его звали. Я могу даже отчество подсказать: Федорович. — Не помню такого. Плохо у меня с памятью, гражданин начальник. — А ведь ты у него перед арестом дома был и с женой его разговаривал, водки просил. — Ну, был я у Ягодкина перед арестом. Дал мне он денег на дорогу? Дал. А что плохого в том, что тебе бывший однополчанин помог? К моему делу отношения он не имеет. — И это мы знаем, Клюев. Только не этим интересуемся. У тебя с ним свои счеты были. Вот о них-то и расскажи. Клюев отводит глаза. Губы сжаты. Сомкнутые беззубые десны придают лицу что-то собачье, как у бульдога, готового укусить. Нет, не продаст он дружка, пока не узнает, кто его, Клюева, выдал. — А ведь ты прижать его мог. В кулаке, можно сказать, зажал. Самую сокровенную его тайну знаешь. — Что знато, то позабыто. Амба. — Новый срок получить хочешь? — За что? — За пособничество государственному преступнику. Это посерьезнее будет, чем угон и перепродажа автомашин. Клюев смеется и, представьте себе, искренне смеется, не натужно — от души. — Так вы и докажите, что он государственный преступник. Ну а я при чем? Вместе воевали, вместе от Минска по болотам топали. Только из Ростова я дезертировал, а он нет. Спросите у ротного — скажет, если жив еще ротный. А то, что два года назад к старому дружку-корешку зашел деньжат на дорогу попросить, на это в Уголовном кодексе даже параграфа нет. Попросил помочь, он и помог. Я понимаю, что рискую. Тайны Ягодкина Клюев может и не выдать, если Ягодкин сам в ней не признается. А вот донести Ягодкину о моем допросе он может — через какого-нибудь «дружка-корешка». Мало ли людей из колонии на свободу выходит… Но я почти уверен, что до этого не дойдет. Даже не почти, а просто уверен, и никаких сомнений у меня нет. — Значит, говоришь, помог? — Конечно, помог. И денег дал, и записку в Тюмень к директору автобазы. — А на допросе об этом скрыл. — Так меня спросили, куда и зачем я еду. Я сказал. В Тюмень потому, что далеко, а шоферня везде нужна. А записку Михайлы я еще в вагоне выбросил, когда меня взяли. Ну, зачем хорошего человека топить, который касательства к делу нашему не имеет? Да и не вспоминается что-то вся эта муть болотная. — А кто, кроме Кецховели, про Сызрань знал, про Шмитько и Тишкова? — Ни одна живая душа. Да и Кецховели только Шмитько знал, а Тишкова один я и мог выдать. Но не выдал. Думаю, что сам он засыпался. Местная уголовка замела. — Так вот слушай, что я скажу тебе, Клюев. В тот самый день, когда ты собрался в Тюмень ехать, в следственный отдел Министерства внутренних дел принесли анонимное письмо… Лицо Клюева багровеет. Кулаки на столе не сжаты — стиснуты: даже костяшки побелели, чуть ли не прозрачными стали. На темном от загара лбу мелкие бисеринки пота. — С тобой письмо, гражданин начальник? — Со мной. — Покажь. Я молча протягиваю ему листок, полученный от Вершинина. Он читает письмо вслух, не знаю почему, но голос его крепнет с каждой прочитанной строчкой, пополняется назревающей яростью. — «В Министерство внутренних дел. Пишет вам доброжелатель, к преступлению отношения не имеющий, но о преступлении узнавший от самого преступника, случайно узнавший, можно сказать. И от государства скрывать это я не хочу, потому что сам не нарушаю и другим не советую. А было, значит, так. Встретились мы, друг друга не зная, возле „Продовольственного“ на Студенческой. Хотели было на троих сообразить, да на троих не вышло, а на двоих получилось. Ну одну бутылку взяли и у рынка выпили, потом вторую открыли и красненького добавили. Тут его и развезло. Раскрыл он мне душу свою, как на духу исповедался, что не рабочий человек он, а рецидивист-блатняга, вор в законе, как у них называется. И что зовут его Клюев Никита, не помню отчества, а едет он в город Тюмень по фальшивому паспорту на имя автомеханика Туликова. И о своих делах грабительских мне поведал. Угонял, говорит, я автомашины из тех, что по дворам да у подъездов стоят. И набор ключей мне показал, знатный такой набор, качественный. Так все и происходило: со двора прямо в Сызрань гнал к дружкам своим Шмитько да Тишкову. В автобазе они работают, да у каждого еще гаражи свои. Там, конечно, номера другие срабатывали, документы на машину подделывали, а саму ее, голубушку, из белой в синюю перекрашивали. Ну а потом куда? В Тбилиси, конечно, к директору одному автомобильному, Кецховели по имени. Я имена все помню, потому что хотя и выпимши был, но записал все сразу же после нашего разговора. Он так и остался в канаве, я его не будил. Думаю, проспится, опохмелится и на вокзал — в Тюмень свою. И билет я у него видел, на какой поезд, не знаю, только поезд этот сегодня уходит. Уж вы сами постарайтесь, ловите ворягу. А пишу я не на Петровку, 38, а вам, потому что в МУРе московских жуликов ищут, а у вас по всему Союзу. А жулики-то в Сызрани да в Тбилиси орудуют — вам до этого и докука. И еще объясняю, что на пишущей машинке пишу оттого, что почерк у меня не разбористый, а машинка так себе без дела в домоуправлении стоит. Вот и отстукал одним пальцем, думаю, без ошибок — грамотный. А что не подписался, уж извините, кому охота в свидетелях по воровским делам таскаться». Клюев дочитывает письмо уже тихо, чуть ли не шепотом. — Вот уж не думал, что он сзади ударит, никак не думал. Верил ему. — Почему? — Вы правду сказали, начальник, старые счеты у нас. Не мне его, а меня ему надо было бояться. Сволочей не жалею. Спрашивайте, начальник. — Когда отходили с боями из Минска, ваша рота на левом фланге дивизии шла. Что произошло тогда, Клюев? — Что тогда происходило? Бомбили нас «юнкерсы». Несколько дней под бомбежкой шли. Да и «мессеры» донимали, бреющим полетом болотные тропы простреливали. Ну, рассыпались роты, где какая — не разберешь, и кто где — спутаешь. Лес хлипкий, гнилой ольшаник, но кучный — спрятаться можно. Меж кочками так и втискивались всем телом в торфяную жижицу. — Ягодкин с тобой рядом был? — Видел его первое время. То впереди, то сзади. А порой и совсем пропадал. — Надолго? — Да нет, когда «мессеры» уходили, мы даже рядком пристраивались. Покурить или пожевать что. А если немецкие патрули клиньями вперед прорывались, то мы и бой принимали, с успехом даже. На болоте-то немцам тоже нелегко было: на машинах не пройдешь. Танки — и те вязли. А болото длиннющее, день за днем все тот же ольшаник да рыжие бочажки. Тут нас ротный и задержал. «Фрицы, — говорит, — справа десант выбросили, отрежут нас от дивизии — тогда конец. Поэтому будем в обход пробиваться». Вот тут Ягодкин и пропал. Дня три или четыре мы еще по болоту блукали — не вижу Ягодкина. Ну, думаю, все, гниет где-то в грязи болотной. Ан нет, когда мы этак к концу пятого дня все же вышли на соединение с дивизией, где повзводно, где поодиночке, смотрю — Ягодкин впереди меж кочек лежит, от «мессеров» прячется. Только странно очень: мы насквозь мокрые, а он сухой, чуток лишь в торфяной грязи плащ-палатку с передка да с плечей и штаны на коленях вымазал. Ну а когда «мессеры» ушли, я и подполз к Михайле, сел рядышком. Смотрю вблизи, — а глаз у меня стреляный, примечающий, — он и совсем сухой, словно где-то в палатке у печки обсыхал. «Откуда, — говорю, — ты взялся, пять дней по этой мокрятине топаем, а тебя нет да нет?» — «А я не уходил никуда, — говорит, — я тут все время с вами бок о бок иду. Поотстал немного, правда, ну а потом нагнал. Ведь десант-то мы все-таки обошли». А я ему в ответ, не по фене, конечно, по фене он не понимает, мол, брось мне врать, мы все до нитки промокли, а ты сухонький да чистенький. В плену ты был, милок, может, взяли тебя, а может, и сам пришел, только сейчас тебя обратно подбросили. И для чего, тоже понятно. Наш политрук сразу тебя раскусит, да и шлепнет здесь же за милую душу. Взвизгнул Михайла, именно взвизгнул, а не крикнул, и за автомат. Только вырвал я у него автомат, да и прикладом ему два зуба выбил. «Вот я тебя и без политрука шлепну», — говорю. А он в слезы: как дите ревет. «Ну, взяли, — говорит, — с меня подписку, Клюев, силком взяли. Попал я им в лапы, струсил, честно говорю, струсил. А им-то всего и надо: бумажку подмахнуть. Так что мне — подписи, что ли, жалко? Я ведь не обязан им служить. Я лучше родине послужу». — «Твое дело, — говорю, — лично мне эта военная муть уже надоела. В город приду, сбегу. На воле у меня свои дела есть, и ты мне пригодиться можешь. Так что доносить на тебя не буду и убивать не буду, только автоматик твой разряжу. А сейчас катись от меня подальше, слизняк, а то передумаю». Вот и все, гражданин начальник. Ушел он в свою роту, а я в свою. Повоевал я еще с годик, должно быть, а в Ростове сбежал. С показаниями Клюева я возвращаюсь в Москву. На руках у меня свидетельство о том, что еще в первый год войны Михаил Федорович Ягодкин был завербован немецко-фашистской разведкой. Для меня это свидетельство совершенно бесспорно, и вместе с тем я сознаю, что бесспорность его для объективного следственного процесса вызывает сомнения. Во-первых, даже завербованный иностранной разведкой Ягодкин мог на нее и не работать, и вина его ничем, кроме рассказа Клюева, не доказана. А во-вторых, на первом же допросе Ягодкин мог вообще опровергнуть этот рассказ как злобное измышление клеветника, мстящего за анонимку. Да и ротный командир Ягодкина, вероятно, тоже не подтвердил бы клюевского рассказа. Я уже предугадываю то, что может сказать генерал, когда я положу ему на стол этот рассказ. Вызывает ли доверие сама личность автора как бывшего дезертира и вора-рецидивиста, отбывающего длительный срок заключения за серьезное преступление, и способствуют ли доверию его обвинения? Что я отвечу? Не вызывает, не способствуют, и ротный не подтвердит, и Ягодкин опровергнет. Но для меня эти обвинения были и весомы и убедительны. Я не подсказывал своей версии Клюеву, он рассказал именно то, что происходило в действительности. И пусть его рассказ был местью за анонимку, я не интересовался психологическими мотивами этой мести, но я нашел наконец тот кончик ниточки, которую нужно было тянуть и тянуть, разматывая весь клубок.10
Утром прихожу в управление, а Жирмундский уже ждет меня. — Что-нибудь случилось, Саша? — Увы, ничего. Наблюдение за Родионовым пока безрезультатно. Ни в дирекции, ни в парткоме на него не жалуются: механик, мол, опытный, работает старательно. С кем общается, говорят, не знаем, в личную жизнь не вмешиваемся. Правда, его сосед по рабочему месту, тоже автомеханик, Мельников по фамилии, чуть больше сказал: «С кем дружит он, товарищ майор, я тоже не ведаю: домами не общаемся. Правда, „соображали“ вместе не раз, после работы, конечно, но друзей тут у Фильки нет. Да и о своих делах у него всегда рот на замке. Пить, мол, с вами пью, а в душу не лезьте. Вот так, — говорит, — товарищ майор, о нашей с вами беседе я, конечно, трепаться не буду, знаю, что не положено, но сказать вам ничего более существенного не могу». Да, пожалуй, и я, Николай Петрович, ничего более существенного к рассказу его не добавлю. В круг Филиных связей еще не проникли, характер его работы на Ягодкина пока неясен. — Пока, Саша, пока, — повторяю я Жирмундского. — Родионова на зубок взяли? Взяли. Вот что-нибудь да и выяснится. Кстати, генерал у себя? — В ближайшие дни его не будет. Внутренне, думаю, я даже доволен. Не будет скептического разговора о ценности привезенного мною документа. Во всяком случае, этот разговор откладывался. — Пожалуй, так даже лучше. Через два-три дня доклад будет полнее. А пока подытожим, что уже найдено. И я передаю Жирмундскому письменное признание Клюева. Майор читает его, перечитывает, потом долго глядит на меня без улыбки. — Любопытный документ, — говорит он наконец. — Только вряд ли он обрадует генерала. Хочешь, я подскажу тебе его слова? — Жирмундский наклоняется над столом, как это делает генерал, и довольно похожим голосом начинает: — Ну, допустим, завербовали тогда немцы вашего Ягодкина, а что дальше? Туман, гипотезы, пока не схватили за лапу Ягодкина. И что вообще делает когда-то завербованный Ягодкин, кроме протезов в своей поликлинике? — Тут Жирмундский, сыграв генерала, продолжает уже своим голосом: — Я даже знаю, что ты ему скажешь на это. Что у нас есть теперь право на подозрение и несомненный вывод для следствия. — Вот мы и поведем с тобой это следствие, — говорю я. — С чего начнем? Непосредственно с Ягодкина. И проникнем наконец в загадочную для нас область филателии. — Я уже нашел для этого подходящего парня, — подводит итог Жирмундский. — Старший лейтенант Чачин из отдела полковника Маркова. И с тем и с другим уже согласовано. — Где же он, твой Чачин? Жирмундский смотрит на часы. — Думаю, что сейчас уже в приемной. — Зови. В кабинет входит спортивного вида парень лет тридцати, русоволосый и миловидный, похожий на любого из наших молодежных экранных героев, когда их показывают на лесах стройки или в поле на тракторе. Некогда коротко стриженные волосы успели уже отрасти до современного уровня парикмахерской моды, на верхней губе пушились недлинные блондинистые усы, на щеках у висков обозначились бачки, и очевидная небритость была явно не к лицу нашему ведомству. — Разрешите объяснить, товарищ полковник, — рапортует он не без смущения. — Я только что с самолета. Вернулся из командировки и даже побриться не успел. Товарищ майор не разрешил, приказал явиться таким, как есть. Я понимаю ход Жирмундского. Парень нужен нам именно таким, как есть, именно в том же мятом замшевом пиджаке и цветастой рубашке без галстука. Но я все-таки спрашиваю: — Таким и разгуливали в своей командировке? — Для маскировки, товарищ полковник. — Разрешаю побриться. Но усов и бачек не трогайте. И не стригитесь. Так вот, с этой минуты вы поступаете в наше распоряжение. В свой отдел пока не возвращайтесь, все уже согласовано. — Есть, товарищ полковник. — Называть меня можете Николай Петрович. И садитесь, пожалуйста. Говорят, вы марки собираете? По глазам его вижу, что он ничего не понимает. И очень уж хочется ему узнать, в чем дело. — Со школьных лет еще, Николай Петрович. Только в университете всю коллекцию обновил и скорректировал. — Что значит «скорректировал»? — Тематически. Собираю только русские марки, дореволюционные. А советские — только об авиации. — Хорошую коллекцию собрали? — Говорят, хорошую. — Кто говорит? — Собиратели. — Вот мы и хотим ввести вас в этот круг, а конкретнее — в Общество филателистов. — А я давно уже член общества. Даже на выставку марок в Ленинской библиотеке кое-что из моей коллекции взяли. Я развожу руками. — Засвечен твой кандидат, майор. Со старта засвечен. Сообразительный Чачин сразу же понял меня и опережает с ответом Жирмундского. — В обществе не знают, где я работаю. — Это точно? — Я никому о работе не говорил, да там и не интересуются, где кто работает. Только и речь, что о марках да выставках. — Так в анкете же есть все данные. — А я вступал в общество, когда еще в университете учился. — На юридическом, — говорю я Жирмундскому. — Нам это может и помешать. Куда идут с юридического, сам понимаешь. Могут и к нам. — Нет, — радостно улыбается Чачин: он уже понял смысл моей реплики, — я тогда на филологическом был. На юридический перешел после первого курса. — Часто бываете в обществе? — Больше в марочных магазинах и на почте — там у меня есть девушка, которая подбирает для меня марки, только что выпущенные. А в обществе не был с того дня, когда мою коллекцию на выставку отобрали. Она и сейчас там висит. — Теперь будьте в своем собирательстве несколько пошумнее. И общайтесь с марочниками. У вас свободные деньги на марки есть? — Для только что выпущенных много не нужно, а на редкие я все сбережения ухлопал. Уже мать жалуется. — Вы женаты? — Холост. — Отлично. Нам удобнее. Если в связи с заданием возникнет необходимость в женской компании, не уклоняйтесь. Вас как зовут? — Сергей Филиппович. Чаще Сережей. — Значит, Сережа Чачин. Это и будут ваши позывные для связи. Никаких званий! В комитете больше не появляйтесь. Будем встречаться у майора — он тоже холостяк. А поскольку мы вас отправляем в командировку… — Куда, Николай Петрович? — В Москву. В общество собирателей марок, где бы они ни собирались. Говорите всем, что в отпуск не поехали, а отпускные пустили на пополнение коллекции. А если спросят, где вы работаете, скажете, что у одного профессора. У вас есть приятели среди собирателей? Ну и отлично. Похвастайте, что в скором времени поедете туристом в какую-нибудь капстрану — поохотиться за марками. Редкие марки вам, мол, для обмена пригодятся. А задание ваше состоит в том, чтобы этот намек дошел до сведения некоего Ягодкина. — Знаю его. — Знакомы? — Нет. Только видел его недавно на выставке марок в Ленинской библиотеке. Потом ребята говорили о его выставочной коллекции. Редчайшее собрание марок, связанных с историей полярных исследований. — А можно, скажем, такую коллекцию за год собрать? — Сомнительно. — Вот и узнайте все, что сможете, об этом собирателе. Добейтесь личного знакомства и сделайте так, чтобы эта возможность была случайной. В общем все.11
В субботу мы едем в стоматологическую поликлинику. Она закрыта по воскресеньям, а суббота — неприемный день, когда из медицинского персонала дежурит только одна медсестра на случай экстренного вызова стоматолога на дом. И суббота — единственный день, когда мы без помехи можем проверить клиентуру Ягодкина. Предварительно договариваемся с директором, просим назначить дежурной опытного, давно работающего здесь человека, способного обеспечить нам секретность нашей проверки. Директор сразу же объясняет нам, что дежурит в субботу именно такой человек — старшая медицинская сестра Корнакова, и робко спрашивает, нужно ли ему тоже быть в поликлинике. Мы поясняем, что в этом нет необходимости, пусть он предупредит сестру о нашем визите. — У тебя есть план проверки? — интересуется Жирмундский. — Какой еще план? Просмотрим регистрационные карточки пациентов Ягодкина за последние два года и отложим наиболее существенные. — А принцип отбора? — Элементарно прост. Во-первых, отберем карточки тех, кто работает в учреждениях военного ведомства или в так называемых «почтовых ящиках». Во-вторых, тех, кто был у него за эти два года всего однажды или два-три раза, но с большим многомесячным промежутком, да и то лишь на одном приеме. Ведь за полчаса или час на одном приеме не поставишь даже коронки. Вот мы и сопоставим один прием стоматолога с его диагнозом в медицинской карточке. И, в-третьих, отберем всех, кто живет не в Киевском районе, потому что для их обслуживания требуется специальное разрешение директора или ходатайство лечащего врача. — Для такой проверки двух человек мало. Там прорва регистрационных карточек. — Почему двух? Мы прихватим с собой еще двух-трех оперативных работников помоложе. А сами просмотрим уже отложенные карточки — и бесспорные и сомнительные. А потом отцедим наиболее интересные. — А если самых интересных Ягодкин принимает без регистрации? — Не думаю. Ягодкин не работает дома. Следовательно, любой «левый» заказ может быть выполнен только из материалов поликлиники и силами ее зубных техников, а оплачивать их работу должен сам Ягодкин из своего «левого» гонорара. Это затруднительно и невыгодно. Проще зарегистрировать пациента и официально оформить его заказ. Дополнительный же гонорар стоматолог получает, как говорится, с глазу на глаз без хлопот и дележки. Значит, и такие заказы не минуют регистратуру. В поликлинике нас встречает директор — не удержался все-таки, приехал полюбопытствовать — и дежурная медсестра Корнакова, похожая на строгую учительницу старших классов. Здесь непривычная для поликлиники пустота. Нет обычной суеты в коридорах. Тихо. Не звонят телефоны. Не мелькают белые халаты врачей. Нас четверо — меня и Жирмундского сопровождают старшие лейтенанты Строгов и Ковалев. Все в штатском, что, по-моему, даже озадачивает директора. — Целая делегация, — недоумевает он. — Чем обязан? — Ничем, — говорю я. — Ваше разрешение ознакомиться с картотекой пациентов поликлиники мы уже получили по телефону. А сейчас, собственно, и начинается наша работа. — Поднять всю регистратуру? — восклицает он. — Это же бездна работы. А могу я спросить зачем? — Спросить можете. Нам необходимо установить по регистрационным карточкам некоторые данные некоторых пациентов. Не всех, конечно. Подымать всю регистратуру не будем. Нас, в частности, интересуют лишь некоторые пациенты доктора Ягодкина. Глаза у директора круглеют, он даже руками всплеснуть готов. — Михаила Федоровича! Так ведь он лучший протезист поликлиники. Самый честный и добросовестный. Только зарплата и никаких «левых» заработков. — Нас не интересуют ни левые, ни правые заработки ваших врачей вообще и Ягодкина в частности. Мы ни в чем его не обвиняем. Нам нужен не он, повторяю, а кое-кто из его пациентов. Вот мы и настаиваем на соблюдении строжайшей секретности нашей проверки. Никто, кроме вас и товарища Корнаковой, не должен знать о ней, и тем более Ягодкин. Незачем бросать даже малейшую тень на врача, репутация которого вне подозрений. — Но карточки у нас лежат не по фамилиям врачей, а по алфавиту, — директор явно растерян, — да и только за этот год. Все прошлогодние записи сданы в архив. — У нас есть списки пациентов каждого стоматолога, — вмешивается медсестра, — а прошлогодних пациентов, которые вновь обращаются к нам, мы регистрируем заново. — Она протягивает мне список посетителей Ягодкина. — Не так уж много работы, товарищ. — Один вопрос, — останавливаю я уже уходящего директора, — а бывают у вас случаи приема без регистрации? — Нет, конечно. «Леваков» мы не держим. Наши протезисты, особенно Ягодкин, работают на износ. Усердно и доброкачественно. Никаких претензий к ним не имею. А Строгов и Ковалев уже разбирают карточки, взятые с полок. Жирмундский присоединяется к ним. Я же тихо беседую с Корнаковой. — Это все из-за того иностранца? — спрашивает она. — Отчасти, — говорю я. — Так он как раз и не был зарегистрирован. — Увы, это ему не помогло. — А все остальные у Ягодкина только наши, советские. — И среди них могут быть люди с нечистой совестью. — Николай Петрович, — зовет меня Жирмундский, — взгляни-ка на эту карточку. Карточка выписана на имя Немцовой Раисы Яковлевны, 1944 года рождения. Протез верхней челюсти: мост и две коронки. — Обратите внимание на место работы. Я читаю. — «Научно-исследовательский институт имени Жолио-Кюри». — Ядерные дела, — усмехается Жирмундский. — Я знаю этот институт. — Он щелкает по картонному переплету медкарточки. — Кстати, и другая любопытная деталь: живет эта дамочка в Сокольническом, а не в Киевском районе. Записать? — Пиши. Мы отбираем еще четырех человек. Жирмундский, подсев ко мне, читает вслух: — «Ермаков Иван Сергеевич. Сорок пять лет. Научный работник НИИ твердых сплавов. Диагноз: протезы верхней и нижней челюстей». — А живет, посмотрите-ка, где? На Ленинском? Где имение, а где наводнение. — Дальше? — «Шелест Яков Ильич, — читает Жирмундский, — двадцать девять лет. Переводчик советского комитета Международного совета музеев», — перелистывает карточку. — Был в январе и феврале с диагнозом: две коронки и мост верхней челюсти. Тоже в другом районе живет. «Лаврова Ольга Андреевна. Двадцать три года. Модельер Дома моделей». Живет в Киевском районе, но была только один раз, в феврале этого года. Диагноза нет… Вот еще один: «Челидзе Георгий Юстинович. Тридцать два года. Работает по договорам, как член Союза художников». Смотри-ка: в поликлинике бывает даже чаще, чем этого требует диагноз. И тоже не из Киевского… Я возвращаю карточку Лавровой сестре. — Почему не записан диагноз? — Бывает, — отвечает та. — Может, забыл Михаил Федорович, или, что всего вероятнее, больной просто не потребовалась помощь протезиста. — Так почему же она записана к Ягодкину? В карточке нет ни одной записи лечащих врачей. Корнакова недоуменно пожимает плечами. — А почему зарегистрированы у вас эти четверо? — Я предъявляю ей карточки Немцовой, Ермакова, Шелеста и Челидзе. — Ведь ни один из них не проживает в вашем районе. — Мы делаем это в особых случаях с разрешения директора. — Так почему же он разрешает? — Он не всегда разрешает. Смотря какой врач просит. А Михаилу Федоровичу никогда не отказывает. — Значит, все они записаны по просьбе Ягодкина? — Да. С выписками из лечебных карточек поликлиники мы уезжаем. Улов невелик, но существен. Все пятеро выбраны Ягодкиным или по материальным соображениям, или с какой-то другой, пока еще неизвестной целью. Ее-то и необходимо выяснить. Как? Об этом мы размышляем уже на работе. — Немцову, думаю, пока не беспокоить. Сначала выясним кое-какие детали ее биографии за последний год, — предлагает Жирмундский, — ее поведение на работе, область ее работы, близость к руководству или к секретным материалам института и, главное, что ее связывает с Ягодкиным. Роман или деловое сотрудничество? — Резонно, — соглашаюсь я, — а Лаврову вызовем? — Девчонка, фифочка. Может и проболтаться, — сомневается Саша. — Опять резонно. Вопрос о Лавровой пока отложим. — А трое мужчин — Челидзе, Шелест и Ермаков? Может быть, поискать их среди аристократов филателии? Передадим-ка розыски Чачину. Мне не хочется засвечивать Чачина. Ведь любая, даже не официальная, справка его в канцелярии Общества филателистов может вызвать ненужное любопытство и разговоры. А задача у Чачина другая: незаметно вживаться в круг собирателей, стать в нем своим, примелькавшимся парнем, нащупать подходы к Ягодкину и вдруг да и найти что-то постороннее, не имеющее отношения к страсти коллекционера в его практике собирательства. — Нет, — говорю я, — Чачина трогать не будем. Справимся об этих троих сами в канцелярии общества. Нахожу телефон. Звоню. Отвечает женский голос. Прошу передать трубку кому-нибудь из руководителей общества. — А никого нет. Я тут одна за всех и две девочки из типографии. Просматриваем эскизы новых марок, — отвечает тот же вежливый голос. — Что вы хотите? — У вас есть под рукой список всех московских членов общества? — Он у меня в столе. — Запишите три фамилии, только не повторяйте их вслух, — диктую я, — и посмотрите, нет ли их в вашем списке. Я подожду у телефона. Из положенной секретарем трубки доносится чуть приглушенный расстоянием другой женский голос: «Кто это говорит и чего ты мечешься?» — И тут же первый голос: «Отстань, не твое дело». Минуту спустя тот же голос адресуется уже ко мне. — Есть все три ваши фамилии. А вы откуда говорите? — наконец-то интересуется девушка. — Из газеты, — говорю я. — Есть задача: рассказать нашему многомиллионному читателю о филателистах. Очень он исстрадался без этого, многомиллионный читатель. — Действительно важная задача, — смеется девушка. Задача и вправду важная — наша задача, — но до ее решения пока далеко. Еще только формируются ее условия. Что дано и что надо найти. Мы знаем или, вернее, предполагаем, что надо найти, но дано нам для этого еще очень мало. Наблюдением за Ягодкиным установлено, что в пятницу он ездил на станцию технического обслуживания, где встречался с механиком Родионовым, потом толкался среди собирателей марок в магазине на Ленинском проспекте и заехал так часам к пяти в кафе «Националь» пообедать. Обедал он не один, а с молодым грузином или армянином, чем-то похожим на майора Томина из телевизионных «Знатоков». За столом они ничего друг другу не передавали, просто обедали, равнодушно, пожалуй, даже лениво переговариваясь. А в ночь с пятницы на субботу Ягодкин ночевал в доме номер один на улице Короленко. Именно в этом доме, как выяснилось сегодня, живет Немцова Раиса Яковлевна.12
Чачин вышел из дому, уже чувствуя себя в новой роли, но все же с волнующим и чуточку пугающим ощущением ее новизны. Московское летнее утро всегда чудесно. Улицы чисты — только что прошли поливные машины, и асфальт, впитавший влагу, чуть потемнел, лакированные корпуса автомобилей сверкали на солнце всеми цветами спектра, прохожие не спешили — работа уже началась, и толкотня мешала только на перекрестках, и даже цветастые летние платья женщин казались Чачину почему-то ярче обычного, а запах цветущей липы вопреки законам природы будто отметал все запахи улицы. Чачину недавно позвонил полковник Соболев и уточнил задание. Есть три человека — он назвал их, указав имена и возраст: Иван Сергеевич Ермаков, сорока пяти лет, Шелест Яков Ильич, двадцати девяти, и Челидзе Георгий Юстинович, которому уже перевалило за тридцать. Все трое — члены Общества филателистов, и все как-то связаны с Ягодкиным. Задача, как сформулировал ее Соболев, установить характер этих связей. Лучше всего для этого личное общение, но в крайнем случае пригодится информация и от других лиц, если таковые найдутся. Основная цель остается прежней: искать подходы к Ягодкину, возможность знакомства с ним и, если удастся, проникнуть в окружающую его компанию. Если будут интересоваться, где Чачин работает, следует отвечать, не вдаваясь в подробности, что служит, мол, секретарем у одного профессора из «почтового ящика». На придирчивые вопросы можно назвать и профессора. Это Никонов Иван Константинович, он депутат Верховного Совета СССР. К его работе в научно-исследовательском институте не имею никакого отношения, даже названия института не знаю, но охотно использовал возможность стать его секретарем в делах, связанных с депутатской деятельностью. Академик уже предупрежден, и на любой проверяющий звонок в его депутатскую канцелярию ответят, что такой-то Чачин действительно работает депутатским секретарем академика и сейчас находится в очередном отпуске. Вот тут и есть смысл прихвастнуть, что после отпуска шеф якобы обещал ему устроить туристскую поездку за границу. Что увлекало Чачина в этом задании? Оперативная самостоятельность, возможность импровизации и поиска собственного решения в любой непредвиденной ситуации и — не исключено, — риск, риск, риск. Чачин знал, куда идти. По Калининскому проспекту через Арбатскую площадь к колоннам Ленинской библиотеки, где на втором этаже в двух больших залах была развернута выставка лучших советских коллекций марок. Там нашлось место и для чачинского картона с полной серией, посвященной спасению челюскинцев, с портретами первых Героев Советского Союза, с марками, выпущенными в честь перелетов Чкалова и Громова из Москвы через полюс в Соединенные Штаты. А начинали картон несколько дореволюционных земских марок, считающихся особенно ценными у филателистов-любителей. Чачин не стремился лицезреть коллекцию, он видал и перевидал ее за время многократных посещений выставки и очень жалел, что задание полковника Соболева было получено почти накануне ее закрытия, а не перед вернисажем, где он сразу же встретил бы всех московских любителей почтовой марки и, вероятно, даже самого Ягодкина. Ягодкин собирал все связанное с полярной темой, начиная с первых исследований Арктики и Антарктики, с экспедиций Пири и Нансена, Амундсена и Нобиле. Собирал он и почтовые штемпеля русского севера, и образцы полярной авиапочты. Имелся у него и знаменитый папанинский блок, посвященный советской дрейфующей станции «Северный полюс». Блока этого у Чачина не было, и он с удовольствием выменял бы его у Ягодкина: у такого коллекционера наверняка имелись и дубликаты. «Вот и подходящий случай для знакомства, — думал Чачин, — а если повезет, то и для дальнейшего общения, даже если обмена не будет». Посетителей на выставке было мало, знакомых среди них Чачин не нашел, но внизу в курилке сразу же встретил двоих с кляссерами — Верховенского и Находкина. Особого восторга коллеги не проявили, но поздоровались по-дружески. — Тыщу лет! Где пропадал? — В Москве. Где ж еще. — И пустой пришел. Ничего нет для обмена? — Он на свою коллекцию полюбоваться пришел. — Моя коллекция висела и висит. Я на другие любуюсь. Мне папанинский блок покоя не дает. У вас нет случайно? — Чего нет, того нет. — У Ягодкина под стеклом красуется, — вздохнул Чачин. — Может, и дубликат есть. Сменять бы! — Нашел у кого. Корифеи с нашим братом не меняются. Он свои марочки по заграницам ищет. Привозят ему. — Пижоны, — сказал Чачин. — Какой любитель, если он настоящий, а не пижон, будет для чужого стараться? Я через месяц-другой поеду, так прежде всего для себя поищу что получше. — Куда поедешь? — В Стокгольм или в Западную Германию. — Лихо! В командировку? — Профессор путевку обещал. Удивление в глазах обоих собеседников. — Какой профессор? — Я его секретарем работаю. — Только тебе-то за границу зачем? Ты же русские марки собираешь. — А для обмена? — Тебя надо с Яшкой Шелестом познакомить. У него для обмена михельсоновский кляссер. — Какой кляссер? — не понял Чачин. — Есть такой здоровенный том. Михельсон: «Русская мысль и речь». Такой же толстенный кляссер у Шелеста. По всей Европе марок набрал. — Только Шелест сейчас в одесском порту сидит. Ему со всего Средиземноморья марки везут, — сказал Находкин. Чачин умышленно не проявил интереса к Шелесту. — Если найду что-нибудь стоящее в поездке, сам подыщу, с кем махнуться. — Его бы с Жоркой свести, — предложил Верховенский. — У него нюх на туристов в капстраны. Знаешь Жорку Челидзе? — Не знаю, — сказал Чачин, насторожившись: в первый же день повезло. — Да ты его, наверно, сто раз видел. Этакий Томин из «Знатоков». Его даже гаишники не штрафуют — так похож. — А где ж я его найду? — Угостишь пивом в Цепекио — сведем. Он днем всегда там торчит. В пивном баре Центрального парка культуры и отдыха было, как всегда, людно. Но свободный столик нашелся. Именно там и сидел похожий на артиста Каневского невысокий плотный грузин. — Знакомьтесь, — сказал Находкин. — Жора Челидзе — Сережка Чачин. Коллеги-марочники. — Гоги, — поправил его Челидзе, — хотя меня все здесь почему-то Жорой зовут. Я уже привык. Говорил он по-русски чисто, без акцента, как коренной москвич. — Я видел вашу коллекцию на выставке, — сказал он, пронзив Чачина чуть-чуть прищуренными глазами. — Ценные у вас эти земские марочки. Дорого платили, не секрет? — Он по году на марку наскребал, — хохотнул Находкин. — Ты лучше скажи ему, где в Западной Германии марки покупать. — Почему в Западной Германии? — поинтересовался Челидзе. Особого удивления он при этом не проявил. — Так он как раз туда собирается. Ничего, кроме вежливого интереса, Чачин не заметил. — В командировку? — Нет, простым туристом. — А когда? Чачин ответил, как и час назад Находкину. — Через месяц-другой. Когда группа оформится. Челидзе вежливо улыбался, не проявляя, впрочем, особого любопытства к беседе. Но ответить на вопрос Находкина он все же счел нужным: — Марки в Западной Германии можно покупать где угодно. Почтовые в любом газетном киоске, а коллекционные в специализированных магазинах. В каждом городе найдется магазинчик, рассчитанный на филателистов. Ну а более точные адреса найдем, когда выяснится ваш маршрут. Они есть и в каталогах, и в специальных журналах. Время терпит. — Почему это оно терпит? Или у вас его слишком много? — послышался позади грудной женский голос. К столу подходила девушка с оттенком явно не русской, скорее цыганской прелести в худощавом лице, с коротко подстриженными волосами и большими гранатовыми серьгами в ушах. — Что-то вас слишком много, мальчики, — сказала она, протискиваясь между стульями. Челидзе встал. — Самое главное, я здесь, Лялечка. И давно жду. Чачин тоже встал, пропуская девушку на место рядом с Челидзе. На своих очень высоких каблуках она была ниже его всего на несколько сантиметров, а он измерялся ста восьмьюдесятью с гаком. — Познакомьтесь, — сказал Челидзе, — Лялечка. Она же Оля. Фамилия несущественна, место работы тоже несущественно, а существенны только ее внешность и острый язык, с которым вы сейчас познакомитесь. — А что у вас существенно? — отпарировала она. — Жорку я знаю: он немногого стоит. А вы кто? Верховенский. Что-то из Достоевского? — Я только однофамилец его героя, синьора. Скромный однофамилец. — Инженер, наверно? — Угадали. — А я маляр, — сказал Находкин. Он был художником-плакатистом в одном из больших московских кинотеатров. — Ну, это уже интереснее. Когда-нибудь я приглашу вас побелить потолок у меня на кухне. А вы что молчите? — обернулась она к Чачину. — Вы не спрашиваете. — А если спрошу? — Разве это существенно, Лялечка? Кто есть кто. Здесь собрались рыцари одной страсти, поклонники одной богини, которой на Олимпе не было. — Это почтовой марки, что ли? Тоже мне богиня! Неужели нет на свете ничего интереснее? — Многое есть, Лялечка. Например, девушки. Утренние рассветы на университетской набережной, когда любимая рядом. Томление чувств. Трепет желаний. Хочется, хочется голубых лугов. Хочется, хочется стать быстрей постарше. Рано или поздно приходит к нам любовь, но лучше все-таки, если бы пораньше. — Пошловато. Ваше? — Нет, это я позаимствовал из популярной песни. — А поп-музыку любите? — Не очень. Я любитель старомодной классики. — Тогда мы вас перевоспитаем, — оживилась Лялечка. — Правда, Жора, его стоит перевоспитать? — Отчего же нет? Попробуем. — Ну а теперь начнем треп, мальчики, — резюмировала Ляля, явно считая молчание Челидзе знаком согласия с чачинским перевоспитанием. — Просто треп. За жизнь. Начали. И все начали. За жизнь так за жизнь. Ни о марках, ни о «закрытых компашках», ни о музыкальной старомодности Чачина. Никто его ни о чем не спрашивал, и он никого ни о чем не спрашивал. Просто смеялся, острил, читал Евтушенко и Ахмадулину, с удовольствием внимал комплиментам Ляли по адресу его голубых джинсов со звездно-полосатой нашлепкой на кармане, хохотал над анекдотами Находкина и даже с Жорой в общении был уже на «ты». А в душе его пела сказочная жар-птица удачи. Голоса ее за столом в пивном баре никто не слышал, но он непременно достигнет полковника Соболева, потому что удачу эту полковник предвидел и запрограммировал, выбрав именно Чачина для такого задания. В том, что есть все-таки великий бог телепатии, старший лейтенант уже не сомневался.13
Великий бог телепатии, однако, на этот раз промолчал. Об удаче Чачина я узнал от него самого вечером на квартире у Саши Жирмундского. Мы слушали внимательно, не перебивая, а старшийлейтенант все рассказывал и рассказывал — оживленно, несбивчиво, даже с какой-то подчеркнутой красочностью. Я замечаю иногда, как Жирмундский настораживается: видимо, о чем-то хочет переспросить, но сдерживается, позволяя Чачину без помехи закончить повествование. — Ты в университетской самодеятельности никогда не участвовал? — спрашивает Жирмундский. — Нет, а что? — удивляется Чачин. — Занятно рассказываешь. Профессионально. Вылитый Ираклий Андроников. — Смеетесь, Александр Михайлович, — смущается Чачин. — Рассказал как рассказалось. А вы почему улыбаетесь, Николай Петрович? — Твоей удаче, Сережа, — говорю я. — Твоему умению ее использовать, ну и, твоей способности так картинно о ней рассказать. Теперь все видно, что ясно и что неясно. — Прежде всего ясно, что Ягодкин за границу не ездит, — уточняет Жирмундский. — За границей обменивают марки его контрагенты. Что стоит провезти в бумажнике десяток новеньких или гашеных марок? Невинная вещь. Как значки — никакая таможня не придерется. Но в таком случае марки могут играть и другую роль. Это может быть и обмен информацией, специально закодированной, конечно. Во-вторых, за границей у них есть и адресат для обмена. Так? Чачин подтверждает: — Так. Челидзе обещал сообщить мне адрес, как только поездка будет оформлена. — Значит, Ягодкин может клюнуть на байку о поездке. Тут даже не возможность, а вероятность. — По-моему, Челидзе уже клюнул. Он словно подсчитывал, стоит ли использовать меня в этой поездке или не стоит. Оттого он сразу и не сообщил «обменного» адреса. Ждет визы Ягодкина. — Во-первых, интерес твоего Жоры мог тебе и почудиться. А во-вторых, если ты прав, Ягодкин может и не завизировать, — размышляет Жирмундский. — Зачем приобщать к игре новичка, когда есть игроки проверенные? Я тут же подключаюсь к разговору. — А почему бы и не приобщить, если новичок полезен? Чачина они, конечно, проверят, но проверка нам не страшна: он надежно прикрыт. Обрати внимание на то, что Чачина уже «перевоспитывают». Лялечке он понравился. — Джинсы мои ей понравились. Спецпошив к двухсотлетию Америки. Приятель в подарок привез. Так и сказала: они ей импонируют. — Ты ей импонируешь, мужичок. Не скромничай. Симпатичных молодых людей в этой компании, полагаю, не так уж много. С одним Челидзе не развернешься. Может быть, Шелест еще? Все равно мало! А Лялечка молодая. Ей «умные» разговоры в застолье скучны. — Так Шелест в Одессе сейчас. — Откуда знаешь? — Верховенский или Находкий, словом, кто-то из них сказал, что Шелест сейчас в одесском порту со всего Средиземноморья обещанных марок ждет. — Значит, это надо понимать так: Шелест, мол, ждет возвращения из средиземноморского рейса советского судна, на котором кто-то из команды или пассажиров привезет ему какие-нибудь марки. И может статься, что не для себя он ждет этих марок. Не только для себя. Особой уверенности в этом у меня, конечно, нет, но возможность такая не исключается. Вполне допустимо, что в Черноморском пароходстве найдется один-другой филателист, который не сочтет для себя трудным делом оказать столь пустяковую услугу Ягодкину. Ну, отвез новые советские марки, обменял их в каком-нибудь филателистическом магазинчике на марки Замбии или Гвинеи — плевое дело. Одолжение за одолжение. Ягодкин ведь не останется в долгу. Ну а у Ягодкина, как и положено, количество переходит в качество: чем больше контрагентов и чем чаще их сменяют, тем меньше опасность провала. — Кстати, как фамилия Лялечки? — интересуется Жирмундский. — Не Лаврова ли? — Ее зовут Ольга, но фамилии я не знаю, хотя и обменялся с ней телефонами. Когда Жирмундский, проводив Чачина, возвращается в комнату, я говорю: — Лаврову пока проверять сами не будем. Лучше всего поручить это Чачину. Особенно если зовут ее Ольга Андреевна. С Чачиным она будет откровеннее. Пусть Чачин к ней присмотрится. А начнем с Ермакова. — Может оказаться и так, что его отношения с Ягодкиным исчерпываются всего парой пластмассовых челюстей. — Может. Тем лучше и для него и для нас. А заводил прибережем напоследок. — Челидзе и Немцову? — Немцова может быть ключевым свидетелем: больно уж ее институт заманчив для любой иностранной разведки. Шелест, пожалуй, только комиссионер в марочном «бизнесе». А Челидзе и Родионов — это явные приближенные Ягодкина. Его фавориты. Я лично думаю, что к деятельности обоих примешивается уголовщина.14
Ермаков прибывает ровно к одиннадцати утра. Пунктуальный человек. Время он выбрал сам как наиболее для него удобное. Но, судя по его внешнему виду, ему сейчас не до удобств. Графически его внешность можно было бы выразить как один большой вопросительный знак. — Садитесь, Иван Сергеевич, — говорю я, указывая ему на кресло. — Меня зовут Николай Петрович. Будем знакомы. — Не вижу повода для знакомства, — ершисто начинает он. — Повод есть, Иван Сергеевич. Живой повод. Есть среди ваших знакомых человек по имени Ягодкин Михаил Федорович? Ермаков, недоуменно моргая, вспоминает. Я вижу, что он не притворяется, действительно вспоминает. — Был, — наконец говорит он. — Почему же в прошедшем времени? — Потому что знакомство прекращено и более не поддерживается. — Вот и расскажите нам всю историю вашего знакомства, как оно началось и закончилось. Ермаков, с тем же недоумением пожав плечами, начинает рассказ: — Познакомились мы с ними в ресторане Внуковского аэропорта, когда оба одним рейсом летели в Одессу. Было это около года назад. Пообедали, разговорились. Я, каюсь, похвастался предстоявшей мне в этом же месяце служебной командировкой в Западную Германию, он скромно сказал, что в заграничные командировки не ездит, служба, мол, не связана с этим: работает стоматологом-протезистом в зубной поликлинике Киевского района. Я, честно говоря, обрадовался: давно ищу хорошего протезиста. А он сразу же пообещал мне, что сделает все, что нужно, по возвращении из Одессы. За три дня сделает так, что я с новыми зубами за границу поеду. И действительно сделал. До сих пор ношу как влитые. — Ермаков улыбается, обнажая жемчужно-белый оскал зубов. — А сколько он взял с вас? — интересуюсь я. — Представьте себе, ничего лишнего. По государственным нормам взял, счет в регистратуре выписали. Только об одном одолжении попросил: услуга, говорит, за услугу. Признался, что филателист он, давно уже собирает марки, преимущественно связанные с полярной тематикой. А в ФРГ, в Кёльне, у него есть коллега-коллекционер, который советские марки собирает и которому он с оказией посылает новые, только что выпущенные. Почему с оказией, удивился я, не проще ли переслать заказным письмом по нужному адресу? Оказывается, что не проще. Были случаи, когда марки пропадали, и к адресату приходили пустые конверты. Я сослался на то, что в Кёльне не буду, но его это не смутило. Он предложил мне послать марки по кёльнскому адресу из любого города ФРГ по тамошней внутренней почте. Он мне и марки дал вместе с адресом, новые советские марки, с портретами космонавтов, чистые, без единой отметины: я их внимательно осмотрел. Марки как марки, ничего подозрительного. — Адрес вы помните? — спрашиваю я. — Забыл и дом и улицу. Помню только адресата. Филателистический магазин Кьюдоса. Кьюдос, Кьюдос… Что-то знакомое в этом имени. Стоит порыться в делах. А он молчит. Только недоумение в нем сменилось растерянностью: видимо, он осознал смысл беседы. — Я понимаю, конечно… но вы, надеюсь, не обвините меня в том… — Мы вас ни в чем не обвиняем, Иван Сергеевич, — перебиваю я его. — Мы уже выяснили, что нужно. Можете спокойно возвращаться на работу. Давайте ваш пропуск. Он протягивает мне пропуск. — И не волнуйтесь, Иван Сергеевич, — добавляю я, подписав пропуск. — Не из-за чего вам волноваться. Полагаю, вы никому не сказали о вызове к нам? — Никому. Жена и дети на даче. Я один. Он уходит нетвердой походкой, словно чего-то недосказал, недопонял, не предугадал. Что я скажу о нем? Человек совершил ошибку, не вдумываясь в ее скрытый смысл. Доверился преступнику… Стоп! Мы еще не доказали, что Ягодкин преступник. Любое дознание — это логический процесс, в котором из верных посылок делается единственный непреложный вывод. У нас же спорные посылки и спорные выводы. Чтобы сделать их бесспорными, мы как бы опрокидываем дознание вверх тормашками и начинаем с несомненности и непреложности окончательного вывода. Для этого надо найти лишь такие же верные и бесспорные посылки.15
Чачин знал, что найдет. Именно то, что было нужно полковнику Соболеву, — изнанку страсти Ягодкина-филателиста. Накануне вечером Чачину позвонила Лялечка и пригласила в гости к Ягодкину. При этом пояснила, что собираются все к восьми часам, а Чачин должен прийти на полчаса раньше потому, что Михаил Федорович хочет познакомиться с ним не при людях, а наедине. Но пусть Чачин не беспокоится. А войти в ягодкинский кружок стоит: там интересно и весело. Чачин и не беспокоился. Он заранее настроил себя как студент-отличник, приглашенный на беседу к профессору. И, знакомясь с Ягодкиным в передней — тот сам открыл ему дверь, — Чачин не суетился, скромно и почтительно назвал себя: «Чачин Сережа. Очень благодарен вам за приглашение, Михаил Федорович». И сказал это, не теряя самоуважения, с расчетом, что Ягодкин это поймет и оценит, как почтительный интерес неофита филателии к ее корифею, однако неофита, не оставляющего надежды этим корифеем стать. И Ягодкин, должно быть, именно так и понял его, когда, чуть улыбнувшись, сказал: — Спасибо, Сережа. Проходите прямо в кабинет. Кабинет выглядел скромно, без деревянных резных, костяных или керамических украшений, без бронзы и свечей в диковинных подсвечниках — только стенды с книгами, письменный стол и вертящаяся этажерка с энциклопедическими словарями: общим трехтомным, медицинским, географическим, литературным и даже дипломатическим, который Чачин до сих пор и в глаза не видывал. — Интересуетесь, где же коллекция? — усмехнулся Ягодкин, когда Чачин, неравнодушный к полкам с книгами, внимательно разглядывал переплеты. — Она вон на тех, двух полках за столом, видите кляссеры в желтых, кожаных переплетах? Но знакомиться с ней будете потом, а сейчас давайте знакомиться сами. Знаете, как филателисты говорят: «Познай самого себя, познай друга, а потом уже раскрывай перед ним свои сокровища». Впрочем, не только филателисты. Это я к нашей страсти восточную мудрость приложил. — Я часть вашей коллекции уже видел, — сказал Чачин. — У вас есть и то, чего мне не хватает, хотя серийность у меня другая. — А именно? — поинтересовался Ягодкин. — В серии Героев Советского Союза у меня не хватает кое-каких полярников. Может быть, у вас есть дубли? — Дубли есть, — усмехнулся Ягодкин, — только давайте не о дублях. И вообще не о марках — давайте о вас. Где учились, что кончили? — Филологический. — А как с работой? Чачин засмеялся. — Сейчас будете удивляться: филолог и вдруг на административной работе. Именно так. Секретарь-референт у одного профессора. — И за границу, значит, не по делам едете? — Не по делам. Скорее как отдохновение от дел. Это мне начальство прогулку устраивает. К западным немцам. Ягодкин вдруг задумался: сказать или не сказать? Именно так и понял его задумчивость Чачин. Потом, видимо, решил, что сказать пора. Пожевал губами и заметил как бы вскользь: — Будете в Кёльне, я вам один адресок дам. Как филателист филателисту. Крохотный магазинчик — с виду и не приметишь. А внутри — марочная Голконда. Найдете какое-нибудь полярное сокровище — берите. Сменяемся с вами на любой интересующий вас дубль. Раздался звонок. Ягодкин побежал открывать. В передней послышались голоса, смех, что-то тяжелое поставили на пол. «Должно быть, продукты и вино», — подумал Чачин. А в кабинет заглянула волоокая Ляля. — Наш интеллектуал уже здесь. Сюда, ребятки. Среди гостей, кроме Жоры и Лялечки, было двое Чачину незнакомых. Одного из них все называли Филей. Он был мясист, жирен, нос так и лоснился от подкожного сала, а стриженная под бокс голова была посажена на квадратные плечи без всяких признаков шеи. Про таких обычно говорят: «Речами тих, зато очами лих». И, обведя очами накрытый стол, он только крякнул: «Ну и житуха у вас, кореши!» Это было единственно, что он сказал или, вернее, повторил несколько раз за весь вечер. Другой представился Чачину как Яша Шелест, именно Яша, а не Яков. А застолье было обильным и блистательным по своему географическому разнообразию. Московские жареные пирожки из кафе «Валдай» на Калининском, еще теплые, высились горкой возле наструганной сибирской рыбы, астраханская осетровая икра соседствовала с владивостокской кетовой, сардины из Марокко теснились рядом с исландской сельдью в винном соусе, а швейцарский сыр подпирал сбоку финскую колбасу. И бутылки с вином разбегались по столу, как знаки по географической карте. Шампанское из Абрау-Дюрсо и коньяк из Армении, массандровский портвейн и рижский бальзам, и даже пиво в круглых жестянках из магазина «Березка». Чачин зажмурился — не застолье, а банкет у Репетилова, где, как принято, «шумим, братец, шумим!». Он так и сказал об этом вслух, как в шутку, конечно, чтобы никого не обидеть. Но никто и не обиделся: «Горе от ума» здесь не помнили, а может быть, и не видели, за столом крутилась, как магнитофонная лента, бессмыслица восклицаний и тостов, плоских острот и анекдотов, иногда даже с матом — втихаря на ухо, отчего Лялечка взвизгивала и била рассказчика по рукам (чаще всего Жору) так, что он зачастую ронял нож или вилку. Действительно, «шумели, братец, шумели». Только Ягодкин молчал по-фамусовски, по-хозяйски: зачем же барину шуметь, пусть дворня радуется. Иногда Чачин ловил на себе его взгляд, внимательный и пытливый, будто он что-то оценивал или прикидывал. Чачин не вдумывался: пусть смотрит. Он лишь старался не захмелеть, дабы наслушаться и запомнить побольше. Лялечка дарила его вниманием с избытком, и это, по-видимому, заметил и Ягодкин, когда она, осмелев, поцеловала Чачина в щеку, что вызвало общий смех и театральное рычание Жоры Челидзе. Нельзя сказать, чтобы это не порадовало Чачина: Лялечка была в этот вечер очень эффектна, с модной прической — только что от парикмахера! — и большими бриллиантовыми серьгами в ушах. — Нравится девочка, а? — усмехнулся Ягодкин. — Не менее, чем ее серьги, — сказал Чачин. — Серьги действительно ей очень идут. У Жоры хороший вкус, — добавил Ягодкин, добавил как бы мимоходом, мельком, но явно с тем, чтобы Чачин понял, «кто есть кто», и Чачин это и подтвердил: — Жаль, что у вас сейчас только одна дама, и, увы, не моя. — Я не ревнив, — сказал Жора. Чачин не принял вызова и промолчал. А Лялечка тотчас же спросила у Ягодкина: — Кстати, действительно, по какой причине я одна вас развлекаю? А почему Раечки нет? — У нее совещание вечером, — сказал Ягодкин. Не подумав, Чачин не замедлил откликнуться: — Бедняжка! Мы тут шампанское пьем, а она где-то создает материальные ценности на благо Отечества. — Не затрагивайте больше этой темы, — шепнула ему в ухо Лялечка. — Слышите? Ягодкин тотчас же насторожился. — Шептунов на мороз, — сказал он, даже не скрывая повелительной формы обращения. — О чем это ты изволила шептаться с соседом? Лялечка не растерялась: — Я изволила сказать ему, что Рая гораздо красивее меня и что ему особенно стоит пожалеть об ее отсутствии. — Это можно было сказать и вслух. Ягодкин улыбнулся при этом, но даже улыбка не смогла вновь пустить в ход остановившуюся пластинку застольной бессмыслицы. Возникла пауза. И сейчас же ворвался в нее хрипловатый говорок Шелеста, казалось только и ждавшего случая рассказать всем то, что он не успел досказать сидевшему рядом Жоре. — Значит, так… И вам, Михаил Федорович, будет интересно послушать. О моей встрече с Кириллом в Одессе вы знаете: я вам марки от него привез. А сказал вам не все — не успел. Слесарь-водопроводчик помешал: в туалете у вас бачок протекал, ну а мне на работу надо было спешить. Срок командировки уже позавчера кончился… — Не тяни, — оборвал его Ягодкин. Но Шелеста это не смутило. Язык у него уже заплетался, он захмелел и, приговаривая, все время тыкал вилкой куда-то мимо тарелки. Ягодкин, как показалось Чачину, смотрел на все это с плохо скрытой тревогой, видимо, не решив: остановить болтуна или подождать, что он еще скажет. А Шелест, глотнув коньяка из недопитого бокала, продолжал за притихшим уже столом: — О чем я? О марках этих самых… Все восемь новеньких с белыми медведями теперь у вас. А я еще не сказал вам о механике. Да. С механиком Кирилл и ходил за ними. Кирилл обменивал, тот покупал. Одиннадцать штук из свободной Африки. Из Киншасы такая… пальчики будут лизать от зависти. И все оттуда… от Кьюдоса. Ягодкин оборвал его с непонятной злостью: — Не говори глупостей. В Марселе марками торгуют Женэ и Реньяк! — Все они одна шайка-лейка, — отмахнулся Шелест. — А я с Кириллом к этому механику пошел и перекупил их все за полсотни. О них мы с вами не договаривались, Михаил Федорович. — Ты обязан был передать мне все. Твои я тебе бы вернул. Но посмотреть их я должен был все до единой. Надеюсь, они еще у тебя? — Только девять штук, Михаил Федорович, — проговорил трезвеющий Шелест. — Две я уже сменял. — У кого? — Вы его не знаете. Дружок один факультетский. — Как найти его, знаешь? — Спрашивайте! — Тогда пройдем-ка в кабинет. Шелест нетвердой походкой пошел за ним. Филя на цыпочках подкрался к приоткрытой двери и заглянул в щель. За столом все молчали. — Требует все марки вернуть. Чтоб завтра же были у него, — объявил Филя по мере подслушивания. — Говорит тихо, но строго. Хи! Матом врезал. И это наш-то тихоня, Михаил Федорыч… — Отойди от двери, — сказал Жора. — Сейчас же. Слышишь? — Не глухой, — пробурчал Филя, но от двери отошел. А вслед за ним вышли и хозяин с Шелестом. Шелест шел покорно, опустив голову, и ни на кого не смотрел. — Извините, други мои, — сказал Ягодкин. — Произошло небольшое недоразумение. Сейчас наш общий друг будет вынужден покинуть нас. Он уже нагрузился, и с него хватит. Кроме того, у него есть неотложное дело. Но вечер был уже испорчен, и первой осознала это Ляля. Посмотрев на часы, она решительно встала из-за стола. — Боюсь, что и нам пора, Михаил Федорович. Час поздний. Вы с нами, Сережа, или… — Или, — резюмировал Ягодкин. — Сережу я отвезу сам. Мне тоже надо проветриться. Фильку дома оставляю: в Косино ему далеко, да он и не доберется. А вы, Ольга Андреевна и Георгий Юстинович, отчаливайте по домам на своем «Жигуленке». — Понравилась девочка? — спросил он у Чачина уже в машине, когда она сворачивала с улицы Дунаевского на Кутузовский проспект. Чачин неопределенно усмехнулся: то ли понравилась, то ли нет. И ответил неопределенно: — Я не собираюсь конкурировать с Челидзе. А почему она из Лялечки превратилась в Ольгу Андреевну? — Потому что так она именуется в паспорте. Лаврова Ольга Андреевна. А Лялечка — это уже ее собственное изобретение. Нечто вроде фирменной этикетки. Ну а что скажете о нашей компашке? Чачин ожидал этого вопроса и уже заранее продумал, как именно должен был ответить на него «джинсово-кожаный» интеллектуал. — Честно говоря, я разочарован, Михаил Федорович. Я ведь не для пирушки к вам приходил, а познакомиться с вашей коллекцией. К сожалению, знакомство не состоялось. А компания, что ж… компания нормальная. Марочники, скажем, как и врачи или писатели, люди разные. И, честно говоря, я лично не осуждаю вашего Шелеста. Какие-то марки привез вам, какие-то купил для себя. Что ж в этом дурного? — Есть свой этикет у нас, филателистов: не обменивай марок с кем попало, а если обмениваешь, предварительно покажи другу — вдруг он заинтересуется ими. Шелест приобрел марки не для себя — для обмена и не показал их мне. Вот что плохо. — А вы, оказывается, ревностный блюститель этикета, — засмеялся Чачин. — Хорошей коллекции не соберешь без хороших друзей. Они и подскажут вам, где у кого что найти, обменять или купить, и даже сами купят, если у вас не хватает наличных. Таким другом я и считал Шелеста. К сожалению, ошибся. — Он исправится, — сказал Чачин. — Надеюсь, — отрезал Ягодкин и переменил тему: — А когда вы рассчитываете оформляться? — Я уже оформился. На днях паспорт дадут. Все произошло гораздо быстрее, чем я думал. — Куда именно? — Сначала во Франкфурт-на-Майне, ну а затем по стране. Бонн, Кёльн, Гамбург. Может быть, порядок следования будет и другой. Перед отъездом выяснится. Ягодкин долго молчал. Казалось, он раздумывал, приобщать ли Чачина к своим делам или отпустить его с миром. Но и чем рисковал уважаемый Михаил Федорович? Ничем не рисковал. Обычный неглупый мальчик едет в обычную туристскую поездку, каких у нас сотни. А Михаил Федорович ему доброе дело делает: филателистический адресок дает, где с хорошей рекомендацией скидку обеспечат. — Кёльн — это меня устраивает, — наконец сказал Ягодкин, — да и вас тоже. В связи с этим у меня просьба. Будете в Кёльне, зайдите в редакцию радиостанции «Немецкая волна». — Вы что?! — вскинулся Чачин. — Шучу, шучу, — улыбнулся Ягодкин, не отрывая глаз от виляющей впереди автомашины. — Я имею в виду марочный магазин Кете Кьюдоса. Адресок я вам скажу по телефону. Сейчас не помню. Склероз. Что бы спросил тут чистый коллекционер Чачин? Вероятно, то, что ждет от него Ягодкин. А Ягодкин ждал вопроса о том, что нужно ему от Чачина. Именно об этом тот и спросил. — Кьюдос — коллега многих собирателей, — пояснил Ягодкин. — Никогда мы друг друга не видели, а знаем все, что положено знать коллекционеру о коллекционере. Меня интересует полярная почта, а Кьюдос собирает, как и вы, советские марки. Я дам вам несколько таких марок, ну, скажем, блок «Союз» — «Аполлон» и еще кое-что. А вы обменяете их у Кьюдоса на мою тематику. Скотт, Пири, Нансен, Амундсен, арктическая и антарктическая Америка. Словом, подберете сами из того, что вам предложат. И учтите, что Кьюдос не жулик и рыночные цены марок знает как азбуку. — Так я и свои могу взять, — сказал Чачин. — У меня вагон дублей. — Берите, у Кьюдоса неплохая коллекция. Подыщите для обмена что-нибудь раннее, давно вышедшее из употребления. Такие марки выше котируются на мировом филателистическом рынке. А себе возьмете что приглянется. Советую новую Африку, у нас на нее все марочники клюют. А папанинский дубль я вам так отдам. Ни-ни, не капризничайте. Мы, рыцари одной страсти, от дружеских услуг не отказываемся. Надеюсь, и я могу рассчитывать на вашу дружбу. Так? — Безусловно, — подтвердил Чачин. Угрызений совести он не испытывал.16
Вот он сидит опять предо мной и Жирмундским и рассказывает о том, что произошло на вечеринке у Ягодкина. Ничего нового для нас в этом рассказе нет, зато многое из наших предположений подтвердилось. Да, Лялечка оказалась Лавровой Ольгой Андреевной, модельершей из ателье мод. Да, Раечка, то есть Немцова Раиса Яковлевна, действительно участвует в той же «компашке». Да, Шелест ездил в Одессу для связи с кем-то из команды пассажирского теплохода, курсирующего между портами Средиземного моря. Этот «кто-то» оказался барменом, который и обменивал ягодкинские марки где-то в Марселе. Да, марки эти, видимо, средство связи Ягодкина со своими хозяевами за рубежом. Они были не кодом, а всего лишь способом передачи зашифрованных сообщений. Именно потому Ягодкин и хотел видеть все марки, привезенные Шелестом. Я специально узнавал у экспертов, можно ли незаметно для глаза нанести на марку зашифрованный текст. Сказали, что трудно, нужен, мол, специальный клей, но, вообще-то говоря, такая возможность не исключается. Видимо, Шелест не знал о такой возможности и рассматривал привезенные из Марселя марки лишь в зависимости от их ценности для коллекционера. Не подозревал это и Ермаков, посылая ягодкинские марки в Кёльн по внутригерманской почте. Словом, выбранный курьером икс, игрек или зет не знает секрета новеньких советских марок, которые приходят таким способом из Москвы в Кёльн. — Интересно, сколько было таких курьеров? — размышляю я вслух. — Двух мы знаем наверняка, третий наклевывается, — ухмыляется Жирмундский. — Интересно, сколько у него было таких курьеров? — Не так уж много, как тебе кажется. Давно ли работает Ягодкин для своей разведслужбы? Год с лишним? Срок для профессионала разведчика не малый, но Ягодкин-то профессионал липовый. И едва ли уж так велика отдача его как разведчика своим зарубежным хозяевам. Да они ее и не ждут так скоро. Подумай получше, для чего мог быть расконсервирован человек с такой необходимой, конечно, но не столь уже популярной профессией, как Ягодкин? Не крупный государственный или общественный работник, не специалист-ученый в какой-нибудь интересующей вражескую разведку области, даже не рядовой сотрудник, близкий к любой секретной информации, словом, не личность, разведке нужная в первую очередь. К тому же азам разведывательной службы он не обучен, опыта разведчика у него нет, он не шифровальщик и не радист и, вероятно, даже азбуки Морзе не знает… Так зачем же он понадобился Кьюдосу, Лимманису и компании? Полагаю, для очень простой задачи: подбирать нужный для его боссов человеческий материал. Людей, на которых мог бы опереться разведчик-профессионал. Такого разведчика пока посылать еще рано, потому что Ягодкин еще ничего путного для своих хозяев не сделал. Мошенники и аферисты годны только для связи или для крыши, а скрытые антисоветчики — к нескрытым Ягодкин даже приблизиться не посмеет — только для того, чтобы распространять и хранить подпольную эмигрантскую писанину. Но и таких он должен разыскивать, прощупывать и сообщать о своих удачах хозяевам, когда такие удачи реальны. А много ли было у него этих удач? Не знаю, но убежден, что немного. Настроения и планы Лялечки прощупает Чачин, но не думаю, что она годится на что-либо, кроме приманки для «дичи», если такая «дичь» подвернется. Что сделал Ермаков, мы уже знаем. На том же поприще подвизается и Шелест, если мы не узнаем о нем побольше. А Немцова, видимо, совсем не тот человек, который бы с успехом мог поработать на хозяев Ягодкина. Им нужны люди с другим интеллектуальным уровнем. Я не утверждаю, конечно, только предполагаю. — На каком же основании? — А ты что-нибудь узнал о Немцовой? — отвечаю я на вопрос вопросом. — Ничего предосудительного. Работоспособна, аккуратна и не болтлива. Идеальный секретарь для приемной директора… И никаких романов в институте: Мелик-Хаспабов этого не любит. Работой с секретными материалами занимаются там специальные отделы и специалисты с другим уровнем знаний и опыта. — Потому я и не подозреваю Немцову, — говорю я. — Возникла она в жизни Ягодкина еще до появления Лимманиса, и марочной консультации не требовалось, чтобы получить согласие на ее вербовку. Впрочем, Раечку я не отвергаю, и присмотреться к ней нужно. Меня же больше интересует Челидзе, он ближе всех к Ягодкину, и обязанности у него совсем другие, чем у Шелеста и Лавровой. Чачин смотрит уныло, я его понимаю: не узнал ничего нового, не сделал никаких открытий, к Раечке даже подхода у него нет, оберегает ее Ягодкин от излишних знакомств. Единственная надежда на то, что не откажется он от оказии в Кёльн. Вот и Жирмундский о том же думает, скосил глаза, словно смущен или разочарован как человек, пришедший в театр на премьеру и вдруг увидевший вместо нее рядовой заигранный спектакль, случайно уцелевший в репертуаре. Вероятно, и майор считает, что мы по-прежнему далеко не продвинулись и в случае провала Чачина проиграем если не партию, то хотя бы дебют. Я спрашиваю себя, что ответить этим «прагматикам», не ведающим слово «предвидение»? И отвечаю: — У вас нет воображения, друзья мои. Не цените мелочей, которые подтверждают следствие, а ведь из мелочей слагается целое. Есть такая игра «джиг-со». Придумали ее в Америке в дни великого экономического кризиса тридцатых годов, когда безработным учителям, кассирам прогоревших банков, продавцам закрывщихся магазинов и уволенным университетским профессорам нужно было как-то коротать время в очередях на бирже труда. Делалось это так. Брали литографию с копии какой-нибудь классической итальянской или голландской картины, вроде «Тайной встречи» или «Ночного дозора», наклеивали ее на фанеру и разрезали на множество кусочков различной формы — треугольников, квадратов, параллелограммов, кружков и прочих порождений Евклидовой геометрии, а потом сваливали в коробку, как шашки. Из этой кучи деревяшек надо было собрать означенную картину. Большого терпения требовала эта работа, большой точности, и потому именно ее и назвали «джиг-со». По-русски это можно перевести, как «составная картина-загадка» или, чуточку изменив английское написание, еще короче: «сложи так». Вот и мы, ребятки, занимаемся таким же сложением. Сложили многое? Сложили. Так чего ж унывать? Оснований для этого нет. — Лаврову и Шелеста мы сложим, а вот Челидзе и Раечка пока не укладываются, — виновато замечает Жирмундский. Я улыбаюсь: дошло все-таки мое напутствие. — К Ягодкину пока не ходи, — говорю я Чачину. — Жди звонка, а позвонит он наверняка. Дома у тебя кто? — Отец и мать — куда надежнее, — смеется Чачин. — Отец — генерал в отставке. Мать на пенсии. Оба знают: никому ни слова о моей работе. Меня немножко беспокоит самоуверенность Чачина. Не рискнет так просто открыться Ягодкин первому встречному. Говорю об этом. Чачин тотчас же откликается: — Уже проверяли. Вчера днем, когда меня не было дома. К телефону подошел отец. Его спросили, молодой мужской голос с хрипотцой, можно ли зайти ко мне на работу и где именно я работаю. Говорит, мол, мой старый школьный товарищ, находится проездом в Москве и очень хотел бы повидаться. А отец в ответ: «Сережка в отпуску, проводит свой отпуск в Москве, и вы можете зайти к нему вечером». И при этом спросил: а какой именно товарищ мною интересуется? Ответа не последовало, положили трубку. — Значит, порядок, Сережа, — говорю я. — Начинай «роман» с Лялечкой. — Так она с Жоркой… — мямлит Чачин. — А ты отбей. Или не умеешь? Интеллектуально ты интересней Челидзе. Так, по крайней мере, мне бы хотелось думать, — подпускаю я шпильку. — Телефон сама дала. Вот и позвони. Пригласи в ресторан получше. С джазом каким-нибудь залихватским. Чачин согласился, но с кислым видом. В своей привлекательности для Лялечки он был совсем не уверен. А хотелось, видно, что хотелось…17
Но Лялечка согласилась сразу. Даже ресторан выбрала: «Метрополь». Там, мол, и обслуживают лучше, чем в «Праге» или «Арбате», и зал большой, и танцевать удобно вокруг фонтана. Словом, первый редут был взят Чачиным сразу. Второй оказался укрепленнее. Разговор сначала не шел: выбирали меню, болтали о пустяках, Лялечка почему-то заговорила об осенних модах, вспомнила зачем-то Находкина и Верховенского. Имя Челидзе даже не было названо. Но Чачин не настаивал. Ужин предстоял долгий. — Вы женаты? — вдруг спросила Лялечка. — Нет, а вы? — Ну, меня надо спрашивать: замужем ли я, товарищ интеллектуал. Нет, к вашему счастью, не замужем. Можете делать предложение. Руки и сердца, как говорили в древности. — У друзей я девушек не отбиваю, — отпарировал Чачин. — Это у какого же друга? — У Челидзе, например. — Во-первых, Жорка вам не друг, друзей у него вообще нет, а во-вторых, я не собственность. Да и замуж выходить пока не собираюсь. Живу у родителей. Они у меня сейчас в Иране. Отец представитель Экспортфильма, мать дает уроки музыки в советской колонии. Вот и живу одна свободно и весело. Относительно весело, конечно, никому отчета не нужно давать. А в квартире все должно блестеть, ни пылинки: отец иногда налетает из Тегерана, не предупредив телеграммой, и очень сердится, если заметит следы вечеринок. Так что в гости ко мне не напрашивайтесь — это надо еще заслужить. — Постараюсь, — ответил Чачин, — а то у Ягодкина мне что-то не очень понравилось. — Почему? Обычно у него очень весело. Вино, закуски, сладости, застольная болтовня о том о сем — ни о чем. Анекдоты, сплетни, магнитофон. Это вам не повезло: два марочника друг с другом поцапались неизвестно из-за чего. Я эти марки терпеть не могу. Хотя забыла: вы тоже из оных. — И Челидзе марочник. — К сожалению. — А где он работает? — Нигде. Он свободный художник, как обычно себя именует. Еще, говорят, церкви реставрирует. Но работ его я не видела: в мастерскую к себе он не зовет. — У наших «свободных художников» обычно с деньгами негусто, а у Челидзе собственная машина, — с показной завистью сказал Чачин. — И притом «Волга», — подтвердила Лялечка. — Он купил ее у кого-то по случаю. Потом отремонтировал ее на станции технического обслуживания. А сейчас она блестит как новенькая и дает на трассе, когда гаишников нет, по сто шестьдесят. Вообще, удачливый человек Жорка. Вы с ним дружите — не прогадаете. А поссоритесь — остерегайтесь. Я и сама его боюсь иногда, если он не в духе. А человек полезный, уйму денег зарабатывает, и не только советских. — Валюта? — насторожился Чачин и тотчас же пожалел об этом. Но Лялечка не заметила промаха: — Бывает. — Откуда же у него валюта? — Откуда? — не без злорадства ухмыльнулась Ляля. — Не от верблюда, конечно, а от богатых родственников из Америки. И не у него, а у Ягодкина. — За что же такая милость? — За услуги. — Какие же услуги требуются врачу-протезисту? Ляля даже не думала, что это открытый допрос. Она рассказывала охотно, с вызовом: девчонка, а вот, пожалуйста, — могу многое рассказать. — Михаил Федорович не только протезист, он еще и видный коллекционер-филателист. Сие вам известно, конечно. А Жора Челидзе помогает ему пополнять коллекцию. Находит ему клиентуру, то есть людей, уезжающих за границу. Хороший зубной техник всем нужен — и таким, как вы, и помоложе вас, если зуб выбит. И тут, как говорится, услуга за услугу. Он — золотую коронку или мостик, а ему — почтовые марки из наиболее редкостных. Он вам и адрес назовет, где марку достать, и саму марку опишет. А у него валюты навалом. Чачин внимательно слушал, но интереса своего не показывал. Дожевывал цыпленка табака, лениво поглядывая на свою собеседницу. А Лялечка, отставив цыпленка, уже не умолкала. — С ним Жора меня и познакомил, когда наш Дом моделей уезжал на парижскую выставку. «Нужный человек, — сказал мне Жора, — он тебе будет полезен». Помню, я спросила: «А сколько лет этому человеку?» Жора сказал. Я засмеялась и ответила, что моим зубам без единой червоточинки зубной техник едва ли понадобится. «Но у него есть валюта, — сказал Жора, — смотри не прогадай». Так я и попала в поликлинику к Ягодкину. Он оказался не стариком, а просто пожилым человеком, вполне терпимым, — не для романов, конечно, хотя пассия у него красивее меня в десять раз, но для застольных встреч за ужином вполне на уровне. Тут-то он и попросил меня оказать ему небольшую услугу. Он, мол, коллекционер марок и обменивается ими со своими коллегами за рубежом. А посылать их почтой рискованно: письма из Советского Союза в капиталистических странах вскрываются, и конверт может прийти к адресату пустым. Поэтому он и просит провезти с собой одну из новых советских марок, скажем, в кошелечке, куда не будут заглядывать никакие таможенники, и послать ее письмом по такому-то адресу. Кажется, в Марсель какому-то Жэнэ или Жаннэ, не помню. За это он, мол, дает мне сто долларов, пятьдесят лично мне, а пятьдесят на покупку для его пассии всякого бабского барахла. Каюсь, я согрешила. И доллары провезла, и марку переслала. Обыкновенная, кстати, советская марочка, выпущенная ко Дню космонавтики. Чистенькая, новенькая, без единой пометки, ну и переслала я ее по указанному адресу. Пустяк для меня, а он полтинник отвалил. Джаз заиграл старое аргентинское танго, и Чачин без смущения пригласил девушку. Танцевать он умел. Все шло чин чином: Лялечка раскрылась, и можно было, перебросившись словами-пустышками, задать ей уже колючий вопрос. — А почему вы все-таки Лялечка, а не Оля? — спросил Чачин мимоходом для начала. — С детства прозвали. Вот и осталось. А вам что, не нравится? — Нет, почему? К вам идет. Не нравится мне одно: и стодолларовая бумажка Ягодкина, и ваши отношения с Челидзе. Да и связь его с Ягодкиным, честно говоря, непонятна. — Не думайте, что я продажная, — обиделась Лялечка. — Доллары я взяла, почему не взять, если дают. Подумаешь, марку переслала по какому-то адресу — тоже мне преступление. А Жорка обыкновенный хахаль, нежадный и неревнивый. И что его связывает с Ягодкиным, меня не интересует. Ездил куда-то недавно, говорит, на какую-то электростанцию под Москвой, и помчался Ягодкину докладывать. А мы с Раей Немцовой — это пассия Михаила Федоровича — как раз у него и были в гостях, пили кофе с ликером. Позавчера, что ли? Ну да, позавчера. Жорка ворвался небритый, темный, как ночь. «Ты бы хоть побрился, Жорка, — говорит ему Ягодкин, — неудобно ведь перед дамами». А тот еще более взъерошился и бряк: не до бритья, мол, теперь, Михаил Федорович, сорвалось дело — не вышло. «А ты у него был?» — спрашивает Ягодкин. «Конечно, был. Он отказался. Все, — говорит, — отрезано!» Мы в недоумении, сами понимаете, молчим, слушаем. А Жора Ягодкину: «Убрали бы вы этих баб, Михаил Федорович, не до гостей нам сейчас». Ягодкин сжал губы, посмотрел на нас, подумал, а потом вежливенько так сказал: «Вы бы и вправду прошли в соседнюю комнату, магнитофон включили, а нам с этим юным хамом надо поговорить как следует». Ну мы и ушли. А потом Ягодкин объяснил, что речь шла о продаже крупной суммы в долларах и что покупатель в последнюю минуту отказался. А паникует Жора напрасно: ничего ему не грозит, никаких долларов нет и не было. Потом ко мне Жорка пришел злющий-презлющий и говорит, что из-за Михаила Федоровича он в такое болото залез — не вылезешь. Ведь это он какому-то Еремину валюту возил, а не Ягодкин. «Тот, — говорит, — чист-чистехонек, от всего откажется, а мне, дураку, отвечать». — «За что ж тебе отвечать, — спрашиваю, — если твой Еремин долларов не взял?» — «Так ведь это я ему предлагал, — кричит, — я! Если он заявит куда следует, Ягодкин вывернется, а мне сидеть в лучшем случае за спекуляцию иностранной валютой. Ну, не найдут у меня никаких долларов, а пятнышко на репутации останется. И вообще, — говорит, — я у нашего Ягодкина в таком капкане сижу, что в пору хоть без ноги, да уйти». — «Куда ж ты уйдешь?» — спрашиваю. «А у меня брат, — говорит, — в Тбилиси. Мигом в горную Сванетию переправит. Захолустье отчаянное, но прожить можно, пока шухер с валютой не уляжется. И самое страшное, — говорит, — не валюта, а то, что я ее Еремину предлагал». Я, честно говоря, ничего не поняла, только Жорку с тех пор не видела. Может, и в самом деле на Кавказ сбежал. Лялечка залпом выпила рюмку ликера, отхлебнула кофе, и по тому, как зазвенела чашка о блюдце, можно было судить с взволнованности девушки. Даже щеки у нее запали. Выложилась, как говорится, до последних глубин души своей. — Знаете что, Сережа, — вдруг сказала она, стирая потеки под глазами, — расклеилась я что-то. Пойдемте отсюда. Неподходящее у меня сейчас настроение. Чачин молча встал. Он понял, что узнал все, что можно было узнать от Лялечки. Сорвалась с обрыва девочка и захлебывается. А девушка неплохая. Видимо, поняла, что связь с Челидзе была не просто временным увлечением, а чем-то более серьезным и страшным. — Только вы никому не говорите, Сережа, о том, что я вам сейчас рассказала. Не сдержалась, крашеная дура. — И, резко повернувшись, пошла к выходу. Когда Чачин, расплатившись с официантом, нашел ее в раздевалке, он вспомнил, что не ответил на ее просьбу. И даже обрадовался. Никаких обещаний он ей не давал и сегодня же доложит обо всем Жирмундскому.18
Итак, появилась новая фигура — Еремин. Надо его найти и как можно скорее. А тут еще неожиданный звонок Линьковой. — Рад вас слышать, Елена Ивановна. Что-то случилось? — Случилось. Только что видела латыша, о котором вам тогда рассказывала. Он отпустил бородку, но я его все-таки узнала. Это тот самый Лимас, или Лимманнс, как его назвал Ягодкин. Они оба стояли вместе у подъезда гостиницы «Националь» и вместе же вошли в холл, когда я подошла поближе. Меня они не видели — это точно. — Сложи так, — говорю я Жирмундскому, передав ему суть услышанного от Линьковой, — и срочный розыск Еремина, и круглосуточное наблюдение за Ягодкиным. Нам теперь важно знать и учитывать каждый его ход в игре. И немедленно пошли кого-нибудь в «Националь». Пусть разузнает, какие иностранцы поселились за последние дни в этой гостинице и не было ли среди них худощавого человека с бородкой. Я не очень-то верю, что его зовут Лимманисом, но выяснить имя совершенно необходимо. Кстати, учти, что генерал через пару дней возвращается и мы должны быть во всеоружии. Ведь речь идет уже не о гипотетической версии, а о цепочке достоверных уличающих фактов. — Бу сде, — говорит Жирмундский. В кабинете его уже нет. А в приемной у меня ждет Шелест. Проходя к себе, я уже заметил его: растерянный, щуплый юноша с длинными прямыми волосами, в темном, видимо парадном, костюме и даже при галстуке, что совсем излишне при такой свирепой жаре. Но, прежде чем принять Шелеста, я вызываю по телефону Чачина. — Сережа, — говорю я без предисловий, — слушайте и запоминайте. Пора уже сообщить Ягодкину, что вы выезжаете за границу, скажем, послезавтра и что паспорт и виза у вас уже на руках. Поэтому пусть он передаст вам то, что хотел, завтра или в крайнем случае послезавтра утром. Затем встретитесь с ним, когда ему будет удобно, лучше на улице, на остановке троллейбуса или автобуса. От приглашения на дом уклонитесь: времени у вас, мол, в обрез. Если на свидании он попросит вас, допустим, из любопытства, что ли, показать ему ваш заграничный паспорт, скажите, что при себе у вас его нет, оставили дома. Возможно, или даже вероятно, он предложит вас подвезти, не отказывайтесь, но только до аэропорта. А у начальникааэропорта, куда вы пройдете через служебный вход, найдете Жирмундского. Ясно? Остается Шелест. Он входит решительно и спокойно — видимо, здравый смысл преодолел его растерянность, подсказав ему, что ничего больше свидетельских показаний в этих стенах от него не потребуют и, следовательно, тревожиться не о чем. Входит он молча, без приглашения садится в кресло у стола против меня и ждет. Мне это нравится. Можно быть официальным без излишних любезностей. — Шелест Яков Ильич? — начинаю я. — Точно. — Женаты? — Холост. — Живете с родителями? — Нет. Они мне выстроили однокомнатную квартиру на улице Руставели. — Где работаете? — По окончании Московского автодорожного института оставлен на кафедре. — Год рождения? — Тысяча девятьсот пятьдесят второй. — Есть личная автомашина? — Пока только о ней мечтаю. Средства не позволяют. На ставку младшего научного сотрудника автомашины не приобретешь. — Можно приработать. — Я и пытаюсь. Готов к любому поручению, не предусмотренному Уголовным кодексом. Не гожусь также для холуйства, подхалимажа, клеветы и доносов. Мальчик мне нравился все больше. Импонировала лаконичность и четкость его ответов, его непоказная самоуверенность и убежденность в своей правоте. Такой паренек, подумал я, ни увиливать, ни лгать не будет. — Вы член Общества филателистов? — спрашиваю я опять. — Давно. — Нас интересуют ваши отношения с одним из членов того же общества. Я имею в виду Ягодкина Михаила Федоровича. Шелест отвечает сразу же, не обдумывая ответ: — Отношения несложные. Работодатель и работник. Поручающий и порученец. В общем, помогаю ему пополнять его отличную, кстати, коллекцию. — Каким образом? — Во-первых, я сотрудничаю в журнале «Филателия СССР» и все сведения о новых почтовых марках получаю, так сказать, из первых рук. Знаком я и с рыночной стоимостью любой редкостной марки. Кроме того, я одессит, и в Одессе у меня в Черноморском пароходстве уйма знакомых. Есть среди них и мои коллеги по страсти к почтовой марке. Вот я и связал Ягодкина с одним таким собирателем, а именно с барменом теплохода «Колхида» Тихвинским, которого все называют просто Кир. У Ягодкина связи с некоторыми специализированными магазинами за границей. Он хотел послать несколько новых советских марок, в частности блок «Союз» — «Аполлон», и обменять их в Марселе на марки, посвященные Антарктической Америке и дрейфующим полярным станциям США. Кир это сделал, и марки я Михаилу Федоровичу привез, небесплатно, конечно. — И без инцидентов? — Вы проницательны, — смеется Шелест. — Инцидент был. Правда, не при передаче, а два дня спустя у него дома на вечеринке. Я захмелел и разболтал по дурости о том, что Кир ходил в Марселе в марочный магазин вместе с механиком теплохода, и о том, что он в этом же магазине купил для себя кучу разных экзотических марок. Узнав об этом от Кира, я нашел механика и перекупил у него десяток марок из Нигерии, Конго, Камеруна и Коморских островов. Две из них я уже здесь, в Москве, сменял на чудесную датскую марку, выпущенную к двухсотлетию американской Декларации независимости, номинальная стоимость 70 + 20 рэ, ну и я отвалил за нее какую-то толику. Так вот, когда я рассказал об этом, Ягодкин буквально рассвирепел. Оказывается, я обязан был показать ему все купленные и обмененные в Марселе марки, он не претендовал на них, но обязательно хотел их лицезреть. Ну, я привез их ему на другой же день, кроме тех двух, обмененных уже здесь, в Москве. — Марки со штемпелем или без? — Нет, все новехонькие. — Ну что ж, — говорю я, — будем считать, что о Ягодкине пока достаточно. А что вы скажете о Челидзе? Он ваш друг, кажется? — Друг? Вы хотите сказать: знакомый. Другом Челидзе может быть такой же подонок, как и он сам. — Интересно. А почему? — Прежде всего потому, что он человек неинтеллигентный и нечистый. Едва ли шибко грамотный. Когда-то застрял в шестом классе десятилетки, на том и остановился. Диктанта ему не давайте: стыдно будет читать. К географии он относится, как мадам Простакова, только вместо извозчиков гоняет на собственной автомашине. Якобы коллекционирует марки, но отличить Конго от Камеруна не сумеет. А почему нечистый? Потому что духовно нечистоплотный, готовый на любую подлость, на любое преступление, если оно покажется ему безнаказанным. — Где же он работает? — Говорит, что свободный художник, что-то лепит, что-то малюет. Церковники его иногда приглашают — платят здорово. В мастерской у него, по-моему, никто никогда не был, да и существует ли таковая, мне неведомо. А зарабатывает он не меньше, чем какой-нибудь завмаг. Мастер утилизировать потребности и чаяния современного мещанина. Может достать любой импорт: от французских духов до американских джинсов. И притом не только шмотки. Одному моему приятелю он достал, например, японский транзисторный телевизор «Шарп», а я, например, купил через него пишущую машинку «Оливетти». — А валютой не балуется? — Не знаю. Сертификатами он, правда, расплачивался как-то. Но сертификаты были не его, а ягодкинские. А вот тайна их союза для меня сокрыта. — Значит, союз все-таки есть? — Несомненно. Откуда, например, возникла Раечка — любовная страсть почтенного Михаила Федоровича? Ее где-то разыскал и подготовил для этой роли Жора. Откуда появилась Лялечка? Из того же источника. Оттуда же «Волга», и мебельный антиквариат, и редкие марочки. — А откуда валюта у Ягодкина? — Врать не хочу. Не знаю. Но слыхал, что где-то за рубежом у него есть родня, которая ему иногда что-то подбрасывает. Вот и нужен Челидзе, чтобы денежки где-то пристраивать. Странный он человек, товарищ полковник, порой даже и не поймешь, что и зачем ему нужно. На днях приходит ко мне и просит: напиши мне сценку какой-нибудь научной конференции при испытании, скажем, какого-то прибора. Нужно, мол, для одного розыгрыша. Он знает, что я научную фантастику люблю и физику знаю: все-таки специальный институт окончил. Напиши сценку как бы для радиопередачи: ничего не видно, а все слышно. А я, мол, на магнитную пленку перепишу. Подробности объяснения за мной, а гонорар полсотни. Ну какой же дурак откажется? Я и написал. Кратенький диалог на испытании прибора для определения состояния вещества в магнитном поле. Прочитал. Жора сказал: «Блеск», выложил полста и умчался. Ну зачем ему понадобилась эта псевдонаучная размазня? Голову сломаешь — не разгадать. — А это, — говорю я, — мы у самого Челидзе спросим. И в этот же момент в кабинет буквально врывается Жирмундский. Увидев Шелеста, замедляет шаги и рапортует: — Есть важное сообщение, товарищ полковник. Может быть, отложите пока ваш разговор? — А мы уже кончили. Давайте ваш пропуск, Яков Ильич. Только знаете… — Все знаю, товарищ полковник, — говорит Шелест. И когда он уходит, Жирмундский, не садясь, продолжает: — Я разыскал Еремина. — Где он? — Убит. Сбит машиной. Вот рапорт инспектора ГАИ. Читай. И я прочел. — «Я, инспектор Кунцевского ГАИ, старший лейтенант Горелов И. М., 20 августа в 12 часов 35 минут находился на съезде Минского шоссе у гостиницы „Мотель“. В 12 часов 40 минут автомобиль ГАЗ-24 „Волга“ с забрызганным грязью номером сбил пешехода, стоявшего у обочины на проезжей части. Убедившись, что к пострадавшему уже сбежались люди и первая помощь будет ему оказана, я начал преследование автомашины, которая, сбив человека, не остановилась. Включив сирену, я преследовал ее, шедшую со скоростью 160 км в час до 21-го км, где у поворота от населенного пункта „Переделкино“ водитель ее, не успев затормозить, врезался в самосвал МАЗ-205 с гос. номером ЮБА 32–17. При столкновении нарушителя отбросило в сторону. Машина его загорелась, и водитель погиб. При осмотре тела были обнаружены документы — паспорт серия ХСА № 522423, выданный 75 о/м г. Москвы 30 марта 1968 г., и водительские права серия ААА № 324672 на имя Родионова Филиппа Никитича, механика станции технического обслуживания производственного объединения „Мосавтотехобслуживание“ № 12 на Хорошевском шоссе». — Что скажешь, Николай Петрович? — спрашивает Жирмундский. — Конечно, жаль человека, но еще более жаль свидетеля, показаний которого было бы достаточно, чтобы сразу же посадить Ягодкина на скамью подсудимых. А в угрозыске мне сказали, что у Родионова, кроме документов, нашли еще пятьсот рублей сотенными купюрами. Цена убийства, так, что ли? Я молчу. Сказать, что я удивлен, не могу. Я потрясен. Выбит из седла, как жокей на финише. Два возможных свидетеля выпали из следственного процесса. — Послезавтра возвращается генерал, — мельком вспоминает Жирмундский, — а с чем мы к нему придем? С Лялечкой и Шелестом? Маловато. Правда, отыскался латыш. Он действительно живет в «Национале». Только он не латыш и не Лимманис, а Отто Бауэр из Вены. Представитель торговой фирмы «Телекс». Судя по внешности, в точности соответствует описанию Линьковой. Но вполне вероятно, что будет отрицать знакомство с Ягодкиным. Тем более что Ягодкин за эти дни в «Национале» не появлялся. — У нас есть еще Немцова и Чачин, — говорю я.19
Чачин звонит мне домой в половине десятого: — Я уже звонил вам, Николай Петрович, но телефон не отвечал. В управлении вас тоже не было. Рейс во Франкфурт-на-Майне в десять сорок. Как вы и предполагали, Ягодкин напросился меня отвезти в аэропорт. О паспорте не спрашивал. Проводит он меня только до Шереметьевского аэропорта. Я настоял, даже сказал вспыльчиво: я, мол, не маленький, меня даже родители не провожают, а если он мне в чем-то не доверяет, то может свои марки забрать: они у меня в бумажнике. Он пожурил меня за мальчишескую вспыльчивость и, по-моему, очень неохотно согласился. Поэтому полагаю, что он будет незаметно за мной наблюдать во время посадки. А я, как мы условились, постараюсь скрыться в толпе и служебным входом пройти в кабинет начальника аэропорта. Я уже договорился с товарищем майором, что он будет меня ждать за десять минут до посадки. Там же я и передам ему марки. Товарищ майор сказал, что отвезет меня домой прямо от служебного входа, а завтра я могу уже возвращаться в свой отдел. — Вношу поправку, Сережа, — говорю я. — Завтра вы целый день посидите дома. Никуда не выходите, двери не открывайте, к телефону не подходите. А на все справки о вас лично и по телефону пусть ваши родители отвечают, что вы уехали за границу. Вот так. Ну а завтра доложите своему начальству, что выполнили наше задание и откомандированы к себе в отдел. Жду Жирмундского. По моим расчетам, если отправка самолета не задержится, он будет у меня в первом часу. Жду, покуриваю, читать не хочется, и я мысленно подвожу итоги сделанного. Если добытая таким образом марка окажется шифровкой, это можно будет установить только завтра в экспертизе, и с докладом генералу все будет в порядке. В нем остается только один пробел — Немцова. Но и его мы завтра заполним. В десять минут первого прибывает Жирмундский. Никаких объяснений не требуется: они у него на лице, как некий вид лучезарности. Молча он протягивает мне марки. Их две — «Аполлон» — «Союз», новехонькие, с бесцветной клеевой поверхностью на обороте. Так же ни о чем не спрашивая, возвращаю марки майору, добавляя только: — Утром сразу же отдай Красовской. Пусть снимет клей. И если это шифровка, тотчас же шифровальщикам. Пусть поторопятся. Не думаю, чтобы шифр оказался таким уж сложным. Расшифруют и без источника. У Красовской уже все готово. Клей смыт, и в лупу на оборотной стороне каждой марки отчетливо видны миниатюрные цифры — почти прилегающие друг к другу пятизначные числовые ряды. Как я и предполагал: шифровка. Немедленно передаю ее шифровальщикам. Генерал будет после трех часов дня, а до этого мы успеем побывать у Немцовой. На работе ее сегодня нет: Жирмундский узнает об этом по телефону. Решаем не вызывать ее в комитет, а нагрянуть к ней на квартиру. Утром она наверняка дома. Так мы и делаем. И тут нас встречает полнейшая неожиданность. Мы только успеваем представиться, как Немцова говорит: — Проходите, товарищи, или граждане, как мне, наверное, нужно вас называть. Я вас давно уже поджидаю. И то, за чем вы приехали, вас тоже ждет — вон там, на столе. На круглом полированном столике посреди комнаты лежит плоская миниатюрная кассета с магнитной пленкой. Я еще недоумеваю, но Жирмундский сразу находится: — А давайте-ка мы присядем к столу, если позволите. И сами садитесь. И рассказывайте обо всем с самого начала. — Со знакомства с Ягодкиным? — Зачем? Сначала о себе, о своей работе. Я гляжу на Немцову и не вижу никаких следов беспокойства на ее строгом, красивом, не приукрашенном косметикой лице. — Зовут меня Немцова Раиса Григорьевна. Мне двадцать шесть лет. Работаю в институте секретарем директора. Никаких секретных материалов у меня на работе нет, или, вернее, они через меня не проходят. Для этого есть другие люди и другие виды хранения. — И Ягодкина это устраивало? — спрашиваю я, словно упоминание Ягодкина в нашем разговоре само собой разумеется. И Немцова не удивляется, сразу отвечает: — Нет, конечно. Он очень настаивал, чтобы меня допустили в круг этих людей. — Перед кем настаивал? — Передо мной, ясно. Ни с кем в институте он не был связан. — И что же вы ему ответили? — То, что я не физик, а у нас все сотрудники или доктора, или кандидаты наук. У директора даже стенографистки со специальным образованием. А у меня и высшего нет: с третьего курса пединститута ушла — замуж вышла. Когда же муж умер — он тоже в этом институте работал, — меня Анастас Павлович взял к себе личным секретарем. И никакой соучастницей Ягодкина я не стала вот до этой штуки. — Она небрежным жестом указывает на катушку с магнитной пленкой. И опять мы не спрашиваем, что это такое, ждем, что расскажет сама, а она говорит, говорит, говорит, словно хочет сразу выложить все, что скопилось в душе, о чем она думала и передумала. — Меня привлекла в Ягодкине не только его трогательная заботливость и даже не чисто мужской интерес ко мне как к женщине, хотя в доме у него я чувствовала себя неуютно рядом с ухоженной и красивой, но почему-то завидующей мне Лялечкой. Привлекло меня в Ягодкине его внимание к моей работе, даже к самым скучным в ней мелочам. Ну какой мужчина будет интересоваться тем, как проходит мой служебный день в институте, кто заходит к директору, кто даже просто проходит мимо меня. И я рассказывала и радовалась, что есть у близкого мне человека не только интерес к моей внешности или к одежде, хотя одевалась я всегда очень скромно, а интерес к мелочам моей жизни, о которой-то и рассказывать было некому. А Ягодкин все расспрашивал, и всем интересовался, и очень хотел, чтобы на работе меня оценили и допустили в свой ученый круг. Он даже книгу мне подарил — вон лежит так и нераскрытая. «Физика высоких энергий». Я в ней ни строчки понять не могу. Да Ягодкин и сам не стал читать, не моя, говорит, специальность. Вот, мол, прочтешь и будешь с ними на равной ноге. «Ну хоть по страничке в день читай, что совсем непонятно, пропустишь, но картина-то всей вашей работы тебе будет яснее, и с людьми легче сходиться будешь». Что и говорить, приятно было мне такое внимание, такое участие в моей личной жизни, только книжка эта не для меня писана. Но вот однажды случился у нас такой разговор… Она задумывается, приглаживая рукой свои светлые, чуть вьющиеся волосы, и я смотрю на ее тонкие и длинные пальцы и думаю: этим бы пальцам с тончайшими механизмами работать, а не пропуска подписывать и телефонную трубку поднимать, соединяя директора с городом. А ведь Ягодкин знал фон той среды, в которую стремился проникнуть, знал, кто есть кто в этой среде, и мечтал только о том, чтобы покорная ему Раечка сумела бы стать необходимым каналом связи. — Любопытный разговор, — продолжает она задумчиво. — Спросил он меня как-то: хорошо ли работают наши телефоны, не вызываем ли мы иногда телефонных мастеров для починки? Я ответила, что подобных случаев не помню. «А пропустили бы к вам такого мастера, если бы это понадобилось?» — «Конечно, пропустили бы». А он как-то, не смотря мне в глаза, говорит: не могла бы я устроить такой пропуск Челидзе под видом телефонного мастера? «А зачем? — спрашиваю. — Ведь обман это, и Челидзе не к чему глазеть на то, что его не касается». — «Ну какой же это обман, — говорит он. — Пустяк, придет человек и уйдет». Кстати, в телефонах Жорка разбирается не хуже профессионала. Отвернет гайку, заглянет внутрь аппарата и уйдет. «Не спорь, девочка, слушай старших и запоминай. Челидзе должен сам взглянуть на окружающую тебя обстановку. Он и придет к тебе завтра в половине третьего, а ты ему пропуск закажешь. Ничего плохого не будет, это я тебе обещаю». Ну, я и уступила, и Анастаса Павловича обманула, и пропуск Челидзе заказала, и его в кабинет пустила. Только он что-то быстро оттуда вышел, даже не бледный, а серый какой-то и, уходя, шепнул: «Будь завтра вечером дома, приду. И Ягодкину ни полслова». Мы с Жирмундским слушаем не перебивая. Картина выписывается действительно интересная. Что Челидзе собирался сделать с телефоном в кабинете директора, нам понятно, но мы ждем подробностей и не сомневаемся, что они будут не просто интересны — сенсационны! А она продолжает так же спокойно: видимо, уже все продумала и решила: — Челидзе действительно пришел через день вечером и принес эту кассету с пленкой. И то, что он сказал притом, было страшно. Оказывается, он должен был вмонтировать в телефонный аппарат Анастаса Павловича какое-то записывающее устройство, а включалось оно, когда я поднимала трубку у себя на столе. Ягодкин предупредил меня об этом: сними, мол, трубку, как только все соберутся в кабинете, подержи минуту, не больше, и клади на рычаг. Вот и все. Но Челидзе сказал, что ничего он не вмонтировал, не сумел при посторонних: кто-то стоял подле него и смотрел, что он делает. Ну и струсил, говорит, открыл аппарат и закрыл, объяснил, что все, мол, в порядке, и ушел. «А тебе говорю, что с меня хватит! А не то десятку заработаешь в колонии с усиленным режимом. Вот тебе кассета, я ее сам сработал на совесть: такой физик, как Ягодкин, охмуреет. А ты, — говорит, — скажешь Ягодкину, что из аппарата я ее вынул, когда ты меня на другой день снова вызвала и в кабинет пустила». И об этом вторичном визите Челидзе в институт у нас с Ягодкиным тоже было условлено. Да еще Жорка скривился и добавил: «Отдашь кассету Ягодкину — тебе хоть передышка будет, пока совсем не завербовал. Могу, — говорит, — и другой совет дать: если жизнь дорога, сразу с кассетой к чекистам иди, срок меньший дадут, а то ведь у Ягодкина и до вышки прямая дорога. Ведь он сам подневольный, а хозяева его за границей в какой-нибудь „Свободной Европе“. Оттуда и приказы шлют, а он нас завербовывает. Я-то лично смываюсь, в колонию неохота, а жить можно везде, если умеешь. Здесь же хана всем, помяни мое слово. И за Ягодкиным следят, он уже сам это чует — только смыться ему некуда, и возьмут всех нас, голубчиков, за шиворот, если дураками будем. А я не дурак и в такую дыру залезу, что никому даже присниться не может». С этими словами он и ушел. Вот и жду, кто придет раньше — вы или Ягодкин. Слава богу, что пришли вы. Ну и забирайте, а вот и кассета. В общем, все. — Нет, не все, Раиса Григорьевна, — подытоживает Жирмундский. — О сроках пока говорить не будем — все у нас впереди. И забирать вас не будем, а кассету возьмем. Только где же записывающее устройство? — А он его в Москву-реку выбросил. Крохотный такой аппаратик, заграничный. Я-то его не видела, Челидзе рассказал. «Не хочу, — говорит, — чтобы эта гадость мне жизнь сократила, а то Ягодкин сам ее сократит с помощью своего Фильки». Ну а мне что Ягодкину сказать? Я ведь не актриса, сыграть не сумею. — Небольшую рольку все-таки придется сыграть, Раиса Григорьевна, — говорю я, постукивая пальцами по миниатюрной кассете. — Скажитесь больной, расстроенной, допустим, выговором начальства за то, что пускаете в кабинет посторонних. Словом, придумайте, это не так уж трудно. А на вопрос о кассете удивитесь, скажите, что Челидзе не заходил, в институте вторично не был и никакой кассеты с пленкой вам не передавал. Пусть Ягодкин поволнуется и сам поедет Челидзе разыскивать. — А если найдет? — Тогда и мы его у вас найдем. Ведь от Челидзе он опять к вам приедет. В общем, мы вам позвоним сегодня же.20
В комитете секретарь сообщает нам, что генерал уже вернулся, находится у себя и ждет нас с докладом. Его перебивает телефонный звонок. — Александров звонит, Николай Петрович. Передаю трубку. Я слышу в трубке какое-то неясное бормотание. — Что с вами, товарищ лейтенант? Вы больны? Александров — это сотрудник, которому поручено наблюдение за Челидзе. Он явно чем-то напуган. — Неувязочка вышла, товарищ полковник. Виноват. Исчез Челидзе. — Как исчез? — Он прибыл домой в двадцать два сорок пять. Я засек время. Прибыл на своей «Волге». Машину оставил во дворе. Вошел в подъезд. Это с улицы. Живет он в однокомнатной квартире на четвертом этаже. Сразу же осветились оба окна — и на кухне и в комнате. Примерно через час — времени я не засек — та же «Волга» выехала со двора и с большой скоростью помчалась по улице. Из подъезда никто не выходил, и свет в окнах квартиры Челидзе продолжал гореть. Думаю, если машину угнали, рискну подняться и позвонить. Никто не открыл дверь. Позвонил еще раз. Тогда я толкнул дверь, а она открыта. И квартира пуста. Платяной шкаф настежь, ящик с рубашками выдвинут, часть носильных вещей отсутствует, ящики письменного стола тоже открыты — при поверхностном осмотре ни документов, ни денег не обнаружено. — Как же он мог бежать с четвертого этажа, если он, как вы утверждаете, не выходил из подъезда? — Окна комнаты были закрыты, но открыто окно на лестничной клетке. А рядом по стене дома проходит пожарная лестница. Правда, она обрезана на высоте трех метров от земли, но спрыгнуть оттуда нетрудно. — Вы будете строго наказаны, Александров, за то, что упустили Челидзе, — с трудом сдерживаюсь, чтобы не накричать на незадачливого сотрудника. Жирмундский криво улыбается. Он все уже понял. — Перехитрил нас Георгий Юстинович. — Немедленно объявите розыск Челидзе. — Он мог удрать и с фальшивым паспортом. — У нас есть его фотокарточка. Размножьте и разошлите. Мы не имеем права его упустить. Даже стыдно к генералу идти. К генералу действительно идти стыдно. Мы много сделали, но и многое проглядели. А генерал все помнит. И то, что кажется нам бесспорным, может вызвать не один и не два коварных вопроса. — Да еще шифровальщики копаются, — вздыхаю я. — Текст уже расшифрован, — подсказывает Жирмундский. По-видимому, цифровые комбинации не вызвали у них больших затруднений. Опыт шифровки, отличное знание лексики и семантики языка, привычный подбор наиболее часто встречающихся в языке букв, умение подбирать концы слов к их началам, а начала к концам создали в результате почти телеграфный без предлогов и знаков препинания, но, думаю, точный опус.«ИНЖЕНЕР ОТКАЗАЛСЯ ПРИШЛОСЬ УСТРАНИТЬ ИНСТИТУТЕ УЖЕ ЕСТЬ СВЯЗНОЙ ПОДГОТОВЛЯЕТСЯ ЗАПИСЬ ИСПЫТАНИЯ ПРИБОРА СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА МАГНИТНОМ ПОЛЕ ПЛЕНКУ ПЕРЕДАМ ОТТО НЕОЖИДАННО ОБНАРУЖИЛ МНОГОКРАТНУЮ СЛЕЖКУ ЕСЛИ ПРОВАЛ ОТТО СОГЛАСЕН ВАРИАНТ ЗЕТ ХАРОН»— Все понятно, — говорю я. — Кроме одного. — Вариант зет. — Именно. — А может быть, вариант Челидзе? — Теоретически возможно, тем более что Отто согласен. Новый паспорт, новая личность. Какая-нибудь глухомань. Зубные техники везде нужны. Только практически трудно осуществимо. Не так оборотист, как Челидзе, и не так прыток. — Все равно у нас козырь для генерала. Даже не просто козырь, а козырной туз. — Жирмундского всегда заносит на поворотах. Меня тоже заносит. — Два туза. Шифровка и пленка. По предложению генерала я опускаю хорошо ему известную предысторию дела и начинаю с того, что уже было с ним обусловлено — с поисков «дружка-фронтовичка», загнанного Ягодкиным в исправительную колонию. Рассказываю о том, как нашел его с помощью МВД, и о трехдневном пребывании Ягодкина в плену у гитлеровцев, откуда, как известно, добровольно не отпускали. Кладу на стол и заявление Клюева, собственноручно им написанное. Генерал читает. Долго, внимательно, не поднимая глаз. — Любопытный документ, хотя и скомпрометированный. Ягодкин отвергнет его как месть за донос. — Донос как анонимка в суде не рассматривался. Клюев признался сам, считая, что в уголовном розыске до всего докопались. О Ягодкине отзывался с уважением и благодарностью, до последних минут нашего разговора не раскрывался. — Но ты же сказал ему о доносе. — Я показал ему анонимку, и он все понял. Я говорю решительно, убежденно, не взвинчиваясь. Я был следователем на допросе Клюева. А следователь всегда знает, когда человек лжет. Следователь — это психолог, хирург, вскрывающий скальпелем мысли тайное тайных — душу человеческую. Я знал, что Клюев говорил правду. — Вы забыли о человеческой совести, товарищ генерал. Даже разбойничья совесть не молчит, когда ее оскорбляют. Клюев не мстил, говорила оскорбленная совесть. Генерал улыбается. Он меня понял. — Обычно победителей не судят, Соболев. Ты прав. Продолжай. И я продолжаю. О поликлинике, о филателистах, о том, почему мы не допрашивали Челидзе и Родионова, о самых обыкновенных советских марках, путешествующих в складках чужих бумажников, об удаче Сережи Чачина. Чачинский маскарад веселит генерала. — В замшевой куртке, говоришь? И в голубых штанах? И волосы до плеч? — Ну, не до плеч, конечно. Но стричься я ему запретил и усы заставил отращивать. Стиляга по всем статьям. — Хотел бы я посмотреть на этого красавчика. — Могу предъявить его в наличии. Он в отделе у Маркова. — Его не предъявлять, а награждать нужно. На-граж-дать! Ясно? И не ждите для этого торжественных дней. — Будет сделано, товарищ генерал. Так мы доходим до зашифрованной марки. Генерал читает и перечитывает полученный от шифровальщиков текст. Лицо хмурится. — Что значит «пришлось устранить»? — спрашивает он. Голос его заморожен до предела. Скрепя сердце собираюсь ответить, но меня перебивает Жирмундский: — Разрешите доложить, товарищ генерал. И рассказывает все о Еремине и о его гибели на Минском шоссе. — Потеряли свидетеля? — кричит генерал. — Человека вы потеряли, майор. А человеческая жизнь дороже любых свидетельских показаний. И ведь это ваш промах, полковник. И не промах, а вина. Ви-на! — Мы его не сразу нашли. Исходные данные невелики… — Исходные данные… О человеке разговор, а вы: исходные данные… Прозевали маневр врага. Надо было искать Еремина, а за остальными поглядывать. Генерал прав. Чекист на операции должен предвидеть все. Ведь мы имеем дело не с трусливым человечком, испугавшимся в плену пытки и со страху предавшим Родину, а с коварным и злобным хищником, готовым продать Родину трижды, если ему трижды заплатят. Сейчас он загнанный на охоте волк, не пожалевший ни одной человеческой жизни, если можно спасти свою драгоценную. Хозяева его щедры и беспринципны, так он и сделает все, что от него потребуют. Мне даже думается, что он не жалеет о содеянном там, на фронте, во время отступления из Минска. Чем он лучше Фильки Родионова? Тот убивает за пятьсот рублей, этому платят тысячи. Перспективный агент, ухитрившийся прожить безнаказанно более тридцати лет в шкуре безобидного врача-протезиста. Ты выследил волка, Соболев, и ты его поймаешь, но ты не имеешь права на ошибку и заслуживаешь бесспорного за нее наказания. — О наказаниях будем говорить потом, — словно откликается на мою мысль генерал. — И не здесь. Продолжайте доклад, полковник. Что значит «вариант зет»? — Мы еще этого не выяснили, товарищ генерал. — А «связной в институте» и «магнитная запись испытания прибора»? — Разрешите воспользоваться вашим магнитофоном. Это та самая запись, которую Челидзе привез Немцовой. Генерал согласно кивает. Я вкладываю в магнитофон катушку с магнитной пленкой и включаю запись. Слышен шум голосов, кто-то заканчивает фразу, ему отвечает другой, тут же присоединяется третий. Сколько человек беседуют, сказать трудно. Голоса повторяются, иногда с промежутками, иногда сразу, один за другим: «…обычная вакуумная камера, стекло и металл. …смысл эксперимента в том, что с помощью направленного взрыва сжимается пространство, в котором локализовано магнитное поле. …ясно, конечно: взрыв сжимает контур связанного с ним поля. …значит, импульсный разгон? …в общем-то, испытание в производственных условиях производится при более высоких температурах. …а что получится? …выход в интервал больших полей может дать качественный скачок в состоянии вещества. …сколько эрстед? …подождите, когда магнитное поле достигнет расчетного значения. …а в результате? …полупроводники становятся металлами, а металлы — полупроводниками». Голоса потише, почти шепот: «…в общем-то, малоубедительно. …а ты чем занят? …предполагаю следующий ход Карпова в его телевизионном матче». Кто-то кричит: «…не мешайте, товарищи! …считаю: пять, четыре, три, два один… нуль! …посмотрел бы на шкалу показателей. …в сущности, та же вакуумная камера, магнитное кольцо и та же сверхдистиллированная вода». Смешок: «…святая вода! …поле как бы ряд параллельных ладоней, поставленных то по вертикали, то по горизонтали. …а уровень радиации? …прошу не мешать!» Молчание. Пленка идет без слов, кто-то кашляет. Потом снова включается голос: «…в лабораторных условиях температура средней кинетической энергии молекул достигнет десяти, может быть, даже двенадцати тысяч. …подсчеты потом. …давление такого поля — это миллионы атмосфер. …а изменение внешней среды? …глупый вопрос. Какой? Ведь испытывается давление в магнитном поле». Повторяется шепот: «…поехал. …а ты нашел ход Карпова?» Пленка обрывается. Ведь катушка миниатюрна и вместе с записывающим устройством предназначена для вмонтирования в обыкновенный телефонный аппарат. Все мы недоуменно молчим. Переглядываемся. Общее психологическое состояние, в каком мы находимся, я бы точно назвал растерянностью. — Может, еще раз пропустим? — осторожно предлагает генерал. — Зачем? — пожимает плечами Жирмундский. — Все мы знаем, что это липа. — Я не физик, — говорю я. — Физику забыл со школьных лет, да тогда нас такой и не учили. Все мы знаем о физике только то, что читаем в газетах, названия да имена. Эйнштейн, Дирак, атом, вакуум, протон, нейтрон, позитрон. И если не отталкиваться от липы, то кто из нас, прочитав этот диалог в какой-нибудь книге, усомнился бы в его правдоподобии? Жирмундский пытается возразить: — Я бы рискнул. Почему испытания проходят в кабинете, а не в лаборатории? — А если кабинет, скажем, соединен с лабораторией? Бывают же такие совмещения, — предполагает генерал и продолжает: — А что, если эту дезу вернуть Ягодкину? Ведь он знает о физике не больше нас. — Он передаст ее Отто Бауэру. В точности, как в шифровке, — отвечает майор. — Вы думаете, Бауэр знает физику лучше? А экспертов здесь под рукой у них нет. Есть смысл, майор, выпустить дезу с Бауэром, определенно есть. Пошлите ее Немцовой с нарочным, сговоритесь по телефону, подскажите ей, как вести себя с Ягодкиным. Ну а мы посмотрим, как развернутся события. Жирмундский, забрав пленку, уходит. Мы остаемся вдвоем с генералом. Один на один. И я предвижу все, что он мне сейчас скажет. И он говорит именно то: — У тебя две ошибки, Соболев. И серьезные. Еремин и Родионов. Убийцу, конечно, не жалко, но живой он был бы нужнее нам, чем мертвый. — У меня три ошибки, Иван Кузьмич. — Я обращаюсь к нему так, потому что мы вдвоем и разговор неофициальный. — Третья — Челидзе. Мои сотрудники упустили его. — Сбежал? — Вчера ночью. Или заметил слежку, или испугался встречи с Ягодкиным. А может, и то и другое. Не выходя из подъезда, через окно в лестничной клетке спустился по прилегающей к стене пожарной лестнице и удрал на своей машине. — Объявлен розыск? — Да. Уже размножена и разослана его фотокарточка. — Найдем. — Генерал неожиданно снисходителен. — Главное сделано: то, что ты предвидел, ты и доказал. Количество фактов перешло в качество. Косвенные улики легли по прямой… Если Бауэр клюнет на приманку, мы охотно пожелаем ему успеха в доставке дезы по адресу. Воображаю рожи его хозяев, когда их эксперты обнаружат липу. Когда возьмешь Ягодкина? — Сегодня Немцова отдаст ему катушку с пленкой. Завтра он передаст ее Бауэру. Тогда и возьмем. — Слушай… а если не брать? Если поиграть с ним и с его хозяевами? Я думаю об этом. — Бессмысленно, товарищ генерал. Ягодкин сам себя проиграл. Кто ему станет верить после этой пленки? — Ты прав. Стало быть, действуй…
21
В кабинете меня поджидает Жирмундский. — Как генерал? Все еще рассержен? — Нет, доволен. Даже очень доволен. Правда, с оговорками. Еремина он нам не простит. Да мы и сами себе не простим… Жирмундский согласно кивает. Что ж поделаешь: наша вина. — Отослал Немцовой катушку? — Тотчас же. И с ней поговорил. — Не подведет? — Нет. Сделает, что требуется. Жду ее звонка. Я молчу с чувством охотника, выследившего добычу. Нервы как струны. Даже в голове отзвук. Звенит. — А как с Челидзе? — Послал Булата в Тбилиси. Он там всю Грузию подымет. Тем более что у Челидзе брат в Тбилиси. Зачем-то перебираю на столе какие-то папки. Заглядываю в блокнот, хотя и знаю, что ничего в нем не записывал. Время течет медленно-медленно, как жидкий мед. Десять минут, двадцать, час… Говорить не хочется. Наконец-то долгожданный звонок. — Соболев слушает. Здравствуйте, Раиса Григорьевна… Был, говорите, сейчас же ушел? И катушку взял? Хорошо. Спешил? Ясно зачем. Немедленно звоните, как только опять появится. Очень важно, каким он появится. Вы поняли, Раиса Григорьевна? Прекрасно. Жду. Жирмундский ни о чем не спрашивает. Он все понял. — Я думаю, он в «Националь» поехал. — Я тоже. Будут вместе прослушивать. Хорошо бы, Александров додумался позвонить. Нам очень важно знать, с каким настроением он вышел от Бауэра. Александров звонит через час: — Я из «Националя». Ягодкин вышел красный, потный и, по-моему, очень довольный. И сейчас же в бар. Пьет коньяк прямо у стойки. — Кто в машине? Вы и Зайцев? Не упустите. Он может поехать к Немцовой. Если он задержится у нее, там и берите. Уйдет рано, проследите куда. Если за город, предупредите по линии, чтобы задержали машину. Все. Трудно ждать, ничего не делая. Но мы ждем. Проходит минут сорок, а звонка от Немцовой нет. Куда же поехал Ягодкин? Где он сейчас? Узнал я об этом не сразу. Может быть, час-два прошло… Но долгожданный звонок Немцовой сразу насторожил. Говорит она хрипло, с одышкой, с трудом подбирая слова: — Только что ушел Ягодкин. Пробыл около часу, не больше. Но какой же мразью он оказался! Говорю непонятно, потому что нижняя губа у меня разбита: уходя, он ударил меня кулаком в лицо… — Как это случилось? — Я почти кричу. — Даже говорить не хочется… Пришел, насквозь коньяком пропахший, швырнул пиджак на диван, да так швырнул, что бумажник вылетел, и сказал, что идет в ванную: ему надо, мол, принять душ, побриться и привести себя в порядок. Пока он мылся, я подняла бумажник, открыла его и увидела немецкий паспорт на имя какого-то Отто Бауэра, чужие, несоветские деньги и билет на самолет до Вены на сегодня в восемь тридцать вечера. Когда он вышел из ванной, я подаю ему бумажник и спрашиваю: «Почему у тебя немецкий паспорт с твоей карточкой, на чужое имя и чужой билет на авиарейс до Вены?» Так он даже позеленел от злости. Ткнул бумажник в карман и схватил меня за горло. «Я тебя задушу, — говорит, — сволочь, научу, как в чужих карманах шарить». А потом кулаком в лицо ткнул и ушел. Я тут же вам и звоню. — Вот что, Раиса Григорьевна, — говорю я, — никуда не улетит ваш Ягодкин с чужим паспортом. Мы им займемся. А вы закройте дверь на все замки и никому не открывайте, кто бы ни позвонил. Я вам сам позвоню утром, а до моего звонка никуда не выходите. Мало ли что может случиться. — Что там произошло? — волнуется Жирмундский. — Сегодня в двадцать тридцать Ягодкин вылетает в Вену с паспортом Отто Бауэра. — А фото? — В паспорт вклеена фотография Ягодкина. Видимо, это и есть «вариант зет». Если агенту угрожает опасность разоблачения, загнать его куда-нибудь в глубинку с паспортом на другое имя. А вышло, что не в глубинку, а на Запад, в царство «инакомыслия». И каким образом это вышло? Зачем хозяевам Ягодкин за границей — без знания языков, без опыта разведчика? Марками в киоске торговать? Чепуха! Не мог Бауэр подарить ему свой паспорт с авиабилетами в придачу, если сам сегодня собирается в Вену. Тут что-то другое. Почему молчишь? — Есть мыслишка, Николай Петрович. Может быть, Ягодкин просто украл у Бауэра его билет и паспорт. А дома свою карточку вклеил. Могло так случиться? Могло. А где это было, неважно. В баре ли, где вместе выпивали и Бауэр, расплачиваясь, оставил на стойке бумажник, а Ягодкин его подобрал или дома, где Бауэр, скажем, повесил пиджак на спинку стула. Всегда можно украсть документ, если знаешь, где он лежит. — Но ведь Ягодкин знал, что Бауэр перед поездкой в аэропорт, не найдя бумажника с деньгами и документами, обязательно позвонит портье, а тот дежурному ближайшего отделения милиции, — недоумеваю я. — Ведь это же неминуемый провал и арест в аэропорту. На что же рассчитывал Ягодкин? — Бауэра он знает лучше нас, Николай Петрович. И не позвонит тот ни портье, ни в милицию. Незачем. И новый паспорт, и билет на самолет ему все равно выдадут в посольстве с отсрочкой на день. Спросишь, для чего ему спасать провалившегося агента? Так ведь как агент Ягодкин с украденным паспортом для него все равно потерян. В глубинку теперь его уже не загонишь, а его арест в Москве может быть источником непредвиденных неприятностей для самого Бауэра. Так пусть уже занимается им венская полиция. Я соглашаюсь. Возможно, Жирмундский и прав. До завтрашнего утра Бауэр не будет беспокоить ни милицию, ни посольство. А если мы ошибаемся, Ягодкин все равно будет задержан или нами, или угрозыском. Бауэр знает, что Ягодкин «засвечен». Не сегодня-завтра его арестуют. Что он будет говорить на допросах? Кого назовет? Многих, многих — Ягодкин не из молчунов. И о Бауэре поведает, о скромном иностранце. И вот результат: Отто Бауэр — персона нон грата. Черта с два он получит когда-нибудь въездную визу в СССР. А значит, прощай, карьера связника… Нет, Бауэр предпочтет поиграть в растеряху-иностранца в надежде, что Ягодкину удастся улететь в Вену. А уж там им займутся как следует. Там Бауэр в самых ярких красках опишет коварство бывшего разведчика, докатившегося до воровства. — Есть еще и третий вариант, — размышляет Жирмундский. — Бауэр сам прибудет в аэропорт. — Исключено, — говорю я. — Возможность нашего вмешательства может быть им предугадана. А тогда зачем ему рисковать? Вероятно, он все-таки надеется, что Ягодкин улетит. — А не упустим? — За его машиной следуют Зайцев и Александров. Надеюсь, они уже догадались, куда он направляется. До вылета еще полтора часа. Тут и моя «Волга» успеет. Жирмундский явно недоволен, что мы едем не вместе. — А нельзя ли воссоединиться? — Нельзя. Нас там и без тебя трое. А ты нужен здесь. И не отходи от стола. Через какие-нибудь четверть часа Александров или Зайцев тебе просигнализируют. Скажи им, что, если я почему-либо опоздаю к авиарейсу на Вену, пусть берут его без меня. Прямо у трапа. Но, вероятнее всего, я успею. У меня в запасе час с лишним. Я даже не беру оружия. Ни стрелять, ни сопротивляться Ягодкин не будет. Поймет, что игра проиграна, и будет рассчитывать на свою изворотливость или на недостаточность наших улик. Ведь загадки Чачина он не разгадал и о расшифрованном тексте его сообщения на марке не знает. Август сейчас, как июль, — сухой и жаркий. В городе двадцать восемь градусов. Но от ветра, врывающегося в полуоткрытое окно машины, мне хорошо и прохладно. Навстречу бегут желтые огни фар, путевые знаки, высокие фонари над дорогой, чернеющая в сумерках придорожная трава и неизменный кусок шоссе впереди, где-то всегда обрезанный темнотой. Что ж, Ягодкин не улетит, он даже не подымется по трапу, я тут же попрошу его отойти в сторону — и, наконец, делу венец. Только надо успеть вовремя. А вот и аэропорт. Я проделываю все необходимые формальности, ставлю машину, где ей положено ждать, и прохожу через служебный вход в помещение аэровокзала. Я не люблю вокзальной обстановки, разношерстной пассажирской толчеи, суетни у касс и окошек для справок, у буфетных киосков с теплым лимонадом и зачерствевшими бутербродами. Кресла для пассажиров всегда заняты, присесть негде, а у меня еще полчаса свободного времени. Встречи с Ягодкиным я не боюсь: меня трудно узнать в роговых очках с дымчатыми стеклами, в модной шляпе с широкими полями и в светлом плаще, купленном в Бухаресте прошлым летом. Впрочем, для маскировки я еще покупаю у входа букет с гладиолусами. Люди чаще глядят на цветы, а не на человека с букетом. Он их внимания не привлекает, ну встречает кого или провожает, не все ли равно. Так я прохожу мимо сидящих, что-то читающих, что-то жующих, о чем-то болтающих или скучно молчащих людей. Сразу же нахожу Александрова. Он сидит на диване с «Огоньком» в руках, открытом на странице с кроссвордом. Вероятно, Ягодкин где-то близко. Александров меня не узнает, косит глазом на гладиолусы и возвращается к своему кроссворду. «Столица Венесуэлы, столица Венесуэлы…» — бормочет он еле слышно. — Каракас, — подсказываю я, также не повышая голоса. Он оборачивается ко мне, узнает и уже готов вскочить с официальным приветствием. — Сидеть! — тихо говорю я. — Ягодкин близко? — Через три ряда, напротив. Сидит вполоборота к нам. Закрылся газетой. — А где Зайцев? — Он ведет наблюдение с другой стороны. Я смотрю на часы. Минутчерез десять объявят посадку. Я почти шепотом говорю о том Александрову. — Мы еще не знаем, на какой рейс у него билет, — отвечает он. — Александр Михайлович приказал ждать вас. — Все правильно. На посадке в толпе пассажиров возьмите его в клещи. Один впереди, другой сзади. Не рядом, конечно. Он вас еще не приметил? — Думаю, нет. Все время читает газету. А вы где будете? — Я встречу его у трапа. Вы подойдете туда же. Лавируя между ожидающими, прохожу на летное поле. Почему я намеревался задержать Ягодкина лишь в последние минуты перед посадкой? Проще было бы арестовать его тут же, в пассажирском холле. Но я хотел взять его, как говорится, с поличным, официально зафиксировав его попытку бежать за границу. Ведь само по себе его пребывание в аэровокзале еще не свидетельствовало об этом. Ведь он мог признаться, что действительно украл бумажник у Бауэра и действительно вклеил в его паспорт свою фотокарточку, но бежать раздумал, собирался уже уехать домой, заменить в паспорте свою карточку бауэровской и вернуть этот паспорт его законному владельцу вместе с просроченным билетом на самолет. Все-таки одним преступлением будет меньше, а другие, мол, надо еще доказать. Нет, я рассчитал все точно: арест при посадке на самолет был хорошим ходом. Король заматован. Все! Только не король он, не король, не годится тут шахматная терминология. Я стою у трапа рядом со стюардессой — очень картинной и обаятельной, как в любом киноэпизоде, где такие вот стюардессы встречают пассажиров у самолета. Она смотрит на меня почти с восхищенным любопытством: мое служебное удостоверение свою роль сыграло. — Вы не полетите с нами, товарищ полковник? — спрашивает она. — Нет, не полечу. Мне тут одного пассажира требуется встретить. — С цветами? — Цветы — это для вас, Лидочка. Я только ждал этого вопроса, чтобы вручить вам букет. — Спасибо. Только, между прочим, я не Лидочка, а Валя. — Простите, Валечка. Тут я с одной стюардессой летал, на вас похожей. Так ее звали Лидочкой. Ну и сболтнул по-стариковски. — Какой же вы старик? Полковник он и есть полковник. Да и совсем молодых полковников не бывает. — А космонавты? — улыбаюсь я. — Так то космонавты, а не просто военные… — Она ищет слова, которые могли бы, не обидев меня, объяснить в ее понимании разницу между просто полковником и полковником-космонавтом. — Да, и работа у них не просто военная и не просто воздушная, как у наших пилотов, а специальная, особая и очень-очень трудная. — У нас, Валя, тоже специальная и нелегкая, хотя мы и не летаем в космос, — вздыхаю я. — А кто этот ваш пассажир, не секрет? — Секрет, Валя. А увидеть его вы, конечно, увидите. К самолету уже подходят первые пассажиры. Много наших, советских, но в основном иностранцы. Ягодкин подходит к трапу вслед за платиноволосой Гретхен в белых расклешенных брюках. В руках у него мягкий клетчатый чемодан, весь оклеенный иностранными этикетками. Глаза, как и у меня, прикрыты дымчатыми очками. В сущности, такой же примитивный маскарад, как и мой. На Гретхен я не смотрю, но перед Ягодкиным протягиваю руку, преграждая ему путь на лестницу. — Варум? — спрашивает он по-немецки, явно не узнавая меня. — Отойдем в сторонку, Михаил Федорович, — говорю я негромко, но непреклонно. Он еще не понял или делает вид, что не понял. — Их бин Отто Бауэр. Я есть иностранный турист, — настаивает он, ломая русский язык. — Не будем мешать пассажирам, Михаил Федорович. И не надо шуметь. Ведь мы с вами давно знакомы. Я беру его под руку, сбоку вырастает лейтенант Александров, а чуть позади Зайцев. Ягодкин уже узнал меня и как-то оседает. Он не сопротивляется, только еле-еле идет, ни о чем не спрашивая. Да и не о чем говорить, когда все уже ясно. Так мы доходим до ожидающей нас машины. — Сегодня допрашивать вас не буду, Михаил Федорович, — поясняю я арестованному, — у вас есть еще время подумать до завтра. Только учтите, что нам уже все известно. Абсолютно все. А вы, товарищи, — обращаюсь я уже к своим лейтенантам, — доставьте его прямо в камеру, майор Жирмундский все оформит. Ну а я доберусь на вашей машине. — Она на стоянке, — рапортует лейтенант. Из аэропорта звоню Жирмундскому: — Все сыграно как по нотам, Саша. Взяли прямо у самолета, в очереди на посадку. Сейчас его увезли Зайцев и Александров. Оформи все, что нужно, и езжай домой. — Не нравится мне твой тон, Николай Петрович. Голоса победителя не слышу. Тон у меня действительно минорный, но я просто устал на следственном марафоне. И не дошел до финиша, осталось еще несколько метров. Ведь Еремин убит, а Челидзе еще не найден. И сопротивляться Ягодкин будет отчаянно. — А мы еще не победили, товарищ майор. И завтра самое трудное — первый допрос.22
Утро следующего дня начинается у меня с телефонных звонков. Сначала звоню Немцовой. — Раиса Григорьевна? Соболев вас приветствует. Ни вчера вечером, ни ночью вас никто не потревожил, нет? Отлично. Теперь можете спокойно входить и выходить когда вам вздумается. Никаких неожиданностей не будет: Ягодкин арестован. Челидзе струсил, и это вас спасло. Ну а если бы он не струсил? Вы бы наверняка могли стать соучастницей Ягодкина. Сначала невольной, а потом завербованной. В ответ я слышу всхлипывания и бессвязный лепет, из которого можно понять, что Челидзе или арестован нами, или сбежал. — А откуда это вам известно? — спрашиваю я. — Ни вчера вечером, ни сегодня утром его телефон не отвечает. — Незачем вам тревожиться о Челидзе, — говорю я. — Пройдет время, и он сядет на скамью подсудимых рядом с Ягодкиным. Вызываю по внутреннему телефону Жирмундского. Я знаю, о чем спросить Жирмундского, и он знает, о чем я спрошу. Поэтому сразу же, как ЭВМ, выдает готовый ответ: — В милицию я уже звонил. Заявление Бауэра получено. И тут же передано в МУР одновременно с просьбой посольства. — Соедини меня с угрозыском, — говорю я. Трубку подымает старший инспектор Маликов, с которым я уже встречался в связи с делом Гадохи. Оказывается, он меня помнит и потому позволяет себе пошутить: — Третье дело вам сдаем, товарищ полковник. Отрадно. Могу еще парочку подбросить. — Не помню второго, — говорю я. — А дело об убийстве на Минском шоссе. Его у нас забрал ваш помощник. Кстати, и первое и второе мы бы закрыли: там нет даже подозреваемых. Один сгорел, второй, угробив машину, сам же разбился. Только в третьем деле надо вора искать. Посольство требует, да поскорее. — Уже нашли, — усмехаюсь я. — Кто? — Мы же и нашли. Так что передавайте дело. Облегчаем вашу работу. Обмен любезностями завершает переговоры. А дело закрыть нельзя. Ни первое, ни второе, ни третье: они все опечатаны одной сургучной печатью. И одного из ее хозяев мы уж знаем. Отто Бауэр. Коммерсант. Представитель мюнхенской фирмы «Телекс» с ее филиалом в Вене. И Бауэр не подставное лицо, у него есть действительно торговые дела в Москве: справка Внешторга подтверждает безупречность его коммерческой репутации. Он действительно покупает и продает то, что нужно его хозяевам. Но то, что у него есть и другие хозяева, знаем пока только мы. Знаем, но доказать не можем. И привлечь к ответственности не можем. Правда, катушку с магнитофонной записью мы у него, может быть, и найдем, но запись подтвердит только розыгрыш Челидзе и Шелеста. А Бауэру мы даже экспертизы физиков предъявить не сможем. Он посмеется и скажет: нашел где-то на улице, прослушал дома и оставил у себя, как любопытную диковинку. В чем же его обвинишь? В шифрованной переписке на почтовых марках он не участвовал, с Ягодкиным, скажем, незнаком, а имя Отто так же популярно в Германии, как у нас Владимир или Олег. Даже если признается Ягодкин, Бауэр может хладнокровно все отрицать. Никаких очевидцев их знакомства ни у нас, ни у Ягодкина нет. Свидетельство Линьковой неубедительно. В первый раз она видела его только мельком накануне превращения Ягодкина в филателиста. На прошлой неделе также мельком заметила его в подъезде гостиницы «Националь» на улице Горького. На официальном допросе она может сказать только то, что Бауэр чем-то напоминает Лимманиса, как его называл тогда Ягодкин, но категорически утверждать, что это одно и то же лицо, она, конечно, не будет. Случайная встреча со случайным человеком. Показания Ягодкина? Врет, врет, какие сомнения!.. Так что никаких оснований для того, чтобы задержать Отто Бауэра накануне его возвращения в Вену у нас не имеется. Да и пусть улетает он со своей липовой записью. Второй или третий раз уже не приедет, когда узнает, кто и где нашел его документы, — это он знает, и, пожалуй, этого он боится. Но сие уже не наша компетенция. — Значит, ни документов, ни билета на самолет ему не возвращаем? — спрашивает Жирмундский, когда я излагаю ему свои соображения о Бауэре. — А зачем? Они пойдут в дело Ягодкина вместе с западногерманской валютой, а новый паспорт и билет он получит в посольстве. — Следующего приезда не будет, — резюмирует Жирмундский. — Особенно после того, как их экспертиза проверит запись. — Запись ему простят, — говорю я, — не всегда разведчик знает современную физику. А вот за то, что крупно ставил на Ягодкина, накажут. Но выбросить не выбросят: хорошо, подонок, знает русский язык. Я смотрю на часы. Уже полдень. Пора начинать генеральную репетицию. Жирмундский просит разрешения присутствовать на допросе. Разрешаю, конечно. Ведь он прошел со мной весь долгий путь от Гадохи до Ягодкина, знает все мелочи дела и всегда может подсказать нужный вопрос. Звоню по внутреннему телефону. — Ягодкина на допрос. Ягодкин появляется, садится на стул напротив меня.23
— Можно закурить, гражданин следователь? Я протягиваю ему сигареты. Он закуривает с наслаждением давно не курившего человека. Глаза еще спокойнее и не дрожат руки. Значит, допрос будет трудный. — Я вас предупреждал, что все знаем о вас? — Предупреждали. Только ваше «все» — это мое «ничего». Меня могли бы уличить только факты. А у вас всего один: чужой паспорт и попытка бегства. Не могу не признать: бы-ло! Ягодкин хорошо знает Уголовный кодекс. Статья о попытке бегства за границу — это одно, а статья об антисоветской деятельности в интересах иностранной разведки нечто совсем другое. И наказания разные. Мне уже ясно, что Ягодкин будет признавать только то, что будет неопровержимо доказано. Но от любого преступления, как от камня, брошенного в воду, расходятся круги… — Как очутились у вас документы Бауэра? — спрашиваю я. — Нашел в вагоне метро на скамейке рядом. Соседей не помню. Близ какой станции, тоже не помню. — Зачем же вы вклеили свою карточку в чужой паспорт? — Затем, чтобы воспользоваться им как своим. — И авиабилетом до Вены? — Неумный вопрос. Все затем, чтобы удрать за границу. — Разве у нас вам так плохо жилось? — Всегда ищешь лучших возможностей в жизни. У нас две личные автомашины — это уже предлог для вмешательства ОБХСС, а за границей — только признак зажиточности. — А Бауэр не способствовал вашему побегу? — Только косвенно, как владелец паспорта. — Может быть, вы все-таки с ним знакомы? — Ни разу не видел. — Неправда. Вы связаны с Бауэром, и ваша попытка к бегству — это в его кодовой системе переосмысленный вами «вариант зет»! Хороший удар. У Ягодкина в глазах искорки ужаса. Но злая воля берет верх, искорки гаснут. Лицо снова маска невозмутимости. — Что значит «переосмысленный»? — медлит он, подавив невысказанное. — То, что вам надлежало скрыться где-нибудь на периферии, а вы предпочли бежать за границу с паспортом Бауэра. — А при чем здесь «вариант зет»? Я вас не понимаю. — Откуда же, вы думаете, мы взяли эти два слова? — Не интересуюсь. — Ладно, к вопросу о «варианте зет» мы еще вернемся, а пока ответьте на вопрос из вашей военной биографии. — Она чиста, как стеклышко, протертое замшей. Сначала отступали, потом наступали, два раза был ранен, отлеживался в госпиталях, потом догонял свою часть. В плену не был, без вести не пропадал. Можете проверить. Да уж проверяли, наверно… — Мы проверили: все совпадает. Но интересует нас лишь один эпизод вашей фронтовой биографии. Ваше отступление из Минска. — А что тут интересного? Хаос, сумятица, смятение чувств. Отступали мы по болоту, обходя прорвавшуюся по шоссе танковую колонну противника. Под ногами кочки, торфяные озерца, осока, грязь, в которой не только человек, танк утонет. А кругом мгла, туман, ольшаник, простреливаемый и с воздуха и с шоссе. Гибли люди без счета. Ну а мне повезло: уцелел. Только одной контузией и отделался. — А кто с вами рядом был, не упомните? — Разве теперь вспомнишь. Натыкались друг на друга в поисках ушедших частей, бывало, что и шли вместе, а потом теряли друг друга, особенно во время бомбежек. С одним, можно сказать, два дня до смерти шли: так на руках у меня и богу душу отдал. Старая рана открылась, шов лопнул. А я даже как звать его позабыл. — А Клюева не помните? Бывшего штрафника из вашей роты? И опять в глазах его вспыхивают искорки страха. И тут же гаснут: сильной воли человек. — Не припоминаю. — Нет, Ягодкин, помните. И он вас четверть века помнил. И в Москве вас нашел, чтобы посчитаться за старые дела-делишки. Ведь мы знаем об этом визите и о его последствиях тоже. — Жив еще старый ворюга. Такого вспоминать — только себя компрометировать. — А он о вас помнит. — Басни. — Вот и прочтите одну из них. — Я передаю ему копию заявления Клюева. Ягодкин читает, не подымая глаз, только руки дрожат — вот-вот разорвет он этот листок бумаги, только сознание подсказывает, что не надо на него так реагировать. Читает он долго, я думаю, перечитывает каждую строку по нескольку раз, размышляя, как обесценить этот документ. Наконец наши взгляды встречаются — мой уверенный и его озлобленный взгляд попавшего в капкан волка. — Не так все было, гражданин следователь. Оклеветал он меня так, что и сказать нечего. Оболгал начисто. — Почему же? — Со злобы. От зависти. Я на свободе, а он лес в колонии рубит. Я не говорю Ягодкину об анонимке: в деле она не рассматривалась, Клюев и так все признал. Но об анонимке вспомнил сам Ягодкин. — Я знаю, что здесь только вы задаете вопросы, гражданин следователь. Вы спрашиваете, я отвечаю. Но разрешите и мне задать вам вопрос. — Спрашивайте. — Вы знакомились с делом Клюева? — Конечно. — Не было ли в этом деле указующего письма без подписи обо всех его преступлениях перед законом? — Анонимное письмо в суде не рассматривалось. — Это я написал его. Перечислил все им содеянное. Я вижу ход Ягодкина и куда он ведет. Ягодкин мог бы отвести обвинение Клюева как месть за его заявление в угрозыск. — Возможно, следствие не придало ему большого значения, — говорю я. — И кем бы ни был Клюев, срок его заключения рано или поздно закончится. А свидетельство его о вашем пребывании в плену у немцев и о вашем согласии работать на их разведку все равно остается таким же уличающим вас свидетельством, даже если бы он был соучастником вашего преступления. Он опять меняется у меня на глазах. Не суетится, не ерничает, не пытается ничего опровергнуть. Только говорит снова медленно-медленно, как будто все уже решил. — О чем плакать? — вздыхает он. — Было. И плен, и вербовка. Взяли подписку и отпустили через несколько дней на том же участке фронта. Но ведь не работал же я на гитлеровскую разведку. Всю войну прошел с боями, наградами и чистой совестью. Никого не продал, не предал. О Клюеве не говорю: дезертир он и ворюга, и жалеть его не за что. А то, что он сказал обо мне, — правда. Но ей уже больше тридцати лет, можно было бы и простить. — Простить можно, если бы не напомнили. Ведь есть когда-то подписанное обязательство. В угаре наступления, в огне первых боев о вас просто забыли, а вот через три десятка лег все-таки вспомнили. Нашлась где-то в архивах гитлеровских преемников ваша подписочка. И не тронули бы вас из-за нее: только мужество надо было иметь, мужество признания, а вы шантажа испугались. Все у вас было: работа, в которой вы были мастером, семья, которую могли бы и не разрушать, перспектива честной, незапятнанной жизни. Но вот приезжает из Мюнхена или Кёльна некий господин Бауэр, представитель уже не гитлеровской разведки. И честная жизнь гражданина Ягодкина кончается. Появляются доллары, кляссеры с редкими марками, да и расплата не слишком трудная: всего-навсего сколотить вокруг себя группу своих людей, которым весело хочется жить, не утруждая себя хождением на работу, и на которых мог бы опереться уже более опытный, чем вы, другой специально засланный вашей разведслужбой агент. Тут пригодились бы и бывшие уголовники, и просто жадные до денег люди, и злобные антисоветчики, готовые на все, чтобы порадовать хозяев. К счастью для нас, времени у вас было мало, не успели вы расширить «компашку», да и довериться вы могли только двум, полученным в наследство от вашего «однофамильца» из Марьиной рощи. Один просто ловкий мошенник, валютчик и спекулянт, другой нераскрывшийся бандит, способный на любое преступление за пару сотенных. Наследство небогатое, хотя трюк с однофамильцами как прикрытие роль свою сыграл. Только надо было так случиться, что первый Ягодкин был совсем не Ягодкин, а Гадоха, один из моих старых знакомых. Вот отсюда-то и начался новый ваш след, как изменника Родины, подлеца и убийцы. Да, да, убийцы, потому что на ваших руках кровь убитого по вашей указке советского человека. А начнем мы с вашего развода, с ваших первых знакомств, с поисков связных, которые могли бы перевезти за границу на вид совсем новенькие советские марки, а на самом деле марки с зашифрованным на обороте текстом и затем покрытые непрозрачным бесцветным клеем. — Это только ваша гипотеза, гражданин следователь, — снова очень спокойно возражает Ягодкин. — Я действительно посылаю своим зарубежным друзьям новые советские марки, но никаких манипуляций с ними не происходит. Марки так и остаются марками, а не способом секретной связи с заграницей, в чем вы меня обвиняете. — Почему же вы, посылая марки, не пользуетесь обычной почтовой связью? — вмешивается в допрос Жирмундский. — Потому что не хочу рисковать. Письма из СССР, рассуждаю я, могут подвергаться перлюстрации на любом европейском почтамте — я не говорю, конечно, о социалистических странах — и если их вскрывает тоже филателист и коллекционер, любая, вложенная в эти письма советская марка может легко исчезнуть. Тут уж никакие заявления в полицию не помогут. Мы переглядываемся с Жирмундским, и я понимаю его предостерегающий взгляд: пока не говорить о Чачине и о расшифрованном нами тексте на обороте переданной ему почтовой марки, приберечь главное наше доказательство. Что ж, прибережем. Тем более что деятельность Ягодкина на поприще советской филателии далеко не исчерпана. — Значит, вы признаетесь в том, что ваш интерес к филателии и связанным с нею обменным операциям с зарубежными коллекционерами возник у вас с приездом в Москву и визитом к вам господина Бауэра? — суммирует свой вопрос Жирмундский. — Нет, не признаюсь. — Но у нас есть свидетельство вашей бывшей жены. — Она может свидетельствовать только о том, что было в действительности. Действительно, я купил у богатого иностранца его редкую коллекцию марок. Естественно, я не собирал ее, но у филателистов не спрашивают, приобретал ли он свою коллекцию оптом или поштучно. Значение имеют сами марки, а не их бывшие собственники. Кстати, бывшего собственника купленных мною марок звали не Бауэром. — Ну, Лимманисом, как вы назвали его вашей жене. У гастролеров из иностранных разведок обычно десяток разных фамилий. — О своей профессии он мне не рассказывал. Речь шла только о марках. — Странно не это. Странно то, что пополняли вы свою коллекцию главным образом из зарубежных источников. — Европейский марочный рынок богаче нашего. — А связных для гастролей на этом рынке подыскивал вам Челидзе? — Об этом спросите его самого. Вы хотите спросить, почему сертификатами расплачивался Челидзе? — Допустим. — Потому что мне так было удобнее. Он избавлял меня от лишних хлопот. — Это он для вас пытался завербовать инженера Еремина? — Завербовать? Для меня? Не пугайте, гражданин следователь. В первый раз слышу эту фамилию. — Не лгите, Ягодкин. Челидзе с ним вел переговоры от вашего имени. Ведь Еремин шел к нам, чтобы рассказать об этом. Вот тогда он и был сбит, а точнее, убит вашим автомехаником. — Почему моим? Родионов обслуживал на станции десятки автомашин. И кстати, как мне рассказали, сбил случайно, пытался удрать от погони и в результате погиб сам в автомобильной аварии. — Но он ехал в машине с поддельным городским номером, а кроме того, в его бумажнике нашли несколько новеньких сотенных купюр, которыми кто-то мог заплатить за убийство Еремина. — И этот «кто-то» я? — Это выяснится на допросе Челидзе. Связь с Родионовым вы поддерживали через него. Ягодкин брезгливо морщится. Ведь он, по-видимому, уже осведомлен о побеге Челидзе. — Вот и копайте эту грязь без меня. С таких подонков она ко мне не пристанет. Исчезновение Челидзе позволяет Ягодкину вилять. Вероятно, он и далее будет пользоваться этим исчезновением, ускользая от самых «опасных поворотов» допроса. Что ж, попробуем все-таки остановить его на таком повороте. — С Немцовой вас познакомил Челидзе? — Возможно. — Отсюда и ваша близость к ней? — Нельзя игнорировать женщину с таким обаянием. Ни один холостяк не прошел бы мимо. — А почему вы так интересовались ее работой в области, мягко говоря, весьма далекой от ваших профессиональных забот? — Откуда вам это известно? — От самой Немцовой. Зачем, например, вы послали в ее институт под видом телефонного мастера того же Челидзе? — Она что-то путает. Вероятно, это была его инициатива. — Для чего? — Спросите у Челидзе. Я не смешивал своих и его интересов. Жирмундский снова подмигивает мне: пора, мол, переходить к Чачину. Я предоставлял ему инициативу. Жирмундский тут же переходит к допросу. — Как вам удалось спровоцировать Чачина? — При чем здесь провокация? От Челидзе я узнал, что Чачин едет в Западную Германию. Пригласил познакомиться, почему-то был уверен, что у нас обоих имеются обменные марки. Так и оказалось, даже уговаривать не пришлось. Коллекционер всегда поймет коллекционера. И хотя Чачин сам собирает советские марки, кто ж откажется от зарубежных новинок — для обмена хотя бы. Лично я послал Кьюдосу две новехонькие советские марки «Союз» — «Аполлон», ну а Чачин из своих мог обменивать любые дубли. — Взамен вы ничего не получите, — говорит Жирмундский. — Обе ваши марки у нас. И кладет перед Ягодкиным фотоснимок обоих марок с цифровой записью и листок бумаги с расшифрованным текстом. Ягодкин, не нагибаясь к столу, читает. Руки опять дрожат, а лицо, как в кино, крупным планом отражает все охватывающие его эмоции. Сначала только испуг, сознание того, что мы все о нем уже знаем, потом вдруг появляется отчаянно сопротивляющаяся мысль: не все, мол, еще потеряно, он еще может подняться. — Для меня это такая же новость, как и для вас. Марки для обмена доставил Челидзе. Я только передал их Чачину. А зашифрованный и замаскированный клеем текст не на моей совести. Предъявляйте обвинение Челидзе. Ягодкин знал, что его шаг отчаянный, надеялся, что Челидзе мы не нашли, что скрылся он глубоко и надолго. — Здесь сказано: инженер от вербовки отказался, пришлось устранить. А ведь вербовал его не я, а Челидзе. Я его и в глаза не видал. И устранил его Родионов не по моему приказанию, а по директиве Челидзе… Да и связной в институте — я даже не знаю, о каком институте идет речь, — не мой агент, а Немцова была связана с Челидзе теснее, чем со мной. Неужели же все-таки ускользнет от нас Ягодкин, скрывшись за спиной «альтер эго»? Ведь доказать мы можем только два его преступления: попытку с чужим паспортом бежать за границу и тайную вербовку его гитлеровской разведкой в первые дни войны. Но доказать, что побег был заплланирован и подготовлен самим Бауэром, мы не можем, а на гитлеровскую разведку он не работал ни в первые, ни в последние дни войны. Все остальное он отрицает, подставляя под удар исчезнувшего Челидзе. «Допрос Челидзе! А где мы найдем сейчас его точку на карте? Прочесать всю горную Сванетию? Сколько времени это потребует? Месяц, год, полтора, два? А если он не в горной Сванетии? Какие у нас данные, кроме разосланной фотокарточки?» Телефонный звонок прерывает мои раздумья. Странный телефонный звонок в минуты молчания, когда решается судьба человека. Я апатичен, Жирмундский морщится, Ягодкин вздрагивает: а вдруг это тот самый звонок, который ставит точку в его последнем слове защиты? Прав Ягодкин: это именно тот звонок! Я машинально подымаю трубку. Звонит Булат из Тбилиси. — Только что взяли Челидзе на даче его брата за городом. Не успели они сплавить его в Сванетию. — В Москву, — выдавливаю я с трудом застревающие в горле слова, — сейчас же в Москву. Предусмотрите все: охрану, доставку, передвижение по городу. И, не глядя на Ягодкина, нажимаю кнопку звонка на столе. Входит дежурный. — Уведите обвиняемого. На Ягодкина я уже не смотрю. Мне все равно теперь, как он выглядит, как реагирует на звонок, о чем размышляет. Жирмудский наклоняется над столом. — Откуда? Кто? — В Тбилиси арестован Челидзе. Теперь все! Конец. Точка. «Джиг-со». Спортивная картинка-загадка, представлявшая когда-то груду распилениых мелких кусочков, уже собрана до конца. «Сложи так» — говорит нам ее название, если заменить в нем не очень мешающие фонетике буквы. По крайней мере для иностранца.В лесу прифронтовом
1
Олег устал. Выбрался наконец на узкую просеку, перекрытую черно-белым шлагбаумом поваленной березы. Еще полчаса — и он дома. Остановился, закурил, пряча в ладонях синий огонек зажигалки. Моросящий с утра дождь вдруг кончился или, вернее, прекратился, прервался — на час, на день? Олег откинул промокший капюшон штормовки, сел на поваленный ствол, с наслаждением затянулся кисловатым дымом «Памира». В радиусе ста километров не было лучше сигарет, да и зачем лучше? А пижонская Москва с ее «кентами» и «пэлмэлами», далекая и нереальная Москва — не более чем красивое воспоминание о чьей-то чужой жизни. О жизни веселого парня по имени Олег, который вот уже четвертый год учит физику в МГУ, любит бокс, и красивую музыку, и красивые фильмы с красивыми актрисами, и не дурак выпить чего-нибудь с красивым названием… Ах, как красива жизнь этого парня, как заманчива, как увлекательна! Позавидуешь просто… Олег сидел на мокром стволе, курил «Памир», завидовал потихоньку. Дождь опять заморосил, надолго повис в красно-желтом, обнаженном лесу: холодный октябрьский дождь в холодном октябрьском лесу. Октябрь — четвертый месяц практики. Еще две недели — и нереальная Москва станет родной и реальной. А призрачным и чужим станет этот лес на Брянщине, сторожка в лесу, до которой полчаса ходу, и старковский генератор времени, так и не сумевший прорвать барьер между днем сегодняшним и вчерашним, непреодолимый барьер, выросший на оси четвертого измерения. Олег усмехнулся забавному совпадению: четвертый месяц четверо физиков пытаются пройти назад по четвертому измерению. Если бы изменить одну из «четверок», может быть, и удалось бы великому Старкову доказать справедливость своей теории о функциональной обратимости временной координаты. Но великий Старков, отягощенный неудачами и насморком, не верил в фатальность цифры «четыре», сидел в сторожке, в который раз проверяя расчеты. Бессмысленно, все бессмысленно: расчеты верны, теория красива, а временное поле не появляется. Вернее, появляется — на какие-то доли секунды! — и летят экраны-отражатели, расставленные по окружности с радиусом в километр, а центр ее — в той самой сторожке, где сейчас сопит злой Старков, где Димка и Раф продолжают бесконечный (почти четырехмесячный!) шахматный матч, куда Олег доберется через полчаса, не раздеваясь, плюхнется на раскладушку и… сон, сон до утра, тяжелый и крепкий сон очень усталого человека. Настройку экранов выверяли по очереди примерно два раза в неделю. Два пи эр — длина окружности с радиусом в километр, — шесть с лишним километров, да еще километр туда и километр обратно, и по сорок минут на каждый экран: вот вам пять потерянных часов от обеда до ужина. И так — четвертый месяц… Олег выкинул окурок, надвинул капюшон, зашагал по мокрому ковру из желтых опавших листьев, по мокрой черной земле, по лужам, не выбирая дороги. Все равно всюду как в песне: «Вода, вода, кругом вода». И холодные капли — по лицу, и в сапогах подозрительно хлюпает, и если у Старкова насморк, то Олег давно уже должен схватить воспаление легких, тонзиллит, радикулит и еще с десяток болезней, вызываемых чрезмерным количеством падающей с неба и хлюпающей под ногами воды. Они сами вызвались поехать со Старковым, никто их не заставлял, не уламывал. Однажды после лекций Старков подозвал их и спросил как бы между прочим: — Куда на практику, ребята? — Не знаю, — пожал плечами Олег. — Может быть, в Новосибирск, в Институт ядерной физики… — Стоит ли… — Старков поморщился. — Проторенная дорожка. — А где непроторенная? — Хотя бы у меня… Это не было самодовольным хвастовством: Старков имел право так говорить. Что ж, он поздно начал: помешала война. В сорок втором семнадцатилетним мальчишкой ушел в партизанский отряд, а в сорок пятом, уже майором действующей армии вернувшись из Берлина, поступил на физфак в МГУ. Вот так и шел в науке — с опозданием на четыре военных года (опять «четыре»: ну никуда не уйти от этой цифры!), аспирантура, кандидатская, потом лет десять молчания и — блестящая докторская диссертация, в которой он приоткрыл тайну пресловутой временной координаты. Двумя годами позже он уже теоретически обосновал ее, прославив свое имя в скупом на восторги мире физиков. И снова молчание: Старков разрабатывал эксперимент, которым хотел подтвердить теорию, казавшуюся почти фантастикой. Потом уже, когда они ехали в Брянск, погрузив на железнодорожную платформу генератор и детали экранов-отражателей, Старков объяснил причину своей таинственности: — Кое-что готово, а что — неизвестно. Не хочу раньше времени будоражить ученую братию. Не получится — смолчим, спишем на «первый блин»… «Первый блин» и вправду получился комом. Старков мрачнел, орал на ребят, но, кажется, смирился с неудачей. — Вернемся в Москву — доработаем. Идея верна, а где-то спотыкаемся. Помозгуем зимой, а будущим летом опять сюда. Идет? — Идет, — мрачно говорил Олег. — Куда ж мы теперь от вас денемся… Деваться было некуда: намертво затянуло. Казалось, они не хуже самого Старкова разбирались в теории обратного времени, что-то сами придумывали, что-то считали. — Не зря я вас в эту аферу втянул, — радовался Старков. — Кажется, толк из вас выйдет. — А диплом? — горячился Димка. — У нас диплом на носу! — Считайте, диплом готов: осталось только сесть и написать — плевое дело… У него все было «плевым делом»: пересчитать режим работы генератора, определить параметры поля, настроить экраны. — Раз-два — и готово! Не унывайте, парни: все пули — мимо нас… Дурацкая поговорка, оставленная партизанским политруком Старковым физику Старкову, казалось, решала любую проблему. «Все пули мимо нас!» — значит, все уладится, все будет «тип-топ». Он просто заражал своим бешеным оптимизмом даже там, где и повода для него не было. Иной раз Олег ловил себя на мысли, что потихоньку превращается в этакого бодрячка пионера: «Все мы горы своротим, если очень захотим». Понимал бессмысленность этого ничем не оправданного оптимизма, понимал отлично, но противостоять ему не мог. Есть такой термин: гипноз личности. Так вот, личность Старкова была настолько «гипнотична», что для сомнений просто не оставалось места. А честно говоря, и времени: работа съедала весь скудный запас, отпущенный человеку в сутки минус восемь часов на сон. Олег усмехнулся: а что же еще придумать можно? Кино в лесу нет, танцев тоже. Ближайшее село — семь километров пешкодралом. Летом эти семь километров не раз одолевали: посмотреть фильм в клубе или просто вспомнить, что есть на белом свете кое-что, кроме леса и физики. «Лесной физики», — шутил Старков. Он и лесное захолустье это выбрал потому, что когда-то здесь воевал. Село, куда они бегали в клуб, было тогда центром, где встречались связные, откуда уходили депеши на Большую землю и где даже староста был партизанским выдвиженцем. Какая погода стояла тогда, Олег не знал, но теперешняя была более чем несносна. Такие условия жизни должны приравниваться к особо трудным, тут не обойтись без повышенных коэффициентов, всяких там «колесных», «северных» — и пол-литра молока ежедневно за вредность. За молоком ходили по очереди в то же село — раз в неделю. За молоком, за картошкой, за хлебом, за мясом и так далее по прейскуранту местного сельпо. Прейскурант был невелик, приходилось кое-чем разживаться у колхозников: четырех отшельников уважали здесь за стойкость и «непонятность»; жалели и всегда охотно им помогали. За четыре месяца они, пожалуй, перезнакомились со всеми в деревне, благо и дворов тут было немного — десять или двенадцать. Олег подумал, посчитал в уме, вспомнил: точно, двенадцать дворов, сельпо и маленький клуб с киноустановкой — вот и все. Центральная усадьба колхоза располагалась подальше, километрах в пяти от села. Что и говорить, там и магазин был получше, и людей побольше, да только физики туда не забирались. Далеко и смысла нет. А продукты — вот они, полон лес. Бери ружье и стреляй. У Олега была старенькая тулка. Димка щеголял дорогой ижевской двустволкой. Старков владел истинным сокровищем — карабином. А Раф охоты не признавал. — Я в душе вегетарианец, — говорил он. — У меня на Божью тварь рука не поднимается. — Конечно, — язвил Димка, — вилку и нож ты ногой держишь. Эквилибрист… Кстати об охоте: погода погодой, а завтра надо бы сходить пострелять, тем более что после перенастройки экранов Старков целый день новый режим считает. Значит, карабин даст. Да и как не дать: Олег стреляет «по мастерам», давно норматив выполнил. Старков сам не раз говорил: — Ты у нас — супермен, брат. Тебе бы не временем, а конем управлять. С кольтом на бедре… Вон ту шишку видишь? Собьешь ее одним выстрелом? Олег не отвечал, вскидывал карабин, прицеливался — бах! — шишка исчезала с ветки, где-то за деревьями падала на траву. — Молодец, ковбой, — хвалил Старков. — Воевал бы здесь со мной — в отряде бы тебе цены не было. А посидим мы еще пару месяцев в этой глуши, похлестче меня стрелять будешь. Сам Старков стрелял мастерски, почти не целясь, навскидку, по любой мишени — птица ли, шишка или подброшенная в воздух бутылка из-под пива. Олег гнусно завидовал ему, но даже ради великой цели перещеголять шефа он не согласился бы на «еще пару месяцев». Хватит и двух оставшихся недель, насиделись. До будущего лета! В том, что будущим летом они снова вернутся в лесную сторожку, Олег не сомневался. Зимой диплом по теме Старкова, работа на кафедре и в лаборатории. Надо бы экран усовершенствовать: кое-какие идеи у Олега имелись, правда, он еще не говорил о них шефу. А у самого Старкова идей полным-полна коробочка. Не исключено, что новый генератор — Старков явно не верит уже в этот старый! — заработает на другом принципе. Ну да ладно, не будем загадывать… Олег выбрался на опушку леса к реке, свернул с просеки, двумя наезженными колеями убегавшей вдоль речки. Чуть в стороне, у некрутого обрыва, врос в землю бревенчатый дом. Олег прошел по мокрой траве к крыльцу, долго обтирал сапоги о ржавую железяку, прибитую к порогу, толкнул дверь в темные сени, с наслаждением сбросил намокшую штормовку, сапоги, в одних носках вошел в комнату. Все было почти так, как он себе и представлял по дороге. Димка и Раф играли в шахматы, на столе у Старкова привычный беспорядок — исписанные листы бумаги, набор цветных фломастеров, логарифмическая линейка. Самого Старкова в комнате не было. — Привет всем, — сказал Олег. — Поесть оставили? Димка передвинул ладью и сказал задумчиво: — В кастрюле на печке… Ты чего так долго? Шеф уже плакался… — О чем? — удивился Олег, торопливо поглощая полуостывший борщ. — Боялся, что не успеешь проверить экраны. — Почему такая спешка? Закончил бы завтра… — Завтра — опыт. В восемь ноль-ноль. — Опять?! — Олег даже поперхнулся от возмущения. — На том же режиме? Тогда пусть он сам экраны настраивает. — Шах, — сказал Димка. — А вот так, так и так — мат… Настраивать не придется: режим пересчитан. У шефа — новая гениальная идея. — Идея действительно неплоха, — сказал вежливый Раф. — Он нам рассказывал: ускоряем проход минус-вектора и выигрываем стабильность поля… А мата нет, Димка: ухожу конем на эф шесть. Димка схватился за голову: — Где конем? Откуда конь? Ах я дурак… Олег понял, что от этих очумевших гроссмейстеров толку не добьешься, доел борщ и лег спать. Старый принцип, гласящий, что утро мудренее вечера, давно и прочно вошел в быт четырех «отшельников». Железный Старков требовал железной дисциплины, а подъем в шесть утра в эту осеннюю слякоть даже у примерного Рафа вызывал неудержимую сонливость. Разве с нашим шефом поспоришь, думал Олег. Он если не убеждением, так силой заставит слушаться. Никакой демократии: тирания и деспотизм… Потом он заснул, и ему снился дождь — мелкий, промозглый, мокрые листья на мокрой земле, низкое свинцовое небо и странный, словно стеклянный воздух, в котором луч света, как в призме, ломается пополам.2
Луч света, сломанный пополам — признак возникшего временного поля, — они уже не раз видели наяву. Да что толку: поле возникало и мгновенно исчезало, выводя из строя экраны в километре от генератора. — Сегодня все будет прекрасно, — сказал утром Старков. — У меня предчувствие такое… — А вы не верьте в предчувствия, — мрачно пророчествовал Олег. — Вы в статистику верьте: точная наука. — Ставлю тебе двойку, ковбой. Напомни по приезде — впишу в зачетку. Статистика требует абсолютно одинаковых условий эксперимента. А у нас каждый раз — иные… — И каждый раз — стрельба в Божий день… Старков не обиделся. Он и сам любил подтрунивать над своими студентами, а к незнанию был просто безжалостен: высмеивал, не думая о последствиях. А какие последствия могут быть? Есть у «жертвы» чувство юмора — поймет, не полезет в бутылку. А нет, так и жалеть нечего. — В физике ко всему нужно относиться с иронией, — любил говорить Старков, — так легче скрыть невежество и прослыть большим знатоком. Он свято следовал этому принципу и относился с иронией ко всему, даже к собственным идеям. — Что же касается предчувствий и пророчеств, — втолковывал он Олегу за завтраком, — то нам с вами верить в них просто необходимо. Ты историю вспомни, кто имел дело с Временем? Предсказатели, прорицатели, ясновидцы. И предсказываю: сегодня опыт удастся. Не верите? Посмотрим… И кто его разберет, шутил он или верил в свои предчувствия. Да Олег уже и не пытался разобраться в этом. Посмотрим, сказал Старков. Что ж, посмотрим… Они стащили с генератора полихлорвиниловый чехол, выверили индикаторы, подключили питание. Старков долго устанавливал настройку поля, то и дело сверяясь с записями. Потом Димка — эту почетную обязанность он с первого дня присвоил себе — торжественно зажег электрический фонарик, направив его луч туда, где должно было родиться поле обратного времени, развернуться, захватив все пространство между экранами, расставленными в лесу, и — если повезет, конечно, — продержаться хотя бы минуту: это уже будет победа! — Готов, — сказал Димка хрипло, и Олег подумал, что он волнуется: кажется, и вправду поверил в предвидение шефа. — Поехали, — скомандовал Старков и включил генератор. Стрелка на индикаторе напряженности поля дрогнула и медленно качнулась вправо. — Только бы задержалась, — умоляюще прошептал Раф. И стрелка послушалась: застыла на секунду на первом делении шкалы, опять дрогнула и уверенно поползла вправо. Тонкий лучик карманного фонаря вдруг согнулся под тупым углом, ткнулся в пол. — Есть поле, — снова прошептал Раф, и Олег оборвал его: — Подожди. Смотри… Оглушительно — так казалось Олегу — тикал секундомер: десять секунд, двадцать, пятьдесят… И случилось невероятное: луч фонаря медленно передвигался по полу, пока не вернулся в исходное положение — параллельно земле, но стрелка на шкале осталась на месте — на красной черте, говорящей о том, что поле стабилизировано. Первым пришел в себя Старков. Нарочито равнодушно достал сигарету, закурил, сказал презрительно: — Кто-то здесь не верил в предвидение. Не передумал? Но Олег не желал играть «в безразличность», не сдержался, стиснул Старкова в объятиях: — Вы знали, знали, да? — Откуда? — отбивался Старков. — Отпусти, сумасшедший! Но на нем уже повисли и Димка, и Раф, подхватили его, подбросили, подкинули еще раз. Они орали что-то нечленораздельное, бесновались, приплясывали. А стрелка по-прежнему прочно держалась на красной черте. — Ну все, — удовлетворенно сказал Старков, вырвавшись наконец из восторженных объятий своих «подданных». — «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». «Броня крепка, и танки наши быстры». Пойте, мальчики, ликуйте. Сегодня вечером объявляю большой бал-маскарад. — В честь события склею вам маску Мефистофеля, — подыграл ему Димка. — Накинув плащ, с гитарой под полою… А вежливый Раф поинтересовался: — Поле сохраним или выключим? — Сохраним, — беспечно сказал Старков. — Давайте жить в другом времени. — А экраны? — не отступал Раф. — Полететь могут… Старков подозрительно посмотрел на него: — Что ты так волнуешься за экраны? — Его очередь настраивать, — мстительнообъяснил Олег. — Чушь, мальчики, чушь! — Старков вставил в самописец новый рулон миллиметровки, еще раз поглядел на стрелку, застывшую на красной черте. — Пошли отсюда. Экраны чинить не будем: полетят — и ладно. В Москве починим. Да, — он обернулся к Рафу, — все же очередь пропускать не след: оставайся-ка ты подежурить у генератора. А через час тебя Дима сменит. Идет? — А что вы будете делать? — Дойдем до сельпо, купим кое-какие принадлежности для бала-маскарада. — Шампанского возьмите, — попросил Раф, устраиваясь на единственном стуле. Перспектива просидеть этот час под крышей явно устраивала его больше, нежели путешествовать под дождем в деревню. — Только не больше часа. — Терпи, парень, — сказал ему Старков на прощанье. — Робинзонада подошла к счастливому концу. Я уже говорил: все пули мимо нас. Разве мог знать провидец Старков, что его любимое присловье обернется для них в этот день страшным и реальным кошмаром?3
В сторожке Димка набил рюкзак пустыми бутылками. Олег вооружился спортивной сумкой. Старков — по праву именинника — шел налегке. Они пошли вдоль реки, чтобы — по предложению Старкова — осмотреть пару экранов и понаблюдать за поведением возникшего возле них поля. — Не за час, так за два обернемся, — сказал Старков. — А с Рафом ничего не случится — подождет: я ему детектив оставил. Жгучие тайны Питера Чейни. Дотошный Олег приступил к выяснению подробностей удавшегося наконец эксперимента. — Вот скажите мне, — рассуждал он, — если поле стабилизировано, то в каком времени мы сейчас живем? Если в сегодняшнем, в нашем, то, значит, поле никак не влияет на настоящее. А я склонен предположить именно это… — Почему? — полюбопытствовал Старков. — Сторожка на месте. Пустые бутылки — тоже. Мы идем в сельпо именно сегодня, а не вчера и не завтра. Лес не изменился: те же деревья, та же осень. И дождь льет тот же, что и до опыта. Логично? — Нет, конечно. К примеру, сторожка была здесь и вчера, и год назад. И осень началась не сегодня. И дождь уже который день поливает. И в прошлом году небось поливал. И лет десять назад. А то, что мы идем в сельпо сегодня, так это иллюзия. Для нас — сегодня, а на самом деле — позавчера. Логично, философ? — Но что-то должно было бы измениться, — не сдавался Олег. — Что именно? — Не знаю. Ваша теория, между прочим, тоже ничего здесь не объясняет, — позлорадствовал он. — Моя теория, — наставительно сказал Старков, — говорит следующее: временное поле не меняет настоящее, тут ты прав. Но оно может приносить с собой какие-то элементы своего времени, вероятно прошлого. Какие элементы — этого я не знаю. Вообще-то в моей теории столько белых пятен, что ее скорее можно назвать гипотезой. — Старков поскромничал, но не удержался — добавил: — Правда, гипотезой, подтвержденной экспериментом. Они свернули в лес, продрались сквозь кусты орешника, выбрались на узкую лесную дорогу — по ней вчера Олег добирался домой, — мокрые с ног до головы: во время дождя из чащи кустарника сухим не вылезешь. Олег встряхнулся по-собачьи, выругался сквозь зубы: проклятая погода, проклятый лес — и вдруг прислушался: — Где это? Где-то совсем рядом, быть может метрах в трехстах, надсадно заревел грузовик. Это был именно грузовик: Олег хорошо разбирался в машинах! — и двигатель ревел потому, что не в силах был вытащить тяжелую машину из липкой дорожной грязи. — Сели, — констатировал Олег. — Интересно, кто это? — Пошли посмотрим, — предложил Димка. — Все равно по пути. Они шли, хлюпая резиновыми сапогами по лужам, Димка громыхал стеклотарой в рюкзаке, что-то приглушенно насвистывая. Старков и Олег вели бесконечный теоретический спор о проблемах обратимого времени. Димку спор не интересовал, он слышал его много раз, может быть только в других вариантах, но суть не менялась. «Псих Олег, — беззлобно размышлял Димка. — Ну чего он лезет в эту трясину? Старков его слушает, ждет, когда он начнет захлебываться, подтащит к берегу и опять отпускает: побулькай, малыш. У Старкова это называется „тренинг мышления“. Судя по всему, я к этому тренингу абсолютно не способен…» Он шел впереди — Олег и Старков отстали шагов на десять, — и, быть может, именно поэтому он первым услышал голоса людей с застрявшей машины. Машина время от времени надсадно ревела, потом шофер выключил зажигание, и наступила тишина, в которую и прорвались фразы, почему-то не русские, а немецкие. Говорили не как преподавательница немецкого в Димкиной школе, а чисто, даже грассируя. — Пошевеливайся, скотина! — как понял Димка, кричал один надсадно и хрипло, и тоненько, по-скопчески отвечал другой. — Я послал троих за сучьями, герр оберштурмфюрер. Слышите — уже работают. Через пять — десять минут выберемся. В лесу раздавался топор дровосека, совсем как в знакомом стихотворении. — Что за комедия? — обернулся Димка к Старкову. — Киносъемка, что ли? Старков не ответил. Он отстранил рукой Димку, приложил палец к губам: молчите, мол! — прошел вперед до поворота, остановился прислушиваясь. Двигатель снова заурчал, и тот же баритон сказал строго: — Не мучай машину, болван. Его величество гневается и вполне может залепить тебе пару суток карцера. Ганс с ребятами принесут сучья, и мы вылезем из этой русской грязи. Олег и Димка с удивлением смотрели на странно побелевшее лицо Старкова: испугался он, что ли? — Что они говорят? — спросил Олег. Немецкого он не знал. — Тихо! — вполголоса приказал Старков, и было в этом приказе что-то незнакомое, чужое: пропал Старков-весельчак, Старков-шутник и неунывака, появился другой — властный и жесткий. — Тихо! — повторил он. — Назад в лес! Они прошли за ним, подчинились — недоумевающе, молча переглядывались, продираясь сквозь мокрый кустарник, остановились у разлапистой высокой березы, еще не потерявшей желтой листвы. — Ну-ка, давай наверх, — приказал Димке Старков. И Димка — сам себе удивлялся! — не задавая лишних вопросов, схватился за нижнюю ветку, подтянулся сквозь потоки дождя с дерева, проворно полез вверх. — Посмотри, кто это, — сказал ему Старков, — внимательно посмотри и быстро спускайся. — Он обернулся к Олегу и пояснил: — Береза высокая. С нее всю дорогу видно: сам проверял… Димка, уже добравшийся почти до верхушки, издал какое-то восклицание: удивился не удивился, охнул вроде. А Олег подумал, что Старков почему-то темнит, — знает о чем-то, а говорить не хочет. Ну что он предполагал увидеть с березы? Застрявшую машину? Так зачем такая таинственность? Выйди на дорогу и посмотри… По-немецки они разговаривают? Ну и что? Может быть, действительно киносъемка. На натуре, как это у них называется. Он все еще недоумевал, когда Димка буквально скатился вниз, доложил задыхаясь: — Две машины. Одна грузовая, фургон: она-то и села… Другая — маленькая, «газик», по-моему. Вокруг — человек тридцать. Подкапывают землю и слеги под колеса кладут. Только… — Он замялся. — Что — только? — Старков подался к нему. — Только одеты они как-то странно. Маскарад не маскарад… — Форма? Димка кивнул: — Черная. Как у эсэсовцев. Может быть, и в самом деле кино снимают. — Может, и снимают… — протянул Старков, замолчал, о чем-то сосредоточенно думая, медленно закурил. Молчали и ребята, ждали решения, знали, что оно будет: когда Старков так молчал, значит, жди неприятностей — проверено за четыре месяца. — Вот что, парни, — сказал Старков. — Может быть, я — старый осел, тогда все в порядке, а если нет, то дела плохи: влипли мы с вами в историйку. Сейчас быстро идем домой, забираем Рафа и будем решать… — Что решать? — чуть не закричал Олег. Старков поморщился: — Я же ясно сказал: тихо! А решать будем, что делать в создавшейся ситуации. — В какой ситуации? — Дай Бог, чтобы я ошибся, но, кажется, наш удачный опыт получил неожиданное продолжение. По-моему, эта машина и эти люди в маскарадных костюмах — гости из прошлого. Помнишь наш спор, Олежка? Олег вздрогнул: чушь, бредятина, не может этого быть! Прошлое необратимо. Нельзя прокрутить киноленту Времени назад и еще раз просмотреть кадры вчерашней хроники. Теория Старкова верна — бесспорно! Но человеческая психика — даже психика без пяти минут ученого! — не в силах поверить в ее практическое воплощение. Ну существует же где-то предел реального? А за ним — пустота, ноль в степени бесконечность, бабкины сказки или просто фантастика. Олег оборвал себя: рассуждает, как досужие сплетницы на лавочке у подъезда. Та же логика: этого не может быть, потому что не может быть никогда. Нет такой формулы! Все может быть, если это «все» — наука, а не мистика. А где тогда граница между наукой и мистикой? То, что поддается научному объяснению, — наука. Удобное положение… А если завтра оно объяснит какое-нибудь мистическое явление? Мол, так и так: научное обоснование, графики и таблички, точный эксперимент и — никакой мистики. Такое бывает? Еще как бывает! Все сегодняшние достижения цивилизации когда-то показались бы мистикой даже самому просвещенному человеку. Электрическая лампочка? Ересь, фокусы! Искусственное сердце? На костер еретика врача! Да что там ходить за примерами: временное поле Старкова — тоже, в сущности, мистика. Или так: было мистикой до сего дня. А сейчас оно действует вполне реально. Вон какой подарочек принесло — берите, радуйтесь… А чему радоваться? Гостям из прошлого? Но они не знают, что попали в будущее. Да и узнали бы — не поверили! А гости, судя по всему, агрессивные. Они существуют тридцать с лишним лет назад, вешают, стреляют, поджигают. Они еще не знают, что их ждет завтра: для них — завтра, для нас — вчера. Они еще уверены в своей непобедимости. Они еще чувствуют себя хозяевами на нашей земле. Они еще живут — эти сверхчеловечки из учебника новейшей истории… — Интересно, из какого они года? — вдруг спросил Димка. — Не все ли равно? — отозвался Олег. — Сорок первый тире сорок четвертый. — Как раз не все равно. В сорок первом они наступали, а в сорок четвертом драпали. Есть разница? В разговор вмешался молчавший до сих пор Старков: — Разница есть, конечно, но для нас она не принципиальна. Год, вероятно, сорок второй — я тогда партизанил в этих лесах. А каратели, может быть, те же самые, что и тогда поджигали и вешали. Главное, что это враги, мальчики. И мы им — враги. И наплевать им, что вы все еще не родились. Попадись на глаза — пристрелят без сожаления. — Так что же нам — прятаться и дрожать от страха? — Олег спросил это с усмешечкой, но и Старков и Димка знали его «усмешечки»: Олег медленно приходил в ярость — верный признак. И Старков сказал спокойно: — Прятаться — да. А дрожать от страха, ясно, не будем. У нас три ружья против тридцати автоматов. Соотношение один к десяти. А что такое дробовик против «шмайссера»? Улавливаешь? — Не улавливаю, — зло отрезал Олег. — И с тремя ружьями кое-что сделать можно. Да и от заряда дроби в глаза не поздоровится. — Если попадешь, — добавил Старков. — А Димка не попадет, и Раф тоже. А у меня опыт есть, простите за нескромность. И поэтому вы будете подчиняться мне беспрекословно и точно. Вот тогда три ружья смогут принести пользу. Ясно? Ясно? Конечно ясно, что ж тут неясного. И нельзя было не подчиниться этому командирскому тону, этой доселе неизвестной им воле и силе человека, который умел весело шутить и смеяться, умел петь хорошие песни и знал повадки птиц и зверья, любил читать вслух Пастернака и Блока и создавал «сумасшедшие» теории. Но, оказывается, он умел еще быть жестким и сильным, умел приказывать и заставлял повиноваться. Словом, был физик Старков. И не его вина, что он опять превратился в партизанского комиссара Старкова. — Как ты думаешь, — спросил он Димку, — долго ли они еще провозятся на дороге? — Минут тридцать — не меньше. Может, и час. Здорово сели: больше чем на полколеса. — Вот что, — принял решение Старков. — Лезь на елку, следи за ними и жди нас. — Есть следить и ждать, — отрапортовал Димка, и Старков улыбнулся: — Вольно, солдат. Не скучай. Мы быстро. Он хлопнул Олега по спине, подтолкнул вперед, пошел следом, ступая на зависть Олегу почти бесшумно. — Патроны в ящике под столом, — сказал им вслед Димка. — Берите побольше. И Олег невольно вспомнил когда-то читанное о патронах, о снайперах, о партизанах в книгах о Великой Отечественной. Она окончилась тридцать лет назад и вновь началась для них — юнцов послевоенных лет, началась неожиданно и страшно в мокром осеннем лесу под Брянском, который знал и помнил войну: до сих пор еще колхозные ребятишки находят то стреляную гильзу, то ржавую каску. Что ж, возможно, сегодня к их «трофеям» прибавятся и другие — поновей…4
Раф сидел на табуретке у гудящего генератора и читал Чейни, смешно шевеля губами: видимо, переводил текст. Американский сыщик Лемми Кошен успешно боролся с гангстерами вот уже семьдесят страниц, а оставшиеся сто двадцать манили Рафа нераскрытыми тайнами, отвлекая его и от воспроизведенного времени, и от своего реального. Он и забыл, что через полчаса должен смениться. Войдя в сарайчик, Старков прежде всего взглянул на датчик: стрелка словно заклинилась на красной черте. На экране осциллографа текла ровная зеленая линия: на несколько делений выше расчетной. Поле не исчезало, однако напряженность его выросла раза в полтора. Старков, честно говоря, и не надеялся на такую удачу, когда еще планировал опыт. Но он не ждал и той беды, которую принесла негаданная удача. Если бы его сейчас спросили, зная о возможности «пришельцев» из прошлого, начал бы он опыт или нет, Старков не задумываясь ответил бы: нет, не начал. Бог знает, чем грозит пришествие «гостей»! Может быть, они исчезнут так же, как появились. А может быть… — Почему так рано? — поинтересовался Раф, отрываясь от книги. — Магазин закрыт? — Закрыт, — сказал Олег. — Дорога к нему закрыта. — Землетрясение? — сыронизировал Раф. — Лесной пожар? Или речка Незнайка вышла из берегов? Старков поморщился: — Не время паясничать. Беда, Раф… Раф швырнул книгу на пол и встал: — Что случилось, шеф? — На дороге застрял грузовик с гитлеровцами, — выпалил Олег. Раф обиделся: — Кто из нас паясничает? Ситуация и вправду была комична. Старков усмехнулся, сказал торопливо: — Олег не шутит. Гитлеровцы действительно появились из прошлого. Те же, что шуровали когда-то в этих лесах. Раф был вежливым мальчиком. Вежливым и немногословным. Когда он что-то недопонимал, он задавал вопрос, как правило, самый точный и самый нужный. — Поле? — спросил он. И Старков в который раз удивился его способности воспринимать всерьез то, что другой счел бы неумным и грубым розыгрышем. — Поле, — подтвердил он. — Неожиданный «подарочек» тридцатилетней давности. Неожиданный и опасный. Но Рафа, казалось, это не взволновало. — Вы не предполагали такого эффекта? — Нет, — сказал Старков. Ему не хотелось ввязываться в теоретические рассуждения, да и времени не было, но от Рафа так просто не отделаешься: он должен сначала все для себя уяснить — подробно и точно, а потом принять решение. — А если отключить поле? — допрашивал он. — Не знаю, не знаю, — быстро сказал Старков. — Не исключено, что искусственное отключение поля уберет обратное время, но эффект «гостей» может и не исчезнуть. — И подумал, что название вполне подходит к случаю. Надо будет впоследствии «узаконить» его. И усмехнулся про себя: о чем ты сейчас думаешь, балбес ученый, когда рядом — опасность, не из детектива, брошенного на пол, а самая настоящая, стреляющая и безжалостная. — Кончай допрашивать, Раф, — отрезал он. — Будем живы, все объясним. Нельзя выпускать их из сферы действия поля: тогда скорее всего они вместе с ним и исчезнут. — Хорошее доказательство удачного эксперимента, — то ли серьезно, то ли шутя проговорил Раф. Старков сдержался. Очень хотел дать волю если не рукам, то словам, но сдержался: не время ссориться. Пусть говорит что хочет: мальчишка, сопляк. Умный, способный, но — все-таки мальчишка, с гонором, с фанаберией. Пожалуй, для него этот день будет самым сложным — смешочками не отделаешься. Старков сдержался, но Олег не любил и не умел прятать эмоции. Он рванулся к Рафу, схватил его за ворот штормовки. — Думаешь, что лепишь, гад? — задыхаясь, крикнул он. — Там Димка один, а ты здесь вопросики задаешь… Старков взял его за руки, потянул на себя: — Не дури. Пошли отсюда. Время дорого. Олег неохотно отпустил Рафа, повернулся и направился к выходу. Раф одернул штормовку, пошел следом, на ходу обернулся: — Что же вы собираетесь делать? — Задержать их, — помедлив, ответил Старков и, словно сам себя уговаривая, подтвердил: — Вероятнее всего, они направляются в деревню. Она всегда была у них на подозрении — по личному опыту знаю. Деревня за пределами поля. А если им удастся прорваться? Кто знает, что последует. Задержать их надо во что бы то ни стало. Любой ценой. — И надолго? — Раф уже стоял в дверях. — Не знаю, — в который раз повторил Старков. Он понимал, что эта спасительная формула еще не раз избавит его от ненужных, да и маловероятных объяснений. То, что они не нужны сейчас ни ему самому, ни ребятам, было ясно: обстановка требовала действий, а не рассуждении. А вот вероятность этих действий представлялась Старкову хотя и не слишком, но все же реальной. Скажем, ноль целых двадцать пять сотых — немалая цифра, как ни крути! А рассуждал Старков так: напряженность временного поля выросла из-за присутствия «гостей». Так сказать, не учтенный расчетом дополнительный фактор. «Гости» принадлежат полю. С полем появились и с полем исчезнут. Так думал Старков, во всяком случае, хотел так думать. Можно было бы попробовать, конечно, отключить генератор, как предлагал Раф, но Старков боялся: оставшиеся семьдесят пять процентов вероятности отпугивали, требовали повышенной осторожности. В конце концов, генератор не рассчитан на такую высокую напряженность: через час-два экраны начнут выходить из строя, после исчезнет само собой, и вместе с ним, по всей вероятности, исчезнут и «пришельцы», поскольку вне поля Старков не мыслил их существования. Вот так он и думал, во всяком случае, хотел так думать. А что касается вздорной мысли не выпускать их из зоны экранов, так не такая уж она и вздорная: поле полем, но не пропадут же «гости», если выйдут из него. То есть по теории-то должны пропасть, но уж как-то не вяжется это с реальностью. Вот вам тридцать живых и здоровых мужиков, едут себе спокойненько, песни распевают и вдруг — исчезли, испарились. Ну конечно же, конечно, они существуют в своем времени, только в своем, а в нынешнем их нет, убиты они здесь же или где-нибудь под Орлом или Курском. Но… и в сотый раз Старков вспоминал это проклятое «но»! А если не исчезнут? Если прорвутся? Что тогда? В нескольких километрах — деревня, еще дальше — другая. Там люди, которые ни сном ни духом не помышляют об опасности. О такой опасности! Они и воевать-то давно разучились, а большинство и не умело, как Раф, Димка или Олег. Их надо предупредить, заставить поверить в реально существующую опасность, какой бы нелепой она ни казалась. Старков прикинул: кто может пойти? Раф? Пожалуй, он справился бы с этой миссией лучше других: сумеет убедить. Но ведь он сам не очень-то верит в «гостей», куда же ему еще убеждать кого-то!.. Может быть, Олег? Нет, не подходит: не оратор. Думать умеет, стрелять умеет, работать умеет, и еще как, а вот говорить не научился. Это ему попортит кровушки: в науке говоруны подчас стоят больше молчальников… Лучше всего пойти самому. Но это значит оставить трех сосунков, не нюхавших боя, на верную гибель. На почти верную. Бой не любит новичков, как бы храбры они ни были… Значит, остается Димка. За это время он небось досыта нагляделся на взвод «гостей», поверил в них так, как и сам Старков. А объяснить колхозникам невероятное существование машины, воскрешающей годы войны, пожалуй, сумеет не хуже Рафа. Но Димка умеет стрелять, а Раф нет. Значит, все-таки Раф?.. Старков вышел из сарая, где по-прежнему гудел генератор, может быть чуть громче, чем следовало бы, — пошел к сторожке. Навстречу ему бежал Олег, обвешанный оружием: карабин Старкова, собственная тулка, в руке — сумка с патронами. Раф шел сзади, перекинув через плечо двустволку. — Ловите! — Олег на ходу кинул Старкову карабин, и тот поймал его, ощутив холодную сталь ствола. Вот когда он вспомнил, что не охотничье это оружие — боевое. И может быть, впереди у них — тот самый бой, где он будет очень кстати, это семизарядный симоновский карабин. А может быть, боя не будет. Старков очень хотел, чтобы его не было…5
Димка сидел под деревом и ждал. Он уже вдоволь насмотрелся на беспомощно суетящихся эсэсовцев и решил, что дальнейшее наблюдение за ними довольно бессмысленно: ну потолкают машину, ну земли под колеса покидают, веток, хвороста — раньше часа им все равно отсюда не вылезти. Дурак водитель затащил тяжелую машину в заведомо непролазную грязь. Небось начальство не наградит его за это Железным крестом. Как там у них делалось? За провинность — на Восточный фронт… Он усмехнулся: вот она — инерция книжных знаний. Это же и есть Восточный фронт — для них, конечно. Или, вернее, был. Вот так он и выглядел, наверно, осенью сорок второго года. Холодно, дождь моросит, дорога непроходимая, мокрота, лес, болота. Взвод карателей направляется на очередную «операцию» в близлежащую деревню. Всего второй год войны, они еще самоуверенны, только торопятся. Офицеры покрикивают, подхлестывая и без того надрывающихся в болотной грязи солдат. Ясно: боятся партизан. Хороши партизаны, внутренне усмехнулся Димка. Три дробовика, если двустволку считать за два, да один карабин — единственное стоящее оружие. Зато у этих четырех стволов при всей слабости их огневой мощи есть одно преимущество — эффект внезапности. И вдруг Димка ужаснулся ленивой будничности этой по сути страшной мысли. Какая, к черту, огневая мощь? Они физики, ученые, а не вояки. Они сюда работать приехали, а не стрелять. В людей стрелять, в таких же, как он, из плоти и крови, как Олег, как Старков, как их сельские знакомцы. Димка даже представить себе не мог, что придется — сейчас или через десяток минут! — вскинуть ружье, хладнокровно прицелиться, поймав на мушку черный мундир на дороге, нажать на спусковой крючок… Сумеет ли он это сделать: ведь не научили. В тире стрелять по мишеньке с кружочками — учили. А в людей — нет. И ненавидеть не учили. И никто пальцем не тыкал: вот, мол, враг, убей его. Просто врага не было. Живого… А в учебнике истории вдохновения немного: такая-то дата, такое-то сражение — выучить и сдать. Димка любил смотреть фильмы о войне. Он умел красиво поговорить о методе «ретроспективы» в военной теме, о режиссерских находках, об использовании хроники в сюжетной канве. Но, в сущности, он оставался тем же самым мальчишкой с Можайки, который бегал в «Призыв» на дневное кино «про войну». Так же переживал в душе за героя. Так же рвался за ним в штыковую атаку. Так же вполголоса пел с ним за дощатым столом в землянке. Все поколения мальчишек когда-то играли «в войну». А потом игра начиналась «всерьез», и вчерашние мальчишки уходили на фронта гражданской, финской, Великой Отечественной. А потом — кто вернулся! — те уже смотрели на своих мальчишек, повторяющих их детство, и думали: не дай Бог им пережить с наше… Димкиному поколению повезло. Вот он — «типичный представитель советской молодежи» — успешно закончил школу, тянет лямку в университете, подумывает об аспирантуре. Война оставалась для него только игрой. Ах, не доиграл он в нее, не закончил: мать позвала из окна или школьный звонок прозвенел. Только осталась живой в нем детская страсть к оружию всех систем: бах-бах, Димка, я в тебя попал, падай, чур, не игра!.. Так вот она, «чур, не игра», Димка. Все просто в раскладе: вот враг, вот свои — действуй, парень. А как действовать, если этой зимой путешествовал по ГДР, был в Берлине, в Дрездене, в Ростоке, пил пиво с прекрасными парнями с физфака Берлинского университета, пел «Катюшу» и «Левый марш», и никто не вспоминал о войне, о том, что, может быть, отец Димки сражался против отцов этих прекрасных парней с физфака, — никому до этого дела не было. А сейчас есть дело, Димка? Вдруг один из черномундирников станет отцом кого-нибудь из тех немецких ребят? Ты сумеешь в него выстрелить, убить его? Да нет же такой проблемы, нет: это только стык времен, а не само время, это иллюзия реальности, а не живая жизнь. Ой, Димка, не крути хоть сам с собой: это именно реальность, хотя и вчерашняя. Это враги, Димка, о которых ты знаешь по книгам и фильмам. Это война, Димка, которая все-таки достала тебя. И ты будешь стрелять, потому что в семи километрах отсюда люди, не подозревающие, что в их край вернулась война. Ты будешь стрелять ради них, Димка, понял? Он понял. Он встал и пошел навстречу Старкову с ребятами. Он знал совершенно точно, что сумеет выстрелить — первым, если понадобится. А там, как говорит уважаемый шеф: все пули мимо нас! — Ну, как там? — спросил его Старков. — По-прежнему, — сказал Димка. — Где ружьишко? — Получи. — Олег протянул ему двустволку и сумку с патронами. Димка деловито откинул стволы, вогнал в них патроны. — Надо предупредить колхозников, — сказал он. — Пойти должен Раф. И Старков удивился даже не тому, что для Димки никакой проблемы не существовало (пойдет Раф — и точка!), а тому, как это было сказано: сухо, коротко — обсуждению не подлежит. И даже Раф не стал по своему обыкновению возражать и ломаться, спросил только: — А что я им скажу? Они же не поверят… — А ты скажи так, чтоб поверили, — объяснил Димка. — И пусть подготовятся к нападению: мало ли что… — Он все же не справился с ролью командира, вопросительно взглянул на Старкова: то ли я говорю? И Старков кивнул утвердительно, добавил: — Сюда никого с собой не веди. Надеюсь, помощь не понадобится: боя не будет. А сам останешься в деревне: проследишь за подготовкой к обороне, и без паники. — Зачем? — запротестовал Раф. — Объясню им все и вернусь… — Ты знаешь слово «приказ»? — спросил Старков. — Так вот, это приказ. И запомни: мы на войне. А ведь даже в мирное время приказы не обсуждаются. Иди. И будь осторожен. Обойдешь их с севера. На дорогу даже носа не высовывай. И помни: все пули мимо нас… Раф недовольно — может быть, подчеркнуто, слишком подчеркнуто, — пожал плечами, поднял воротник куртки, пошел ссутулившись, сначала медленно, потом обернулся, улыбнулся неожиданно, сказал озорно: — Предупрежу и вернусь. Привет! — И, не дожидаясь ответных реплик, рванул в кусты, только брызги посыпались. Старков тоже улыбнулся: ну что будешь делать, вернется, конечно, не может не вернуться, он и слова-то «приказ» толком не знает, ему не приказывали — просили, требовали, предлагали, а железное «надо» ему вполне заменяли вольные «может быть» и «неплохо бы». Вот почему Старков все-таки улыбнулся — не до воспитания, нет времени, — пожал плечами, сказал Димке: — Придется тебе еще раз заняться акробатикой… Димка кивнул, отдал ружье Олегу, полез на дерево. — Все еще возятся, — сказал он. — Сучьев натащили — вагон. А машина буксует. Надсадный рев мотора то взрывался, то стихал. До них долетели обрывки невнятных команд, криков и ругани. — Быстро к дороге, — приказал Старков. — И не шуметь! Они добрались до небольшого холма недалеко от того места, где лесная дорога поворачивала к реке, пробиралась сквозь кусты орешника и, вырвавшись на полевой простор, бежала к деревне. Отсюда хорошо было видно, как все еще дергался в грязи помятый грузовик с промокшим брезентовым верхом и шла вокруг него все та же солдатская суетня. Пожалуй, скоро вытащат, подумал Старков, и до деревни доберутся хотя и позже Рафа, но все же скорее, чем тот сумеет втолковать колхозникам об опасности. Те даже поверить ему не успеют. Будут хмыкать, посмеиваться, покачивать головами, будут с жалостью смотреть на мальчишку и советовать ему приберечь свои шутки до первого апреля. Да что рассуждать: хорошо, если для колхозников вся эта история осталась бы глупой шуткой зарвавшегося физика, который даже и не думал о таких последствиях своего «эпохального» опыта. Старков лег на мокрую траву, махнул рукой ребятам: ложись, мол, тоже, раздвинул ветви орешника, выставив синеватый ствол карабина. «Вот и вернулась к тебе война, — горько подумал он, — не оставляет она тебя: ни в воспоминаниях, ни наяву. Воспоминания привычны: ими можно играть, как детскими кубиками, складывать пирамидки, а надоест — рассыпать. А явь — это похуже. Это нежданно и потому опасно. Боишься, Старков? Нет, конечно. Хотя их и вчетверо больше нас. Нет у меня к ним жалости, к этим возвращенным Временем фрицам, как и тридцать лет назад тоже не было. Сейчас у нас сорок второй на дворе — запомни. Фашисты идут к Волге. На Северном Кавказе — бои. Ленинград осажден. Отечество в опасности, Старков! Ты помнишь эту фразу? Вспомни ее хорошенько, перевари в себе. В опасности, понял, политрук?» — Слушать мою команду, — шепотом приказал он. — Не стрелять без приказа. Лежать молча. Пока… Он боялся, что ребята начнут стрелять раньше времени. Знал, знал, что все равно им придется стрелять — как же иначе? — и все же старался оттянуть этот момент. Не потому, что опасался промахов. И в мужестве их не сомневался. Ведь в годы войны такие же мальчишки и стреляли, и шли в атаку, и стояли насмерть, если требовалось. Но Старкову казалось, что до сознания его ребят все еще не дошла по-настоящему реальность возвращенного Временем прошлого. В их готовности к бою был какой-то элемент игры или, точнее, лабораторного эксперимента. Вероятно, им думалось, что стрелять придется хотя и в живых, но все же не «настоящих» людей, — те уже давно истлели и даже кости их не соберешь в этих лесных болотах. А Старков знал, что с отрезком возвращенного военного времени вернулись и его будни, тяготы, кровь и смерть. И если эти живые, по-настоящему живые гитлеровцы прорвутся к селу, будут и стрельба, и резня, и мертвые дети, и повешенные старики. Не о таком эксперименте он думал, потому и боялся за своих не переживших войны пареньков. Он подтянул карабин к плечу, прижался щекой к его мокрому прикладу, поймал на мушку медленно, с трудом вращающееся по глине переднее колесо подымающейся из грязи машины, нажал на крючок. Карабин громыхнул неожиданно сильно в шуршащей тишине дождя. Грузовик резко повело на середину дороги, он влез колесами в наезженные колеи, дернулся вперед и замер, заглох, видимо, шофер выключил зажигание. «Вот и все, — безразлично и буднично подумал Старков. — Война объявлена…»6
Раф удачно выбрался из леса, минуя дорогу, побежал напрямик через клеверное поле: черт с ним, с клевером, зато выгадывалось километра полтора. Некоторое время Раф слышал ревущий в лесу грузовик, потом звук исчез: то ли мотор заглох, то ли просто он отошел достаточно далеко от «театра военных действий». В конце концов, как еще иначе назвать сегодняшнее приключение? Раф поискал термины: мини-война, операция «Время». Или так: физики шутят… Хороши шутки, если тебя подстрелят, как зайца. Вопреки предположению Старкова Раф, хотя и подыскивал подходящие термины для «лабораторного эксперимента», все же ни минуты не сомневался в опасности ситуации: горящая спичка все равно взорвет бак с бензином, даже если тот прибыл из прошлого. Конечно, лучше всего было бы затаиться, уйти в лес, не делать глупостей и не вызывать огонь на себя. Раф не верил в сверхъестественное. Он верил в законы физики. И еще — в собственную логику. А она ему подсказывала, что «гостей из прошлого» держит здесь временное поле и за его пределами они просто не смогут существовать. Исчезнут, вернутся в свой сорок первый или какой там год. Естественно, определенный риск существовал: могут и не вернуться. Вот тогда и следовало что-то предпринимать. Но вероятность «невозвращения», по мнению Рафа, едва ли составляла пять-шесть процентов. Однако со Старковым не поспоришь: он уперся на своем и не отступит, пока сам не убедится в ошибке. Ну что ж, пусть убедится. Предоставим ему такую возможность. Тем более, что колхозников и вправду надо предупредить: даже пять процентов вероятности могут принести беду. Конечно, можно было бы сразу отключить поле и тем самым проверить прочность железной логики Рафа. Но здесь он понимал и Старкова: пять процентов могли вполне превратиться в сто. Не исчезни «гости», так их потом не вернешь никакими силами: попробуй настрой генератор так, чтобы временное поле совпало именно с тем временем, которое властвует сейчас в зоне экранов. Нет, спокойней подождать, пока один из этих экранов потеряет настройку и перегорит, а тогда исчезнет и поле. Раф полагал, что произойдет это скоро. И может быть, его миссия даже не понадобится и он до конца срока практики будет ходить у колхозников в роли Иванушки-дурачка. Впрочем, роль эта не слишком волновала Рафа: дурачок так дурачок. Гораздо важнее, чтобы «дурачку» все-таки поверили. Хотя бы наполовину. Или даже на треть. Чтобы никого не застали врасплох эти чертовы пять процентов. Раф даже поежился от мысли, что «пришельцы» могут добраться до деревни. Глупая мыслишка, нелогичная, но страшноватая. Он отогнал ее, отмахнулся, стал прикидывать, как убедить председателя вооружить людей. Причем вооружить, не раскрывая истинной причины опасности… Тут он осекся: а почему, собственно, не раскрывая? Пойдет вздорный слух? Ну, вздорный или нет, а слух пойдет все равно. В конце концов, колхозники должны знать правду об эксперименте и его последствиях. Но может быть, не сразу, не сейчас. Правду должен узнать председатель, мужик умный, воевавший вместе со Старковым и лучше других осведомленный о его научной работе в здешних лесах. К тому же его слушаются и ему верят, и такой хозяин округи наверняка придумает что-нибудь надежное, чтобы предупредить людей о грозящей опасности. Еще лучше помогли бы выстрелы — автоматные, у гитлеровцев «шмайссеры», а не дробовики, но на семикилометровом расстоянии их не услышишь… Раф выбрался наконец на дорогу, тяжело побежал, скользя на липкой глине, свернул по траве к председателеву дому: хорошо, что председатель жил здесь, а не в центральной усадьбе. И хорошо, что сегодня — воскресенье, а стало быть, он дома, а не в поле или на ферме. Должен быть дома… Раф не ошибся: председатель был дома. Он сидел в комнате под старомодным фикусом и смотрел телевизор. Председательское семейство, состоящее из двух близнецов десяти лет, жены и тещи, сидело чуть поодаль от фикуса и тоже смотрело передачу. Телевизор был новый, недавно купленный в кредит, сверкающий коричневым лаком и никелированными ручками, и председателю было явно наплевать на то, что показывали: важен факт, а не содержание. А показывали металлургический завод. На экране лился расплавленный металл, гремел прокатный стан и сновали рабочие с мужественными лицами. Председатель был очень увлечен передачей и не сразу заметил Рафа, остановившегося на пороге. А когда заметил, сказал приветливо: — Здорово, студент. Садись и смотри. Интересно. Он прекрасно понимал, что Раф явился вовсе не затем, чтобы изучать жизнь металлургов. Но в деревне не принято было эдак с бухты-барахты приниматься за дело. Сначала требовалось некоторое вступление, так сказать интродукция, и телепередача вполне подходила для этой цели. Но Раф не имел права соблюдать веками установленный сельский этикет. Он подошел к председателю, оставляя грязные следы на крашеном полу, наклонился, сказал на ухо: — Беда, Петрович. Вырубай шарманку. Времени нет. И сумел он сказать эти будничные слова так, что председатель не стал вспоминать об этикете, протянул руку, выключил телевизор, спросил в наступившей тишине: — Случилось что? — Случилось, случилось, — быстро проговорил Раф. Председательское семейство настороженно молчало, ожидало продолжения. Раф с сомнением посмотрел на них, потом перевел взгляд на председателя. Тот понял. — Пойдем со мной, — сказал он. Встал и пошел в другую комнату, подождал, пока туда вошел Раф, плотно прикрыл дверь. — Говори. И опять Раф заколебался: с чего начать? Не придумал ничего лучше, как бухнуть сразу: — Фашисты в лесу, Петрович! — Ты сегодня температуру мерил? — Голос председателя звучал спокойно, но слышались в нем угрожающие нотки: как так, из-за дурацких шуточек человека от воскресного отдыха отрывать! — Да не вру я, — заорал Раф и вдруг успокоился, пришел в себя: — Опыт мы ставили. Знаешь? — Ну знаю. Старков рассказывал. Время хотите вспять повернуть… Раф усмехнулся про себя: примитивно, но в общих чертах верно. — Уже повернули. — Удался, значит, опыт? — Даже слишком. В общем, такие дела, Петрович: генератор создает границу между нашим временем и прошлым. На этот раз мы попали, видимо, в сорок второй год… — Самое пекло здесь было, — сказал председатель. — Вместе с твоим Старковым фашистов били. Я — партизанским «батей», он — комиссаром. Каратели тогда две соседние деревни сожгли. Одни печи остались. Лучше и не вспоминать. — Придется вспомнить, — жестко сказал Раф. — Чего-то мы не учли в расчетах, и сквозь эту временную границу проскочили наши «гости» из прошлого. А какие — сказал уже. Председатель задумался: — А может, все-таки ошибка? Может, марево? В болотном тумане всякое показаться может. — Не тяни, Петрович, — отрезал Раф. — Все самое настоящее. Увидишь Старкова — подтвердит. Да и наш Димка с дерева наблюдал. И машины немецкие, и форма немецкая. Как в кино. — В кино по-всякому одеть можно, — вздохнул председатель. Очень уж ему трудно было поверить в старковское чудо. — Мы тоже сначала подумали, что кино, — сказал Раф, — только это, отец, совсем не кино. — Может, рабочим каким немецкую форму выдали? — все еще сопротивлялся председатель. — Со складов, чтоб зря не лежала. — С каких складов? — уже рассердился Раф. — Из «Мосфильма» или из театра какого-нибудь? И настоящие автоматы выдали? Интересно зачем? — Да-а… — протянул председатель, полез в карман, достал смятую «беломорину», коробок спичек, закурил, пустил дым к потолку. Он никогда не торопился с решениями, долго обдумывал, взвешивал, примеривался, а уж когда решал, то — прочно и твердо. Он курил и молчал, и Раф молчал. Молчал и думал о том, что делается в лесу. Не хотел думать, не верил в то, что думалось, и все-таки думал, думал, думал, и сжималось что-то в груди, натягивалась струночка — не порвать бы… — Вот что, студент, — сказал наконец председатель. — Сколько их там? И Раф вздохнул облегченно: поверил-таки. Да и не мог не поверить. Не такой мужик председатель, чтобы не понять, когда шутят — пусть глупо, пусть подло, — а когда всерьез говорят. Понял он — даже не то, что произошло на самом деле, а то, что и вправду пришла беда и что с бедой этой можно сладить только сообща. Как и тогда, в настоящем сорок втором, когда председатель — ровесник Старкову — ушел в партизаны, а после войны строил колхозы на Брянщине. — Человек тридцать, — быстро сказал Раф. — Грузовик и маленькая легковушка с офицерами. — А вас трое… — не то спрашивая, не то утверждая, проговорил председатель, и Раф перебил его: — Да не в том дело! Для наших опасности нет: лес большой, да и не полезет Старков на рожон. — Тут он сам не очень верил в свои слова. — Главная опасность в том, если фашисты в деревню прорвутся. — Могут… — опять не то спросил, не то подтвердил председатель, и опять Раф вмешался: — Маловероятно: это же чужое время. Оно существует только в пределах действия генератора, а значит, «пришельцы» не смогут из этих пределов вырваться. Но председателю непонятны были доводы Рафа. Он в науке не слишком разбирался, зато точно знал: есть машина, есть тридцать человек со «шмайссерами» и никакой дробовик их не остановит. — Мало или не мало, — сказал он, — а людей предупредить надо. Не поверят, конечно, в ваши штуки со временем. О бандитах говорить будем, о бандитах в бывшей немецкой форме. Где-нибудь старый трофейный склад ограбили, а теперь в село идут. Не очень мудро придумано, но если на серьез брать — поверят. Главное, чтобы подготовились к встрече. — Вот и я о том же, — закричал Раф. — И побыстрее. — Горячку не пори. — Председатель встал, взял со стула дождевик. — Пошли по дворам. Они прошли через комнату, где председательское семейство ожидало окончания таинственного разговора. — Вот что, бабы, — на ходу распорядился хозяин. — Тут дела такие, что лучше вам из дому не показываться. Заприте двери, ставни закройте и сидите тихо. — Подумал, что надо бы объяснить не очень понятный приказ, и добавил: — Тут в округе банда объявилась. Милиция из города выехала уже, по следу идут. Так что лучше погодить. Понятно? И, не дожидаясь ответа, вышел в сени, сорвал со стены двустволку, взял сумку с патронами, сунул под плащ. — Теперь они носа не высунут, — шепотом сообщил он Рафу. — Тут меня вроде слушаются — и дома, и в народе… Ты вот что, иди по левой стороне улицы, а я по правой. Говори: председатель зовут, дело есть. Пусть ружья берут. Через десять минут — на околице. — Послушай… — сказал Раф. Он не умел и не любил о чем-нибудь просить, а тут надо было, нельзя не просить: что же он, хуже других? — Послушай… У тебя лишнего ружья не найдется? — Кому? — Мне. Не взял из Москвы, — соврал Раф. — Забыл, понимаешь. А как же сейчас без оружия? — Да, брат, без оружия сейчас нельзя. — Председатель вроде бы поверил наигранной беспечности Рафа, а может, и нет, — кто знает хитрого мужика, — только снял с плеча двустволку свою. — Держи. — А ты, Петрович? — Я у Фрола возьму. У него несколько. Да бери, бери, тебе говорят. — И только спросил невзначай: — Ты с этой системой знаком? Раскусил он, раскусил напускную беспечность студента, только не хотел обижать, позорить сомнениями: знал, что не время сейчас, — может быть, бой впереди. И Раф понял это и был благодарен тактичности председателя, который — известно было! — и кричатьлюбил, и поматериться, и высмеять неумеху. А тут смолчал. И Раф не стал что-то объяснять или оправдываться, кивнул в ответ: знаком, мол. Да и видел он не раз, как легко обращался с такой же двустволкой Димка — дело нехитрое, — закинул небрежно на плечо, толкнул дверь на улицу: — Пошли… А председатель остановился вдруг, посмотрел на него просительно: — Парень, а ты не разыгрываешь? — Тогда иди домой, — зло сказал Раф, — и досматривай телевизор. И спокойно, и понятно, и чертовщины никакой нет. А то, что наши в лесу — трое против тридцати, так это так, между прочим, пошутил, значит. — Эх, не понял ты меня. — Председатель даже рукой махнул. — За такие шутки я б тебе голову свернул. Я же поверил тебе: не мог не поверить. Только наука ваша для меня — китайская грамота. Вот она, моя наука: когда сеять да когда жать. А ваше — ни-ни… Ты не злись, парень: мы же — как хохлы в поговорке, пока рукой не пощупаем — не поймем… Ну да ладно, давай поторопимся.7
Старков ошибался: война не была объявлена. То ли за ревом двигателя не слышен был выстрел, то ли еще какая-нибудь причина, только дверца машины хлопнула и долговязый шофер наклонился над колесом. — Что там еще? — крикнул ему кто-то из передней машины. — Должно быть, прокол, — виновато ответил шофер, ощупывая покрышку. Старков поймал его на мушку: удобная мишень, задержал прицел и… опустил карабин. Подумал: не время сейчас, получена новая отсрочка, причем совсем уж неожиданно. И сам усмехнулся: хитришь, солдат, испугался по живой мишени хлопнуть, отвык за тридцать лет. Отсрочка отсрочкой, а вот что будешь делать, когда и она кончится. А отсрочка явно получалась недолгой. От все еще сидевшей в грязи машины донеслись лающие немецкие крики. Старков мысленно перевел. — Ефрейтор, слышал выстрел? — спросил кто-то из легковушки. — Никак нет, господин оберштурмфюрер, — ответил ефрейтор, не вылезая, однако, из теплой кабины грузовика. Это явно не понравилось офицеру. — Ко мне! — приказал он. Рыжий ефрейтор выпрыгнул из кабины и, смешно переваливаясь на коротких ногах, побежал по глине к легковушке. Он остановился около нее, согнулся угодливо, и Старков подумал, что его обтянутая черным кителем спина — тоже неплохая мишень. Он-то лишь подумал об этом, усмехнулся про себя — сдержи эмоции, политрук, — и вздрогнул от грохота выстрела. Черная спина ефрейтора дернулась, он неестественно выпрямился, схватился за брезентовый верх легковушки и, не удержав своего тяжелого тела, медленно сполз на дорогу. — Кто? — в ярости повернулся Старков и осекся: ему весело улыбался Олег. — Как я его? Теперь начнется… «Теперь начнется», — тоскливо подумал Старков. И еще подумал, что парень в общем-то не виноват: немецкого не знает, потому и не понял, что только сейчас получил в подарок минут пятнадцать отсрочки и вот отказался от подарка, накликал беду… В общем не виноват. А в частности? Старков смотрел на улыбающееся лицо Олега, перезаряжающего ружье, и подумал о той необычайной легкости, с которой молодой парень только что убил человека. Да не человека же, сам себе возразил Старков, — гитлеровца, убийцу. Но это ты знаешь, что он — садист и убийца, ты его помнишь, или не его — ему подобных, ты их знаешь, а Олег? Для Олега все эти понятия — теория, страницы из учебника, и тем не менее… Старков отмахнулся от этой мысли, забыл о ней. Начались дела поважнее… — Ахтунг! — крикнул эсэсовец, выскочивший из своей легковухи и уже спрятавшийся в кустарнике. — Партизанен. Файер! И Старков тоже полувыкрикнул, полушепнул: — Огонь! Эсэсовские каратели прыгали из кузова и ныряли в лес. Старков поймал на мушку одного — в прыжке — и выстрелил: есть! Еще один, еще, еще… Рядом бабахал Олег, то и дело перезаряжая тулку, вполголоса приговаривал: — Попал… Попал… Ах, черт, мимо… На Димкиной стороне было тихо, а может, это только показалось Старкову — он и разбираться не стал, некогда, — перезарядил карабин, припал щекой к ложу. Немцы из-за кустов открыли по ним огонь. Звонко и раскатисто лаяли автоматы, где-то над головой — прицел неточен! — свистели пули, и, собственно говоря, отвечать уже не было смысла. Срезанные выстрелами «пришельцы» остались лежать у машины, а остальных просто не было видно. А стрелять по звуку — пустая трата патронов. Черномундирный оберштурмфюрер тоже не был профаном. Автоматные очереди сразу же прекратились, и внезапная тишина, повисшая над лесом, показалась Старкову странно нереальной, будто кто-то выключил звук, а изображение на экране осталось: та же разъезженная дорога над горкой, те же кусты орешника на обочине, брошенные машины и трупы около них. Старков посчитал: трупов было семь. Четырех срезал он сам, а трое, стало быть, приходятся «на долю» ребят. Скорее всего Олег: Димка, кажется, вовсе не стрелял — то ли испугался, то ли не успел. — Быстро отходить, — шепнул Старков и, пригнувшись, побежал в глубь леса, петляя среди деревьев. Он понимал, что их торжество долго не продлится. Звук выстрела из автомата или карабина не спутаешь с выстрелом из охотничьего ружья. А плохо вооруженные партизаны вряд ли сильно напугают карателей. Сейчас Старков не сомневался, что они выловили из прошлого именно взвод карателей. Вот таким же мокрым осенним днем лет тридцать назад ехал этот взвод по такой же мокрой осенней дороге, может быть, так же застрял на полчаса, может быть, тоже встретил партизан — настоящих! — а может быть, и прорвался к деревне. Если так, то кто-то из колхозников наверняка сохранил память об этом заурядном, но страшном эпизоде минувшей войны. Минувшей? Опять оговорка. Кто знает: точно ли совпадает время в настоящем и в прошлом и равняются ли два часа, проведенных карателями в дне нынешнем, двум часам дня давно минувшего. А может быть, вернувшись в сорок второй год — Старков все-таки верил в это возвращение! — кто-то из карателей обратит внимание на то, что их время стояло, что вернулись они в ту же секунду, из которой отправились в долгое путешествие по временной петле. Кто знает капризы Времени, его неясные законы, поведение? Да кто, в конце концов, знает, что такое само Время? Никто не знает, думал Старков, а его теория — лишь робкая попытка постучаться в толстую стену, за которой — неизвестность, загадка, ночь… — Стойте! — вдруг шепнул Олег. — Слышите? Где-то позади хрустнула ветка, зашуршали о траву капли с потревоженного кем-то дерева. Старков бесшумно шагнул за куст, за ним — Димка и Олег. Через несколько секунд на маленькую полянку, где они только что стояли, осторожно вышел человек в черной эсэсовской форме. Он озирался, сжимая в руках мокрый от дождя «шмайссер», потом шагнул вперед — и захрипел в не слишком вежливых объятиях Олега. — Штиллер! — сказал ему по-немецки Старков, уткнув в грудь немцу дуло своего карабина. — Во зинд андере? — И прибавил по-русски: — Остальные где? Немец отрицательно покачал головой, скосил глаза на старковский палец, застывший на спусковом крючке. Старков понял его и медленно повел крючок на себя. — Найн, найн, — быстро сказал немец и поднял руки. — Эс ист бессер, — одобрил Старков. — Мы тебя не убьем. Нихьт эршляген. Ты откуда? Фон во? — Бо-ро-ви-чи. — Немец тщательно выговорил трудное русское слово. — Айн кляйне штадт. Гестапо. — Районный центр, — сказал Старков и снова спросил: — А сюда зачем? Варум, варум? — и обвел рукой вокруг. — Ихь вайе нихьт. — Не знает, — перевел Олегу Старков и снова пошевелил пальцем на спусковом крючке. — Аусфалль. Этрафэкспедицион, — пояснил немец. — Вылазка. Карательная акция, — повторил по-русски Старков. Немец явно не врал. Командование обычно не посвящало солдат в подробности операций. Карательная акция — достаточное объяснение, тем более что подобные акции — обычное дело для таких вот черномундирных «орлов», нахально храбрых с безоружными женщинами и трясущихся от страха под дулом карабина или автомата. Старков достал из кармана носовой платок, критически осмотрел его. Платок был далеко не первой свежести, но гигиена здесь не обязательна. — Открой пасть, — сказал Старков немцу и сам показал, как это сделать. Тот послушно ощерился, и Старков толково забил платок ему в рот, потом, вытянув из его брюк ремень, кинул Димке: — Свяжи руки. Связанного немца положили под елку, и заботливый Димка прикрыл ему лицо пилоткой. — Чтобы дождь не мочил, — объяснил он. — Можно, я возьму его автомат? — спросил Старкова Олег. — Возьми, конечно. Запасные обоймы они держат в подсумке. — Нашел, — сообщил Олег. — Вот что, ребята, — подумав, сказал Старков. — Судя по этому викингу, они решили прочесывать лес поблизости. Грузовик почти вытащили, но явно еще задержатся. Поэтому пробирайтесь-ка навстречу Петровичу с его отрядом — два лишних бойца пригодятся. Старайтесь обойти карателей с тыла — лес знаете. — А вы? — почти одновременно спросили Олег и Димка. — Пойду к немцам. — За пулей в голову? — Все пули мимо нас, — засмеялся Старков. — Схитрю. По-немецки немного умею, но вида не покажу. Постараюсь задержать их подольше, — может, какой-нибудь из экранов сорвется. — Как это — задержать? — удивился Олег. — Найдем способ, — усмехнулся Старков и добавил отрывисто: — А вы идите, как условились. Это приказ.8
Отдав свое оружие ребятам — в последний момент Старков решил, что карабин ему не понадобится, — он снял исподнюю рубашку и, размахивая ею, как белым флагом, пошел наперерез через кусты к застрявшему грузовику. Увидя человека, размахивающего рубашкой, эсэсовцы, кроме тех, кто разбрелись по лесу в поисках партизан, угрожающе подняли автоматы. — Хальт! — скомандовал один из них. — Шпрехен зи руссиш? — крикнул Старков. Из легковушки вылез уже знакомый издали оберштурмфюрер с длинным прямым носом и клоком рыжих волос, спускавшихся по-гитлеровски на лоб. Он иронически оглядел застывшего с поднятыми руками Старкова. — Кто ты есть? — спросил он лениво. — Партизан? Мы не разговаривать с партизан. Мы их эршиссен. Пиф-паф. «Могут и расстрелять, — подумал Старков. — Без переговоров. Пиф-паф — и все. Да нет, пожалуй, не расстреляют так сразу. Покуролесят хотя бы из любопытства. Оно у носатого на морде написано. А мне важно затянуть канитель. Задержать, задержать их во что бы то ни стало. Да подольше, пока не полетят к черту экраны». Он уже рассуждал не как ученый Старков, а как партизанский политрук Старков, под дулами нацеленных на него автоматов придумывавший что-нибудь заковыристое. — У меня есть сообщение, господин офицер, — сказал он нарочно дрожащим от страха голосом, хотя страха-то у него и не было: не все ли равно, как помирать, если приходится помирать. — Со-об-ще-ние, — повторил по слогам носатый. — Миттейлунг. Хорошо. Геен зи хир. Близко. Еще близко. Старков подошел, чуть прихрамывая — у него уже было на этот счет свое соображение — и не опуская рук. — Говори, — услышал он. Ну как говорить с призраком? Даже не с призраком, а с искусственным материализованным покойником. Да и покойники-то не ведают, что они уже тридцать лет как покойники, а если кто и жив сейчас, так не знает, что ему сейчас придется «эршиссен» Старкова. Странное состояние полусна-полуреальности охватило его. Но дула автоматов отразили искорки солнца, выглянувшего на мгновение из-за свинцовой пелены туч. Сталь этих автоматов была совершенно реальна. — Я сказать: говори. Заген, заген, — повторил носатый. — В лесу партизан нет, — сказал Старков. — Была только группа разведчиков. Трое вместе со мной. Двоих вы кокнули. — Что есть кок-ну-ли? — Пиф-паф, — ответил, стараясь не улыбаться, Старков. — Во ист партизаненгрупп? Отряд, часть? — добавил носатый. — Ушли к железной дороге. В деревне одни старики и дети. А штаб отряда за Кривой Балкой. Примерно там. — И Старков показал в противоположную от деревни сторону. — Сорок минут туда и обратно. Он нарочно выбрал не слишком отдаленный отсюда район. Потерять час-два на проверку носатый бы не рискнул. А сорока минут вполне достаточно. Да и до деревни надо потом добраться: клади еще тридцать минут по такой грязи. Никакие экраны столько не выдержат. Правда, его, Старкова, могут и расстрелять, когда вернутся ни с чем из-за Кривой Балки посланные туда солдаты, но что ж поделаешь: людей в деревне надо сберечь. И опять думал это не физик Старков, а политрук Старков образца сорок второго года. Носатый посмотрел в указанную Старковым сторону. — Дорт? — удивился он. — Повтори. — За Кривой Балкой. Носатый пошевелил губами, достал из нагрудного кармана в несколько раз сложенную карту, приложил ее к дереву и, пошарив глазами, ткнул пальцем в какую-то точку. — Штаб? — повторил он. — Вифиль зольдатен? Сколько охранять? — Человек десять. — Цеен. Зер гут. И тут же усомнился: — А если ты врать, почему я верить? Где автомат? — Бросил в лесу, когда бежал к вам. — Зачем к нам? — Всякому жить хочется. Я один, а вас тридцать. И леса не знаю. Чужой я здесь. — А почему партизан? — Силком взяли, когда из города уходил. А я беспартийный да еще белобилетник. — Что есть бело-билетник? — Освобожден от воинской службы по причине негодности. Хромаю. Немцы говорят: ламе. — Пройти мимо. Старков, припадая на правую ногу, прошел под наведенными на него автоматами мимо носатого и вернулся на место, где стоял раньше. Эсэсовец подумал, еще раз взглянул на карту, позвал ефрейтора и быстро проговорил что-то по-немецки, из чего Старков понял, что двадцать человек направляются к Кривой Балке, а его особу будут сторожить два автоматчика. Носатый взглянул на часы и пролаял на своем искалеченном русском: — Если нет штаба — архенген. Сук видеть? — Он кивнул на толстый осиновый сук над головой Старкова. — Висеть, ясно? — Ясно, — вздохнул Старков и спросил: — А закурить дадите? Эсэсовец швырнул ему сигарету. Старков поймал и закурил от предложенной автоматчиком зажигалки. Дрянь сигарета, но курить можно, и он не без удовольствия затянулся. Сорок минут. А там, кто знает, может быть, и поле исчезнет со всей вырванной из прошлого сволочью.9
Лес они действительно знали: каждый кустик, каждый холм, каждую тропинку в зоне экранов исходили за четыре месяца — хоть кроки по памяти составляй. Поэтому и Олег и Димка точно представляли себе, как и куда им нужно добраться. В двухстах метрах отсюда пролегал неглубокий овраг. Если пройти по нему до конца, можно выйти к дороге там, где она тянется из леса к деревне. Туда прочесывающие кустарник эсэсовцы, конечно, сразу не пойдут. Не найдя «партизан» поблизости, они вернутся к машине. Расчет оправдался. По оврагу ребята прошли без приключений: как они и предполагали, каратели не стали всерьез прочесывать лес, постреляли по кустам где погуще и пошли назад. Тем более, что «партизаны» на огонь не ответили. Словом, все шло по плану, задуманному Старковым. Они уже добрались до опушки, где дорога сворачивала к деревне. Только бы не нарваться на гитлеровцев! За кого могли их принять, если у Олега висел на груди автомат, отобранный у пленного «гостя». Значит — сражение, а исход его неизвестен. И неизвестно тогда, будет ли выполнен приказ Старкова. Вдали снова заурчала машина. Олег замер: должно быть, вытащили. Тогда каратели обгонят их через десять минут и прорвутся к деревне. Даже предупрежденные Рафом колхозники подойти не успеют. Значит, надо что-то придумать. И Олег неожиданно предложил: — Пробирайся к деревне один. Одному сподручнее и скорее. Меньше шума. Пройдешь в кустах по опушке — не заметят. — А ты куда? — удивился Димка. — Вернусь к машинам. — Так ведь Старков приказал… — Не всякий приказ следует понимать буквально. Старков приказал присоединиться к вооруженным колхозникам. Мы и присоединимся. Только по отдельности. Сначала ты, потом я. Если Старкову не удастся задержать машины, попробую я. — Каким образом? — Димка все еще ничего не понимал. — Во-первых, у меня «шмайссер», во-вторых, стреляю я без промаха. В-третьих, меня беспокоит судьба Старкова. Словом, спорить не о чем и некогда. Сыпь к деревне напрямик сквозь кусты. А я пошел. Димка хотел вмешаться, но не успел. Где-то далеко в лесу раздавались короткие автоматные очереди, преследующие единственную цель — напугать до сих пор не обнаруженного противника и успокоить себя. Кто-то кричал, кто-то ругался по-немецки, но слов разобрать было нельзя. Да Олег и не знал немецкого. Его интересовало только поведение Старкова. До машин он добрался быстро. Пригнувшись, добежал вдоль стены орешника, поравнялся со стоявшей на дороге легковушкой и почти бесшумно раздвинул кусты, выглянул на дорогу. Эсэсовский офицер со сплюснутым длинным носом и рыжим вихром на лбу сидел на пенечке в расстегнутом плаще. Против него, покуривая, стоял Старков, а в стороне два автоматчика. Один из них намертво держал его под прицелом «шмайссера», другой обменивался сигаретами с вышедшим из открытой легковушки шофером. Еще три автоматчика позади уже выкарабкавшегося из трясины грузовика отдыхали на поваленной бурей сосне. Солдаты помалкивали, время от времени озираясь по сторонам. Ясно было, что невольная задержка всех раздражает. И быть может, оберштурмфюрер уже жалел, что отослал отряд куда-то за Кривую Балку — название, которое на немецкий и перевести невозможно. От сорока минут осталось всего четверть часа. Тогда он повесит этого партизана и двинется с отрядом к деревне. Носатый еще раз взглянул на часы и зевнул. Вот тут-то Олег и принял решение. Мгновенной короткой очередью он срезал двух автоматчиков и шофера. Другая прострочила зевавшего оберштурмфюрера. Все это произошло так быстро, что растерявшиеся эсэсовцы, отдыхавшие позади грузовика, не успели ничего предпринять. Олег перемахнул через кювет с водой и прыгнул в открытую легковушку, что-то крикнул Старкову. Тот, не успев удивиться, сразу понял, что от него требовалось. Вырвав из рук убитого автоматчика его «шмайссер», он дал очередь по эсэсовцам, которые залегли за стволом сосны. «Ко мне!» — крикнул из легковушки Олег, и Старков в два прыжка очутился в машине. Двигатель завелся вполоборота. Олег врубил сразу вторую передачу и нажал на акселератор. Машина взвыла — много газа, пробуксовала секунду и рванулась вперед. Быстрота всего происшедшего исчислялась мгновениями. Но эсэсовцы уже опомнились и открыли огонь по машине. Поздно! Страх перед неожиданным налетом «партизан» парализовал их так, что они едва успели воспользоваться прикрытием сосны, чтобы открыть огонь, теперь уже бесполезный. Они даже не сообразили, что в их распоряжении еще оставался освобожденный от грязевых тисков грузовик, и, петляя между кустами, только палили уже совершенно бесцельно по уходившей вперед легковушке — кучка потерявших командира, смертельно напуганных солдат.10
Оставшись в одиночестве, Димка медлил недолго. Приказ есть приказ. Не понимая и даже не пытаясь понять, что задумал Олег, Димка знал одно: как можно бесшумней, скорей и верней связаться с колхозниками. Продираясь сквозь заросли орешника, он вдруг услышал выстрелы. Где-то впереди, видимо на дороге. Он остановился — заскрипели сломанные кусты. Сквозь них он увидел, как промчалась по проселку, как взбесившаяся кошка, желто-зеленая пятнистая легковушка. Почему одна, подумал Димка, ведь без грузовика с солдатами она станет легкой добычей колхозников. Совсем рядом просвистели пули, и он отметил, что стреляли из леса. Остановился, обернулся, не целясь, выстрелил по черной пилотке, мелькнувшей в глубине леса, побежал дальше. …Он не слишком хорошо соображал, что делал. В нем жила только ярость, но не слепая и пылкая, а холодная и расчетливая. Она, и только она, руководила его поступками. И может быть, потому, что они потеряли привычный здравый «гражданский» смысл, ярость придала им странную, незнакомую доселе логику: спрятаться за кустом, выстрелить, сменить патроны старковского карабина, короткая перебежка и — снова выстрел. Вероятно, так же рождалась логика боя в партизанских отрядах — тогда, в Великую Отечественную. Ведь в отряды эти приходили не кадровые военные, порой такие же мальчишки с «гражданским» здравым смыслом. И смысл этот так же уступал место холодной ярости, ненависти к врагу, а значит — мужеству, бесстрашию, подвигу. На дороге уже никого не было. Выстрелы раздавались из леса со всех сторон, кроме той, куда уехала легковушка. Она уже, наверно, вышла из зоны экранов — тут метров двести до границы поля, не больше. А что с Олегом, со Старковым? Может быть, это они участвуют в сражении, от которого ушел Димка. Может быть, это их, а не его ищут автоматные очереди эсэсовцев. Он спрятался за ствол дуба, выглянул из-за него. Метрах в двадцати среди мокрой зелени листьев мелькнула черная куртка. Димка выстрелил, перебежал к другому дереву, выстрелил еще раз и вдруг услышал крик за спиной: — Хальт! Хенде! Медленно поднял руки вверх — в правой карабин, обернулся. На него смотрел черномундирный немец, выставив вперед дуло пистолета. И снова Димка подумал, что ему не страшен ни этот эсэсовец, ни его пистолет. Подумал и удивился: как же это? Ведь эсэсовец — не артист кино, не призрак и пули в его пистолете настоящие — девять граммов свинца… Димка отвел правую руку назад и с силой швырнул карабин в нациста. Потом сразу пригнулся, прыгнул в сторону, и вдруг что-то ударило его в бок, потом в плечо, обожгло на секунду. Он остановился удивленный, прижал руку к груди, смотрел, как расплывается под пальцами черно-красное пятно, мокрое и липкое. И все кругом стало черно-красным и липким, погасли звук и свет. И Димка уже не услышал ни грохота еще одного выстрела, ни шелеста шагов поблизости, ни монотонного шума дождя, который припустил сильнее и чаще.11
Председатель с удивлением смотрел на убитого эсэсовца в ненавистном черном мундире, на его нелепо скрюченную руку, сжимавшую черный «вальтер», на ствол своего дробовика, из которого еще вился синий дымок. А Раф бросился к Димке, тормошил его, что-то кричал и вдруг умолк, с ужасом увидев темное пятно крови на груди и тонкую малиновую струйку, ползущую на подбородок из уголка рта. — Димка, Димка, — бессмысленно прошептал Раф и заплакал, ничего не видя вокруг себя. И даже не понял, когда председатель грубо оттолкнул его, — а просто сел на мокрую землю, грязным кулаком размазывая слезы по лицу. А председатель привычно — с сожалением, что пришлось вспомнить эту старую привычку, — наклонился над Димкой, прижал ухо к груди, послушал сосредоточенно и улыбнулся: — Жив! Потом рванул штормовку, ковбойку, пропитавшуюся кровью майку. Сказал Рафу: — Эй, парень, приди в себя. У вас в сторожке бинты есть? — Какие бинты? — всхлипнул Раф. — Ведь бой идет… И вдруг осекся: кругом стола тугая непрозрачная тишина, по которой гулко били частые капли дождя. — Что же это? — изумленно спросил он, посмотрев туда, где только что лежал труп убитого гитлеровца: трупа не было. Лишь трава на том месте, где он лежал, еще осталась примятой. И валялся рядом выброшенный председателем использованный ружейный патрон. — Сбежал, что ли? — спросил Петрович. — Не похоже: я не промазал… Сзади захрустели кусты. Раф обернулся и вздохнул облегченно: на полянку вышли Старков и Олег. Возбужденные, взволнованные, похожие на стайеров, закончивших многокилометровый пробег нога в ногу, почему-то радостные и, в отличие от стайеров, совсем не усталые. И у того и у другого болтались на груди немецкие автоматы. И тут они увидели Димку на траве и председателя, стоявшего перед ним на коленях. — Что с ним? — Старков бросился вперед, склонился над раненым. — Жив, жив, — сказал председатель. — Не суетись. Пусть лучше кто-нибудь добежит до сторожки, бинты возьмет. Или простыню на худой конец… — У нас есть бинты, — быстро сказал Олег. — Я сейчас сбегаю. Пока он бегал, Старков с председателем осторожно раздели раненого Димку. Все еще всхлипывающий Раф принес во фляжке воды из ручья, и председатель умело промыл раны. Димка в сознание так и не приходил, только постанывал сквозь зубы, когда председатель бинтовал его грудь и плечо. — Хотя рана и не опасная, но парня в больницу надо, — сказал председатель. — И побыстрее. Кто за машиной пойдет? — А зачем за ней ходить? — откликнулся Олег. — Мы ее рядом оставили. У реки. — Что оставили? — удивленно спросил председатель. — Легковушку. Мы ее у фашистов отбили. Старков с любопытством посмотрел на него. Вообще теперь, когда состояние Димки уже не вызывало особых опасений, Старков мог спокойно размышлять о том новом, что открылось в его ребятах. И пожалуй, Олег «открылся» наиболее неожиданно… — По-твоему, машина тебя так и ждет? — спросил Старков. — Ждет, куда денется, — лениво протянул Олег. Он тоже успокоился, увидев, что Димка жив, и теперь явно наслаждался своим преимуществом: он что-то знал, а Старков — нет. Более того: от его знания что-то зависело — очень важное. Но этим «что-то» была Димкина жизнь, и Олег, не ломаясь по обыкновению, объяснил: — Я, когда за бинтами бегал, видел ее. — У реки? — спросил Старков, и Олег понял смысл вопроса, кивнул согласно: — Точно. Метрах в ста от зоны экранов. — Потом кивнул на Димку: — Несите его к дороге, а я машину пригоню. Легковушка оказалась целехонькой, только верх ее во многих местах был прострелен. Председатель сунул палец в одно из отверстий пониже, спросил Олега: — В рубашке родился, парень? — Ага, — хохотнул тот, — в пуленепробиваемой. — И к Рафу: — Садись, плакса, на заднее сиденье — поможешь мне… Он тронул машину и осторожно повел ее по дороге, стараясь объезжать кочки и рытвины. И, даже выехав из леса, не прибавил скорости: лишние четверть часа не играли для состояния Димки особой роли, а тряска по плохой дороге ощутимее на большой скорости. — Лихой парень, — сказал председатель. — Такие в войну особо ценились. Так сказать, в первую очередь. — И гибли тоже в первую очередь, — откликнулся Старков. — Ну не скажи: этот умеет осторожничать. Смотри, как раненого повез — не шелохнул. — Умеет, — подтвердил Старков. Олег действительно умел. Умел рисковать — на самой грани, на тонком канате, когда спасает только чувство баланса. У Олега было оно — это чувство, и он отлично им пользовался. Как в цирке: канатоходец под куполом качнется в сторону, и публика ахнет, замирая от страха. И не знает дура публика, что все это — только умелый ход, хорошо рассчитанный на то, чтобы она ахнула, чтобы взорвалась аплодисментами — цените маэстро! Он рисковал, этот канатоходец, — еще бы! — но чувство баланса, умение быть осторожным на грани не подводит. Почти не подводит. — А куда фашисты подевались? — осторожно спросил председатель: он, видимо, считал, что ученый имеет право не отвечать на наивные для него вопросы. Старков так не считал и охотно объяснил: — Их время кончилось. Какой-то из экранов не выдержал, сгорел, временное поле исчезло, а вместе с ним — и гости из прошлого. Полагаю, что они сейчас находятся в этом же лесу, только в сорок втором году. — Живые? — А может, и мертвые, если нарвались на партизан. — Так мы же и партизанили в этих лесах. — Не одни мы. Возле этого села могли орудовать и другие. — Значит, исчезли, — повторил задумчиво председатель. — Назад вернулись. А как же машина? — Машина вышла из зоны действия поля, поэтому оно и не захватило ее. Председатель все еще не понимал: — А если бы они вышли, как ты говоришь, из этой зоны, то и они могли бы остаться? — Могли бы, — кивнул Старков. — Только мы им помешали. — Это верно, — согласился председатель. — Правда, по-твоему, по-ученому, я понимать не могу. В голове не укладывается. Старков усмехнулся: — У меня тоже не укладывалось. А если честно, так и сейчас не укладывается. Как в добрых старых романах, проснуться и сказать: «Ах, какой страшный сон!» Но добрые старые романы мирно пылятся на библиотечных полках, а «трофейная» машина с простреленным кузовом везет в райбольницу парня рождения пятидесятых годов, раненного пулей, выпущенной в сорок втором. — А что ты колхозникам сказал? — спросил он. — Про банду в старой немецкой форме. Ограбили, мол, где-то трофейный склад. Говорят, есть такой в городе. Для кино. — И поверили? — Кто же не поверит? Раз сказал — значит, так. Доверяют мне люди. — Так ведь же обнаружится, что банды никакой нет. Разговоры пойдут, милиция встрепенется, а бандитов как ветром сдуло. — Вот ты и растолкуешь, чтоб зря не болтали. Я народ созову, а ты объясняй. Завтра в клубе и соберемся. Я расскажу, почему про банду соврал. Кстати, и не соврал: была банда. Разве не так? — Так-то оно так, — согласился Старков, — только поймут ли меня? — А ты попроще, как бывало, помнишь? Ты, комиссар, всегда с народом умел разговаривать. Если не забыл, конечно. Милицию тоже позвать придется. Дело такое — не скроешь. Старков кивнул согласно, пожал руку, пошел не торопясь к сторожке: генератор надо выключать, зря электроэнергию не переводить, да ребят подождать, — вспомнил реплику Петровича о милиции. Верно ведь — дело-то уголовное по мирному времени. Ну что, подследственный Старков, как оправдываться будем? А оправдываться придется. За опасный эксперимент. За «отсутствие техники безопасности» — так пишут в инструкциях? За Димку. За Рафа с Олегом. За себя, наконец… А что за себя оправдываться? Перемудрил, переусердствовал ученый муж. Как там в старом фокусе: наука умеет много гитик. Ох и много же гитик — не углядишь! За ходом опыта не углядел, за ребятами не углядел. А результат? Есть и результат — никакая милиция не опровергнет. Его теория доказана экспериментально, блестяще доказана — от этого результата не уйти! …Старков дошел наконец до сторожки, где по-прежнему гудел генератор. Только самописцы писали ровную линию — на нуле, и на нуле же застыла стрелка прибора, показывающего напряженность поля. Напряженность — ноль. Старков выключил ток, посмотрел на индикатор экранов: опять седьмой полетел, никак его Олег не наладит. Он сел на табуретку, подобрал с полу английский детектив, брошенный Рафом. С пестрой обложки улыбался ему рослый красавец с пистолетом в руке. Старков вспомнил: красавец этот ни разу не задумался перед выстрелом. Стрелял себе направо и налево, перешагивал через трупы, улыбался чарующе. Ни разу в жизни не выстреливший, — наверное, даже из «духовушки»! — Раф почему-то любил это чтиво. И любил с увлечением пересказывать похождения очередного супергероя. Вероятно, психологи назвали бы это комплексом неполноценности: искать в книгах то, чего нет и не будет в самом себе. Нет и не будет? Психологи тоже люди, а значит, не застрахованы от ошибок. По существу, Раф должен завидовать Димке или тем более Олегу — их сегодняшним подвигам. А ведь сам он сделал не меньше: его миссия была потруднее лихой перестрелки, затеянной в лесу. Он сумел убедить Петровича собрать и вооружить людей, заставил его поверить в случившееся, хотя оно было невероятней, чем все слышанные когда-то председателем сказки, да еще и вооружился сам, никогда не стрелявший, не знавший даже, как прицелиться или спустить курок. Он знал только, что готовился к бою, к жестокой военной схватке, о которой лишь читал или слышал на школьных уроках. Знал и не остался в деревне вместе с детьми и женщинами, а пошел в бой с дробовиком против «шмайссеров». Кстати, два из них остались у Старкова с Олегом вместе с «трофейной» машиной из прошлого. Все это придется, конечно, сдать. А жаль. Машина им пригодилась бы, да и Олег уж очень лихо ею управляет. Лихой парень Олег. Отчаянный и бесшабашный. Старкова почему-то всегда коробила эта бесшабашность. И пожалуй, зря коробила. Радоваться надо было, что не перевелись у нас храбрецы, которыми так гордились в годы войны и которые, если понадобится, повторят подвиг Матросова и Гастелло. Это в крови у народа — героизм, желание подвига. Так и не думай о том, что твоих студентов в школе этому как следует не учили. Когда политрук подымал взвод или роту в атаку, он не читал солдатам длинных продуманных лекций. Он кричал охрипшим голосом: «Вперед! За Родину!» — и люди не ждали других слов, потому что все другие слова были лишними. А подвиг боится лишних слов, отступает перед ними. Подвиг ведь не рассуждение, а действие. Таков и подвиг Олега. Он не знал, что седьмой экран на пределе, что поле, а вместе с ним и гости из прошлого вот-вот исчезнут. Он принял единственно верное решение — совершил почти невозможное. О своем подвиге Старков и не думал. А ведь если бы экран не сдал, то через каких-нибудь полчаса вернувшиеся ни с чем из-за Кривой Балки гитлеровцы повесили бы его на том же суку, под которым он стоял, уверяя, что партизанского штаба в деревне нет. Сейчас он даже не вспомнил бы об этом: какой еще подвиг — просто ожила где-то спрятанная в душе «военная косточка», которая давалась людям не в семилетке или десятилетке, а прямо на поле боя. Ведь и тебя, Старков, и председателя никто, в сущности, не учил воевать, а просто взяли вы в руки винтовки и пошли на фронт. И здорово воевали — такие же мальчишки, как Димка, Раф и Олег. Так вот и оказалось, Старков, что нет никакой разницы между тобой и твоими студентами: бой показал, что нет ее. Нет стариков и нет мальчишек — есть мужчины. Проверка боем окончена. Он встал и вышел из сарая. Дождь кончился, и серая муть облаков расползлась, обнажая блекло-голубое небо. Где-то в лесу знакомо урчал «трофейный автомобиль», и Старков медленно пошел ему навстречу.Николай Автократов Серая скала. Тайна профессора Макшеева
Серая скала
Глава I НАДПИСЬ НА СТЕНЕ
Сразу же после окончания войны, в июле, я защитил дипломный проект цеха асбоцементных труб и вместе со своими товарищами по институту ждал назначения на работу. Из нескольких предложенных мне мест я остановил свой выбор на цементном заводе, расположенном около города К., недалеко от границы с Румынией. Одновременно со мной окончила институт и моя жена, Леночка, и также получила назначение на этот завод. Нам полагался месячный отпуск. Леночка решила провести его у своих родителей на подмосковной даче. Они приглашали и меня, но я подумал, что разумнее всего отправиться к месту будущей работы, чтобы оглядеться, познакомиться с сослуживцами, подыскать квартиру,— словом, хоть немного организовать быт к приезду жены. Я быстро собрался и с небольшим багажом сел в поезд на Киевском вокзале, а через двое суток под вечер уже подъезжал к месту назначения. Еще издали увидел я высокую башню замка, чернеющую на фоне неба. Вскоре я показался и самый городок, небольшой, красивый, живописно расположенный по склонам холмов, вдоль берегов широкой, полноводной реки. Чистенькие улицы, маленькие беленькие домики под черепичными кровлями, окруженные деревьями с ветвями, нависшими над тротуарами, широкие площади, тенистые каштановые аллеи, базар, уставленный повозками, возле которых пережевывали жвачку волы, кофейни со столиками, расставленными на улице, — все это было типично для южного украинского городка. До завода надо было еще проехать по шоссе двенадцать километров. Я успел послать в Москву телеграмму и занять место в автобусе, который курсировал между вокзалом и заводом. Через минуту автобус уже мчался по прекрасной асфальтированной дороге, обсаженной с обеих сторон тополями. Дорога сделала несколько петель по склону холма, спустилась в лощину, поросшую редким кустарником, круто повернула, и вот перед нами снова открылась широкая гладь реки. Теперь мы ехали вдоль ее берега прямо на запад. Багровый диск солнца, окутанный лиловой пеленой облаков, отражался в зеркале реки вместе с черными берегами. Было совсем тихо. Я молчал, очарованный красотой пейзажа. Но вот вдалеке показались силуэты трех заводских труб. Из одной шел дым. Еще несколько минут — ив темноте замелькали огни заводского поселка. Машина повернула на площадь и остановилась у мрачного двухэтажного здания, окруженного строительными лесами. В окнах кое-где были решетки. Единственный фонарь тускло освещал небольшую, прибитую над дверью вывеску. Все это производило гнетущее впечатление, и я, прочитав вывеску, с трудом поверил, что здесь помещается гостиница. Я позвонил. Послышались тяжелые шаги, осветилось окно, и массивная дверь медленно отворилась. На пороге стоял старик. — Скажите, здесь гостиница? — спросил я. — Она самая, не беспокойтесь, не тюрьма, — ответил старик, приветливо улыбаясь. — Вот сюда пожалуйте. Он открыл боковую дверь и впустил меня в контору — только что выкрашенную комнату. Стол, стулья, несгораемый шкаф. На стене за стеклом доска для ключей и большой плакат_с правилами... Я передал свои документы. — Мы поместим вас на втором этаже, — сказал старик, после того как были закончены все формальности.— Его уже отремонтировали, и решеток там нет. Идемте наверх... Да, невеселенький домик, что и говорить! — продолжал он, когда мы поднимались по лестнице. — Здесь ведь при фашистах гестапо помещалось, самое настоящее гестапо, с подвалами. В той комнате, где контора, собаки содержались... Кто сюда попадал, тот уж и прощай! На площади виселица стояла, — добавил он шёпотом. — Теперь об этом вспоминаем, как о тяжелом сне. Вот отремонтируем помещение, переделаем фасад, и будет у нас гостиница что надо. Комната, которую мне предложили, была небольшая, но хорошо обставленная, с окном, выходящим в сад. Пришла девушка, принесла белье, поставила на стол вазу с цветами, постелила постель и ушла, пожелав спокойной ночи. Несмотря на открытое окно, в комнате было душно и пахло краской. Спал я плохо. Мне чудились какие-то страшные фигуры, смотрящие неподвижными глазами из всех углов и протягивающие ко мне длинные, покрытые броней щупальца. Впрочем, проснулся я бодрым. Яркое солнце, свежий утренний воздух, веселые голоса строителей, работающих на лесах под окнами, рассеяли все тревоги минувшей ночи. Я привел себя в порядок и пошел в столовую. Она помещалась в уже отремонтированной половине первого этажа. Там было очень мило: чистые скатерти, цветы, новая посуда. Несмотря на ранний час, за одним из столиков уже завтракал какой-то красивый молодой человек с густой черной шевелюрой, коротко подстриженными усами и в очках. Новенький серый костюм сидел на нем великолепно. Золотые часы замысловатой формы на руке, внушительных размеров автоматическая ручка и карандаш, торчащие из кармана пиджака, расческа в виде золотой рыбки, которую я заметил в бумажнике, когда он расплачивался, говорили о его стремлении быть оригинальным. Он читал газету и только мельком взглянул на меня. — Кто это такой? — спросил я старика-заведующего, когда незнакомец вышел. — Корреспондент какой-то газеты, — ответил он.— Уже две недели здесь живет. Позавтракав, я пошел осмотреть ту половину первого этажа, где при гестапо было тюремное помещение. Большинство комнат было уже отремонтировано, но несколько камер остались в прежнем виде. Я зашел в одну из них. В ней царил полумрак. Оба ее окна были на три четверти заложены кирпичом. В оставшейся сверху щели чернели прутья железной решетки. Слабый свет, еле пробивавшийся сквозь пыльные стекла, тускло освещал серые стены, кое-где покрытые пятнами сырости. Лампа, вдавленная в грязный потолок, деревянные нары вдоль стен, железная дверь с засовом и глазком — вот я псе. Вглядевшись, я заметил, что стены во многих местах исписаны. Вот надпись синим карандашом, крупным, твердым почерком: «Товарищи, держитесь!» И дальше: «Мы презираем вас, палачи!> Рядом нацарапанные чем-то острым строки: «Здесь провели свои последние часы Толя Сердобнн и Женя Аносов. Товарищи, отомстите за нас!» А ниже почти стертая надпись углем: «Выполнил свой долг перед Родиной и умираю!» Еще и еще надписи — твердой рукой мужчины, детским и женским почерком — свидетели мужества, героизма а бесстрашия советских людей. Глубоко потрясенный, я вышел из комнаты. Рядом: была другая камера, поменьше. Там было светлее: ремонт кончался, решетку выломали, разобрали кирпичную кладку окна и убрали нары. Потолок и одну из стен уже вычистили. Другую стену рабочий чистил скребком. Я хотел было уйти, как вдруг заметил на этой стене, прямо над полом, несколько рядов чисел, старательно и четко написанных карандашом. Числа были однозначные и двузначные, разделенные промежутками. Что это могло означать? Первой пришла на ум догадка, что здесь написано зашифрованное сообщение. Вероятно, заключенный написал на стене нечто важное, чего не хотел показывать гестаповцам, и потому поместил надпись под нарами, где она не сразу бросалась в глаза. Ее никак нельзя было оставить без внимания. Я нашел клочок старых обоев, попросил у рабочего карандаш и стал переписывать числа. — А! Вы тоже заинтересовались надписями?—услышал я звучный голос и, обернувшись, увидел того самого корреспондента, который завтракал со мной в столовой.— Я просто потрясен, — продолжал он, — какой ужас! Какие негодяи!.. Позвольте, однако, представиться: Коломийцев, корреспондент киевской газеты... Очень приятно! Мы поздоровались. Он был без пиджака, и я заметил на его левой руке, на ладонь выше часов, след от пулевой сквозной раны. Он наклонился к цифрам и внимательно стал их разглядывать: — Что вы здесь списываете?.. Ага, это интересно! Весьма интересно! Так, так... Но только вы напрасно стараетесь. Все это уже давно переписано и переснято. В горкоме вы найдете целый альбом. Идемте лучше, я провожу вас в подвал, где гестаповцы пытали свои жертвы. Подвал был только что отремонтирован, и там ровно ничего интересного не было. Мы еще немного поговорили. Он приехал, оказывается, на завод, чтобы присутствовать при торжестве пуска второй печи, но едва ли дождется этого. Он не может пробыть здесь более двух или трех дней, так как спешит в Чернигов на баскетбольное состязание. Мы расстались. Япошел представиться директору завода, а также своему будущему шефу — начальнику печного цеха Григорию Ивановичу Толкачову, под руководством которого мне предстояло работать. Потом мы с ним осматривали производство. От старого, разрушенного фашистами завода, состоявшего только из одной печи, можно сказать, ничего не осталось. На его месте построили новое, мощное предприятие, состоящее из трех громадных вращающихся трубчатых печей. Одна печь уже работала, другая проходила испытание, а третья монтировалась. — Вот какой вывели заводец! Красавец, гигант! — сказал Григорий Иванович, когда мы оканчивали осмотр. — Место уж больно хорошее: мергеля — первый сорт, мало где такие еще найдутся, и запасы их громадные, и вода рядом. Уже темнело, когда я покинул завод и направился в гостиницу. Плотные облака заволокли небо. Сквозь них, как в дыму, плыла луна. Было тяжко и душно, как бывает перед грозой. Ни малейшего ветерка. А он мог бы принести хоть немного прохлады. В моей комнате, несмотря на открытое окно, просто нечем было дышать. Захватив матрац, простыню и подушку, я выбрался через окно на леса и расположился там. «Если начнется гроза, успею убраться в комнату», — подумал я, завернулся в простыню и скоро заснул.Глава II ОДИН НА ОДИН С БЕЗУМЦЕМ
Сквозь сон я почувствовал, что меня кто-то трясет за ногу. Еще и еще... Открыл глаза. У стены, заслоняя спиной окно и широко раздвинув руки, стоял высокий и худой старик. Нет, это не сон! При слабом свете луны я ясно видел его бледное, как стена, лицо, седые растрепанные волосы, всклокоченную бороду и грязную разовую рубашку. Вытянув шею, он разглядывал меня с любопытством и насмешливо улыбался. Я приподнялся. — Ни, ни, ни... — прошептал старик, грозя мне пальцем. — Это не поможет... Слушай: «Я, могучий беспощадный юноша-вождь, захватил Эфесское царство!» Запомни это, запомни: «Я, могучий беспощадный юноша-вождь...» Он снова и снова повторял эту бессмысленную фразу, все быстрее и быстрее. При этом он придвигался ко мне и наконец наклонился так близко, что борода его коснулась моей груди. Глаза его лихорадочно сверкали, а руки делали какие-то нелепые движения, точно царапали простыню. Сомнения не было — передо мной стоял безумец. Я оттолкнул его и вскочил на ноги. — А... так, так, так! — проговорил он и засмеялся. — Так вот ты кто! Теперь-то я тебя узнаю... не скроешься... Ты Бедуин! Бедуин! Вернулся? Опять! Внезапно выражение его лица изменилось. — Где он? Куда вы его спрятали? Отдайте мне сына! — закричал он и, упав на колени, обнял мои голые ноги. Я не знал, что делать: бежать некуда, к тому же он крепко меня держит... Кричать? Как-то неудобно. Очевидно, это несчастный отец, потерявший сына на фронте. — Дедушка, не волнуйтесь, — сказал я насколько мог спокойно. — Вашего сына я не трогал и никогда не видел. Я только вчера сюда приехал... Если он погиб на войне, то — как герой, защищая Родину... Мне не следовало говорить этого. Он сразу поднялся во весь рост, затрясся, взглянул на меня с невыразимой злобой и закричал: — Да, он герой, герой, а ты Бедуин, ты предатель! Бедуин! Предатель, предатель! Тут он бросился на меня и с несвойственной для старика силой вцепился мне в горло обеими руками. Что было дальше, я точно не помню. Мы боролись у самого края лесов. Под нами дрожали и гнулись доски. Один момент я был на краю гибели. Навалившись всем телом, старик перегнул меня через перила, не переставая душить. Ноги мои болтались в воздухе. Я задыхался. В глазах поплыли красные круги. «Неужели это коней?» — пронеслось у меня в голове. Рванувшись, я успел зацепиться ногой за доску и освободился из объятий безумца, потом вскочил, схватил его за плечи и изо всех сил оттолкнул. Он ударился головой о столб, потерял равновесие и упал с лесов. Можно было подумать, что он разобьется. Но нет: падая, он ухватился за какой-то предмет и легко соскочил на землю. В ярости, прыгая в каком-то диком танце и угрожая мне кулаками, он закричал голосом, полным злобы: — Запомни ты! Запомни! «Я, могучий беспощадный юноша-вождь, захватил Эфесское царство!» — потом с удивительной легкостью и быстротой бросился бежать через сад и исчез из виду. В гостинице поднялась суматоха. Набежал народ с фонарями, пошли осматривать сад. Пришел и заведующий. Несколько успокоившись, я рассказал ему обо всем происшедшем. — Да, да, — сказал он, качая головой, — я забыл вас предупредить: здесь не следует ночевать на открытом воздухе. Случается иногда, что старик бродит по ночам на площади и около дома... Это Иван Иванович Сердобин, бывший заводской бухгалтер. Несчастный человек! Видите ли, у него фашисты забрали в гестапо сына и повесили его потом здесь, на площади, да еще его самого заставили смотреть. Ну, он и того... сошел с ума. В сумасшедшем доме сидел несколько раз — не вылечили... Днем он ничего, молчит, как немой, и ни на один вопрос не отвечает, а по ночам иногда шалит. Только он раньше не дрался. Разбудит и заставит слушать какую-то чепуху. Вы ему, видно, чем-то не понравились. «Так это Сердобин, отец того самого Толи Сердобина, который оставил на стене тюрьмы такую трогательную надпись!» Мне стало до боли жаль старика и досадно на себя, что я неосторожными словами довел несчастного до припадка. Когда на другой день утром я выходил из столовой, меня окликнул корреспондент Коломийцев. Он сидел на лавочке с плащом в руке и чемоданом у ног. — А я вас дожидаюсь. Хочу услышать из первых уст о необычайном ночном приключении. Забавно! Не правда ли? Говорят, на вас напал какой-то сумасшедший... Сделайте милость, поведайте мне. Корреспонденты всегда любопытны. Я рассказал ему подробно обо всем, что произошло ночью. Он слушал меня внимательно и переспрашивал отдельные куски рассказа. — Забавное приключение, не правда ли? — снова сказал он, когда я закончил рассказ. — Он вас принял, видимо, за какого-то араба. И чего только не сочинит больное воображение!.. Однако мне пора. До свидания! Спешу на самолет. — Так ведь вы, кажется, собирались погостить здесь еще денька два-три? — не удержался я. — Обстоятельства изменились. Не могу! — И он ушел. «Обстоятельства тут ни при чем, — подумал я.— Просто тебя напугал сумасшедший. Ты хоть и пижон, а трус...» Однако должен сказать, что мне тоже захотелось поскорее уйти из этих мест. Вторичная встреча со страшным стариком не предвещала ничего хорошего. Хотя он, по утверждению заведующего гостиницей, никогда не забирался в помещение, рассчитывать на такую скромность сумасшедшего не следовало. Я пошел искать себе комнату где-нибудь подальше от этого неприятного места.Глава III НАХОДКА В БАШНЕ ЗАМКА
Мне повезло. Совсем в другом конце поселка, недалеко от завода, мне указали на маленький домик с балкончиком и садиком перед ним, где сдавалась комната. Я постучал. Дверь отворила опрятная старушка и, видимо, обрадовалась, узнав о цели моего прихода. Просторная, светлая комната была вполне достаточна для двоих и на первое время меня устраивала. Мы быстро договорились об условиях, и я решил здесь поселиться. Старушку звали Надежда Петровна Пасько. Она разговорилась и поведала мне о своем горе. Оно было таким же, как и у многих других матерей: сын ее еще в начале 1942 года был схвачен гестаповцами и с тех пор пропал без вести. Умер ли он здесь где-нибудь или же его отправили в Германию и он погиб там — никто ничего определенного сказать не мог. Он работал на заводе начальником химической лаборатории. — Вот и живем мы здесь вдвоем с невесткой, Марией Сергеевной, горе мыкаем. Она на заводе служит, я — по хозяйству. А сейчас у нас внучка гостит, Танюша. На каникулы из Киева приехала. Старушка улыбнулась, и лицо ее просветлело. Вечером я уже окончательно перебрался на новую квартиру. Мария Сергеевна оказалась симпатичной женщиной лет сорока пяти, с приятным, хотя и утомленным лицом, серьезными серыми глазами и темными волосами, среди которых кое-где уже блестела седина. Ее дочь выглядела совсем еще девочкой. Ей было двадцать лет, а на вид можно было дать не более шестнадцати. Она только что перешла на второй курс медицинского института. Светло-карие глаза ее глядели весело и задорно. Чистый лоб, правильный нос, длинные светло-русые волосы, заплетенные в косы, — все было красиво и гармонично. Ее внешность несколько портили лишь губы, которые были слишком толсты и маловыразительны. В ее стройной, крепкой фигуре и угловатых движениях было что-то мальчишеское. Она была любительницей прогулок и постоянно подбивала меня на них, но я предпочитал гулять в одиночестве. Я целыми часами бродил по тропинкам и дорогам, мимо полей, засеянных пшеницей и кукурузой. Заходил в хутора, чтобы полакомиться только что сорванным, еще теплым виноградом, завтракал дынями и помидорами, запивая их молодым кисловатым вином. А иногда забирался на вершины холмов и оттуда смотрел на беловатые утесы, выступающие среди темно-зеленых пятен леса, на серебристую реку, на отдаленные усадьбы и села. Потом по вечерам рассказывал о своих путешествиях в длинных письмах... Побывал я также и в городе, на этот раз вместе с Татьяной. Я только что, перед самым отъездом из Москвы, был принят в кандидаты в члены партии и спешил стать на учет в районном комитете и представиться первому секретарю. Таня в тот же день поехала в город за покупками. Мы условились встретиться на бульваре. Первым секретарем был товарищ Еременко. Я застал его в кабинете оживленно беседующим с посетителем. — Познакомьтесь: Краевский, председатель местного союза охотников. — сказал Еременко. Еременко расспросил меня обо всем, обещал привлечь к партийной работе и поинтересовался, хорошо ли я устроился и не нуждаюсь ли в чем-нибудь. Я поблагодарил его и рассказал, между прочим, о ночном приключении в гостинице. — Да, знаю, знаю,— сказал он, — слыхал про этого несчастного. Не выдержал рассудок. И то сказать, легко ли отцу видеть пытку и казнь собственного сына! Во время оккупации, — продолжал он, — у нас действовало несколько подпольных организаций. Среди них была группа «ЮРП» — «Юные разведчики-патриоты». Вот Артемий Иванович, — он указал на Краевского, — имел близкое к этому делу отношение. Краевский молча кивнул головой. Это был совсем еще не старый, полный сил человек, но с седыми волосами. Серые глаза его смотрели спокойно и проницательно. Только заметная нервозность, с которой он курил трубку, свидетельствовала о том, что он прожил далеко не спокойную жизнь. — Да, — сказал он, оставляя трубку, — юные разведчики не раз оказывали нам большую помощь. Их группа была прекрасно законспирирована. Они сносились друг с другом с помощью особой азбуки. Мы имели дело только с одним их связным, Васей Гавриловым, по прозвищу «Дядька». Крепкий был юноша. Когда весной девятьсот сорок четвертого года организация провалилась, он убил при аресте трех гестаповцев и застрелился сам. Тогда всех похватали: Аносова, Толю Сердобина, сестер Паниных — всего человек двенадцать. Из них восьмерых повесили на площади. Остальные, наверное, были замучены при допросе. Печальное воспоминание! Но до нашей подпольной организации фашисты так и не добрались. — Так вы говорите, что старик бунтует?— спросил Еременко. — Напал на вас? Придется отправить его в психиатрическую больницу. Ничего не поделаешь. На воле оставлять нельзя. Он приподнялся со стула, давая этим понять, что наша беседа окончилась. Встал и Краевский, и тут я заметил, что он хромает на левую ногу и ходит, опираясь на палку. Впоследствии я узнал, что он потерял ногу в партизанской войне и носит протез. Отряд, которым он командовал, отходил врассыпную после удачного диверсионного акта. Краевский отступал последним и нарвался на мину — ему оторвало ногу. Помощи было ждать неоткуда, положение было отчаянное. Перетянув ногу ремешком, он три километра полз через кустарники по болоту, пока его не заметили товарищи, отправившиеся на поиски своего командира. Тут он потерял сознание... Теперь он жил на положении инвалида Отечественной войны, получал пенсию и занимал пост председателя охотничьего союза. Закончив дела в райкоме, я отправился на бульвар, где меня ждала Татьяна. Мы пошли бродить по городу. Потолкались по базару, накупили винограду и груш. Потом обедали в столовой. Потом пошли в краеведческий музей, где познакомились с его директором, почтенной старушкой Маевой. Она посоветовала нам осмотреть старинный замок, одну из достопримечательностей города. — Я сама люблю туда ходить, — сказала она тихим голосом. — Много грустных воспоминаний связано с этим замком. Там было место свидания наших юных героев. Сходите, посмотрите, замок интересный. Построен еще при короле Сигизмунде, более трехсот лет назад. До отхода моторного катера, который ежедневно прибывал с завода и отправлялся обратно, оставалось три часа, и мы решили воспользоваться советом старушки. Замок стоял в старом городе, по ту сторону реки, на обрыве холма, господствующего над городом и рекой. Чтобы попасть туда, нам пришлось переехать реку на пароме. Большой мост был разрушен, и над его восстановлением работали сейчас подводники. Мы поднялись кривыми улицами па холм, пересекли парк и подошли к замку. Некогда это была грозная крепость, теперь же остались только черные руины, заросшие кустарником и травой, обиталище бесчисленного множества ящериц. Сохранилась часть стены с воротами, над которыми был высечен из камня щит с гербом: протянутая рука держит меч. От громадного зала, где в былые времена пировала шляхта, сохранился один угол с торчащими во все стороны железными прутьями. Своды обвалились и превратились в груду камней, покрытых мхом и лишайником. Полностью уцелела только одна большая башня, стоящая возле самого обрыва. Некогда из ее черных амбразур во все стороны грозно торчали жерла пушек. Теперь у нее был самый мирный вид: снизу сплошь увивал плющ, в амбразурах поселились голуби, а верхушка была облеплена гнездами ласточек. Когда мы вечером сидели у подножия башни, они носились над нашими головами, наполняя воздух своим щебетанием. Мне было грустно. Живо представлялось, как здесь, быть может на этой самой скамейке, сидели юные разведчики, обсуждая важные и рискованные операции. Над ними так же носились ласточки, внизу так же блестела река... А потом их казнили... — Что вы, Сережа, все молчите? — спросила Татьяна. — Вам скучно? — Мне не скучно, а грустно. — Что так? — Я думаю о юных героях, которые сидели здесь, как мы сейчас сидим, а потом были схвачены и замучены в тюрьме. — Ну, если вам здесь скучно, идемте в парк. — Не стоит — далеко. Лучше посидим здесь. — Да что с вами сегодня? Развалины, что ли, на вас так действуют? — Что ж, возможно... Руины всегда наводят уныние. — Интересно было бы залезть в эту башню, — сказала вдруг Татьяна. — Может быть, там старинные вещи спрятаны. Представляете — оружие, рыцарские доспехи, манускрипты с печатями... А вдруг там скелеты на цепях сидят! — Едва ли! — засмеялся я. — Ну, давайте посмотрим. Мы обошли башню кругом. Я надеялся отыскать какой-нибудь вход, окно или спуск в подвал, но ничего не нашел. Дверь была уже давно заложена кирпичом, до бойниц нельзя было добраться, каменный цоколь башни был везде целехонек. Но вот с одной стороны, как раз против ворот, мы обнаружили невысоко над землей амбразуру. Она предназначалась, очевидно, для низового боя в случае штурма ворот. Плющ в этом месте так разросся, что амбразуру почти невозможно было разглядеть даже вблизи. Я попробовал взобраться и сорвался. Татьяна хохотала до упаду, глядя на мою неловкость. — Где уж вам! — заявила она. — Придется, видно, мне самой попробовать... Подсадите меня. Я ее подсадил. Она ухватилась за стебли плюща и, опираясь на небольшие выступы камней, с удивительной ловкостью стала карабкаться наверх. Через минуту она была уже в амбразуре. — Здесь темно, ничего не видно, — услышал я ее голос. — Щель совсем узкая, голова не проходит, и воздух тяжелый... А! Нашла расческу... Какая забавная! — Ну, так ищите дальше. Может быть, найдете зеркальце и пудреницу,— сострил я. — Нет. Ничего больше нет... Ловите! В воздухе мелькнуло что-то желтое, и в моих руках очутилась расческа. Какое удивительное совпадение! Она чрезвычайно напоминала мне ту, которую я увидел в бумажнике корреспондента Коломийцева. Такой же формы, как изогнутая рыбка, такого же цвета — золотистого, переходящего в матово-белый. — Что вас поражает? — спросила Татьяна, заметив мое недоумение. — Скажите, Таня, видели ли вы где-нибудь такую расческу? — Нет, никогда не видела, нигде. А что? — Так, совпадение... Я недавно видел такую же у одного корреспондента. — Может быть, он ее здесь потерял?.. Впрочем, нет, не может быть: она была завернута в бумажку и лежала под камнем. — Интересно, давно ли она здесь находится? На вид — как новенькая. А где же бумажка? Это не газета? По газете мы бы сразу догадались. — Я ее бросила. Нет, не газета, просто страничка из тетради... Я вижу, вам нравится эта расческа, Сережа,— продолжала Татьяна, видя, с каким вниманием я рассматриваю находку. — Хорошо, я дарю ее вам! Довольны? Я и в самом деле был доволен подарком и спрятал его в карман. Скоро завывание сирены известило, что подошел катер. Мы сошли вниз, купили билеты и сели на корме судна. Уже спустились сумерки, когда катер отчалил. Пристань с развевающимся флагом, ряды белых домиков под черепичными крышами, длинные каменные заборы, ограждающие сады, — все постепенно стало уменьшаться и скоро утонуло в вечерней мгле. Только черная башня долго еще маячила на светлом фоне вечернего неба. Двигатель монотонно стучал. Расходящиеся из-под кормы веером волны казались неподвижными складками на поверхности воды. В них красными бликами отражалось заходящее солнце. Мало-помалу сумерки уступили место темноте, и когда мы подходили к заводской пристани, у берегов реки уже горели красные и зеленые огни бакенов.Глава IV ПРОГУЛКА К ЗАБРОШЕННОМУ УКРЕПЛЕНИЮ
Через несколько дней мы предприняли настоящее путешествие вверх по реке. Подбила нас на эту прогулку наша новая знакомая, Анечка Шидловская. Это была худенькая черненькая девушка, на первый взгляд очень скромная, а на самом деле довольно бойкая. Ей было скучно, и она постоянно вертелась около Татьяны, надоедая различными проектами прогулок. На этот раз она прельстила нас развалинами старинной крепости, которую будто бы видела собственными глазами недалеко от берега реки. Это было заманчиво, хотя и маловероятно. «Если даже никаких развалин мы не найдем, — подумал я, — большой беды не будет. Погуляем и назад вернемся». Я достал у рыбака лодку. Мы запаслись большой корзиной с едой, захватили медный чайник, ножи, вилки, кружки, взяли фотоаппарат. Не забыли также бидона с молодым молдавским вином. Словом, экспедиция была снаряжена на славу. Покуда собирались, прошло много времени, и мы тронулись в путь только часов в десять. Анечка села за руль, а мы с Татьяной чередовались на веслах. Утро было тихое, ясное и нежаркое. Река спокойно текла в крутых берегах, сложенных из белого известкового камня и сплошь поросших лесом. Деревья стояли стеной и так близко к обрыву, что их корни торчали над водой, сплетаясь в густую сетку. Тишину нарушали только всплески весел нашей лодки да крики многочисленных птиц, которые то и дело вылетали из зарослей и проносились над водой с берега на берег. Плыть было легко и приятно, особенно сначала, пока мы не устали и пока нам не надоело однообразие ландшафта. Так прошло более двух часов, а старинной крепости не было и в помине. Анечку это нисколько не смущало. Она посматривала кругом и утешающе кивала головой, давая понять, что все в порядке. По вот берега отступили, река разлилась, и в середине ее открылся небольшой песчаный островок, поросший кустарником. Мы решили, что пора подумать об отдыхе и подкрепиться, и причалили к островку. Живо набрали валежника, развели костер, вскипятили чай и начали завтракать. Утка, консервы, варенье, фрукты — все пошло в дело, и корзина очень скоро сделалась совсем легкой, а в бидоне вина осталось на донышке. Потом мы отдыхали, лежа на песке, купались, фотографировались, опять пили чай, опять купались, — словом, когда собрались ехать дальше, было уже около четырех часов. Татьяна предложила было вернуться домой, но Анечка запротестовала. Она уверяла, что старинная крепость совсем рядом. ...Еще час работы веслами, и вот река делает крутой поворот около высокого темного утеса. Анечка вглядывается в очертания берега и кричит: — Здесь! Вот здесь!.. Сюда надо, сюда!.. Она направляет лодку к левому берегу, и мы видим несколько вбитых в дно свай, скрепленных железными скобами, — место бывшего причала. Однако ничего похожего на замок или крепость не видно. — Терпенье! — говорит Анечка и храбро ведет нас по заброшенной дороге. Видно, что она здесь действительно бывала. Дорога постепенно исчезает, и вот мы уже идем среди леса по едва приметной тропинке. Анечка, видимо, сбилась с пути, но она не сдается. — И здесь можно пройти, — говорит она уверенно. Но тропинка потеряна. Начинается блуждание по лесу наугад, среди валежника, пней, канав и ям... Вдруг впереди лес редеет, и мы слышим торжествующий Анечкии голос: — Скорее! Сюда!.. Что я говорила?! Мы выбегаем на широкую просеку и видим невдалеке какое-то сооружение, заваленное кучами белого мусора. Это в самом деле развалины крепости, только не старинной, а современной. Мы подходим к не достроенному фашистами долговременному укреплению. Кругом окопы, размытые дождем и поросшие травой, глубокие котлованы с заложенными в них фундаментами, бетонные плиты, позеленевшие от времени, стальные, бурые от ржавчины колпаки, горы железобетонных балок, штабеля бревен, бочки с цементом, окаменевшим от сырости, рельсы, проволока, доски. Видимо, фашисты в панике бросили все и бежали без оглядки. Мы, конечно, сейчас же пробрались внутрь укрепления, в подземные казематы с низкими потолками, оттуда по темным коридорам и лестницам поднялись в орудийные башни и пулеметные гнезда со щелями, обращенными в сторону леса, и наконец выбрались на крышу укрепления. Отсюда можно было обозреть восточную половину леса и небольшую часть береговой линии. Были хорошо видны три сходящиеся под углом просеки и лесные тропинки, вьющиеся между траншеями. Далее до самых пестрых холмов тянулся сплошной лес. Я невольно залюбовался открывшейся передо мной панорамой. — Там кто-то идет, — сказала Анечка. — Вон! Смотрите! Вдоль просеки по направлению к нам не шел, а бежал какой-то человек в сапогах и куртке, с ружьем в руке. По-видимому, это был сторож. Он махал руками и что-то кричал, по что именно, я не мог разобрать. — Он кричит: чего-то нельзя... Здесь ходить нельзя, — сказала Татьяна. — Вот еще — возразила Анечка. —Что это, настоящее укрепление, что ли?.. А если нельзя, так надо часовых ставить. Мы продолжали демонстративно сидеть наверху. Но тут ветер подул в нашу сторону, и я расслышал нечто иное. — Минировано!.. Мины там!.. Нельзя!.. — кричал сторож. Это было совершенно другое дело. Мы вдруг притихли и осторожно полезли прежним путем вниз. К нам подбежал запыхавшийся сторож: — Нельзя здесь гулять, товарищи! Здесь могут быть мины. Прошу уйти... Взорветесь — кто отвечать будет? Прошу! Я посмотрел на Анечку, но она сохраняла независимый вид. — Какая ерунда! — сказала она. — Саперы давно всё разминировали. Столько времени прошло! — Вот то-то и есть, что не все... Недавно моя собака погналась за зайцем и налетела на мину — одни клочья остались. Вот ежели лагерь хотите посмотреть — извольте, это можно, я провожу. — Какой лагерь? — спросил я. — Лагерь военнопленных, фашистский. Заключенные там жили. Всего три километра отсюда будет. А здесь оставаться нельзя. Я за вас отвечать не хочу. — Нет, не стоит смотреть лагерь, — сказала Татьяна, — уже поздно. Лучше здесь отдохнем и поедем домой. Идти туда, конечно, не стоило — все и без того очень устали. Мы выбрали удобное местечко на бревнах и принялись опустошать корзину. Угостили и сторожа, чтобы смягчить его нрав. Теперь я мог его рассмотреть. Это был человек средних лет, неряшливо одетый, обросший и грязный, с угрюмым выражением лица. Сидя в стороне, он закусывал, ни на кого не глядя, потом вынул трубку и закурил. Я стал расспрашивать его про лагерь. Он отвечал с видимой неохотой. — Там ведь жили рабочие-пленные — вот те, что строили это укрепление. А жили они известно как: хуже последнего скота. Потом, когда стали отступать, фашисты бросили работу и всех, кто остался, увезли в Германию. Тут строгость была, никого сюда не пускали, кругом колючая проволока да мины. Часовые везде, собаки. Разве что крестьяне лес привозили, а так никого не пускали. Я взглянул на штабеля прекрасных бревен и подивился аккуратности немцев: каждое бревно было занумеровано с торца черной краской. Но вот что удивительно: номера были только однозначные либо двузначные, часто повторялись и стояли в беспорядке. Числа эти до странности походили на те, которые я видел на стене тюремной камеры. Что это — случайность, простое совпадение или же… Их надо списать! Во что бы то ни стало! Но как? У меня не было ни карандаша, ни бумаги, а главное я не хотел списывать их у всех на глазах. Тогда мне пришла в голову замечательная мысль: штабели можно сфотографировать под видом фотографирования моих спутниц. Я усадил девушек на бревна, но так, чтобы их ноги не закрывали чисел и сфотографировал сначала один штабель, а затем другой под предлогом, что первой был плохо освещен. Теперь все было в порядке, и мы пошли домой. Правда я заметил еще несколько штабелей с числами, но фотографировать их не решился. Сторож повел нас по просеке, потом по дороге через лес вывел к реке, по берегу которой нам пришлось еще долгое время идти, прежде чем мы добрались до лодки. Это обходное движение заняло добрых два часа и когда мы уселись в лодку и отчалили, было совсем темно. Домой мы добрались после полуночи. Хозяева уже начали о нас беспокоиться. Несмотря на усталость, я спать не лег, а занялся проявлением фотоснимков. Фотографии вышли неважные. Девушкам я их даже не показал, сказав, что снимки не удались. Кстати, ни нечего было бы и смотреть, так как на фото вышли только одни ноги. Улучив время, когда мне никто не мог помешать, я занялся изучением цифровых надписей. В юности я интересовался этим делом. Мне были известны всевозможные способы тайнописи, применявшиеся в старину, так называемые «литореи», и методы зашифровки, употребляемые в наше время. Надеясь на свой опыт, я рассчитывал разобраться и в этих надписях, так как материала было достаточно. У меня сохранился и клочок обоев с записью чисел тюремной камеры. Вот что там было: На фотокарточках были сняты штабеля леса, сложенные из пяти рядов бревен, по шести штук в каждом. С помощью лупы я разобрал цифры на первом штабеле:
На фотокарточках были сняты штабеля леса, сложенные из пяти рядов бревен, по шести штук в каждом. С помощью лупы я разобрал цифры на первом штабеле:
 И на втором:
И на втором:

Сразу обнаружилось, что все надписи сделаны одним и тем же шифром, но я понял, что мне едва ли удастся их расшифровать. Предположить, что каждая буква обозначается одним определенным числом, было невозможно. В русском алфавите всего тридцать две буквы, включая ъ, э и й, а в зашифрованных надписях — сорок девять различных чисел, от 1 до 52, исключая три числа: 38, 39 и 46. Если бы количество встречающихся в зашифрованном тексте различных чисел соответствовало числу букв алфавита, естественно было бы думать, что здесь имеет место простая секретная азбука, где каждая буква обозначается одним определенным числом. Такой шифр разгадать нетрудно. Достаточно было бы подсчитать, как часто в тексте встречаются те или иные числа, и сопоставить результаты подсчета со статистикой повторяемости букв в русском языке. Но здесь этот метод был неприменим — различных чисел было по крайней мере в полтора раза больше, чем букв в русском словаре. Очевидно, шифр был какого-то другого типа, и разгадать его мне оказалось не под силу. Единственно, до чего я додумался, было следующее: каждая надпись, полностью списанная, оканчивалась одинаково тремя числами — 20, 48, 12, что напоминало какую-то подпись. Я вспомнил, что тайное общество именовало себя «Юные разведчики-патриоты», и предположил что эти числа означают «ЮРП». Это было довольно вероятно, но противоречило моей прежней догадке что числа не обозначают букв. Я ломал голову над этой задачей целый день без всякого результата и наконец понял, что орешек этот мне не по зубам.
Глава V СМЕРТЬ В ЗАБРОШЕННОМ КАРЬЕРЕ
Мне пришло в голову, что полезно было бы посетить семью Сердобиных и побеседовать с матерью Толи, а может быть и с самим Иваном Ивановичем, если только психическое состояние его позволит это сделать. У них могли остаться какие-нибудь записки или материалы, которые помогли бы расшифровать надписи. На другой день я взял все свои записи и отправился к Сердобиным. Они жили в старом заводском поселке, по другую сторону завода. Их маленький деревянный домик, заросший со всех сторон полынью и крапивой, стоял на самом краю поселка возле оврага. Я постучал. Мне открыла дверь высокая пожилая женщина, гладко причесанная, с бледным и серьезным лицом. За ней стоял красивый мальчик лет шестнадцати — видимо, ее сын. Это были мать Коли Ксения Васильевна и его младший брат Петя. В домике было чисто и опрятно. Чувствовалось, что семья Сердобиных не испытывает материальной нужды (они получали за погибшего сына-героя большую пенсию), но в доме царила печаль; ни мать, ни сын за все время разговора ни разу не улыбнулись. Я представился и объяснил цель прихода. Мне хотелось бы знать не осталось ли после Толи (я хотел сказать: «после покойного Толи», но удержался) каких-нибудь записей, дневников или еще чего-нибудь, что помогло бы мне разобраться в некоторых очень важных вопросах. Может быть, остались тетради, клочки бумаги? Я буду благодарен за малейшее указание. Мать стояла, опустив глаза. — Нет, ничего не сохранилось, — ответила она наконец голосом, в котором звучала враждебная нотка. — Все тогда забрали. А что осталось, так мы после сами уничтожили... Может быть, у Пети что есть? — У меня ничего нет, — сказал Петя. — Может быть, вам что-нибудь разъяснил бы Иван Иванович, сейчас он лучше себя чувствует, да вот уже второй день, как его нет дома. Не знаю, что и подумать! Никогда раньше этого не случалось... Зайдите как-нибудь в другое время. Мне стало неловко. Я извинился за причиненное беспокойство и откланялся. В это время стукнула калитка, снаружи послышались голоса, и в комнату вошли и остановились в нерешительности несколько человек. — Что такое? Что случилось? —спросила Ксения Васильевна, со страхом глядя на вошедших. Те молчали. — Где Иван Иванович? — Вы только не волнуйтесь, Ксения Васильевна,— наконец сказал один из них. — Ивана Ивановича нашли в старом карьере... Упал, значит, и разбился. — До смерти? — Да, уже скончался... Бледное лицо несчастной женщины стало белее стены. Она сорвалась с места, схватила платок и, не глядя ни на кого, выбежала из дому. Все, в том числе и я, пошли за ней. Петя побежал вперед. Примерно в полукилометре от поселка был старый карьер, из которого уже давно выбрали весь годный мергель. Теперь разрабатывались другие участки залежи, а здесь местность даже не освещалась по ночам. Мы спустились по заброшенной узкоколейке в карьер. В стороне, возле самого обрыва, стояли две машины, и около них — кучка людей. Среди них я заметил двух милиционеров и одного военного в форме Министерства госбезопасности, с погонами майора. Перед нами расступились, и я увидел на земле человека с неестественно раскинутыми руками, в рваном и грязном костюме. Вся голова его и лицо были сплошь залиты кровью. — Экая беда! — сказал кто-то из толпы. — И как это не догадались огородить карьер или хотя бы фонари поставить? Сейчас ночи темные. Тут и здоровый человек сорваться может, не то что сумасшедший. Я вспомнил, как ловко Сердобин соскочил с лесов, и подумал, что едва ли он мог нечаянно свалиться. — Едва ли он свалился нечаянно, — сказал я. — С лесов он чрезвычайно ловко соскочил. Мне думается, сам бросился. — И то может быть... Сумасшедшему что в голову не взбредет. Может, здесь и самоубийство, — согласился говоривший. Майор взглянул на меня, подошел и протянул руку. — Здравствуйте, товарищ Зернин, — сказал он, чуть улыбнувшись. — Узнаете? Передо мной стоял бывший начальник спецотдела нашего института Рожков. Я сразу узнал его, хотя не видел несколько лет: он служил у нас перед войной, а потом уехал на фронт. — Узнаю, товарищ Рожков. Здравствуйте! Вот не ожидал вас встретить! Вы теперь здесь работаете? — Как видите. Уполномоченным по району... Очень рад возобновить с вами знакомство. Я-то вас отлично помню. Вы что же, приехали сюда на завод? — Да. Получил назначение. По к работе еще не приступил. Гуляю пока. Решил провести здесь отпуск. — Что же, прекрасно. — Майор отвел меня немного в сторону.— Скажите, — продолжал он, — вы, я слышал, имели случай встречаться с этим погибшим. И даже будто бы боролись с ним? — Да, представьте! Он напал на меня ночью. Должно быть, принял за кого-то другого. Я еле отбился... Несчастный человек! — Если вы свободны, — сказал Рожков, помолчав, — то я просил бы вас уделить мне немного времени. Надо порасспросить вас обо всем этом как следует. Словом, нужны ваши показания. Едемте! Тут недалеко. Мы сели в машину и через четверть часа уже были в городе, у здания управления. Майор провел меня в свой кабинет, предложил кресло, а сам сел за письменный стол. Некоторое время он сидел молча, подперши руками голову. Теперь я мог лучше его разглядеть. Он заметно возмужал, пожалуй, постарел с того времени, как я его видел в последний раз и казался старше своих тридцати пяти лет. Чисто выбритое лицо, загорелое и обветренное, носило следы усталости. Серые глаза из-под густых, сросшихся у переносицы бровей теперь глядели строго и даже сурово, но на губах по-прежнему часто появлялась едва заметная улыбка. — Ну, рассказывайте, что с вами случилось, — сказал он, подняв на меня глаза. Я подробно рассказал о своем ночном приключении со стариком Сердобиным. Упомянул и про бессмысленную фразу, которую безумец несколько раз выкрикивал, Майор слушал внимательно. — Это вовсе не бредовая фантазия, как можно думать, — сказал он помолчав. — Эта фраза, возможно, имеет серьезное, очень серьезное значение. Ее кричал на всю площадь его сын Толя в последний момент, стоя под виселицей с петлей на шее. Понятно, что несчастный отец на глазах у которого все это происходило, запомнил его слова и хоть и не понял их смысла, но повторял в припадке сумасшествия. Ну-с, теперь о другом. Я вот что хочу вам предложить... Вы видели младшего сына Сердобина, Петю? — Видел. — Так вот, у нас создалось впечатление, что этот Петя знает тайну, касающуюся одного важного обстоятельства, — умолчу пока о нем, — знает и не говорит. Почему? Вернее всего потому, что боится. Если это так, если это действительно так, то он находится в опасности, и ему грозит участь его отца. — Самоубийство? — Какое там самоубийство! Иван Иванович Сердобин убит, а не покончил с собой. — Убит?! — Разумеется. Его заманили ночью к карьеру и сбросили. Он боролся. Ссадина на руке, оторванный рукав пиджака свидетельствуют об этом. Его кепка валялась на верху, в стороне. Трудно предположить, что он сам бросил ее перед самоубийством... Он убит. Только об этом не следует никому говорить. Пусть распространится весть о самоубийстве. Понимаете? — Буду молчать. — Верю. Так вот, постарайтесь войти в доверие к мальчику. Может быть, он вам что-нибудь и откроет. Замечайте, куда он ходит, с кем встречается. Здесь малейшее указание может принести нам громадную пользу. — В чем же дело? — спросил я. — Чем может интересен мальчик из бедной семьи этим бандитам? — Это не простые бандиты. Здесь дело куда более важное — политическое. Слыхал ли вы про организацию Юных разведчиков-патриотов, которая действовала здесь при фашистах? — Слыхал. А вы знаете, майор, что v них была своя азбука, свой цифровой шифр, с помощью которого они общались? Мне сказал Краевский. — Да, была. Об этом нам известно. Надписи делались углем или мелом на заборах и в других местах, а то и просто на земле. Только от них почти ничего не сохранилось. — А я списал довольно много надписей. В гостинице, потом еще в другом месте... — В гостинице? — Да.. то есть в гестапо. В последней, маленькой камере смертников. Цифры были написаны под нарами. А когда эти нары сломали, я увидел и списал... частично. — Где еще? — Еще — на бревнах возле недостроенного укрепления. Знаете? Мы ездили туда гулять... — У вас с собой эти записи? — Да, здесь, с собой. Я захватил их, когда шел к Сердобиным. — Давайте посмотрим.Глава VI ТАЙНА ШИФРОВАННЫХ ЗАНЕСЕН
Мы разложили зашифрованные записи на столе и начали их изучать. — Конечно — сказал майор,— здесь не может быть речи о простой секретной азбуке. Здесь сорок девять различных чисел при тридцати двух буквах алфавита. С другой стороны, это не обычное зашифрованное с помощью шифровальных таблиц и условного пароля письмо. Тогда бы не могли встречаться так часто одинаковые числа. Да такой способ для юных патриотов и не годился бы. Сообщать пароль друг другу в условиях строгой конспирации очень трудно, а хранить шифровальную таблицу крайне опасно. Им нужен был какой-нибудь более простои способ. Расчет был на то, что враги просто не обратят внимания на записи и не будут их расшифровывать. Например, возможен такой метод, —продолжал Рожков. — Буква обозначается ее порядковым номером в отделенном отрывке хорошо известной книги или, что еще лучше, в определенной условной фразе, которая нигде не записывается, а выучивается наизусть. Тогда буквы, встречающиеся в этой фразе один раз, будут обозначаться только одним числом, а другие — несколькими. Это затрудняет расшифровку, особенно если материала недостаточно. Итак, в нашем случае, чтобы расшифровать надписи надо знать секретную фразу — ключ. И мы, думается мне, ее знаем... Вы помните, что кричал старик Сердобин? — Это про Эфесское царство? Помню. — Точно? — Точно. — Тогда диктуйте. Я стал диктовать. Он писал за мной букву за буквой подставляя под каждую порядковый номер. Вот что получилось: — Теперь давайте попробуем разобраться в документах, — сказал Рожков.
Помню, с каким трепетом разложили мы на столе исписанные цифрами листочки бумаги и стали их расшифровывать. Успех был полный. Числа первого штабеля сфотографированного мною, означали:
«Готовьтесь шестого два часа ночи. ЮРП».
Надпись второго штабеля мы расшифровали так:
«В третьем возу кирпича — гранаты. ЮРП».
— Великолепно! — воскликнул Рожков.— Догадка наша оправдалась... Я и раньше подозревал, что эта на первый взгляд бессмыслица имеет значение ключа, но у меня не было материала, чтобы проверить свою догадку. Заметьте, Сергей Михайлович: в одной короткой фразе заключены все буквы алфавита. Буква «а» может быть показана пятью различными числами, а буква «о» — шестью. Именно: тремя, тринадцатью, двадцатью двумя, двадцатью шестью, сорока четырьмя и, наконец, пятьюдесятью двумя. Очень остроумно! И фраза легко запоминается и вместе с тем кажется глупой болтовней. Итак, мы знаем теперь секрет шифра юных разведчиков. Они сообщают кому-то из заключенных в лагере, очевидно своему сообщнику, что доставлено оружие и что шестого числа в два часа ночи надо ждать какого-то события. Здесь дело идет о следующем,— пояснил Рожков. — Весной девятьсот сорок четвертого года наш партизанский отряд готовился напасть на этот лагерь с целью освобождения военнопленных Наладить связь с заключенными было поручено ЮРП. И они это, как видите, блестяще выполнили таким необычайным способом, воспользовавшись тем что кирпич и бревна строительству доставлялись крестьянами. Только нападение не состоялось. Партизаны не получили условного сигнала. Заговор был раскрыт в последнюю минуту. Многих из числа юных патриотов тогда арестовали, и среди них Толю Сердобина. Несомненно, их кто-то предал. Все это было известно нам раньше. Вы говорите там у неоконченного укрепления, были еще и другие штабеля леса с цифрами? — вернулся к прерванному разговору Рожков.
— Да, я заметил еще несколько.
— Их надо обязательно списать и расшифровать, может быть, найдем что-нибудь новое... Ну, теперь обратимся к надписям на стенах тюрьмы.
Первая надпись гласила:
«Нас подло предал Бедуин. Настоящего имени его не знаю. Отомстите ему. ЮРП».
«Вот и имя предателя. Наконец-то мы его узнали! Правда пока не настоящее имя, а прозвище, конспиративную кличку, но это уже шаг вперед. Вот почему сумасшедший старик с такой ненавистью произносил его. Вот почему он набросился на меня, когда в его больном воображении встал образ предателя... Но мы найдем тебя, «Бедуин» если ты только на этом свете, и отомстим за все.»
Так думал я, глядя на две строчки, таинственным образом теперь воскресшие. Я взглянул на Рожкова. Лицо его было суровое. Видимо, он думал то же самое.
— Что еще есть у вас? — спросил он, прервав размышление.
Я передал ему последнюю запись. Первые же слова, прочитанные нами, возбудили живейшее любопытство. Скоро мы поняли, что имеем дело с сообщением величайшей важности. После расшифровки перед нами лежал документ следующего содержания:
«Тайная мастерская секретного оружия. Спешите! Рука Лисовского покажет. МВШ. Потом ИМШ на восток отсю...»
— А дальше что? — спросил майор.
— Дальше я не списал — не успел. Но все надписи на стенах тюрьмы были сфотографированы. Они хранятся в горкоме. Мне так сказали.
— Они у нас хранятся, а не в комитете партии, хотя фотографировали не мы. Но я что-то не помню, чтобы там были зашифровки. Сейчас посмотрим.
Майор взял трубку внутреннего телефона и приказал принести альбом снимковпомещений гестапо, сделанных вскоре после освобождения города от фашистов.
— Возможно, это как раз то, что мы ищем, — продолжал он. — Кое-где в иностранной печати проскользнули сообщения, что фашисты оставили где-то на западе Украины секретный завод, но до сей поры никаких следов его мы не обнаружили. Конечно, — продолжал он, еще раз разглядывая надпись, — здесь многое непонятно. Что означает, например, выражение «рука Лисовского»? Что значат таинственные буквы «МВШ» и «ИМШ»? Это пока неизвестно. Но все-таки мы ухватились за конец нити, и есть надежда, что размотаем весь клубок. Посмотрим, что разъяснит дальнейший текст.
Нас ждало горькое разочарование. В толстом альбоме, который очень скоро принес помощник майора, лейтенант Хрулев, мы нашли целую серию снимков здания гестапо снаружи, внутри, издали, вблизи. Нашли снимки канцелярии, коридоров, подвала, камер, снимки стен с надписями, очень хорошо и ясно выполненные. Была снята и последняя, маленькая камера смертников с убогим столом, жестяным чайником и кружками на нем и с грязными голыми нарами. На стенах можно было легко разобрать несколько надписей, но нары закрывали нижнюю часть стены, и никаких цифр не было видно.
Майор закрыл альбом и отложил его в сторону.
— Не догадались убрать нары,— сказал он с досадой.— Очень жаль, что вы тогда поторопились и не списали этот важнейший документ до конца. Много там оставалось неописанного?
— Да строчки две.
— Целые две строчки! Скверно! Боюсь, что ошибка ваша непоправима. Гостиницу уже отремонтировали, и все надписи стерты, — закончил он сухо.
Никогда я не чувствовал себя так неловко. Как можно было допустить такую оплошность! Ведь я отлично знал, что на стене написано нечто важное, почему же я поверил на слово случайному человеку?
Майор глядел на меня и нервно постукивал карандашом по столу.
— Может быть, у вас есть еще какие-нибудь тексты? — спросил он наконец.
— Нет, ничего нет.
— Скверно. Ну что ж, попробуем разрешить задачу, исходя из наличного материала.
Он достал из стола толстую книгу, взял карандаш и углубился в работу.
Утомленный хлопотами и волнениями минувшего дня, я задремал, сидя в кресле. Когда я проснулся, в окно уже глядел рассвет. Майор все так же сидел за столом заваленным бумагами и освещенным настольной лампой. Три пустых стакана из-под чая стояли на столе. Его лицо в смешанном освещении окна и лампы казалось серым и утомленным. Увидев, что я проснулся, он обернулся ко мне и сказал:
— Вы проспали много интересного, товарищ Зернин. Я разгадал смысл непонятных слов «МВШ» и «ИМШ».
— Что же они значат?
— Здесь указаны числа. Их не надо было расшифровывать. Вот смотрите. У вас написано: 2, 25, 23 и 36, 2, 23. Число 23, означает букву «ш», надо расшифровать. Ее следует понимать как слово «шагов», а первые две цифры дают числа 225 и 362. Стало быть, здесь сообщается, сколько надо сделать шагов по направлению, указанному какой-то «рукой Лисовского». Догадаться было нетрудно. Вот что такое эта «рука» — я так и не додумался. Наводил справки, но пока безрезультатно. Никаких Лисовских за последние двадцать лет ни в городе, ни на заводе, ни в окрестных селах не проживало. Скажите, — внезапно обратился он ко мне. — вы никому не говорили о зашифрованных записях ЮРП?
— Нет, не говорил.
— Никому?
— Никому.
— И никому не писали про это?
— Нет, ничего не писал. И фотоснимков не показывал.
— И не надо сообщать. Теперь вот что: ступайте домой и отдохните. Потом надо будет заняться Петей Сердобиным. Постарайтесь установить, не знает ли он, кто был «Бедуин». Скажите ему это слово в разговоре вскользь, как бы случайно, и наблюдайте, не выдаст ли он себя, не смутится ли, не вздрогнет ли. А про «руку Лисовского» лучше вовсе не упоминайте. Так будет осторожнее. Только действуйте крайне осмотрительно. Да помните, что его надо охранять. Он, возможно, находится в опасности.
Я понял, что мое присутствие больше не нужно, и встал, чтобы идти домой. От сна в неудобной позе у меня затекли ноги и руки и голова стала словно свинцовая. Чтобы немножко привести себя в порядок, я подошел к зеркалу и начал причесываться.
— Товарищ Зернин, покажите-ка расческу! — услышал я возглас майора. — Откуда она у вас?
— Мы нашли ее... то-есть нашла ее, собственно, Татьяна Пасько и подарила мне.
— Да где же вы ее нашли?
— В старом замке, в башне... в амбразуре башни, которая смотрит в сторону ворот. Она лежала там под камнем, завернутая в бумажку.
Майор молча открыл портфель и достал из него точно такую же расческу. Он наложил их одна на другую: расчески оказались одинаковыми, как две капли воды, и по величине, и по форме, и по цвету. Только его была исцарапана и сильно потерта. Он встал со стула и в волнении зашагал по комнате. Потом остановился передо мной и спросил:
— А зачем вы полезли осматривать бойницу?
— Так просто. Я хотел получше осмотреть место, где встречались юные разведчики. На всякий случай...
В глазах майора мелькнула улыбка:
— Вы молодец, Сергей Михайлович! За это я готов простить вам вашу оплошность. Берите расческу, но никому ее не показывайте. Понимаете, никому! Она, может быть, имеет особое, чрезвычайно важное значение. Недаром старик Сердобин ее так тщательно хранил.
— Вы нашли ее у Сердобина? У Ивана Ивановича?
— Да, у него. Вернее, на его мертвом теле. Он носил ее зашитой в подкладке пиджака. Очень интересная вещица.
Мы стали прощаться. Он крепко пожал мне руку и вдруг сказал:
— А знаете что? Оставьте-ка эту расчесочку у меня на хранение. Так спокойнее будет.
— Пожалуйста. Я скажу Татьяне, что потерял ее.
— Нет, так сразу не надо, — засмеялся он. — Скажете, если сама спросит, что дома затерялась и что вы ее поищете... И вообще поменьше о ней вспоминайте.
Я пошел домой, глубоко взволнованный этой ночной беседой.
— Теперь давайте попробуем разобраться в документах, — сказал Рожков.
Помню, с каким трепетом разложили мы на столе исписанные цифрами листочки бумаги и стали их расшифровывать. Успех был полный. Числа первого штабеля сфотографированного мною, означали:
«Готовьтесь шестого два часа ночи. ЮРП».
Надпись второго штабеля мы расшифровали так:
«В третьем возу кирпича — гранаты. ЮРП».
— Великолепно! — воскликнул Рожков.— Догадка наша оправдалась... Я и раньше подозревал, что эта на первый взгляд бессмыслица имеет значение ключа, но у меня не было материала, чтобы проверить свою догадку. Заметьте, Сергей Михайлович: в одной короткой фразе заключены все буквы алфавита. Буква «а» может быть показана пятью различными числами, а буква «о» — шестью. Именно: тремя, тринадцатью, двадцатью двумя, двадцатью шестью, сорока четырьмя и, наконец, пятьюдесятью двумя. Очень остроумно! И фраза легко запоминается и вместе с тем кажется глупой болтовней. Итак, мы знаем теперь секрет шифра юных разведчиков. Они сообщают кому-то из заключенных в лагере, очевидно своему сообщнику, что доставлено оружие и что шестого числа в два часа ночи надо ждать какого-то события. Здесь дело идет о следующем,— пояснил Рожков. — Весной девятьсот сорок четвертого года наш партизанский отряд готовился напасть на этот лагерь с целью освобождения военнопленных Наладить связь с заключенными было поручено ЮРП. И они это, как видите, блестяще выполнили таким необычайным способом, воспользовавшись тем что кирпич и бревна строительству доставлялись крестьянами. Только нападение не состоялось. Партизаны не получили условного сигнала. Заговор был раскрыт в последнюю минуту. Многих из числа юных патриотов тогда арестовали, и среди них Толю Сердобина. Несомненно, их кто-то предал. Все это было известно нам раньше. Вы говорите там у неоконченного укрепления, были еще и другие штабеля леса с цифрами? — вернулся к прерванному разговору Рожков.
— Да, я заметил еще несколько.
— Их надо обязательно списать и расшифровать, может быть, найдем что-нибудь новое... Ну, теперь обратимся к надписям на стенах тюрьмы.
Первая надпись гласила:
«Нас подло предал Бедуин. Настоящего имени его не знаю. Отомстите ему. ЮРП».
«Вот и имя предателя. Наконец-то мы его узнали! Правда пока не настоящее имя, а прозвище, конспиративную кличку, но это уже шаг вперед. Вот почему сумасшедший старик с такой ненавистью произносил его. Вот почему он набросился на меня, когда в его больном воображении встал образ предателя... Но мы найдем тебя, «Бедуин» если ты только на этом свете, и отомстим за все.»
Так думал я, глядя на две строчки, таинственным образом теперь воскресшие. Я взглянул на Рожкова. Лицо его было суровое. Видимо, он думал то же самое.
— Что еще есть у вас? — спросил он, прервав размышление.
Я передал ему последнюю запись. Первые же слова, прочитанные нами, возбудили живейшее любопытство. Скоро мы поняли, что имеем дело с сообщением величайшей важности. После расшифровки перед нами лежал документ следующего содержания:
«Тайная мастерская секретного оружия. Спешите! Рука Лисовского покажет. МВШ. Потом ИМШ на восток отсю...»
— А дальше что? — спросил майор.
— Дальше я не списал — не успел. Но все надписи на стенах тюрьмы были сфотографированы. Они хранятся в горкоме. Мне так сказали.
— Они у нас хранятся, а не в комитете партии, хотя фотографировали не мы. Но я что-то не помню, чтобы там были зашифровки. Сейчас посмотрим.
Майор взял трубку внутреннего телефона и приказал принести альбом снимковпомещений гестапо, сделанных вскоре после освобождения города от фашистов.
— Возможно, это как раз то, что мы ищем, — продолжал он. — Кое-где в иностранной печати проскользнули сообщения, что фашисты оставили где-то на западе Украины секретный завод, но до сей поры никаких следов его мы не обнаружили. Конечно, — продолжал он, еще раз разглядывая надпись, — здесь многое непонятно. Что означает, например, выражение «рука Лисовского»? Что значат таинственные буквы «МВШ» и «ИМШ»? Это пока неизвестно. Но все-таки мы ухватились за конец нити, и есть надежда, что размотаем весь клубок. Посмотрим, что разъяснит дальнейший текст.
Нас ждало горькое разочарование. В толстом альбоме, который очень скоро принес помощник майора, лейтенант Хрулев, мы нашли целую серию снимков здания гестапо снаружи, внутри, издали, вблизи. Нашли снимки канцелярии, коридоров, подвала, камер, снимки стен с надписями, очень хорошо и ясно выполненные. Была снята и последняя, маленькая камера смертников с убогим столом, жестяным чайником и кружками на нем и с грязными голыми нарами. На стенах можно было легко разобрать несколько надписей, но нары закрывали нижнюю часть стены, и никаких цифр не было видно.
Майор закрыл альбом и отложил его в сторону.
— Не догадались убрать нары,— сказал он с досадой.— Очень жаль, что вы тогда поторопились и не списали этот важнейший документ до конца. Много там оставалось неописанного?
— Да строчки две.
— Целые две строчки! Скверно! Боюсь, что ошибка ваша непоправима. Гостиницу уже отремонтировали, и все надписи стерты, — закончил он сухо.
Никогда я не чувствовал себя так неловко. Как можно было допустить такую оплошность! Ведь я отлично знал, что на стене написано нечто важное, почему же я поверил на слово случайному человеку?
Майор глядел на меня и нервно постукивал карандашом по столу.
— Может быть, у вас есть еще какие-нибудь тексты? — спросил он наконец.
— Нет, ничего нет.
— Скверно. Ну что ж, попробуем разрешить задачу, исходя из наличного материала.
Он достал из стола толстую книгу, взял карандаш и углубился в работу.
Утомленный хлопотами и волнениями минувшего дня, я задремал, сидя в кресле. Когда я проснулся, в окно уже глядел рассвет. Майор все так же сидел за столом заваленным бумагами и освещенным настольной лампой. Три пустых стакана из-под чая стояли на столе. Его лицо в смешанном освещении окна и лампы казалось серым и утомленным. Увидев, что я проснулся, он обернулся ко мне и сказал:
— Вы проспали много интересного, товарищ Зернин. Я разгадал смысл непонятных слов «МВШ» и «ИМШ».
— Что же они значат?
— Здесь указаны числа. Их не надо было расшифровывать. Вот смотрите. У вас написано: 2, 25, 23 и 36, 2, 23. Число 23, означает букву «ш», надо расшифровать. Ее следует понимать как слово «шагов», а первые две цифры дают числа 225 и 362. Стало быть, здесь сообщается, сколько надо сделать шагов по направлению, указанному какой-то «рукой Лисовского». Догадаться было нетрудно. Вот что такое эта «рука» — я так и не додумался. Наводил справки, но пока безрезультатно. Никаких Лисовских за последние двадцать лет ни в городе, ни на заводе, ни в окрестных селах не проживало. Скажите, — внезапно обратился он ко мне. — вы никому не говорили о зашифрованных записях ЮРП?
— Нет, не говорил.
— Никому?
— Никому.
— И никому не писали про это?
— Нет, ничего не писал. И фотоснимков не показывал.
— И не надо сообщать. Теперь вот что: ступайте домой и отдохните. Потом надо будет заняться Петей Сердобиным. Постарайтесь установить, не знает ли он, кто был «Бедуин». Скажите ему это слово в разговоре вскользь, как бы случайно, и наблюдайте, не выдаст ли он себя, не смутится ли, не вздрогнет ли. А про «руку Лисовского» лучше вовсе не упоминайте. Так будет осторожнее. Только действуйте крайне осмотрительно. Да помните, что его надо охранять. Он, возможно, находится в опасности.
Я понял, что мое присутствие больше не нужно, и встал, чтобы идти домой. От сна в неудобной позе у меня затекли ноги и руки и голова стала словно свинцовая. Чтобы немножко привести себя в порядок, я подошел к зеркалу и начал причесываться.
— Товарищ Зернин, покажите-ка расческу! — услышал я возглас майора. — Откуда она у вас?
— Мы нашли ее... то-есть нашла ее, собственно, Татьяна Пасько и подарила мне.
— Да где же вы ее нашли?
— В старом замке, в башне... в амбразуре башни, которая смотрит в сторону ворот. Она лежала там под камнем, завернутая в бумажку.
Майор молча открыл портфель и достал из него точно такую же расческу. Он наложил их одна на другую: расчески оказались одинаковыми, как две капли воды, и по величине, и по форме, и по цвету. Только его была исцарапана и сильно потерта. Он встал со стула и в волнении зашагал по комнате. Потом остановился передо мной и спросил:
— А зачем вы полезли осматривать бойницу?
— Так просто. Я хотел получше осмотреть место, где встречались юные разведчики. На всякий случай...
В глазах майора мелькнула улыбка:
— Вы молодец, Сергей Михайлович! За это я готов простить вам вашу оплошность. Берите расческу, но никому ее не показывайте. Понимаете, никому! Она, может быть, имеет особое, чрезвычайно важное значение. Недаром старик Сердобин ее так тщательно хранил.
— Вы нашли ее у Сердобина? У Ивана Ивановича?
— Да, у него. Вернее, на его мертвом теле. Он носил ее зашитой в подкладке пиджака. Очень интересная вещица.
Мы стали прощаться. Он крепко пожал мне руку и вдруг сказал:
— А знаете что? Оставьте-ка эту расчесочку у меня на хранение. Так спокойнее будет.
— Пожалуйста. Я скажу Татьяне, что потерял ее.
— Нет, так сразу не надо, — засмеялся он. — Скажете, если сама спросит, что дома затерялась и что вы ее поищете... И вообще поменьше о ней вспоминайте.
Я пошел домой, глубоко взволнованный этой ночной беседой.
Глава VII ВСТРЕЧА НА ЯРМАРКЕ
Я попытался сблизиться с Петей. Задача оказалась трудной. Он был необщительный, ни с кем не дружил, спортом не занимался, предпочитал проводить время дома, за книгой. Когда я приходил к Сердобиным, он встречал меня вежливо, но не улыбался, молчал и, видимо, тяготился моим присутствием. Ко мне он не питал доверия, и я просто терялся, не зная, как к нему подойти. Выручила Анечка. Она предложила отправиться на колхозную ярмарку в село Лановцы. Это большое село находится довольно далеко от завода, в тридцати шести километрах, но с заводом налажено регулярное автобусное сообщение. Во время ярмарки машины отправлялись каждые полчаса. Анечка сама предложила пригласить в эту поездку Петю Сердобина. — После смерти отца, — сказала она, — он стал таким угрюмым, печальным, его надо развлекать. Возьмем его с собой! Я сама его позову. «Трудненько будет это сделать», — подумал я, но ошибся. Петя с радостью принял наше предложение, оживился и быстро собрался в дорогу. Мы с трудом втиснулись в одну из машин, битком набитую пассажирами, и понеслись по широкому шоссе, обсаженному тополями, мимо наполовину убранных полей, на которых то здесь, то там работали комбайны да ползли, неуклюже покачиваясь, грузовики, отвозящие зерно. Село Лановцы живописно расположилось по косогору около небольшого озера. Когда мы спускались к нему, нам открылась ярмарка, пестреющая тысячами разноцветных полотнищ — белых, синих, красных и желтых. Все пространство от края села до озера было заставлено палатками, прилавками, возами и автомобилями. Для защиты от горячих лучей солнца повсюду были, натянуты полотнища — над каждым возом, машиной или просто сидящим на земле продавцом. — Как красиво! — воскликнула Татьяна. — Словно цыганский табор. — Или лучше — лагерь бедуинов, — сказал я, внимательно наблюдая за Петей. Ничего, никакого впечатления: он не вздрогнул, не изменился в лице, даже не обернулся. Автомобиль остановился у края села. Мы вылезли и через минуту уже ходили среди возов, доверху наполненных огурцами, зеленым перцем и кукурузой, около ароматных дынь и арбузов, кучами разложенных на подстилках, мимо торговок яйцами, курами, беспомощно лежащими в пыли со связанными лапками, мимо гусей, вытягивающих из кошелок длинные шеи, мимо хрюкающих свиней, визжащих поросят. Осторожно обходили расставленную на земле глиняную посуду, разукрашенную яркими разводами всех цветов. Толкались среди продавцов незатейливых игрушек — кукол, кошечек, дудок и свистулек. Всюду толпился народ, кричал, спорил, торговался. Слышалась украинская речь вперемежку с русской. Торговля с возов нас мало интересовала, и мы направились к палаткам. Там на прилавках лежал свежий хлеб, куски желтоватого украинского сала, белый творог в деревянных мисках, завернутое в лопух масло, мед, над которым кружились рои пчел, молодое вино в больших стеклянных графинах, вяленая и копченая рыба, листовой табак. И дальше — целые горы ярко-красных помидоров, синих баклажан, яблок, слив и винограда различных сортов и оттенков. Мы купили его несколько килограммов и, пройдя мимо палаток с мануфактурой, готовым платьем и поношенной одеждой, спустились к озеру. Анечке обязательно захотелось посидеть у самой воды, где, по ее мнению, было прохладнее. Петя остался с ней. Мы же с Татьяной поднялись в рощу и расположились в тени деревьев. Недалеко стоял киоск, где продавали мороженое. Купив несколько порций очень вкусного пломбира с орехами, мы стали его уничтожать. Наши спутники, посидев немного на самом солнцепеке, присоединились к нам. — Э! Да они едят мороженое! — воскликнула Анечка. — Какое чудесное! С орехами?.. Где вы его достали? — А вон у того бедуина в киоске. — Я указал на смуглого продавца, и в самом деле похожего на араба. Петя побежал покупать мороженое. Ни удивления, ни смущения не отразилось на его лице и на этот раз. — При чем тут бедуины?—заметила Татьяна недовольным голосом. — Что они вам сегодня дались, Сережа? «Он не знает тайного смысла слова «бедуин», — подумал я. — Своими глупыми замечаниями я только выставляю себя в смешном виде». Солнце пекло нестерпимо. От воды веяло прохладой. Мы поддались искушению и решили искупаться. Девушки пошли на женский пляж, Петя побежал на мужской. Я собирался последовать его примеру, когда меня кто-то окликнул. Обернувшись, я увидел, к своему удивлению, майора Рожкова. Он был в поношенном штатском костюме, стоптанных ботинках и без фуражки. В руках у него был сверток. Он сделал мне глазами знак и зашел за пустую палатку. — Вот, полюбуйтесь, Сергей Михайлович, на мою покупку, — сказал он тихо. — Как вам нравится? Я развернул сверток и увидел прекрасный большой, совсем новый прорезиненный плащ серо-зеленого цвета, видимо дорогой. Только пуговицы на нем были дешевые — обыкновенные, плоские, черного цвета. — Что такое? — спросил я. — Откуда, Андрей Матвеевич, у вас этот плащ? — Купил я его в магазине случайных вещей. Прекрасная, совсем новая вещь киевской фабрики. Что вы в нем находите особенного? — Пуговицы! Они не от этого плаща. — Правильно. Они куплены здесь, на базаре, только недавно пришиты, и притом неопытной рукой. Старые отпороты, что видно по остаткам ниток... Тсс! — неожиданно прервал он свою речь. — Вам надо уйти... После увидимся. Когда нужно будет, извещу вас. Я предлагал вам пальто... Я обернулся и недалеко от себя увидел Петю. Его тревожный взгляд был устремлен, однако, не на меня и не на майора, а на плащ, который тот держал передо мной развернутым. Я подошел к мальчику. — Кто это? — спросил он. — Не знаю... Так... Предлагал плащ, да он мне не нужен, — ответил я, стараясь придать своему голосу равнодушный тон. Петя сразу скис. Он не пошел купаться и бродил в одиночку по берегу до тех пор, пока не вернулись с купанья девушки. Потом мы пошли обедать в столовую; потом сидели в тени дерева и ели виноград. У Анечки от жары и толкотни разболелась голова, и она стала собираться домой. Я было хотел остаться, надеясь встретиться с майором, но потом решил, что благоразумнее будет подчиниться общему решению. Мы сели в автобус и отправились в обратный путь. Все устали. Разговор не клеился. Анечка жаловалась на головную боль. Петя опять погрузился в угрюмое молчание.Глава VIII «РУКА ЛИСОВСКОГО»
Наша встреча с майором на ярмарке была столь кратковременной, что я не успел узнать от него ничего и не смог сообщить ему о своих разговорах с Петей. Впрочем, мне казалось, что он не придал бы им большого значения. Гораздо больше мучило меня то обстоятельство, что я до сих пор ничего не сообщил майору о странном сходстве расчески корреспондента Коломийцева с расческой, найденной нами в башне. Правда, полной уверенности в том, что обе расчески совершенно одинаковы, у меня не было, но умолчать об их сходстве я все-таки не имел права. Тогда, ночью, в кабинете майора я подумал об этом, но, увлеченный разгадкой шифра, позабыл сказать. Теперь я ждал вызова майора. Самовольно явиться к нему я не мог, звонить по телефону — тоже, послать письмо боялся. Я проводил время в томительном бездействии. Татьяна заметила это. — Я вас не узнаю, Сережа, — сказала она. — Вы стали каким-то странным. И не гуляете и не читаете. Ходите по комнате из угла в угол, как маятник. Что с вами случилось? Идемте лучше ловить рыбу бреднем. Но и рыбная ловля не помогла. Я чувствовал, что в городе совершаются важные события, и всей душой стремился принять в них участие. Я не ошибся. Когда через несколько дней мы встретились с майором, я узнал все, что там произошло в эти дни. Чтобы не нарушать хронологической последовательности, опишу эти события. Поиски человека с фамилией Лисовский ни к чему не привели. Лицо с такой фамилией не проживало ни в городе, ни в окрестностях ни сейчас, ни при фашистах, ни до войны. Майор оказался в затруднительном положении, а между тем необходимость разгадать выражение «рука Лисовского» он понимал прекрасно. Вот почему тотчас же по возвращении в город он заехал к Краевскому, который был коренным жителем, чтобы посоветоваться с ним. Их связывала боевая дружба, оба они сражались в партизанских отрядах. Краевский уже слышал о смерти старика Сердобина, но не знал, что он стал жертвой убийства. Он с интересом выслушал рассказ Рожкова о расшифровке секретного шифра юных разведчиков. Выражение «рука Лисовского» он объяснил так: — Лисовские — это старинный польский дворянский род, крупные магнаты. Когда-то весь город принадлежал им. Замок в стародавние времена тоже принадлежал Лисовским. На воротах сохранился их герб — рука с мечом. Уж не это ли и есть «рука Лисовского»? — Краевский засмеялся своей догадке. Однако она была вовсе не так уж фантастична. Старинный замок много веков хранил страшные тайны, почему бы и теперь ему не сохранить еще одну? После ухода немцев его никто как следует не осматривал, там могли быть подвалы, не ведомые никому тайники, подземные ходы... — Едем. Андрей Матвеевич. — сказал Краевский вставая. — Нечего терять времени. Необходимо проверить. Чем черт не шутит! Может быть, здесь-то и кроется разгадка всех загадок. Майор позвонил лейтенанту Хрулеву, приказал ему немедленно прибыть, захватив с собой рулетку, компас и отвес, да позаботиться о лестнице. Потом, не медля ни минуты, все отправились к замку. Старые каменные ворота были высотой около шести метров. Над самой серединой их был высечен из камня щит шириной метра в полтора и высотой в два метра. На щите в виде барельефа была изображена рука с мечом. Хрулев поднялся по лестнице и опустил отвес сначала от основания руки, потом от конца меча. В землю вбили два колышка. Майор провизировал по ним направление. — Надо идти на угол вон того дома, — сказал он.— Туда указывает «рука Лисовского»... Мерный шаг человека, — продолжал он, — равен в среднем шестидесяти двум сантиметрам, значит, двести двадцать пять шагов оставят сто сорок метров. Так удобнее будет считать. Идемте, лейтенант... Они спустились вниз по улице, потом, волоча за собой ленту рулетки, перелезли через забор и остановились на середине двора. Здесь кончились сто сорок метров. Отсюда направились по компасу на восток и скоро вышли к реке. Дальше идти было некуда. Конечная точка находилась в воде. — Явная чепуха, — сказал майор. — Мы дали большого маху. Наверное, герб этот ненастоящая «рука Лисовского». — Мы кустарничаем, от этого проку не будет, — согласился Краевский. — Надо обратиться к специалистам, которые разбираются в этих гербах. Андрей Матвеевич, кто, по-твоему, лучше других знает здешние памятники старины? — Маева, директор музея. Это ее специальность. И она живет здесь уже давно и хорошо знает всю округу. — Тогда едем в музей! ...Старушка внимательно выслушала необычных посетителей потом сказала: — Лисовские — старинный шляхетский род, теперь уже вымерший. Они свое происхождение вели от крестоносцев. Тот герб, что высечен на воротах, неполный; там только рука с мечом. Полный герб Лисовских, косящий название «Ронька», такой: на голубом поле щита слева красное пламя, из которого высовывается рука в серебряных латах, держащая серебряный меч. Внизу надпись по-латыни: «Igni et ferro», что значит: «Огнем и мечом». В городе есть несколько таких гербов — два на кладбище и один над фонтаном, что на старой площади. Потом есть гербы в бывшем имении Любецкого — на воротах и над конюшней, на старой церкви в селе Лановцы. Был он и на так называемой «Колонне согласия», покуда она стояла. — Что это такое «Колонна согласия»? — спросил майор. — Старинный монумент в память заключения союза между Лисовскими и Заверскими. Каменная колонна с гербами этих двух фамилий. — Да, да, — вспомнил Краевский, — была такая колонна. Кажется, она давно развалилась. — Памятник пришел в ветхость, но немцы его восстановили, потом при отступлении сами его взорвали. — Где же стояла эта колонна? — спросил майор. — Около дороги Олегово — Дергачи, километрах в шести от села Дергачи — в лесу, на горке. — Недалеко от немецкого концентрационного лагеря, — пояснил Краевский. — Это интересно! И сильно она разрушена? — Да, мало что осталось. — Очень жаль!.. Может быть, у вас сохранились какие-либо чертежи или фотографии? — Фотографии, возможно, найдутся. Маева принесла несколько снимков монумента. На круглом невысоком цоколе возвышалась каменная колонна, на вершине которой красовалась доска в форме щита с гербами на обеих ее сторонах. Фотографии были прекрасные, но на всех них памятник был снят на фоне неба, и это лишало всякой возможности на месте определить направление, куда показывает рука с мечом. Снимки были бесполезны. Майор сказал Маевой: — Нам нужна такая фотография, где бы колонна была снята вместе с окружающим ландшафтом, и притом так, чтобы герб Лисовского был виден хотя бы частично. Пусть снимок будет плохим, мелким — это не имеет значения. Отыскать такое фото оказалось делом трудным. Нашли несколько групповых снимков крупного плана. На них была хорошо видна перспектива, зато гербы не вышли. На одном фото, где была снята фашистская зондер-команда с автоматами и полицейские в форме, частично вышел герб, но ландшафт обозначился только верхушками деревьев. Отыскались снимки туристов, военных, землемеров с теодолитами, снимки охотников, увешанных трофеями, в болотных сапогах и с собаками на ремешках, велосипедистов в спортивных костюмах, стоящих возле своих машин, пионеров у костра, — все они не подходили. Подняли архив дореволюционных годов. Нашли снимки пикников, с самоварами, бутылками и граммофонами, каких-то паломников с котомками, монахов в черных рясах, и наконец к концу второго дня в одном из забытых ящиков нашли небольшой снимок экскурсии киевских учителей 1912 года. Перед колонной стояли мужчины в соломенных шляпах, котелках, с тросточками в руках и дамы в забавных длинных платьях. Сверху на снимок попала нижняя часть герба Лисовских — локоть руки в латах. На заднем плане виднелся лес, дорога и вдали какое-то село с колокольней. Это было именно то, что требовалось. Майор взял эту и еще несколько фотографий и поблагодарил Маеву. Он решил на следующий же день идти попытать счастья к «Колонне согласия».Глава IX НЕОКОНЧЕННЫЕ ПОИСКИ
Рано утром, чуть только рассвело, меня окликнули. Оказалось, что это лейтенант Хрулев в штатском. — Вставайте, Сергей Михайлович, майор ждет в машине... Я оделся и поспешил за ним. На дороге стоял большой открытый автомобиль с поднятым верхом. В нем сидели майор Рожков и Краевский. Поздоровались, я занял место, и машина тронулась. По дороге я рассказал майору о своем разговоре с Петей, о том, что, видимо, ему неизвестно, кто скрывается под кличкой «Бедуин». — Я так и думал — сказал майор. — Но плащ произвел на него впечатление. Вы заметили? — Пожалуй, заметил, — удивился я вопросу,— только не понимаю, почему. Майор ничего не сказал. — Вы знаете, куда мы едем? — спросил он меня после долгого молчания. — Нет. — Я хочу попробовать отыскать подземную мастерскую фашистов. «Попробовать» — в этом слове я слышал деликатный намек на мою непростительную оплошность, когда я так легкомысленно бросил списывать зашифрованную надпись. А теперь камнем на сердце лежал другой грех: я до сих пор ничего не сказал майору о расческе корреспондента. Я твердо решил сообщить ему про нее, как только мы останемся наедине. Машина быстро неслась по асфальту дороги, еще влажному от утренней росы, то поднимаясь на горку, то спускаясь в лощину. Мы ехали среди зелени, в которой то здесь, то там уже мелькали желтые и красные листья. Меньше чем через час мы подъехали к реке и переправились на другой ее берег на моторном пароме. Отсюда дорога пошла сквозь лес. все время петляя вверх по косогору. С обеих сторон плотной стеной стояли деревья. Коренастые дубы с широко раскинувшимися тяжелыми кронами чередовались со стройными кленами и липами. Но вот лес начал редеть, и машина въехала на гребень. Перед нами открылось широкое пространство. Дорога зигзагами спускалась вниз, огибая невысокие холмы, сплошь заросшие мелколесьем. Слева подымался темный каменный массив. Вдали, у горизонта, белели домики большого селенья и торчала колокольня церкви. Ее золоченый купол ярко горел в лучах солнца. Это было село Дергачи. «Колонна согласия», которую мы искали, должна была находиться где-то поблизости, на вершине одного из холмов, по ту или другую сторону дороги. Мы остановили машину и самым внимательным образом осмотрели в бинокли вершины всех окрестных холмов. Ничего сколько-нибудь похожего на камни — только кустарники и бурьян. Спросить не у кого — кругом ни одного человека. Оставалось обследовать каждый холм в отдельности. Разделившись на две группы — я с Хрулевым, а майор с Краевским, — мы пустились на поиски. До сих пор не могу забыть этот день. Вооруженные топорами И серпами, которые предусмотрительно захватил майор, мы взбирались по крутым склонам холмов, цепляясь за корни деревьев и ветви кустарников и с трудом прорубая себе дорогу. Достигнув вершины холма, мы осматривали каждый клочок земли и ничего, кроме кустов жимолости и терновника да зарослей полыни и вереска, не находили. Потом шли вперед, в сторону или через дорогу и снова лезли на другой холм — и так, казалось, без конца. Солнце давно уже стояло высоко и безжалостно пекло. Я не успевал вытирать льющийся градом пот. Грязная от пыли рубашка прилипла к телу. Мучила жестокая жажда. Я давно утратил веру в существование этой невидимой колонны и думал, что почтенная старушка Маева ввела нас в заблуждение. Опять лезем вверх — и опять разочарование. Будет ли этому когда-нибудь конец? Но вот я смотрю на Краевского, и мне становится стыдно. Ковыляя на протезе и не выпуская изо рта трубки, он карабкается по крутым склонам холмов и спокойно обследует каждую пядь вершины. Была уже середина дня, когда мы с Хрулевым услышали радостные крики. На вершине одного холма, отстоявшего довольно далеко от дороги, стоял Краевский и размахивал фуражкой, поднятой на палке. — Сюда! Нашли! — кричал он. Я тотчас побежал на крик, позабыв про жару и усталость. На вершине большого холма среди густой заросли мы увидели то, что осталось от «Колонны согласия». Каменный круглый постамент высотой в полметра и диаметром около трех метров был сложен из больших, плохо отесанных кусков. В середине его примерно на высоту человеческого роста поднимался остаток колонны. Из центра ее торчал ржавый железный прут. Вокруг были разбросаны щебень и куски железа. Нашли и самый герб — толстый железный щит величиной в метр, на котором заржавленная рука держала заржавленный меч. Кое-где виднелись следы голубой краски и серебра. Это было все, что осталось от герба Лисовских, некогда грозного символа их могущества. Кругом все так заросло дубняком и кустарником, что пришлось поработать топором еще целых полчаса, прежде чем мы очистили пространство вокруг монумента. Майор достал фотографию киевских учителей и, обходя колонну вокруг, без труда нашел то место, откуда был сделан снимок; таким образом точно определялось положение герба. Ударами топорища выровняли торчащий из колонны прут, между ним и местом, откуда фотографировали учителей, натянули шнурок и перпендикулярно к нему укрепили на пруте рейку. Она и указывала направление «руки Лисовского». Мы снова взялись за топоры и начали прочищать в траве и кустарнике узкую просеку. Стоя за рейкой, Краевский наблюдал за нашей работой, указывая рукой нужное направление. Майор с рулеткой измерял расстояние. Так мы работали добрый час. Спустились по косогору, прошли через молодой кленовый лесок и вышли на небольшую полянку. В конечной точке, на расстоянии ста сорока метров от колонны, вбили в землю столбик. На него положили рейку и ориентировали ее по компасу в направлении запад — восток. Теперь стали пробивать дорожку тем же порядком на восток, прямо в сторону большой темной скалы. Как я волновался! Как билось мое сердце, когда мы прорубали последние метры просеки! Может быть, недалеко отсюда находится заваленный вход в таинственную мастерскую, или скрытый спуск под землю, или какой-нибудь знак... Двести двадцать пять метров кончались на лужайке у опушки леса, совсем недалеко от берега реки. Я огляделся. Ничего! Ровно ничего! Пустое место. Ни входа, ни люка, ни столбика — ничего! Одни деревья и кусты. Мы осмотрели всё кругом и ничего не нашли. Нет, впрочем, не совсем так. Хрулев подошел к майору к встревоженно доложил: — Товарищ командир, недалеко от полянки в неглубоком рву лежат истлевшие трупы. Очевидно, это рабочие, которых фашисты убили, чтобы избавиться от свидетелей секретной стройки. Это в их духе. ...Я стоял возле могилы неизвестных мне страдальцев и думал о звериной жестокости захватчиков и о той ужасной участи, которая постигла бы нашу Родину, если бы доблесть Советской Армии и стойкость нашего народа не опрокинули планов фашистов. Что же дальше? Где теперь искать? Куда направиться? Это оставалось скрытым в тех двух строках цифр, написанных на стене камеры, которыми я так легкомысленно пренебрег. — Ну что же, — заявил майор,— если мы не знаем, куда дальше идти, нам остается только самым тщательным образом осмотреть всю окрестность. — А если ничего не найдем? — спросил я. — Тогда, — ответил за майора Краевский, — мы пригласим сюда геологов-разведчиков и поручим им искать. Пусть они применят все новейшие достижения науки. Так или иначе, а эта тайная мастерская будет разыскана. Решили немного отдохнуть и позавтракать. У Краеаского в сумке нашлось несколько бутербродов с ветчиной и икрой, у Хрулева — консервы и хлеб. Мы уселись на пеньках и стали закусывать всухомятку. Наступил момент, удобный для объяснения. Я подошел к майору. — Андрей Матвеевич, я все забываю вам сказать... — тихонько начал я. — Видите ли, такую же расческу, какую нашли у Сердобина и в бойнице башни, я раньше видел у корреспондента Коломийцева, когда он был здесь. Он хранил ее в бумажнике. — Что же вы мне раньше не сказали? — Все забывал. — Такие вещи не забываются. Точь-в-точь такую или очень похожую? — Не могу сказать, я ее видел мельком, как следует не разглядел. — Гм... Какого роста Коломийцев? — Довольно высокого. — А плаща вы у него не видели? — Не помню. Какое-то пальто было. — Он очки носит? Тоже не помните? — Носит, помню. — С какими стеклами, сильными или слабыми? — Не заметил. Очки большие, круглые. — Теперь все носят только такие. Он говорил громко, нисколько не щадя моего самолюбия. Хрулев и Краевский все это прекрасно слышали. Я стоял с растерянным видом и не знал, что отвечать. Заметив это, Краевский вмешался в разговор. — Ты думаешь, Андрей, — спросил он Рожкова, — что это был тот самый плащ? Но возможно ли. чтобы убийца решился продать его, хотя бы и с другими пуговицами? Не безопаснее ли ему было не рисковать, а просто уничтожить эту улику — забросить или закопать? — Сам он ничего не продавал. Плащ продал сообщник, вернее — помощник. Вы, Сергей Михайлович,— обратился Рожков ко мне обычным спокойным тоном, — еще не знаете истории с плащом. Вот взгляните сюда... Он вынул из бумажника небольшую карточку и передал мне. Это была цветная фотография пуговицы, по форме похожей на грибок, серо-зеленого цвета, снятой в различных положениях. — Это пуговица от прорезиненного плаща. — продолжал майор. — Мы нашли ее в карьере, недалеко от тела старика Сердобина. По ниткам видно, что она оторвана недавно. Пуговица отлетела, когда старик боролся с убийцами, а те не заметили этого. Или же заметили, но не решились спуститься вниз и оставили такую важную улику. Находка эта могла бы послужить нам нитью к раскрытию преступления. К сожалению, нить эта оборвалась. — Оборвалась? — Да. Я распорядился следить за всеми магазинами, скупающими поношенную одежду, и задержать человека, продающего плащ с такими пуговицами. Рано утром на ярмарке лейтенант Хрулев задержал гражданина, продающего плащ, правда, с другими пуговицами. Тот самый плащ. Сергей Михайлович, что я вам показывал. Помните? — Помню. И вы думаете, — воскликнул я, — что это был плащ, который носил убийца? — Похоже на то. — И продавца задержали, вы говорите? — Да, задержали, но его пришлось отпустить. Он оказался перекупщиком и сам только что купил плащ у какого-то гражданина. Покуда мы с ним разговаривали, собственник плаща-успел уехать на автобусе. Его видели при посадке. Досадно!.. Нить оборвалась. И все-таки плащ сослужил нам службу... Майор достал из кармана спичечный коробок и вынул из него завернутый в бумажку осколочек стекла. — Осторожно, не уроните! Это кусочек разбитых очков. Мы нашли его в кармане плаща. Я и Краевский стали рассматривать стеклышко. Это был совсем маленький осколочек в форме сегмента. По такому крошечному кусочку трудно было судить о номере очков. Во всяком случае они были очень слабые. — Очки, кажется, очень слабые, — сказал я. — Да, — согласился майор.— Я пошлю этот осколок на экспертизу. Там все точно определят. — Странно! Такие слабые очки, по-моему, никто никогда не носит. Майор промолчал. — Так ты думаешь, — спросил его Краевский, — что Коломийцев может быть причастен к этому делу? Рожков ответил не сразу: — Про Коломийцева я слышал как про человека хорошо проверенного и вполне надежного. Давно уже работает корреспондентом. На фронте был военкором почти четыре года. Имеет ордена... Все же сегодняшнее показание товарища Зернина насчет расчески заставляет меня навести кое-какие справки, — закончил он сухим, почти официальным тоном. Я тогда далеко не все понял из этого разговора. Только впоследствии, много времени спустя, я узнал о том, что случилось в селе Лановцы в тот самый день, когда мы были там на ярмарке.Глава X ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ШОССЕ
Майор Рожков сразу понял, что имеет дело с опытным преступником, который, заметив, что потерял пуговицу от плаща, постарается от него избавиться тем или иным способом, возможно, путем продажи. Майор организовал наблюдение па базарах и у магазинов скупки старой одежды, чтобы задержать продавца резинового плаща с пуговицами определенного вида, из которых одна была оторвана. Цветной фотографический снимок, с этой пуговицы был роздан всем наблюдающим. Майор не питал особой надежды на успех этого предприятия, но и пренебречь им не считал возможным. В село Лановцы, где только что открылась ярмарка, он послал для этой цели своего помощника, лейтенанта Хрулева. На другой день утром, около половины десятого, в один из магазинов, скупающих одежду, зашел гражданин и предложил купить резиновый плащ с простыми черными пуговицами. Продавец был настолько догадлив, что сообщил об этом Хрулеву, который и задержал гражданина, продававшего плащ. Но, как уже известно читателю, этот последний показал, что сам только что купил плащ у незнакомого ему лица здесь же, на базаре. Толково описать наружность владельца плаща он не смог: нестарый, невысокого роста, с обыкновенными усами и бородой; какой цвет волос и глаз, он не заметил, во что одет — не помнит. На голове большая соломенная шляпа, какие здесь многие носят летом, в руках сумка с листовым табаком и дыней. На ногах — на это он обратил внимание — новые коричневые брезентовые полуботинки. Хрулев вместе с несколькими оперативными работниками бросился искать хозяина плаща, но никого не нашли. Тогда Хрулев направился к месту стоянки автобусов. Очередной автобус только что отошел. По-видимому, неизвестный уехал на нем. По крайней мере, диспетчер автобусного движения утверждал, что заметил среди отъезжающих пассажиров гражданина в соломенной шляпе и с дыней в кошелке. Он прибежал на остановку запыхавшись и вскочил в автобус почти на ходу. Хрулев сейчас же, прямо из диспетчерской будки, связался с городом, доложил майору Рожкову обо всем случившемся, сообщил номер автобуса. — Возьмите откуда хотите мотоцикл и немедленно отправляйтесь в погоню, — приказал майор. — А я поеду вам навстречу... Да помните: главная примета преступника — новые брезентовые полуботинки. О шляпе забудьте: он ее, наверное, уже бросил. Хрулев побежал в сельсовет. Ему повезло: он достал мотоцикл, заправленный горючим. Когда он проезжал мимо автобусной станции, часы показывали без пяти минут одиннадцать (автобус отошел из села Лановцы в десять тридцать). Майор Рожков в это время уже мчался на мотоцикле в сторону села Лановцы с картой в кармане и биноклем на шее. Расстояние от города до села было равно сорока восьми километрам. На дороге, хорошо знакомой майору, из-за ярмарки было довольно сильное движение. То и дело мотоцикл Рожкова обгонял арбы с арбузами и дынями, запряженные медлительными волами, возы с сеном, грузовики с товарами, автобусы, везущие пассажиров на ярмарку. Управляя машиной, майор не переставал напряженно думать, производя в уме сложные расчеты: важно было знать, где он должен встретиться с автобусом № 3—16. Автобусы попадались каждые десять минут. Все они казались одинаковыми, и номера их трудно было различить. По вычислениям получалось, что встреча с машиной № 3—16 произойдет в 11 часов 7 минут. Автобус за это время проедет около двадцати двух километров и будет совсем близко от совхоза «Красный луч». Майор ясно представлял себе это место: дорога, плотно обсаженная с обеих сторон тополями, делала небольшой поворот и поднималась в гору, совхоз находился сейчас же за поворотом. Майор должен был встретиться с автобусом раньше, чем Хрулев успеет его догнать. Расчеты Рожкова оказались правильными. Когда он подъезжал к совхозу «Красный луч», с горки навстречу ему осторожно спускался голубой автобус. Пропустив его мимо, майор повернул мотоцикл и, увидев по номеру машины, что не ошибся, без труда догнал его и остановил. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что между пассажирами нет того, кого он ищет. Среди мужчин — их было восемь — только двое имели бороды: молодой агроном и старик, сторож городского сада. Обоих их майор хорошо знал в лицо. На его вопрос, не садился ли в машину мужчина средних лет, невысокого роста, с усами и бородой, в новых брезентовых полуботинках, с дыней в кошелке и, возможно, в соломенной шляпе, все ответили утвердительно. Да, действительно, такой гражданин сел в Лановцах, но он вылез около хутора Ольховцы, на самом перекрестке дорог. «А шляпу у него ветром сорвало, как только от села поднялись на гору, — сказал кондуктор. — Он и останавливать машину не захотел. Махнул рукой и повязал голову платком». Все было ясно: преступник знал, что его преследуют, и старался замести следы. Майор поспешил вперед, внимательно осматривая встречающиеся повозки и пешеходов. Через несколько минут он издали увидел бешено мчавшуюся навстречу машину Хрулева. Майор знаком приказал ему остановиться и в двух словах изложил положение дела. — Вы, конечно, не осматривали как следует встречающиеся повозки и пешеходов? — спросил он. — Не мог, товарищ майор, спешил. «Ну, конечно, спешил! На этом и был основан весь план бегства преступника», — с досадой подумал Рожков. — Едемте к хутору, — быстро сказал он. Через семь минут они были у перекрестка дорог. Хутор Ольховцы виднелся в стороне, километрах в двух с половиной от шоссе. Кругом с обеих сторон на большое расстояние хлеба уже были убраны. Майор внимательно осмотрел в бинокль окрестность. Поля, тропинки и дорожки были видны как на ладони. Ничего подозрительного: вблизи никого нет, в отдалении — несколько возов, на тропинках — три или четыре женщины. — Отсюда до села Лановцы только двенадцать километров, — вслух рассуждал майор. — Автобус проходит их в двадцать минут, следовательно, наш молодчик слез с автобуса в десять часов пятьдесят минут, то-есть, — майор взглянул на часы, — полчаса тому назад. За это время он не мог дойти до хутора. По скошенным полям он не пошел бы: слишком видно и скрыться негде. Идти пешком по дороге невозможно — сразу узнают. Ехать в повозке вперед нет расчета — его легко заметить. К тому же он понимал, что, догнав автобус и убедившись, что там его нет, вы, естественно, повернете назад и будете разглядывать всех встречных. Безопаснее всего ехать обратно, в сторону села, навстречу вам... Значит, нам нужно ехать в этом же направлении, осматривая по пути весь транспорт и пешеходов. Но оставить хутор без осмотра все-таки нельзя. Это придется сделать мне, а вы поезжайте по дороге в Лановцы. Да будьте внимательны. ...Хрулев тщательно осматривал дорогу и потратил на езду около получаса. Преступника он не встретил и повернул обратно. В девяти километрах от села, после крутого спуска, шоссе пересекала небольшая речка. На мосту его дожидался майор. — Я напрасно потерял время на осмотр хутора,— сказал он.—Там, конечно, никого не было. Этот мошенник ловок, он обвел нас вокруг пальца. Вот смотрите! — И он указал рукой вниз, под мост. Там валялась большая, развалившаяся на куски дыня, над ней кружили шмели и мухи. — Теперь его маневр ясен: как только он вылез из автобуса, то сейчас же сел на какую-нибудь подводу или арбу и поехал обратно навстречу вам. Вы, в азарте преследования не замечая ничего вокруг, пронеслись мимо, а он преспокойно слез вот здесь, у моста, и пошел себе пешечком по заболоченному оврагу, выбирая такие места, где мотоцикл не пройдет. Дыня была тяжелая, и он ее бросил... Ясно! Здесь он был примерно в одиннадцать двадцать, то-есть минут сорок тому назад. Теперь найти его трудно. Он успел углубиться в лес. Майор задумался. — Все-таки, — добавил он, — ступайте по его следам. Может быть, узнаете что-нибудь важное. А я поеду в Лановцы. Хочу лично снять показания да как следует рассмотреть плащ. Где вы его оставили? — Сдал на хранение председателю сельсовета. — Отлично! Я буду там вас ждать. Вашу машину дотащу как-нибудь один. Майор поехал в село, и там на ярмарке я с ним встретился, что уже читателю известно. Лейтенант Хрулев вернулся к ночи, уставший и расстроенный. Он обошел окрестные болота, кустарники, овраги, блуждал по лесным тропинкам, но никаких следов беглеца не обнаружил. Майор внимательно выслушал его доклад. — Мы имеем дело с опытным преступником, — сказал он. — Нам следует учесть это в дальнейшем. — Удивительно, товарищ майор, как он мог допустить такую оплошность — пойти продавать свой плащ. — Это не его плащ: он ему не подходит по росту. Это плащ его шефа. Я даже думаю, что шеф поручил ему уничтожить эту важную улику, а он на свой страх потащил его на базар, только "сменив пуговицы. Видимо, в деньгах нуждался. Но парень он хитрый. Заметьте: он не пошел продавать плащ в магазин. Нет, он продал его перекупщику и некоторое время наблюдал за его действиями. Увидел, что с плащом неблагополучно, скрылся и сумел замести следы... Вот положительные результаты сегодняшнего дня: мы знаем двух из шайки. Первый — шеф: высокого роста, немного близорук, носит очки. Второй — подчиненный: ловкий плут, нуждается в деньгах. Возраст — лет тридцать пять, невысокого роста. — С бородой, — вставил лейтенант. — С бородой! Сказали бы уж тогда лучше: носит соломенную шляпу! Он был с бородой — это точно. Но сейчас, наверное, уже без нее. Он и отрастил-то бороду для того, чтобы в нужный момент ее сбрить. Вот что мы знаем: невысокого роста и курит трубку. — Откуда это известно, товарищ майор? — Вы забыли, что в сумке у него, кроме дыни, был листовой табак? Дыню он выбросил, а табак оставил...Глава XI ПО ЛЕСУ ЗА БЛУЖДАЮЩИМ ОГОНЬКОМ
После того как мы позавтракали и немного отдохнули, майор дал указание, как вести дальнейшие поиски. Он сам вместе с Краевским подробно обследует ближайшие окрестности. Нам с Хрулевым поручается осмотреть более отдаленные районы. Я пойду направо, по опушке леса, а Хрулев — налево, по берегу реки. К семи часам мы оба должны вернуться. Получив эти указания, я взял серп — на случай, если придется пробиваться через заросли, и отправился на рекогносцировку. Я шел вдоль высокого каменного массива по едва заметной, давно заброшенной тропинке. Справа начинался густой лес, слева возвышалась скала. Я самым тщательным образом ее осматривал, надеясь отыскать какую-нибудь пещеру, заваленный вход или скрытую лазейку, но ничего не находил. Камень всюду казался твердым и однородным. День кончался.Солнце стояло над самыми деревьями, и лучи его, теперь уже холодные, освещали ровным вечерним светом серые отроги скал. Длинные тени, падающие от деревьев, оставляли на них причудливые узоры. Жара спала. Тем не менее жажда мучила сильнее прежнего. Я ничего не пил с утра, долго работал на жаре и к тому же съел бутерброд с икрой. Но надо было терпеть, и я шел вперед, мечтая о том, как, вернувшись к машине, напьюсь нарзану, несколько бутылок которого там оставалось. Но вот лес отступил вправо и обнажил большую каменистую площадку, всю засыпанную щебнем. Слева виднелась широкая расщелина скалы, заполненная осыпью, по которой можно было забраться наверх. Справа площадки, почти у самого леса, позади кустов черемухи я заметил какое-то сооружение с колесом. Подойдя поближе, я, к своей радости, увидел колодец. Под небольшим навесом была устроена широкая бетонная труба, а над ней на железной раме ворот, снабженный большой рукояткой с храповиком, не позволяющим срываться бадье при подъеме. Весь механизм, а также железная цепь были вполне исправны, хотя и сильно заржавлены. Большая квадратная бадья была погнута и помята, но цела. Очевидно, колодцем давно уже никто не пользовался. Я заглянул в него. Длинная шахта, высеченная в камне, уходила глубоко вниз. На дне ее тускло поблескивала вода. Я взялся за рукоятку. Ворот заскрипел, и бадья стала опускаться. Через минуту я поднял ее. Какое разочарование! Я рассчитывал напиться холодной, чистой воды, какая должна быть в таком глубоком колодце, а в бадье была грязная, вонючая жижа, на поверхности которой среди пятен масла в изобилии плавали спички, пробки, деревяшки, кусочки резины и вообще всякая дрянь. Я попробовал воду: она имела кисловатый вкус и пахла серой и дымом. И все-таки я напился этой мерзкой жидкости — так сильно мучила меня жажда. Освежившись, я с новыми силами пустился в поиски. Полез по осыпи, осматривая каждый камешек, каждую пещеру, каждую трещинку, — и опять без всякого результата. Поднялся на вершину скалы, проверил, нет ли какого-нибудь скрытого люка или отдушины, и снова ничего подозрительного не заметил. Поиски оказались бесплодными. Оставалось только утешать себя мыслью, что, может быть, моим друзьям больше посчастливилось... Надо было возвращаться: часы показывали половину седьмого. Я быстро спустился по осыпи, по очутился совсем не там, где ожидал. Ни площадки, ни колодца — кругом лес. Тут только я понял, какого дал маху. Когда я поднимался, солнце светило мне в затылок, а теперь оно садилось за горой, и, следовательно, я находился на прямо противоположной ее стороне. Решил идти через лес, в обход скалы, но скоро понял, что эта задача мне не под силу. Я спотыкался о валежник, путался в высоком папоротнике, застревал в кустах, натыкался на каменные глыбы и наконец вовсе выбился из сил. Тогда я повернул обратно, опять поднялся на скалу, отыскал расщелину, которая показалась мне знакомой, спустился по ней и опять попал в неизвестное место. Между тем солнце спряталось за лес, и наступили сумерки. Подул свежий ветерок. В низинах кое-где поднялись облачка тумана. Было уже около половины девятого. Я подумал, что мои спутники, наверное, перестали меня ждать и что спешить мне уже некуда. Усталый, я сел на камень.* * *
Я сидел на краю скалы, не зная, что предпринять. Передо мной была широкая долина, вся поросшая лесом. По ней серебряной полоской вился ручеек. Вдали серели горы. Примерно в полукилометре среди леса можно было разглядеть несколько низеньких и длинных строений, обнесенных забором, с башенками по углам. В центре стояла вышка с площадкой наверху, огороженной перилами. Это, как я догадался, был брошенный фашистами концентрационный лагерь для военнопленных. Со всех сторон к нему через лес шли дорожки и тропинки. Я уже давно хотел осмотреть этот лагерь. Теперь представился случай. Кроме того, скоро наступит ночь, в темноте отсюда не выбраться, и лучше ночевать в старом лагере под кровлей, чем на голых камнях. Поэтому я наметил себе тропинку, по которой ближе всего можно было пройти к лагерю, и спустился со скалы в лес. Меня обдало холодом и сыростью. Я застегнул пуговицы пиджака и смело пошел вперед. В лесу царила полная тишина. Деревья стояли неподвижно, как в сонном царстве. Слышно было только, как хлюпала вода под ногами и трещали сучья. Лишь изредка большая ночная птица бесшумно проносилась над головой. Через четверть часа я переправился через ручеек по бревнам разрушенного мостка и подошел к лагерю. Вороха ржавой колючей проволоки среди подгнивших кольев; высокий деревянный забор с натянутыми сверху на изоляторах проводами, во многих местах уже развалившийся; ров, заросший лопухами и крапивой, с лужами позеленевшей воды на дне; тяжелые покосившиеся ворота. Вот первое впечатление от лагеря. Я хотел было хорошенько осмотреть его, надеясь отыскать что-нибудь интересное, например цифровые надписи, но стало совсем темно, и пришлось отложить подробный осмотр на завтра. Прошелся по баракам. Сыро. Пахнет гнилью. Нары и пол покрыты зеленью. Окна выломаны. Крыша худая... Нет! Здесь ночевать невозможно! Лучше забраться на вышку и выспаться там. Полез по скрипучим ступеням. Наверху было теплее и суше. На площадке валялось сено: очевидно, здесь уже ночевали. Я улегся на него, укрылся, насколько мог, пиджаком, положил возле себя серп, с которым не расставался все время, и задремал. Проснулся с неопределенным чувством, будто услышал чьи-то шаги. Будто кто-то прошел внизу, у вышки, и вышел за ворота лагеря. Я прислушался — все тихо. Нет, ничего не слышно. Только ветер шелестит листьями и звенит колючей проволокой. И все-таки беспокойство меня не покидало. Я встал и подошел к перилам. Кругом — полная темнота. Небо черное. Ни одной звездочки не выглядывает из сплошной пелены туч. Внизу ничего не видно, точно стоишь на краю бездонного обрыва. Ветер забирается под рубашку и холодной струйкой пробегает по телу, вызывая дрожь. И вдруг совсем недалеко от лагеря в лесу промелькнул свет... Нет, я не ошибся! Кто-то шел по тропинке, освещая дорогу карманным электрическим фонариком. Кто же может ходить ночью здесь, в глухом лесу, так далеко от жилья? Слежу за светлой звездочкой фонарика и, к изумлению своему, замечаю, что она удаляется. Как это может быть? Сначала я подумал, что это обман зрения, что мне только так показалось... Но нет! Я ясно вижу, как свет фонарика становится слабее. Вот человек подошел к ручейку и освещает фонариком мостик. Он теперь светит перед собой, как и полагается. Но, перейдя на другой берег, он опять повернул фонарик назад и несколько раз помигал им. Что за чертовщина! Зачем он освещает дорогу позади себя? Кто же так делает? Это необычное поведение странного путника поразило меня. Все непонятное невольно внушает страх, и я, признаюсь, заколебался, прежде чем решиться последовать за таинственным огоньком. Я был безоружен, а внутреннее чувство подсказывало, что мне угрожает опасность. Но нерешительность моя продолжалась не более секунды. «Рожков или Краевский, — подумал я, — не колебались бы ни мгновения. Никакая опасность не испугала бы их». И, схватив серп, свое единственное оружие, я поспешно спустился с вышки. Мои глаза несколько привыкли к темноте, и я различал среди тьмы силуэты деревьев и строений. Выбежал за ограду. Побежал вверх по косогору, путаясь ногами в трапе и натыкаясь на кусты. ...Напряженно всматриваюсь в темноту. Где-то вдалеке мелькает светлое пятнышко, освещая то ветви кустарников, то вершины деревьев, раскачиваемые ветром. Человек с фонарем, очевидно, идет по одной из тропинок. Я устремляюсь за ним напрямик, через лес. Колючки кустарника царапают руки, упругие ветки хлещут в лицо, холодные брызги росы падают па одежду. Вот и тропинка. Огонек теперь ближе. В ночной темноте его свет кажется ярким, как луч прожектора. Когда он светит прямо назад, мокрая тропинка блестит, будто покрытая льдом. В эти мгновения, чтобы не быть замеченным, я замираю и стараюсь укрыться за стволами деревьев. Так мы идем друг за другом с полчаса. Вот и опушка леса. Светящийся зайчик фонарика стал подниматься — тропинка шла теперь вверх по косогору. Здесь было светлее, чем в лесу, и я различил среди ночной мглы силуэты двух фигур. Впереди шла женщина, за ней — мужчина. Я сошел с тропинки и следовал за ними, перебегая от куста к кусту и переползая на четвереньках по мокрой траве открытые пространства. Достигнув вершины, они остановились и с минуту смотрели оба в одну сторону. Их фигуры, освещенные слабым красноватым светом наступающего утра, были теперь ясно видны на темном фоне неба. Мужчина был высокого роста, в черном пальто и автомобильном шлеме. Женщина, вернее, стройная девочка лет пятнадцати, стояла поодаль. На ней была красная кофточка и темная юбка. Голова ее была плотно повязана косынкой, концы которой трепались по ветру. Они стояли спиной ко мне, и лица их я не мог разглядеть. Потом оба пошли дальше. Я поднялся за ними на пригорок и невольно остановился, пораженный. Над лесом горело зарево. Оно росло на глазах, поднимаясь все выше по небу, полыхая, как факел, и отражаясь красным отблеском на облаках. Тучи огненных искр летели вместе с клубами багрово-черного дыма и относились сильным ветром в сторону. Вот из-за деревьев вырвался язык яркого пламени, вслед за ним другой, третий... Стало светло, как ранним утром. Позади меня хрустнула ветка. Не успел я обернуться, как чьи-то сильные руки схватили меня сзади за горло. Я почувствовал удар под колени и упал навзничь. Но, падая, я всплеснул руками и скорее невольно, чем умышленно, ударил нападавшего серпом по плечу. Он вскрикнул и на мгновение выпустил меня. Я вскочил на ноги. Он успел схватить меня за руку и вырвал серп. Обернувшись, я заметил черный силуэт еще одного человека, пробирающегося ко мне сквозь кусты и готового напасть. «Беги, спасайся!» — шепнул мне внутренний голос, и я стремглав бросился бежать вниз по косогору, чувствуя за собой погоню. Инстинкт подсказал мне правильное направление. Я побежал прямо на огонь по ярко освещенной тропинке. Сердце в груди колотилось так, точно хотело разбить грудную клетку, дыхания не хватало, но я бежал сколько было сил. Сыпались искры, дым ел глаза, горячий воздух обжигал горло, но я не останавливался, чувствуя, что спасение мое только в бегстве. Вот я у самого огня. Горят штабеля сухих бревен. Пламя бушует и ревет, дерево трещит и коробится, выбрасывая фонтаны искр, струи горячего дыма и множество пылающих головешек. Закрыв лицо рукой, я бросаюсь между двумя громадными кострами и бегу по тлеющей траве и углям, через обгоревший кустарник. Пожар позади. Теперь я на время укрыт огнем от преследования и могу передохнуть. Дорога мне кажется знакомой. Да, конечно, это та самая местность возле недостроенного фашистского укрепления, куда мы ездили на прогулку. А горят те штабеля леса, на которых я фотографировал девушек. Но я снова слышу за собой погоню. Враги отстали, но зато теперь, освещенный сзади светом пожара, я им хорошо виден. Надо быстрее бежать, но ноги еле двигаются. Вдруг я слышу громкий треск: тррах!.. Потом еще раз: тррах!.. «Как сильно трещат бревна, —думаю я. — Головин, наверное, далеко разлетаются...» Тррах! — слышу я в третий раз, и что-то ударяется впереди меня о камень. И тут я догадываюсь: «Это выстрелы! В меня стреляют...» Смертельная опасность подействовала на меня, как удар хлыста. Откуда только взялись силы! Ноги заработали сами собой, и я стремглав понесся по дороге вниз, к спасительному повороту, который должен был заслонить меня от пуль и света. Вот и поворот. Сразу же попадаю в темноту. Еще несколько прыжков — и передо мной открывается черная гладь реки. Не раздумывая, бросаюсь с берега в воду. Разгоряченный, не сразу замечаю холод воды. Мокрый пиджак мешает движению и тянет ко дну. Я сбрасываю его и сколько осталось сил плыву к невидимому берегу. Преследователи уже у воды. Я слышу их голоса. Резкий удар выстрела, повторенный эхом, раскатывается по воде. «Замри! Скройся!» — говорит мне внутренний голос. Я погружаюсь в воду по самое лицо. Сильное течение быстро относит меня в сторону. Еще выстрел... Еще и еще... Слышу, как в стороне от меня шлепаются в воду пули. Темнота спасла меня: враги обстреливали мой пиджак. Через несколько минут я, цепляясь за траву и корни деревьев, выбрался на противоположный берег и остался лежать на земле, без сил, без воли, без мыслей, с одним только чувством, что спасся от смерти. На ветру холод пронизывал меня насквозь, зубы стучали, все тело дрожало. Скоро, однако, я собрался с мыслями. Пришлось признаться, что вел я себя этой ночью непростительно глупо. Вышел на открытое, освещенное место и, как мальчишка, глядел на пожар. Упустил тех, за кем следил, и сам показал себя врагам. За мною гнались, как за зайцем, и чуть не убили. «Майор не похвалит меня, —думал я с горечью, — пожалуй, отстранит вовсе и будет прав. И сейчас вот: сижу, как мокрая курица, когда надо действовать... Он, наверное, не терял бы времени. А как поступил бы Краевский? Он не пал бы духом от неудачи, не струсил, а упорно стал бы продолжать начатое дело». Я был так зол на себя, что забыл и про холод и про усталость и решил немедленно переплыть обратно реку и снова пуститься в разведку. И вот я опять лезу в воду — теперь она кажется мне совсем теплой — и плыву обратно через реку. Передо мной на красноватом фоне затухающего зарева четко обрисовывается контур черной скалы. Осторожно, стараясь не шуметь, я доплыл до середины реки и тут почувствовал, что на берегу есть люди. Их тихий говор и шум шагов были ясно слышны. Вот заплескалась вода, и что-то загудело, как запушенный волчок. — Отвезите к себе и сейчас же возвращайтесь. Чтобы через двадцать минут быть здесь! — раздался чей-то голос, видимо отдающий приказание. Шум приблизился, и совсем близко от меня, не более чем в пяти метрах, промчалась лодочка. Суденышко было очень маленькое, длиной метра в три. Борта чуть возвышались над водой. Два человека едва помещались в нем. У носа сидела та самая девочка, которую я видел в лесу. Тусклый отблеск зарева помог мне разглядеть красивый, хотя несколько грубоватый профиль брюнетки с суровым выражением рта. Я никогда ее не видел, и все-таки в ее лице было что-то знакомое. У руля сидел мужчина с непокрытой головой и длинными усами, какие носят в здешних местах многие крестьяне. Мне показалось, что это тот самый человек, который напал на меня в лесу. Лодка быстро двигалась против течения, приводимая в движение, вероятно, электромотором. Я понял, что обнаружил нечто важное, и поплыл обратно. На берегу я отжал одежду и пошел по какой-то тропиночке в надежде выйти на большую дорогу. Уже рассветало, когда я набрел на деревню. Постучал в первую попавшуюся избу. Меня приняли радушно, накормили яичницей со свиным салом и напоили горячим чаем. Подкрепившись немного и обсохнув, я пошел дальше и вышел на шоссе, откуда с первой попутной машиной доехал до завода. Дома я не стал отдыхать, а только привел себя в порядок и отправился тотчас же на автобусе в город доложить Андрею Матвеевичу о ночном приключении.Глава XII НОВАЯ ДОГАДКА
Майора Можкова я застал в кабинете. — Ну-с. Расскажите, где вы пропадали и что с вами приключилось? — сказал он улыбаясь. Я рассказал ему подробно все, что считал заслуживающим внимания: как я заблудился, как ночевал в концентрационном лагере, как заметил таинственный огонек карманного фонарика и пошел вслед за лесным путником, который непонятно почему освещал дорогу не впереди, а позади себя. — Как же вы объясняете его странное поведение? — спросил майор. — Не знаю. Наверное, он проверял, не следят ли за ним. — Тогда бы он вел себя совсем по-другому. Наоборот, он фонарем показывал кому-то идущему сзади дорогу, но так показывал, чтобы его спутница про это не знала. Если бы вы тогда подумали об этом, вы бы вели себя осторожнее. Все это вполне понятно... Прошу вас, продолжайте. Мне ничего не было попятно. Я рассказал дальше, как засмотрелся на пожар и подвергся нападению двоих неизвестных. Про пожар штабелей леса он уже знал. Он расспросил меня о нападающих, их наружности и костюме. Лицо его приняло серьезное выражение, когда я рассказывал о своем бегстве мимо пылающих костров по заминированной местности. — Где это заминировано? — спросил он. — У не достроенного фашистами укрепления. — Какая чепуха! Откуда вы это взяли? — Сторож сказал. У него собака взорвалась на мине. — Какой сторож? Я что-то никакого сторожа там не знаю. Этот район никем и никогда не был заминирован... Интересно! Надо будет выяснить. Затем я рассказал ему, как под пулями переплыл через реку и как потом надумал плыть обратно и продолжать разведку. — И вы после всего этого в самом деле решили плыть обратно? — спросил он. — Да, решил. — И поплыли? — Поплыл. Он взглянул на меня и хотя ничего не сказал, но в его взгляде я прочел одобрение. Когда я закончил свой рассказ, он сказал: — Ваше последнее плавание оказалось очень удачным. Про эту лодочку мы уже слыхали, а рулевого-то не видели... А что, девушка не показалась вам знакомой? — Понимаете ли, Андрей Матвеевич, как будто я ее где-то видел, но где — не могу вспомнить. — И ни на кого она не похожа? — Нет... Не знаю... Он промолчал, но я понял, что он догадывается, кто была эта девушка, но не находит нужным мне сказать. Я, конечно, не стал спрашивать. Я встал, чтобы уйти, но он остановил меня движением руки. — Посидите,—сказал он.— Могу вам сообщить еще кое-что интересное. Корреспондент Коломийцев, по всей видимости, здесь ни при чем. Я успел собрать кое-какие справки по телеграфу. Майор взял со стола листок бумаги. — Вот его приметы: высокого роста, брюнет, длинные волнистые волосы, усы, близорук, носит очки, имеет пулевое ранение на левой руке между локтем и кистью... — Да, да — прервал я, — такая рана есть, я ее видел. — Видели? Хорошо! В ночь убийства Сердобина был в городе Чернигове, где и находится до сего времени. Кроме того, установлено, что, попрощавшись с вами, он действительно улетел на самолете. — Все ясно. — Не совсем, правда. Надо было бы поговорить с ним лично. Я пошлю ему приглашение заехать сюда... Теперь — вот еще есть справка. Майор достал из стола телеграмму и стал читать: — «Детские расчески из желтой пластмассы в форме рыбки производились в 1940—1941 годах харьковской артелью «Спецтруд». В настоящее время с производства давно сняты. Образец, или фото, или же чертежи вышлем вам, как только они будут разысканы». Возможна, стало быть, случайность: Сердобин и другие местные жители достали где-нибудь на складе эти расчески — в продаже здесь их не было, а Коломийцев купил такую же расческу в другом месте. Бывают совпадения. Опять-таки надо было бы с ним побеседовать... А вот еще одна справка. Это ответ лаборатории на наш запрос о стеклышке, что мы нашли в кармане плаща. Я вам прочту его полностью: «На ваш запрос сообщаем, что химический и оптический анализы с полной определенностью показали, что присланный вами осколок стекла является кусочком часового стекла карманных часов, а вовсе не осколком оптического стекла от очков, как вы полагаете. Сообщаем также, что размер этого стекла не соответствует ни одному из стандартов на часовые стекла, а края его отшлифованы так, что оно не может быть вставлено в ободок часов нашего производства. Возможно, стекло это было вставлено в какие-нибудь особые или старинные карманные часы». Что вы на это скажете? — Выходит, что таинственный владелец прорезиненного плаща вовсе не близорук и не носит очков. — Первое несомненно, а второе требует подтверждения... Ну, Сергей Михайлович, — продолжал майор, переходя на дружеский тон, — как вы себя чувствуете после вчерашней передряги? — Представьте себе, Андрей Матвеевич, что неплохо. Усталости не чувствую, и даже спать не хочется. И, кажется, не простудился. — Так часто бывает в минуты душевного подъема. Резервы человеческих сил много больше, чем думают. И организм у вас крепкий. — Даже очень: пил из колодца необычайно мерзкую воду и не отравился. — Из какого колодца? — Недалеко от того места, где мы остановились, есть колодец. Такой дряни я никогда в жизни не пивал! Вода мутная, кислая, воняет дымом. На поверхности плавает масло, спички, пробки. Чуть не подавился куском резины... Майор встал со стула и зашагал по комнате. — Странно, странно... — сказал он. — И поблизости нет поселка или хотя бы дома? — Ничего нет. Вас это поражает? — А вас нет?.. Мы ищем подземную мастерскую и натыкаемся на колодец, пробитый в скале в безлюдном месте, в котором находим сбросные воды производства. Разве не удивительно? — Так вы полагаете, Андрей Матвеевич, что колодец этот имеет связь с мастерской, с ее водостоками? Но зачем же делать колодец на водостоке? — Может быть, это не колодец собственно, а шурф, пробитый для каких-нибудь целей: вентиляции, подъема выбранной горной породы, спуска рабочих или для чего-нибудь еще. Нечто вроде шахты Метростроя в миниатюре. — Да, да, я заметил, что бадья, которая там подвешена, побита и погнута, как будто в ней поднимали тяжелые камни. — Вот видите... Одно это уже наводит на размышления. Колодец надо обследовать самым тщательным образом. Может быть, здесь ключ всех загадок... Теперь я распрощаюсь с вами. Идите домой отдыхать. Чувствую, что завтра у нас будет много хлопот. До свидания! Мы простились, и я отправился домой, чтобы как следует выспаться.Глава ХIII ПОДЗЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Но отдохнуть не пришлось. Дома меня уже ждали Татьяна и Анечка. Они забросали меня вопросами: куда я ездил, зачем и где пропадал целые сутки? Я не подготовился к такому допросу и вынужден был импровизировать, будто Краевский пригласил меня на охоту, будто я заблудился, весь день проплутал в лесу, вымок в болоте, ночевал в развалившейся сторожке и только утром вышел на дорогу. Получилось довольно нескладно. — И вы весь день ничего не ели? — спросила Татьяна. — Нет, ел... Застрелил тетерку, изжарил на костре и съел,— сфантазировал я. — Как же вы ее убили? — Из ружья. — Да где же оно, ваше ружье? — А я его сегодня утром вернул Краевскому. Вышло правдоподобно, но Анечка не поверила, я видел это по ее глазам. Этот день мы гуляли мало. Больше сидели дома, разговаривали и играли в карты, пока я не начал клевать носом. На другой день рано утром меня разбудил сам майор Рожков. В машине ждали нас Краевский. старший лейтенант и сержант, которых я раньше не видел. Хрулева не было. Как и два дня назад, машина быстро понеслась по шоссе, и меньше чем через час мы подъехали к парому. У домика сторожа машина остановилась и дала сигнал. Из сторожки вышел лейтенант Хрулев и быстрым шагом подошел к нам. — Товарищ майор,—доложил он, — сторож Галемба скрылся, нигде не можем найти. Лицо Рожкова передернулось. — Так, — промычал он сквозь зубы, — веселенькая новость! Порадовали... — Вчера вечером он был на месте,—оправдывался лейтенант, — его видели на пароме и на берегу. В шесть часов он ходил в магазин. В десять в окнах сторожки был свет. А когда мы в два часа сюда приехали, его не оказалось. — Клетка пуста, и птичка улетела!.. Приходится сознаться, что противники наши лучше нас действуют и не тратят зря времени. Они, конечно, учли, что Сергей Михайлович не станет молчать о своих ночных проделках, и поспешили замести следы. Печально! Что же вы намерены делать? — Что прикажете, товарищ майор. — Я прикажу вам ехать с нами. А вы, лейтенант Анисимов, — обратился он к товарищу, сидевшему в нашей машине, — оставайтесь здесь и проведите самый тщательный обыск. Может быть, вам удастся найти что-нибудь, что навело бы на след преступника или хотя бы позволило установить его настоящее имя: «Галемба», наверное, фальшивая фамилия... Едемте скорее, задерживаться нечего. Мы поспешили дальше. Паром перевез нас на другой берег. Сильная машина легко поднялась на крутизну и понеслась по знакомой дороге. Майор был не в духе. Он сидел молча, постукивая от нетерпения пальцем по портфелю. Краевский непрерывно курил трубку. Я не утерпел и спросил майора: — Андрей Матвеевич, как вы узнали, что сторож у парома — один из их сообщников? — Вы подсказали. — Я? — Ну да. Вы подслушали разговор этих людей и приказание съездить домой и через двадцать минут вернуться назад. Вверх по течению реки на расстоянии примерно десятиминутного хода этой лодки находится только одно жилье — домик сторожа парома. Этот факт заслуживал самого серьезного внимания. Мы проверили, и оказалось, что сторож ни с того ни с сего сбрил себе бороду. Все прояснилось. Но события развертываются не так, как хотелось бы. Преступники чувствуют, что их выследили, и прячут концы в воду. Это мне не нравится. Боюсь, что у колодца нас ждет сюрприз. Но он ошибся. Мы доехали до «Колонны согласия», проделали пешком тот же маршрут, что и два дня назад, и я провел всех еще с полкилометра по тропинке к колодцу. Колодец оказался целехонек, подъемный механизм исправен, и никаких следов пребывания людей заметно не было. Майор осмотрел колодец. — Пробит в скале, — сказал он. — Да, здесь нельзя и ожидать почвенной воды. Подъемник рассчитан на большую тяжесть. Все ясно! Ну, давайте сделаем промеры. Глубина колодца оказалась равной десяти с половиной метрам, причем воды было только на метр с четвертью. Потом проверили, нет ли скопления вредных газов, для чего бросили в колодец горящую бумагу. Она погасла только в воде. Воздух оказался пригодным для дыхания. Тогда я вызвался первым спуститься на дно колодца. Майор посмотрел на меня и согласился, при условии, однако, что я буду безусловно подчиняться его приказаниям. Я снял с себя всю лишнюю одежду и влез в бадью. Мне дали складной метр, повесили на шею большой электрический фонарь и начали медленно опускать. Я стоял в бадье, держась за цепь, и смотрел, как постепенно уменьшалось круглое пятно голубого неба. Но вот подо мной плеснулась вода. Я затопил бадью и, стоя на ее краях, погрузился по пояс в теплую грязную воду. Тут я увидел то, чего все ожидали: шахта колодца пересекалась трубой. Она шла наклонно, повышаясь в одну сторону и понижаясь в другую. Я сделал промеры. Труба была овальной формы, высотой ровно в метр и шириной в семьдесят сантиметров. Наполовину она оставалась ниже уровня воды. По трубе можно было с трудом продвигаться. Впрочем, эти трудности должны были кончиться, как только поднимешься выше уровня воды. Я крикнул наверх, что окончил исследование, и тотчас же получил приказание майора подниматься. Цепь зазвенела, заскрипели шестеренки, и через минуту я был на поверхности земли. Возбужденный и радостный, я рассказал обо всем своим спутникам. Стали снаряжаться в подземную экспедицию. Первым решил спускаться майор, потом должен был идти я и последним — лейтенант Хрулев. Краевский из-за протеза лишался возможности принять участие в этом путешествии и остался наверху, у ворота, вместе с сержантом. Оба спутника, подобно мне, надели спортивные костюмы и туфли и повесили на грудь электрические фонари. Майор достал три резиновых мешка с широкими отверстиями, плотно замыкающимися специальными зажимами. В них он положил по две свечки, по две коробки спичек, бумагу, рулетку, часы, компас. В мой мешок он сунул фотоаппарат и запасы магния, к Хрулеву — слесарные инструменты, а к себе — моток крепких ниток и пистолет. Взяв в руки по мешку и обмотавшись куском веревки, мы начали поочередно спускаться в шахту колодца. Я хорошо помню это подземное путешествие. Идти на корточках по пояс в воде было очень тяжело. Не хватало воздуха, ноги скользили по кривому дну трубы, покрытому липким илом. Хорошо еще. что мученья эти продолжались недолго. С каждым шагом вода отступала все ниже и ниже, и скоро я выбрался на сухое место. Отсюда можно было ползти на четвереньках, что было значительно легче. Ползли мы очень долго, все время вверх по уклону. Помню, меня особенно мучил тяжелый ломик, который я тащил по дну трубы, зажав в руке. Эти тридцать два метра (как впоследствии выяснилось) показались мне бесконечными. Я выбился из сил и изранил себе руки и ноги об осколки острых камней и о стекла, попадавшиеся на дне трубы. Но вот майор воскликнул: «Конец!» — и я увидел, что он встал на ноги. В этом месте труба круто поворачивала вверх, поднималась метра на три и оканчивалась решеткой, к которой можно было добраться по вбитым в стенку железным скобкам. Майор полез по ним вверх, надавил на решетку плечом и откинул ее, как крышку коробки. Я последовал за ним и очутился в цилиндрической камере высотой метра в три, с полом, покрытым толстым слоем ила, и люком под потолком, куда вела железная лестница. Это, по всем признакам, была водосборная камера. Мы поднялись по лесенке, открыли люк и очутились в темном, узком коридоре, идущем в обе стороны. Шириной он был в метр, высотой — метра в два. Пол был покрыт резиновым ковриком. На потолке я заметил электрические лампочки. — Ну, вот мы и в подземном царстве фашистов, — сказал майор. — Прежде чем пуститься в дальнейшие поиски, нам нужно обеспечить отступление. Он зажег свечу и поставил ее на пол возле люка. Потом достал большой моток крепкой нитки, привязал конец ее к люку и передал моток мне. — Бы будете заведовать нитью Ариадны*["1], — сказал он.— Ну, теперь в дорогу! Далеко от меня не отходите да смотрите ни в коем случае не касайтесь ни кнопок, ни выключателей, ни рубильников. Идем гуськом по коридору, тщательно осматривая каждый его уголок и постукивая ломиками по стенкам. Коридор изгибается дугой. Яркий электрический свет фонарей освещает лишь небольшой кусок. Впереди и позади царит тьма. Но вот коридор неожиданно расширяется влево, и в лучах света блестят полки с химической посудой. Мы входим в лабораторию. Она имеет вид низкого, узкого и длинного каземата. Ряды пробирок, колбы, штативы с бюретками, воронки с фильтровальной бумагой, склянки с реактивами, бутыли с дистиллированной водой, вытяжные шкафы, газовые горелки, эксикаторы — все в полном порядке. Кажется, что лаборатория лишь на минуту оставлена и что вот-вот вернется химик и работа снова закипит. — Сюда, сюда! Не разбредайтесь! — услышал я голос майора. Он ушел вперед по коридору н теперь осматривал соседнюю комнату. Мы пошли на его зов. Это был, по-видимому, кабинет начальства. Пол устилали ковры. Одна из боковых стенок была заставлена шкафами с книгами, у другой стоял стол секретаря, и далее — громадный электрический камин, возле которого лежала груда бумажного пепла. Прямо перед входом, в глубине, стоял большой письменный стол, а за ним всю заднюю стенку занимало нечто необыкновенное; мы сразу не могли и разобрать, что там такое. В лучах фонаря сверкали медным блеском ноги, руки, какие-то звериные морды. Лишь подойдя ближе и направив на стену все три фонаря, мы поняли, в чем дело. У стены высилась громадная, в два человеческих роста, бронзовая статуя какого-то древне-германского бога. Его мощная, прикрытая латами фигура сидела вполоборота верхом на кабане. Левой рукой он держал чудовище за пасть. Повернув голову, кабан упирался, и его зеленый стеклянный глаз блестел яростью. В высоко поднятой над головой правой руке истукан держал тяжелый молот, конец которого почти касался потолка. На голове был шлем с рогами, из-под которого падали на плечи густые локоны. Лицо идола было сделано нарочито грубо. Оно казалось неодушевленной маской, без выражения, чувства и мысли, и это было страшно. От этого вся статуя становилась олицетворением бессмысленной жестокости. Мы долго не могли оторвать от нее взора. — Что за странная причуда, — высказал я вслух свою мысль, — ставить здесь, в подземелье, такую дорогую и громоздкую вещь! К чему это? — Такие причуды свойственны фашистам,—заметил майор. — Они любят действовать на воображение массы устрашающим образом. Они придают этому дисциплинирующее значение. — Но сколько трудов понадобилось, чтобы принести это сюда! Даже и по частям не протащишь через водосток. — Это только доказывает, — сказал майор, — что сюда есть или, по крайней мере, был другой, настоящий вход. А труд? Он им ничего не стоил. Они располагали тысячами рабов. Перед нами стоял прекрасный письменный стол из орехового дерева. Большой бронзовый письменный прибор в виде средневекового замка, часы в форме башни с воротами, два бокала для карандашей, тоже в виде башен с зубцами, диктофон и два телефона — вот все, что мы увидели на столе. Все ящики его были выдвинуты и совершенно пусты. Ни одной бумажки. Куча пепла у камина свидетельствовала об их судьбе. — Чистая работа, товарищ майор, — сказал Хрулев. — Даже бумага на пресс-папье уничтожена. — И пепел растерт в порошок. — добавил Рожков. — Остается только просмотреть библиотеку. Майор и лейтенант занялись книгами, а я пошел осматривать соседние помещения. Рядом с библиотекой была небольшая комната с несколькими койками, столом, стульями и стойками для ружей, — по-видимому, караульное помещение. Затем следовал большой каземат с койками — общежитие для персонала. Дальше коридор кончался, и я хотел было вернуться к своим, когда заметил в конце его маленькую толстую дверь и открыл ее. Тяжелый воздух склепа пахнул мне в лицо. Луч фонаря упал на стоящий перед дверью стол и на неподвижное тело человека, сидящего за ним. Грудь, голова и левая рука его лежали на столе, правая беспомощно свисала почти до полу. От его ноги извивалась толстая цепь, звенья которой искрились в луче света подобно чешуе фантастической змеи. Все это было так неожиданно и странно, что я невольно попятился назад. Не решаясь войти в комнату, я пошел доложить майору об ужасном открытии. Он с Хрулевым шли мне навстречу. Увидев мое расстроенное лицо, майор спросил: — Что это с вами? На вас лица нет... Нашли прикованные тела, что ли? Где они? — Там, в последней комнате, — ответил я. — Откуда же вы знаете? Вместо майора мне ответил Хрулев: — Слыхали в диктофоне. Они забыли уничтожить валик. На нем был записан последний приказ. Вот, смотрите.— И он подал мне клочок бумаги, па котором рукой Рожкова был написан перевод на русский язык с немецкого текста: ПРИКАЗ по объекту VL № 172 1. Согласно распоряжению фюрера, работа на нашем объекте временно прекращается. 2. Все оборудование, аппараты и приборы оставить в полном порядке и готовности, дабы после возвращения можно было тотчас возобновить работу. 3. Все документы и чертежи немедленно сдать мне. Частную переписку уничтожить. 4. Эвакуацию персонала начать сегодня в 22 часа и закончить завтра в 4 часа. В 5 часов шлюз будет затоплен. 5. Изменника фюреру и Германии Отто Хиссингера, который предательски саботировал работу, а также русского инженера Пасько оставить в карцере на цепях, снабдив их хлебом и водой на две недели. Хайль Гитлер! Начальник объекта VL 172, оберштурмбанфюрер Зигмунд фон Римше. Я был поражен открытием. Значит, там, в смрадном карцере, передо мной лежало тело отца Татьяны, Виктора Ивановича Пасько! В то время, когда все думали, что он увезен в Германию, и ждали его возвращения, он сидел на цепи в подземной тюрьме, совсем недалеко от своего дома, и умирал голодной смертью. Как это ужасно! Я вошел в карцер и огляделся. Небольшая мрачная комната с низким потолком, почти пустая: только стол, два стула и большой бак. В середине пола было вбито железное кольцо с двумя цепями. Одна шла к телу Пасько, другая — куда-то в темный угол. Там на груде тряпья с трудом можно было разглядеть скорчившееся тело еще одного человека. Это, без сомнения, тот самый Отто Хиссингер, который осмелился не подчиниться приказу фюрера. Рожков занялся осмотром стола. Хрулев ползал по полу с фонарем и собирал бумажки. — Товарищ майор, — заявил он вдруг, — под листочками пыль. — Сам вижу... Бумажки разбросаны недавно, и стеариновые пятна совсем свежие. Спички, заметьте, которых так много валяется, все советского производства. Здесь кто-то до нас побывал, и не так давно, может быть только два-три дня назад. Сомневаться не приходится... Ах, черт возьми! — вдруг выругался майор. — Что это?.. Смотрите, смотрите, они украли со стола какой-то документ! Мы опоздали! Он лежал здесь вот, под рукой умершего! Несомненно, это были его записи.— И майор указал на почти чистое, от пыли место на крышке стола. Наверное, тут раньше находилась ученическая тетрадка или листочки бумаги такой же величины. Никогда раньше я не видел Рожкова таким взволнованным. Он схватил листочки, собранные Хрулевым, и стал их просматривать при свете фонаря. Все они были чистые, кроме одного. С лихорадочной поспешностью майор прочел его, потом приложил к чистому месту стола. — Отсюда взята, несомненно! — сказал он, помолчав. — Да, нас опередили... Ну ничего! Не будем унывать!.. Сергей Михайлович, давайте сфотографируем все это. Да надо скорее вылезать наружу. Я сфотографировал при вспышке магния карцер, кабинет и другие помещения. Майор собрал бумаги и спрятал их в резиновый мешок. Мы без труда отыскали люк и спустились вниз по водостоку в колодец. Краевский с сержантом живо подняли нас на поверхность. Потные, покрытые с ног до головы грязью, ослепленные ярким светом, мы имели такой забавный вид, что оба они невольно рассмеялись. Пришлось прежде всего сходить к реке, вымыться и переодеться. Потом сели закусывать. Майор рассказал Краевскому обо всем виденном. К нему вернулось его обычное хладнокровие. — Сегодня у нас день неудач: мы упустили паромщика Галембу и прозевали важный документ. Теперь он в руках врагов. Но, думается мне, они скрываются пока что здесь, недалеко. Уже около недели, как я установил наблюдение за вокзалами, дорогами и поселками. Им некуда деваться. Не ускользнут. — Почему ты полагаешь, что похищенный документ так важен? — спросил Краевский. Майор молча раскрыл резиновый мешок. — Это, по всем признакам, первая страничка тетради,— сказал он, передавая Краевскому бумагу. — Она была потеряна или же умышленно оторвана от тетради и выброшена. Прочти про себя. Краевский прочел бумагу и передал ее мне. Вот что там было написано: «Сижу прикованный к цепи и осужденный на голодную смерть за то, что не продался врагам моей Родины и не испугался угроз. Вчера все покинули подземный завод, а нам объявили приговор. Но это хорошо: значит, они разбиты и бегут. Чтобы продлить наши страдания, нам оставили запас хлеба и воды. Это тоже хорошо: теперь я имею возможность записать все, что знаю об этом подземном предприятии и о его работе. Профессор Хнссингер продиктует мне о своих открытиях, о тон великой научной тайне, которую он отказался сообщить фашистам. Пусть она послужит на благо советского народа, на благо всего человечества. Буду писать, пока хватит сил или пока аккумуляторная батарея не прекратит подачу тока. Может быть, пройдет немало лет, прежде чем тетрадь эта увидит свет. Может быть, в то время счастливое человечество, не знающее нужды, будет уже жить при коммунизме, а наука даст ему возможность использовать это великое открытие для мирных нужд. Тогда те, кто будет держать в руках эту тетрадь, пожалуй, не найдут в ней ничего нового. Но пусть они помянут добрым словом двух несчастных, которые пожертвовали жизнью, чтобы не дать в руки злодеев страшное оружие. Но обратимся к делу. В марте 1941 года к нам...» На этом текст обрывался. Я вернул листок Краевскому. Страничку, конечно, вырвали нарочно. Для чего шпионам нужны доказательства великого мужества и героизма русских? Этим они не угодят своим хозяевам, которым было бы не особенно приятно узнать, что простой русский человек предпочел смерть измене Родине. — Кто этот Хиссингер? — спросил я Красвского. — Крупный ученый-физик и известный антифашист. Он еще до войны не выходил из тюрьмы... А оберштурмбанфюрер фон Римше, — добавил Краевский, — погиб. Его поезд взорвали партизаны недалеко отсюда. Из команды ни один человек не спасся — все были перебиты. Так совершилось возмездие... Майор торопил нас в обратный путь. Когда садились в машину, он неожиданно сказал сержанту: — Сержант Совков, вам придется на несколько дней остаться у колодца. Я пришлю сюда подсменных, палатку, оружие и все необходимое и позабочусь также о вашем довольствии. Не допускайте к колодцу никого, кроме своих. Так спокойнее будет. У парома Рожков и Хрулев вышли, чтобы узнать, как идут дела у Анисимова. Прощаясь, майор сказал: — Знаете, мы зря поторопились и не осмотрели как следует всего подземелья. Туда, несомненно, есть другой, настоящий вход, и шпионы проникли именно через него. — Почему ты так думаешь? — спросил Краевский. — По трубе до нас никто не лазил — там не было абсолютно никаких следов.Глава XIV НЕОБДУМАННЫЙ ШАГ
На другой лень утром меня разбудил стук в дверь. — Войдите,—сказал я, думая спросонок, что стучит Надежда Петровна. Дверь отворилась, и вошла... Леночка. Я так обрадовался, что даже вскочил с постели: — Леночка! Ты! Приехала? Вот молодец! Вот умница! — Вчера вечером... Я соскучилась, Сережа. Не могла больше ждать и решила ехать. — Вот и отлично!.. Ну, снимай шляпу и плащ, и пойдем, я тебя познакомлю с хозяевами. Я быстро привел себя в порядок и представил Леночку Надежде Петровне и Татьяне, которые, впрочем, уже догадались, кто она такая. Старушка приняла жену радушно, Татьяна же довольно холодно. Скоро пришла Анечка Шидловская. Познакомившись с Леночкой, она тут же съязвила: — Сергею Михайловичу можно выдать диплом «идеального мужа»: он ни за кем не ухаживал, на нас с Татьяной вовсе не обращал внимания и больше ходил на охоту... правда, без ружья и собаки. — Ходил с Краевским, председателем охотничьего общества, — попытался я оправдаться. — У него ружье брал и собаку тоже. Только охота вышла неудачной. — Я привезла тебе ружье,— сказала Леночка. Как трудно, как стыдно было мне лгать! Леночка поверила всему, что я говорил, Анна же, наоборот, не поверила ни одному слову. Я видел это по насмешливой улыбке, с которой она смотрела паЛеночку, по взгляду, которым она переглянулась с Татьяной. Но что же мне было делать? Ведь я не мог рассказать Леночке правду, Прошло несколько дней. Мы много гуляли по окрестностям, катались на лодке. Мы — это я, Леночка, Татьяна и Анна. Петя ушел куда-то в длительную экскурсию и отстал от нашей компании. Однако и во время этих прогулок мысль о подземелье, в которое мне удалось проникнуть, не покидала меня. Очень скоро стало ясно, что наша подземная экспедиция только чуть приоткрыла завесу, скрывающую тайну объекта VL 172, и что еще много секретов осталось в недрах Серой скалы. О том, что это именно так, говорили следующие соображения. Водосток, по которому мы проникли в подземелье, по своему сечению был рассчитан на очень большое количество сбросовых вод, во много раз большее, чем их могла дать одна лаборатория. Лаборатория сама по себе едва ли могла быть самостоятельным объектом. Ее создали, очевидно, для обслуживания какого-то предприятия. В приказе фон Римше говорилось о большом числе рабочих и о каком-то шлюзе, которого мы не видели. И вообще, нами не были открыты вход и выход из подземелья. Водосток, конечно, таковым не мог служить, так как проходить по нему, наполненному текущей водой, было совершенно немыслимо. Осматривая лабораторию, мы пошли по коридору вправо от люка. Что находилось по левую сторону, было неизвестно. Все эти факты не давали мне покоя. Что бы я ни делал, где бы ни находился, я постоянно старался представить замыслы фашистов, прятавших под землей такую большую лабораторию. Как назло, ни Рожков, ни Краевский ничего не давали о себе знать. Несколько раз я пытался связаться с Краевским по телефону, но каждый раз получал ответ: «Только что вышел», «Уехал за город», или еще что-нибудь в этом роде Рожкову звонить я не мог — это было категорически запрещено. Приходила в голову довольно естественная мысль: приезд Леночки получил, конечно, огласку, майор узнал о нем и теперь стал смотреть на меня как на человека малопригодного для выполнения ответственных и рискованных поручений. Розыски у колодца продолжаются, но меня уже больше не привлекут к ним. Конечно я ничего не сказал Леночке: я должен был хранить слово, данное майору. Леночка заметила мое удрученное состояние и истолковала его по-своему. — Тебе наверное, на охоту хочется, Сережа, — сказала она как-то вечером.— Что ж, ступай! Мне, кстати, нужно будет съездить в город на базар... Вот хоть завтра. Я не знал, что ей ответить. — Право же, сходи, — продолжала она. — Созвонись со своим Краевским и идите вместе. А я поеду в город. Вечером я позвонил Артемию Ивановичу — и опять без толку: его не оказалось дома. Тогда я решил с утра отправиться к колодцу и посмотреть, что там делается, не ведутся ли поиски без меня. Я надеялся также встретиться с майором, поговорить с ним, растолковать ему, что приезд жены не должен отразиться на наших отношениях. Ранним утром я с попутными машинами добрался до перевоза, откуда пешком по знакомым тропинкам дошел до колодца. Среди зелени кустов белела палатка. Возле нее шипел примус, на котором стоял большой медный чайник. В палатке на ворохе сена лежал сержант Совков с газетой в руках, рядом с ним стоял автомат. Он скучал в одиночестве: один из дежурных солдат заболел и ушел на медпункт, другой должен был прийти только к утру следующего дня. Никаких поисков не производилось. Майора не было. Сержант встретил меня, как старого знакомого, и угостил чаем. — А майор бывает здесь? — спросил я Совкова. Тот помотал головой: — С тех самых пор и не видел. Занят, должно быть. А что? — Да мне хотелось бы с ним поговорить. Сижу без дела, а между тем мог бы быть полезным. Я был огорчен. Совков заметил это и участливо предложил: — А вы напишите ему письмо, сегодня же со связным и отправим. Связного жду. — пояснил он, прихлебывая чай, — должен доставить сюда хлеб и газету. Старую-то надоело читать... У меня бумага есть и конверты. А если хотите, — добавил он, помолчав минуту, — спущу вас в колодец: ведь вы свой человек. Я подумал: почему бы мне и в самом деле не попробовать пробраться в подземелье и самостоятельно не обследовать его? Майор этого ведь не запрещал. Сейчас он занят по горло — ищет украденную тетрадь инженера Пасько, а время идет. Может быть, мне повезет и я отыщу что-нибудь интересное. Тем более что никакой опасности нет: Совков остается дежурить наверху. — А свечи найдутся? — спросил я. — Штуки три могу выделить. Я написал майору письмо. Сказал, что горю желанием продолжать работу под его руководством, что могу быть полезным в поисках тетради Пасько и не боюсь никаких опасностей. В конце письма я сообщил, что спускаюсь в колодец, чтобы продолжать обследование подземелья. Письмо вышло глупым по содержанию и хвастливым по тону. Я запечатал его в конверт, оставил вместе с пиджаком и документами в палатке и влез в бадью. Совков освободил зубец храповика и взялся за рукоятку ворота. — Когда вернетесь к колодцу. — сказал он. — постучите по цепи камешком, я услышу: бадья останется внизу. На этот раз путешествие по водостоку показалось мне сущим пустяком, хотя и пришлось ползти по трубе ощупью, в полной темноте. Добравшись до водосборного бассейна, я достал свечку из сумочки, которую осторожно нес над головой, зажег ее и без труда поднялся по лестнице в коридор. Здесь все было в том виде, как мы оставили: огарок у люка, брошенные нами ломики, веревки, оставленная майором фляжка. Я поставил свечку у люка и начал было обследование коридора влево, куда мы прошлый раз не успели даже заглянуть, как вдруг услышал лязг цепи и скрип ворота. Звуки доносились из трубы. Очевидно, они шли из колодца и были так ясно слышны, будто я стоял с ним рядом. «Зачем Совков поднимает бадью? — думал я. — Сам же не хотел ее трогать. Говорил, что так мне будет удобнее. Странно...» Я стоял и слушал, как постепенно замирает звон цепи, как гудит бадья, ударяясь о стенки колодца, как падают капли воды, стекающие с нее, и холодный страх подбирался к сердцу. Я убеждал себя, что это пустяки, что Совков мог забыть свое обещание, что появились причины, побудившие его поднять цепь, но не мог подавить в себе жуткое чувство. Нечто подобное должны ощущать узники при звоне ключей и стуке засова, навсегда запирающего за ними двери темницы. Вдруг — сильный удар и громкий плеск воды. «Совков упал в колодец!» — промелькнуло у меня в уме. Не помня себя я прыгнул через люк в камеру и оттуда вниз, в водосток... «Скорее! Скорее на помощь! Он утонет...»— торопил я себя. Было слышно, как бурлит и плещется вода, и мне казалось, что несчастный барахтается в грязной жиже, силится выбраться и захлебывается... Но тут я почувствовал отвратительный сладковатый запах ацетилена. Что это? Откуда сюда мог попасть карбид? В чем дело?.. Запах стал невыносимым. Дышать нечем! Сразу страшно заболела голова. Скорее обратно наверх, что есть сил! Волны газа преследуют меня... Я задыхаюсь... Чувствую, что вот-вот упаду, и тогда — конец! Бегу по коридору, сам не зная куда, в полной темноте — свеча давно погасла... Натыкаюсь на стены, на столы... Куда-нибудь! Куда-нибудь, только бы подальше... Вдруг каменные своды освещаются красным блеском, и я слышу приближающийся страшный рев, точно гигантский паровоз с чудовищными фонарями с громадной скоростью нагоняет меня. Огненный вихрь врывается, крутится, наполняет все помещение. Грохот! Звон стекла! Нестерпимый жар! «Газ взорвался...» — мелькает последняя мысль. Я куда-то лечу и теряю сознание.Глава XV ВЕРНЫЙ ДРУГ
Постепенно ко мне стало возвращаться сознание. Первым ощущением было, что меня качает и бросает из стороны в сторону, отчего мучительно кружится и болит голова, стучит в висках и тошнит. Казалось, я мчусь на автомобиле со страшной скоростью вниз, под гору, от мотора пахнет бензиновым перегаром, и этот запах меня душит. Я не мог вспомнить, как попал в машину, зачем и куда еду, и мучительно напрягал память. Сколько времени провел в таком состоянии, сказать не сумею. Может быть, несколько часов. Но струя свежего воздуха касается моего лица, сознание проясняется, и я начинаю понимать, что лежу с закрытыми глазами. Хочу их открыть и не могу. Пробую поднять руку — острая боль пронизывает ее от плеча до самых пальцев. И тут я вспоминаю все: и спуск в колодец, и лязг цепи, и взрыв газа. С трудом открываю глаза. Темнота: нигде ни проблеска света, ни теней, ни контуров. Нет никакой разницы, открыты глаза или закрыты. Прислушиваюсь — тишина. Только слышно, как где-то около меня падают на каменный пол капли воды. Что напоминает мне этот звук? Да, я хочу пить. Очень хочу!.. Снова гляжу в темноту. И вот мне приходит на ум страшная мысль: что, если я ослеп, навсегда потерял зрение, если глаза мои выжжены взрывом?.. Эта мысль ужасает меня. С трудом подняв руку, я ощупываю себя: лицо горит от ожога, брови опалены, голова изранена, волосы слиплись от крови. Но глаза? Целы ли они? Хоть бы немного света! Один самый слабый луч! Хоть бы раз чиркнуть спичкой! Но коробки нет. Я где-то потерял свою сумку. Потом мне чудится, что меня уже нашли. Пришло много народу. Меня поднимают и несут по темным коридорам. Носилки качаются, как лодка в сильную качку. Несут куда-то вниз. Я хочу крикнуть: «Наверх меня несите! Не надо вниз!» — но слышу только слабый стон и прихожу в себя. Никого нет. Кругом по-прежнему непроглядная тьма. И снова ужас перед слепотой прокрадывается мне в душу. Напрягаю зрение, вглядываюсь в черную пустоту — и вдруг вижу перед собой потолок и стену... Да! Вижу каменный свод, чуть-чуть освещенный желтоватым мерцающим светом. Он становится все ярче и ярче, и вот в комнату входит человек. В поднятой его руке горит свеча. Только тут я начинаю понимать, что меня ищут. «Сюда! Сюда! Я здесь!» — стараюсь я кричать, и снова с моих губ срывается только слабый стон. Но этого достаточно: человек поворачивается и быстро идет в мою сторону. Я вижу, как дрожит свеча в его тонкой руке. Слышу, как хрустит стекло под его ногами. Он наклоняется ко мне. Вижу освещенное мерцающим светом женское лицо, все перепачканное грязью. — Сережа! Сережа! Жив! Жив!.. Вглядываюсь — Леночка. «Этого не может быть, опять бред»,—думаю я и закрываю глаза... Но вот я чувствую на губах вкус влаги и жадно пью прохладное кислое вино. Силы сразу возвращаются. Сознание ясно. Передо мной на коленях стоит Леночка и прикладывает к моей голове компресс. Я гляжу на ее лицо, такое встревоженное и заботливое, какое бывает у матери, когда она стоит у постели больного ребенка, на ее глаза, большие и темные, и вижу, как на них одна за другой появляются слезинки и катятся по щекам, оставляя грязные следы. — Бедный мой! Родной мой! — шепчет она, обтирая мое лицо носовым платком. — Лена, ты?! Как ты сюда попала? — Тише, тише, не надо говорить. После расскажу... — Постой, а где же остальные? — Я одна здесь. — Одна?.. Откуда же ты узнала, что я здесь? Кто же тебе показал? — Молчи... После все объясню... Она помогает мне подняться и усаживает на стул. Теперь я вижу, что мы находимся в лаборатории, среди разбитой посуды и поломанных приборов, у самых вытяжных шкафов. (Это обстоятельство спасло меня: взрывом стеклянные стенки шкафов были выбиты, и открылся приток свежего воздуха.) Тут же, на полу, валялась моя сумочка со свечами и спичками, которую я потерял при взрыве. — Надо спешить, — говорит Лена: — нас будут ждать наверху только полчаса. Идти можешь? Она помогает мне встать. Голова кружится, но, в общем, сил больше, чем я думал. Мы берем по огарку и идем по длинным закопченным коридорам, задыхаясь от невыносимого запаха гари. Вот и люк. Спускаемся в водосборную камеру. Взрывом из нее выдуло весь ил, и теперь видны трубы различного диаметра, по которым в нее поступают сточные воды. Леночка первая спускается в водосток, я — за ней. Мы осторожно ползем на четвереньках вниз по уклону, держа зажженные свечи перед собой. Моя ушибленная рука сильно болит, голова кружится. Но это все пустяки. Сейчас выберемся из этой удушливой дыры на свежий воздух. Вот и вода. Леночка становится на корточки и, высоко подняв свечу, храбро влезает в грязную жижу. Через несколько шагов вода уже доходит ей до самых плеч. Но вот она неожиданно теряет равновесие, взмахивает руками, стараясь удержаться за стенки трубы, и шлепается назад. Секунду она барахтается в воде, но ловко выворачивается, и я вижу ее совершенно мокрую голову и грязное лицо, обращенное ко мне. — Там камень! — говорит она изумленно. — Камень? Какой камень?.. — Не знаю... Большой... Постой! Она снова лезет в воду и, протянув руку вперед, ощупывает что-то. Потом говорит, запинаясь от волнения: — Сережа, там камни... Выход завален камнями! Мы смотрим друг на друга, пораженные этим открытием. Потом я говорю: — Не может быть! Тебе так показалось. Кто же мог? Я подвигаю свечу, насколько позволяет вода, и вижу в просвете между уровнем ее и верхом трубы угловатые серые камни, мокрые грани которых блестят, освещенные свечой. Сомневаться более нельзя: мы замурованы в этом подземелье, как в склепе. Положение отчаянное, я это понимаю. Боюсь за Леночку, не потрясло бы ее это страшное событие. Но она сама старается ободрить меня. — Ничего, Сережа, не тревожься. — говорит она. — Нас скоро отыщут и откопают. Придется только посидеть в пещере несколько часов. Хочу спросить ее, не оставила ли она записки с указанием, куда пошла, но не решаюсь: наверное, не догадалась. Смотрю на нее и не могу удержаться от улыбки: ее куртка и юбка мокры и грязны до последней степени, волосы перемазаны глиной, слиплись и висят хвостиками, вода бежит по ним ручьями, лицо перепачкано, на щеке царапина. — Ну что же, лезем назад, больше ничего не остается делать, — предлагает она. И вот мы, с трудом повернувшись в узкой трубе, ползем обратно.Глава XVI ЗАМУРОВАННЫЕ В СКАЛЕ
Итак, выход закрыт! Мы замурованы в подземном лабиринте. Леночка бодрится. — Вот и приключение! — говорит она. когда мы вылезаем в коридор и садимся отдохнуть. — Но кто же мог это сделать? Неужели эта девочка? — Какая девочка? — Девочка, которая привела меня сюда и спустила в колодец. Может быть, она умышленно это сделала? Заманила меня? Я ей поверила... — Разве тебя спустил не Совков? — Какой Совков? — Сержант. Ему было поручено охранять колодец. — Нет, сержанта там не было! — Да, конечно, с Совковым случилось что-то неладное, какая-то беда... Никто не мог бы бросить карбид в колодец, будь он на посту... Так тебя привела девочка, говоришь? Какая? Кто же это? — Тише, тише, Сережа, прошу тебя!—успокаивает меня Леночка, видя, что я начинаю волноваться.— После расскажу все подробно. Сейчас тебе прежде всего нужен отдых. Через несколько часов, я думаю, нас разыщут и извлекут на свет божий. В том самом месте, где Леночка нашла меня и где имелся приток свежего воздуха, мы очистили пол от битого стекла, отодвинули столы и принесли две кушетки. Взрывом была уничтожена только одна сторона лаборатории — у той стены, где лежал я. Все, что находилось у противоположной стены, по прихоти взрывной волны осталось в целости. Я скинул мокрую одежду, прилег на кушетку и заснул. Усталость взяла свое. Проснувшись, я почувствовал себя бодрым и отдохнувшим. Голова совсем не болела. С удивлением увидел я на столе несколько лабораторных таганчиков, на которых стояли большие фарфоровые выпаривательные чашки, наполненные парафином, с четырьмя горящими фитилями. Услышав, что я проснулся, Леночка подошла ко мне: — Ну что, выспался? Как себя чувствуешь? — Отлично!.. Это ты устроила такую иллюминацию? — Я. Нашла целую бочку парафина. Хорошо? — Превосходно! Теперь нам нечего бояться темноты. Ты прямо чародейка, Леночка! — Хочешь чаю? — улыбаясь, спросила она — Чего? — Чаю... Вернее, лимонаду. А попросту — воды с лимонной кислотой и глюкозой вприкуску. И, не дожидаясь моего ответа, она поставила на стол большую колбу, полную кипятку, два кипятильных стакана из тонкого стекла и две банки — с лимонной кислотой и глюкозой, на что указывали химические формулы, выгравированные на их стенках. — К сожалению.—добавила Леночка, — вместо хлеба могу предложить пока только фасоль. — Откуда же ты ее взяла? — Нашла на кухне. — На кухне? Здесь есть кухня?.. Ты успела осмотреть помещение? — Да. Только выхода наружу тут нет. Столовая, кухня и небольшой склад — не знаю с чем... Потом глухая стена, и никаких следов выхода. — Да? И нет большого завода? — Нет, не видела... — Гм... непонятно! И вот мы пьем горячий лимонад и закусываем его белыми кусочками глюкозы и фасолью. Оригинальный утренний завтрак. Утренний... Но утро ли сейчас? Мои часы давно остановились. Леночкины были испорчены: она забыла снять их с руки и они намокли. Завожу свои часы и ставлю наобум «десять утра». У нас теперь «свое время». — Ну, наконец расскажи мне, как ты попала сюда, — нетерпеливо прошу я. И Леночка подробно рассказывает необыкновенную историю минувшего дня. Она вернулась из города в три часа, пообедала в столовой и пошла домой. Меня еще не было: Я не вернулся ни в шесть часов, ни в восемь, ни в десять. Она не знала, что и думать, и страшно беспокоилась. Томимая тревогой, она сидела па лавочке у нашего дома. Было уже совсем темно, когда к ней подошла неизвестная девушка, брюнетка, с головой, обвязанной шалью, закрывающей и часть лица, в темной юбке и красной кофточке, — вероятно, та самая, которую я видел в лодке. Леночка заметила также, что у нее был грубоватый голос и сильные руки, как у женщины, занятой физическим трудом. Девушка спросила: «Вы дожидаетесь Сергея Михайловича?» Леночка удивилась, но ответила утвердительно. «Вы. наверное, его жена?» «Да». «Тогда я скажу вам. Я знаю, где он находится. Он в большой опасности и лаже, может быть... Вот его письмо — оно, правда, не вам написано...» — Она протянула мне распечатанный конверт и твои документы. Я обомлела... Я узнала твой почерк. Буквы запрыгали перед глазами. Я поняла, что над тобой стряслась беда, страшная... Я умоляла девочку, — продолжала взволнованно Леночка, — сказать, где ты, что с тобой и как тебя искать. «Я проведу вас туда, — сказала она, — только вы никому об этом не говорите и ни о чем больше не спрашивайте. Это очень рискованное дело». «Может быть, лучше пойти в милицию?» — предложила я. «Нет! Нет! Это невозможно! Я тогда погибну!»—воскликнула она с таким отчаянием в голосе, что мне стало страшно. Тут Леночка заволновалась и приумолкла. — Что же дальше было? — спросил я. — Дальше? Я зашла домой, переоделась по ее совету в спортивное платье и захватила свечи н спички. Потом мы пошли. — Пешком? — Пешком. Один раз переправлялись через речку на лодке. — Но ведь это больше двадцати километров! — Да. далеко. Но надо было идти. Вот мы и пошли. Они молча шли в темноте. Незнакомка впереди, Леночка за ней. Шли по дорогам и без дорог, тропинками и без тропинок, лесом и кустарником и наконец подошли к темной скале. Здесь незнакомка стала особенно осторожной. Она вела Леночку прямо через кусты, без тропинок, вдоль скалы, все время озираясь кругом и прислушиваясь. Так добрались они до колодца. Девушка дала ей последние наставления, сказала, что будет ждать ее полчаса и спустила в бадье на дно колодца... — Вот и все! — закончила Леночка свой рассказ. — Я поверила этой девочке. Не ожидала с ее стороны коварства. Да и сейчас не могу поверить в него.. Впрочем — добавила она тихо, — я тебя нашла живым, мы теперь вместе, а это одно уже хорошо. — По-моему, — сказал я, — не могла девочка в какие-нибудь полчаса забросать колодец камнями. Здесь нужны усилия нескольких человек. Она могла быть сообщницей... Тогда непонятно, почему она вела себя так осторожно а не шла напрямик. Тут что-то другое... Скажи, а письмо мое у тебя сохранилось? Она передала мне конверт. Это было, конечно, мое письмо к Рожкову, которое я написал, собираясь лезть в колодец. Оно не дошло по адресу и майор ничего не знал о случившемся. ...Окончив завтрак, мы пошли осматривать «наши владения» чтобы поискать что-нибудь полезное. Недалеко от моей постели, у стены, я заметил большой стальной баллон выкрашенный в голубой цвет. Из него с легким шипением выходил газ. Уходя, Леночка завинтила кран баллона. — Надо беречь кислород, — сказала она. — Кислород? Что ты придумала? Обогащать воздух кислородом ? — Да. Разве ты не заметил? Когда ты спал, я подводила газопровод прямо к твоему лицу. — Hу? Вот почему у меня такая свежая голова! С тобой не пропадешь. Леночка, — похвалил я жену. Понятно, что прежде всего мы направились на склад, но вернулись с пустыми руками. В ящиках было много прекрасной бумаги, туши, карандашей, две счетные машинки — и ничего, что бы можно было положить в рот. Какое разочарование! Приходилось, видимо, сидеть на глюкозо-фасолевой диете. Потом я показал Леночке кабинет и другие помещения. Бронзовая фигура истукана почти не была видна при слабом мерцании наших светильников, и все-таки Леночка невольно вскрикнула, когда я, встав на стол и подняв плошку вверх, осветил бездушное лицо германского бога и тяжелый молот, поднятый над ним. — Какой он страшный! Уйдем отсюда скорее! — сказала она. — И знаешь, Сережа, не надо сюда ходить. Про карцер я ей вовсе не сказал. К чему тревожить се ужасным зрелищем замученных узников? Следующий день не принес нам ничего нового. Мы осматривали подземелье и все чаще и чаще останавливались у люка, прислушиваясь, не стучат ли молотки и лопаты. Но все было тихо. Это наводило на тревожные мысли. Вечером (по нашему времени) мы сидели у водосборной камеры и слушали. Это стало теперь нашим обычным времяпрепровождением. Мерцающий свет четырехфитильной парафиновой плошки освещал темную яму и черные отверстия труб и колодца, откуда тянуло сыростью. Молча грызли кусочки глюкозы. Леночка изредка поправляла фитили. Я смотрел на водоотливное сооружение и вычислял в уме, на какое количество сточной воды оно рассчитано. Выходило, что туда могло быть сброшено громадное количество воды — примерно кубический метр в секунду. Я уже говорил, что взрыв ацетилена оголил горловины водоотливных труб, по которым вода собиралась в камеру. Труб небольшого диаметра было много, но широких — только одна. По ней, очевидно, стекала вода из основного цеха скрытого от нас завода. Тут мне пришла в голову мысль продолжить путешествие по водосточной системе и пробраться дальше по широкой трубе. Должна же она куда-нибудь привести! Леночка поддержала мой проект. Полезли осматривать трубу. Она была сделана из свинца и имела овальное сечение размером около 50 X 30 сантиметров. Я попробовал забраться в нее боком, и это мне удалось. Упираясь коленями в стенку трубы, можно было с трудом проталкиваться вперед, но обратное движение было невозможно. Понятно, с каким риском было связано это путешествие, подобное продвижению земляного червя. Если застрянем где-нибудь в узком месте или в крутом изгибе трубы или же путь преградит решетка, то там и останемся навсегда. И все-таки мы решили лезть. Первой решила лезть Леночка с веревкой на ноге, за которую я всегда мог ее вытянуть обратно. У нас было три веревки по десяти метров, оставшиеся еще от первой подземной экспедиции. Я проверил их прочность, связал одну с другой и крепко привязал к Леночкиной ноге. Она взяла парафиновый светильник, боком влезла в отверстие трубы и скрылась в ней. Веревка метр за метром исчезала в черной дыре. Но вот она сразу дернулась вперед, и я услышал громкий Леночкин голос: — Сюда, Сергей, сюда! Лезь скорее!.. Здесь новая пещера! Огромнейшая! Я обвязал грудь концом веревки, прикрепил к ноге мешок с нашими «сокровищами»: глюкозой, парафином, лимонной кислотой, спичками, и полез в отверстие трубы.Глава XVII ТАЙНА ГЕРМАНСКОГО БОГА
Путешествие внутрь трубы оказалось делом тяжелым. Ноги скользили по гладким стенкам, и с каждым толчком удавалось продвинуться самое большее на четверть метра. От неестественного положения невыносимо болели руки и шея. Запах свинца вызывал тошноту. Особенно трудно пришлось под конец, когда труба сделала крутой поворот вверх. Но в конце концов я осилил подъем, выбрался из трубы и расправил затекшие члены. Леночка помогла мне освободиться от веревки: — Смотри, Сергей, куда мы попали! Она взяла светильник и потащила меня вверх по лесенке. И вот перед нами громадное темное пространство. Жалкий огонек нашей лампады освещает только ничтожную часть пола и стены, и это рождает иллюзию простора. В первый момент даже создается впечатление, что мы вышли наружу, что стоим тихой темной ночью у подножия скалы и что над нами черное, сплошь покрытое тучами небо... Но вот Леночка хлопает в ладоши и кричит: — Ау!.. Ау!.. Эхо тотчас же отвечает ей со всех сторон, и иллюзия рассеивается: мы находимся в пещере, и даже не особенно высокой. Осторожно пробираемся вдоль стены. Она увешана проводами, трубками и кабелями. Леночка заметила на стене рубильник и прежде чем я успел остановить ее, включила его. В то же мгновение яркий свет залил все кругом. Всюду — на потолке, на стенах, на оборудовании вспыхнули маленькие лампочки. Они заблистали у рычагов управления, у измерительных приборов, у контрольных досок. Настоящая иллюминация! Из темноты мы сразу попали в царство света и в первый момент невольно зажмурились. — Ты сделала необдуманный шаг, Лена, — сказал я жене. — Майор строго запретил касаться каких-либо кнопок, выключателей и прочего. Мы ведь не знаем, для чего они установлены. — Да? — испугалась Леночка. — Больше не буду! Мы находимся в небольшой, приспособленной под заводской зал естественной пещере с полом, поднимающимся уступами вверх. Зал наполнен разнообразным оборудованием. Наверху расположены хорошо знакомые мне машины для измельчения горной породы: дробилка, вооруженная стальными челюстями, могущими разгрызать самые твердые камни; шаровая мельница, наполненная стальными шарами, истирающими руду в мельчайший порошок; механические сита, шнек, автоматические весы и бункер. Ниже установлены агитационные баки, смесители, фильтры, центрифуги, насосы и, наконец, в самом низу — очень сложная электрическая печь, в которой я не сразу разобрался. Все оборудование — небольших размеров, но технически совершенное и новое. По всем признакам перед нами был металлургический завод небольшой производительности, перерабатывающий три — пять тонн руды в сутки. На полу валялись куски руды. Я поднял несколько образчиков. Это был блестящий тяжелый минерал черного цвета с яркими зелено-желтыми прожилками и крапинками. Ни я, ни Леночка не могли определить, что это такое. Руда подавалась на верхний уступ, где находилась дверь, открывающаяся в темный узкий коридор, который сообщался, надо полагать, с рудником. Мы надумали было пройти по этому коридору, надеясь выбраться наружу, но крайне спертый воздух, в котором наш светильник еле горел, доказывал, что рудник не имеет сообщения с поверхностью, и мы отложили эту экскурсию на будущее. Более интересной оказалась другая дверь, на нижнем уступе. Она открывалась в широкий освещенный туннель, который скоро привел нас к двери кабинета, точь-в-точь такого же, какой мы видели раньше. Тот же стол, та же страшная бронзовая статуя германского бога у задней степы, тот же электрокамин с кучей пепла перед ним... Только вместо книжных шкафов стояли конторские столы и вместо кресел — стулья. Теперь, при ярком освещении, истукан казался особенно отвратительным и страшным. — Не подходи к нему, Сережа! — взволнованно прошептала Леночка. — Прошу тебя! Рядом с кабинетом была другая комната, уставленная пустыми чертежными досками, столами и шкафами,— конструкторский отдел завода. Пошли дальше и попали в небольшую ремонтную мастерскую потом — в помещение автоматической телефонной станции и кладовую. Она была наполнена не бумагой и чернилами, а продовольствием. Галеты, консервы, чай, сахар и даже вина разных марок были в изобилии. Теперь мы были надолго обеспечены продуктами и могли выдержать настоящую осаду! Коридор продолжался и дальше, но мы решили, что на сегодняшний день достаточно. По моим часам было уже одиннадцать ночи. Легли в конструкторской на кушетках и скоро заснули. Проснулся я под впечатлением отдаленного стука, словно где-то ударяли о металл. Явь это или сон? Окликнул Леночку. — Представь себе, я тоже слышала нечто подобное. — ответила она, — только не хотела тебя будить. Вставай, и идем продолжать осмотр. Похоже, что человек стучит. Следующей за складом комнатой был аккумуляторный зал, потом душевая. Дальше коридор преграждался сплошной стальной стеной, на которой красовалась большая буква «А», написанная готическим, шрифтом. — Вот и выход! — воскликнула Леночка. — Буква «А» — это, наверное, первая буква немецкого слова «Аусганг», что по-русски означает «выход». Наконец-то! Я тщательно осмотрел плиту. Нигде ни ручки, ни кнопки, ни щели, ни даже рисунка — один сплошной гладкий металл. Судя по звуку, который издавала плита при постукивании, она была очень толстой, как броня военного судна. — Если это выход наружу, нам вряд ли удастся через него пройти. Открыть такую дверь — задача нелегкая,— сказал я, а сам подумал: «Странно, на шлюз не похоже, а в приказе Римше определенно сказано, что выходят отсюда через какой-то шлюз». Вернулись завтракать. И тут таинственные стуки снова повторились. Теперь они были слабые, нечеткие и раздавались с большими промежутками. Распространялись они по железным трубам вентиляции. Что бы это могло быть? По характеру они более всего походили на сигналы азбуки Морзе. Этим нельзя было пренебречь. Я записал их на слух. Действительно, передавалось сообщение, только оно оказалось очень кратким и совершенно непонятным: «Ухо, потом глаз». Слова эти повторились несколько раз, потом все смолкло. Откуда же шля эти звуки? Вернее всего — с поверхности земли: вентиляционные трубы обязательно должны выходить на воздух. Кто же мог подавать эти сигналы? Конечно, майор, и только он. Каким-то образом он все-таки узнал, что со мной случилось и где я нахожусь, и теперь азбукой Морзе дает мне указания. Но что же означает эта странная фраза: «Ухо, потом глаз»? Новая загадка! Мы весь день ломали над ней голову. Я несколько раз той же азбукой Морзе просил майора разъяснить значение этой фразы. Но ответа так и не последовало. В подавленном настроении я лег спать и никак не мог заснуть. Проклятая фраза не выходила из головы. В конце концов я пришел к выводу, что Рожков дает нам в иносказательной форме совет полагаться больше на слух, чем на зрение, и что, следовательно, спасение наше зависит от того, как внимательно мы будем прислушиваться. Догадка моя была неудачной, она совсем не соответствовала характеру майора, я прекрасно сам это сознавал, но все-таки она меня несколько успокоила, и я уснул. Меня разбудила жена. — Сережа, знаешь что? — прошептала она взволнованно. — Пойдем в кабинет. Мне пришла в голову одна мысль... Там горел свет. Леночка подошла к статуе германского бога. — Вот, смотри, — сказала она, указывая на голову кабана: — ухо и глаз... И вот взгляни сюда, только не дотрагивайся: этот глаз как будто вставной. Я всмотрелся. И точно: между зеленым стеклом глаза и бронзой был ясно видимый просвет. Похоже на то, что глаз служит кнопкой. Я было потянулся к нему, но Леночка не позволила. — Нет, нет, нет! — воскликнула она, схватив меня за руку. — Нельзя, нельзя, это опасно! — Что же тут опасного? — Не знаю. Все может быть: и взрыв, и выстрел и электрический ток. Надо быть крайне осторожным. Я тебя прошу! — Но ведь все равно придется когда-нибудь попробовать. — Необходимо принять все меры предосторожности. Обдумаем раньше. Она говорила так горячо и убедительно, что я сдался. Достали стальную трубку длиной метров в пять, повесили ее на веревку за люстру и, прижавшись к стене комнаты, концом трубки надавили на глаз кабана. Только чуть дотронулись — и вдруг в одно мгновение высоко поднятая рука гиганта мелькнула в воздухе, стальная труба зазвенела под ударом бронзового молота, и рука, описав полный круг, снова застыла в прежнем положении. Мы оба повалились на пол. В тот же момент глаз вепря засверкал диким красновато-зеленым светом, и раздалось отвратительное завывание сигнальной сирены. Мы бросились из комнаты. Всюду рев сирены, мигание сигнальных лампочек, звон колокольчиков... Мы метались по коридору, не зная, что предпринять и куда скрыться от невыносимых звуков тревоги. Но вдруг они смолкли, прокричав, очевидно, положенное время, и все успокоилось. — Ну и советик преподал нам Рожков! — сказал я, немного отдышавшись. — Если бы не ты, я бы превратился в настоящую отбивную котлету. — И я тоже. — Что же теперь делать? — Мы забыли про ухо. Давай обследуем его? — Давай! Из двух ушей чудовища одно было плотно прижато к голове и не могло двигаться, другое торчало вперед. Я внимательно и осторожно, боясь не только дотронуться, но и дышать, осмотрел его. Оно, несомненно, было вставное. У основания были видны следы смазки. Наученные горьким опытом, мы снова решили действовать издали и взялись за трубку. Надавливали ухо, как кнопку, старались покачнуть его, как рычаг, вправо и влево, вверх и вниз. Все напрасно! Бронзовое ухо сидело плотно на кабаньей голове. Оставалось испробовать еще одно движение — повернуть, как ключ. Я придал концу трубки трехгранную форму, насадил его на конец уха и стал осторожно поворачивать трубку. Она легко повернулась на целых пол-оборота — и ничего не произошло. Ровно ничего! Мы вертели ухо во все стороны. Оно потрескивало, как выключатель, и только. Леночка первая догадалась, в чем дело. — По-видимому, — сказала она, — надо повернуть ухо и после надавить глаз. Ясно сказано: «Ухо, потом глаз». Помнишь? Было жутко дотрагиваться до опасной кнопки, и, взявшись за шест, мы невольно озирались на страшную руку истукана с бронзовым молотом. Опять легкое прикосновение к глазу... Он снова засверкал зловещим красноватым огнем, и на этот раз громадная фигура легко и плавно повернулась вокруг оси, открывая слева проход. Через него на нас глядела черная пустота.Глава XVIII ПОДЗЕМНЫМ ШЛЮЗ
Взявшись за руки, мы с интересом и страхом глядели в открывшуюся дверь. Здесь начинался путь к свободе, к голубому небу и ясному солнцу. Но какой он мрачный! Свет из кабинета, падая через дверь, освещал низкий свод и начало лестницы, круто спускающейся вниз, в темноту. Оттуда тянуло сыростью и холодом, как из склепа. Майор не ошибся, он верно указал нам выход. Но почему же он был так лаконичен? Почему ничего не отвечал на мои вопросы и не сообщил никаких подробностей? Какой серьезной опасности мы бы тогда избежали. Это оставалось непонятным, а все непонятное страшит. Вот и теперь, не знаю почему, но эта черная дыра меня страшила. Она напоминала ловушку. Так не хотелось из светлого, чистого помещения, где мы имели под рукой все необходимое и чувствовали себя в безопасности, снова пускаться в темноту и неизвестность. — Не будем торопиться, — рассуждал я. — Прежде всего все осмотрим и обсудим. Обязательно обеспечим себе отступление на случай неудачи и тогда пойдем. Леночка согласилась. Я подошел к самой двери и осмотрел ее. Статуя германского бога была расположена теперь параллельно боковым стенам комнаты, открывая проход шириной меньше метра. Весь он находился под ударами страшного молота. Красновато-зеленый луч из кабаньего глаза преграждал дорогу. Он падал, как я заметил, прямо на стеклышко, вставленное в косяк двери. «Эге! — подумал я. — Этот луч подозрителен. Похоже на какое-то автоматическое приспособление с фотоэлементом. И кто знает, что приводится в действие этим автоматом. Может быть, опять рука с молотом? Будем осторожны!» Отойдя подальше, я размахнулся и бросил в проход подушку от кушетки. Она только на мгновение пересекла зеленый луч. Секунду все оставалось по-старому... Потом громадная фигура дрогнула, быстро и плавно повернулась и стала на прежнее место. Проход закрылся. В тот же момент потух глаз кабана. Все стало ясным. Зеленый луч из глаза служит фотоавтоматом, закрывающим проход за выходящим человеком. Значит, если не прерывать луча, дверь останется открытой. Глаз был расположен примерно на высоте метра от пола, и проползти под его лучом было совсем нетрудно, особенно таким опытным ползунам, как мы с Леночкой. Я несколько раз открывал и закрывал дверь, водил под зеленым лучом и над ним доской, просовывал снизу стул к убедился в конце концов в справедливости своей догадки. Тогда мы решили не терять больше времени. Мы взяли небольшой ломик, спички, свои заслуженные парафиновые светильники, о которых стали уже забывать, набили сумочку бутербродами, печеньем и консервами, наполнили фляжку вином, и я осторожно прополз на животе у ног бронзового истукана. Леночка последовала за мной. И вот мы уже спускаемся по сырым и холодным каменным ступеням. Я насчитал пятьдесят две ступени, прежде чем мы попали в довольно большой зал с низким сводчатым потолком. В слабых лучах светильников блеснула черная поверхность воды. Изумленные, мы увидели себя в подземной гавани, похожей на купальню. Небольшая площадочка, шириной метра в два, на которую мы вошли, играла роль пристани. Справа и слева «пристань» заканчивалась темными проходами. Тяжелый, полный испарений воздух неподвижен. Сырость забирается под мою легкую одежду и дрожью пробегает по телу. Леночка ежится и застегивает все пуговицы своей куртки. Мы подходим к краю бассейна. Прочная железная лестница спускается прямо под воду. Ее перила тускло поблескивают в лучах светильников и отражаются в воде. Она черная и кажется непрозрачной, как тушь. Чувствуется, что здесь глубоко. Сомнений нет: мы пришли в тот самый шлюз, о котором говорилось в последнем приказе фон Римше. Вдруг потянул легкий ветерок и колыхнул пламя наших парафиновых плошек. Тревожная мысль пронеслась у меня в голове... — Смотри! Ты видела? — Что такое? — Пламя колеблется! Ветер! — Ну и что же? — Похоже, что дверь захлопнулась. — Что ты, Сережа! Кто же мог?.. Там ведь никого не было. — Надо посмотреть. — Нет, нет! Не ходи! Постой! — испугалась Леночка. — Вдруг там кто-нибудь есть! Тебя выдаст свет. Не ходи, прошу тебя! Она поспешно задула обе плошки и увлекла меня в темный угол. Ее страх передался и мне. Прильнув к стене, я сжимал в руке ломик — свое единственное оружие, готовый отразить нападение неведомого врага. О, как я жалел тогда, что не запасся пистолетом! Ведь их так много валялось по ящикам столов! Тогда бы я не боялся встретить неизвестного лицом к лицу. Может быть, сейчас он стоит наверху, у двери, потом спустится сюда... Но верно ли это? Не фантазирую ли я? Дверь могла сама закрыться. Упал кусочек штукатурки с потолка, или какой-нибудь листок бумаги, или еще что-нибудь, и это на мгновение прервало зеленый луч. Да, но мы не осмотрели рудник, — может быть, там прятался человек... Стоя в сыром углу, мы вглядывались в окружающую темноту и вслушивались в тишину. Ни я, ни Леночка уже не сомневались, что дверь действительно закрылась. Так и оказалось. Когда, успокоенные тишиной, мы решили осмотреть лестницу, то наверху вместо ярко освещенного входа увидели сплошную стальную плиту. Западня захлопнулась. «И почему я не догадался подпереть дверь какой-нибудь крепкой балкой? Тогда сообщение с нашей подземной базой было бы обеспечено. Какое непростительное легкомыслие!» — Мы не должны особенно огорчаться, — говорила Леночка, когда мы спускались обратно по лестнице. — Должен же быть выход наружу из этого аквариума. Иначе майор не сообщил бы нам секрета бронзовой статуи. Верно, Сережа? Она и сейчас сохраняла бодрость духа. Я был настроен более мрачно. «Еще неизвестно, кто нам стучал.— думал я.— Может быть, совсем и не майор. Может быть, те самые враги, которые замуровали колодец, теперь заманили нас в этот мрачный склеп, откуда уже нет выхода». — Сережа, а вдруг нам сигнализировал не майор, а кто-нибудь другой...— угадала мои мысли Леночка. — И вообще, отсюда нет выхода... — Не следует раньше времени отчаиваться, Лена. Мы еще ничего не осмотрели. — Я не отчаиваюсь. Я только думаю, что здесь могут быть враги и надо быть очень осторожными. Первое, что предстояло нам сделать, — это внимательно осмотреть место нашего заключения. Небольшой коридорчик вправо от входа оканчивался дверью. Она открывалась в узкую комнату, со столом, двумя стульями, шкафом и телефоном. Взглянув на стены, мы увидели нечто удивительное: они были увешаны водолазными аппаратами. Это были скафандры легкого типа, приспособленные для работы на небольших глубинах. Их было штук десять, все одинаковой конструкции, хотя и отличавшиеся по размерам. Аппарат состоял из большого медного шлема со стеклами, опирающегося на плечи водолаза, баллона со сжатым воздухом, шлангами и клапанами, подвешиваемого на спину, как ранец, и тяжелых чугунных сандалий. Самого резинового костюма не было, — видимо, он был излишним при работе в теплой речной воде на небольшой глубине. На столе, кроме телефона, стояли только большой керосиновый фонарь, несколько пустых винных бутылок с немецкими этикетками и стакан. Но если другие путешествуют под водой, значит, можем проделать это и мы. Они, правда, умеют обращаться со скафандрами, мы — нет. Но мы изучим аппараты. Сначала я один рискну опуститься на дно, а потом спустимся с Леночкой. Было за полночь. Путешествовать под водой в темноте было неразумно. Следовало дождаться утра. Тем временем мы могли бы изучить устройство скафандров и опробовать их. Зажгли фонарь. Леночка занялась приготовлением завтрака. Про возможное присутствие неведомого человека мы совсем было забыли, а между тем он скоро о себе напомнил. Я открывал консервную банку, когда Леночка вдруг замерла и прислушалась... — Сережа, слышишь?—прошептала она. — Что такое? — Тссс... Я подошел к двери и заглянул в черную темноту. Слабый, едва уловимый стон слышался сквозьтишину. Он доносился, как мне казалось, с воды, и это было особенно жутко. Внутри у меня все похолодело. Жена стоит позади меня и дрожит, как в лихорадке. — Сережа, что это такое? — шепчет она, и слышно, как стучат ее зубы. — Человек стонет. Надо пойти посмотреть. — Постой! Погоди!.. — Надо. Ты иди сзади с фонарем. Чуть что — гаси. Я опять беру в руки ломик и выхожу на площадку. Там никого нет. На спокойной поверхности воды отражается желтый свет фонаря. Звук шел не отсюда. Осторожно идем мимо лестницы к проходу, но и там никого нет. Единственная дверь закрыта на засов, закрученный проволокой. Может быть, оттуда доносился стон? Мы с Леночкой просовываем ломик за проволоку и без труда разрываем ее... У самого порога лежит человек в зеленой мокрой гимнастерке. Он мертв. Это ясно видно по неестественной, лишенной упругости позе, по широко раскинутым рукам, по остекленевшим глазам. Я поднес фонарь к его лицу и сразу же узнал его: это сержант Совков. Он убит выстрелом в грудь. Я взял его руку — она была холодна. — Лена, — говорю я, — он не мог стонать: он давно уже умер. — Постой, — говорит она и, взяв фонарь, идет в темный угол. — Тут девочка!—слышу я ее восклицание. — Та самая, что привела меня к колодцу... Сережа, она тоже мертвая! Сережа, она убита! Возле железной вентиляционной трубы я увидел нечто, что сначала издали принимал за кучу мокрого тряпья. Теперь я различаю темную юбку и красную кофточку той таинственной девочки, которую видел раньше, при столь странных обстоятельствах. Но что это? Большая темная шаль сдвинулась и открыла круглую стриженую голову. Стриженую! Так это мальчик! Мальчик, только переряженный в женское платье, и я узнаю его. Это Петя Сердобин! Да, он! Я прекрасно помню его стройную фигуру и красивое лицо... Какая ужасная неожиданность! Я наклонился к несчастному — дыханья не было. Взял его руку — из нее выпал камешек. Я понял, что этим камешком он стучал по вентиляционной трубе, подавая нам сигналы. Рука была еще теплая, но без пульса. Он недавно умер. «Бедный мальчик! — подумал я. — Какие страшные силы связали тебя со злодеями? И к чему этот странный маскарад?» Нервы Леночки не выдержали. Она прижалась ко мне и не будучи в силах удержаться, затряслась от беззвучных рыданий. Я сам был недалек от этого... — Уйдем, уйдем скорее отсюда, скорее... — шептала она. Мы решили сейчас же, не дожидаясь дня, спускаться под воду. Я вертел в руках скафандр, не зная, с какого конца начать сборку, как случилось совершенно неожиданное: зазвонил телефон. Мы с Леночкой застыли от изумления. Мне даже стало страшно. Я испытал жуткое чувство, подобное тому, как если бы увидел воскресшего мертвеца или услышал голос из могилы. Значит, все-таки там, наверху, кто-то есть! Этот неведомый и потому страшный человек запер нас здесь и теперь звонит по телефону. Для чего? Очевидно, чтобы узнать, здесь ли мы... Надо ли брать трубку? Может быть, лучше не выдавать своего присутствия? Я колебался. Между тем телефон продолжал звонить. Тут мне пришла следующая мысль: во-первых, мы не знаем, кто он, этот человек; во-вторых, он, вернее всего, не знает, кто мы, и сам боится нас. Я храбро взял трубку: — Слушаю. — Сергей Михайлович! — услышал я знакомый голос. — Наконец-то я дозвонился! — Андрей Матвеевич! Вы? Как же вы попали в подземный завод? — А я туда и не попадал. — Откуда же вы звоните? — С недостроенного немецкого форта... Помните? Тут сохранился телефонный провод, и сеть оказалась, к моему удивлению, в исправности. Я уже два часа набираю подряд все номера. А вы где находитесь? — Наверное, в шлюзе. Помните, о котором упоминалось в приказе. Я думаю, отсюда должен быть подводный выход в реку... Здесь скафандры есть. Мы уже хотели спускаться под воду. — Кто это «мы»? — Я и моя жена. Она приехала работать на цементный завод. — Так, так... Понимаю. — Андрей Матвеевич, здесь убитый Совков! — Да?! — И еще Петя Сердобин, тоже мертвый. Он умер совсем недавно. — И Петя? Он в женском платье? — Да, в женском. — Вот оно что! Я этого опасался... Майор помолчал. — Так вы думаете, — продолжал он. — спускаться под воду в скафандре. А вы умеете с ним обращаться? — Нет. В первый раз вижу. — Тогда лучше подождите. Я вызову водолаза-инструктора и поговорю с ним. Трубку не кладите на всякий случай... Ждать пришлось очень долго, часа три. Утомленная происшествиями дня, Леночка заснула. Я сидел за столом и дремал, не выпуская телефонной трубки. Но вот наконец телефон заговорил. Я услышал голос майора, потом водолаза. По моему описанию он сразу признал в немецком скафандре хорошо известный ему аппарат с автоматическим регулированием подачи воздуха, пользоваться которым, по его словам, было нетрудно. Он дал подробные указания, как надо собрать скафандр, как его надеть, привести в действие, опробовать и как вести себя под водой. Советовал спускаться на дно как можно медленнее, двигаться осторожно, не спеша и не нагибать корпуса. — Пройдете, ничего не случится — ободрил он, — только маленько застынете: вода нынче прохладная. Мы надели скафандры, тщательно наладили и проверили всю аппаратуру, ноги обули в тяжелые сандалии, так что еле-еле могли ими двигать. Я захватил ломик. Леночка —пустую бутылку из-под вина, которую, по приказанию майора, мы должны были бросить в воду, как только вступим в русло реки, и, открыв воздушные клапаны, полезли в воду. Она оказалась холодной как лед. Я до сих пор не могу без содрогания вспомнить ощущение холода, поднимающегося от ног к голове, когда мы, впереди я, потом Леночка, опускались на дно, держась руками за ледяные перила лестницы (читатель помнит, что на нас не было резиновых костюмов и мы лезли в воду в своей одежде). Мы спустились примерно на глубину десяти метров и очутились на дне, по колено в тине. Темно и тихо... Слышно только, как булькает воздух, мелкими пузырьками выходящий из наших шлемов. С трудом передвигаясь вдоль покрытых слизью стен, мы ощупью добрались до широкого туннеля и пошли по его скользкому полу. Постепенно становилось светлее. Вот стены расступились, потолок поднялся. Мы шли теперь по песчаному дну среди зеленого полумрака. Еще несколько шагов — и мы в русле реки. Здесь надо дожидаться водолазов. Я бросаю бутылку. Она всплывает сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Бутылка — это условный сигнал. Вокруг видно на несколько шагов. Присматриваюсь: то здесь, то там со дна поднимаются каменные столбы, полузанесенные песком, железные балки, толстые листы, крепкие скобы с прикрепленными к ним цепями, обросшими зеленой тиной, около которой кормятся рыбки... Мы находимся среди остатков какого-то сооружения. Стоим, прижавшись друг к другу, полумертвые от холода. К счастью, ждать пришлось недолго. Мутно-зеленая стена воды приходит в движение, и мы постепенно начинаем различать неуклюжую фигуру водолаза в резиновом костюме и в шлеме, похожем на голову моржа. Над ним поднимается рой пузырьков. За первым водолазом следует второй. Он тащит за собой, словно детский воздушный шарик, привязанный на веревке буек: им будет отмечаться подводный вход. Потом появляется третий водолаз, затем четвертый. Последний знаком приглашает нас следовать за собой. Мы идем, с трудом разгибая окоченевшие члены. Теперь солнечные лучи прорезывают почти прозрачную воду и освещают песок, камешки и нежные водоросли. От ряби по дну бегают светлые зайчики. Стаи рыбок, потревоженных нашим появлением, словно серебряные брызги, разлетаются во все стороны. Над головой поверхность воды кажется подвижным зеркалом, покрытым причудливыми рисунками... Но вот зеркало это приближается, я пробиваю его головой и сквозь мокрые стекла шлема вижу берег, а на берегу — Андрея Матвеевича.Глава XIX РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Итак, мы выбрались из темной могилы, и снова на вольном воздухе, в безопасности, среди друзей, заботящихся о нас и нам сочувствующих. Как я радовался яркому солнцу, голубому небу, зелени, деревьям, ласковому ветерку и веселому щебетанию птиц — всему тому, чего я был лишен в последние дни! Наша встреча с Андреем Матвеевичем была сердечной. Я чувствовал, что он рад видеть меня живым и невредимым. Выражение его лица, обычно строгое и даже суровое, теперь было добрым, глаза ласково улыбались, и голос, утратив свой сдержанный тон, звучал мягко и задушевно. Сидя за стаканом чая, я возбужденно и крайне бестолково рассказывал ему о наших приключениях в недрах Серой скалы. Леночка спала, и ничто не мешало мне расхваливать ее предприимчивость, энергию, мужество. Майор слушал молча, улыбаясь, не прерывая и не задавая вопросов. Он, конечно, прекрасно видел, в каком я нахожусь состоянии, и понимал, что толкового рассказа от меня добиться невозможно. — Вот что, Сережа, — сказал он мне, в первый раз называя просто по имени, — обо всем этом нам с вами предстоит еще очень много говорить. А теперь. — он переглянулся с врачом, — вам нужно как следует отдохнуть. Доктор об этом позаботится. Нас с Леночкой усадили на моторный катер, который стоял у берега, и отправили в заводскую больницу. Там меня уложили в постель, дали порошок веронала, и я заснул на целые сутки. Проснулся я окрепшим, с ясной головой, но неприятным сознанием, что накануне наговорил майору много ненужного, а того, что нужно, не рассказал и даже не спросил самого главного — о судьбе похищенной врагами тетради Пасько. Я вспомнил также, что предстоит тяжелый разговор с майором по поводу моего легкомысленного поступка и что его сердечное отношение можно приписать только моему болезненному состоянию. Я вспомнил гибель Пети и Совкова, вспомнил, что только в результате героических усилий умирающего мальчика мы выбрались из подземелья, вспомнил, скольким счастливым случайностям обязан своим спасением, — и мне стало не по себе. Леночка, видимо, понимала мое удрученное состояние и посылала мне из женской палаты ободряющие письма, но и они не могли рассеять моего уныния, и я со страхом ждал прихода майора. Он, действительно, пришел к концу дня. — Ну, как вы себя чувствуете, Сергей Михайлович? Как будто оправились? — спросил он довольно холодно. — Спасибо, хорошо. — Тогда расскажите мне толком все, что приключилось с вами со времени нашего последнего свидания, то-есть с двадцать третьего августа. Постарайтесь не пропустить ничего — ни одной мелочи. Я подробно рассказал все. Я высказал предположение, что имеется третье отделение подземного завода, скрытое за броневой плитой, помеченной буквой «А», и что возможно присутствие в подземелье неизвестного человека, который захлопнул за нами броневую дверь в шлюзе. — Да, — перебил майор,— ваше беспокойство имело некоторое основание. Когда я. чтобы связаться с вами, набирал подряд все номера телефона, я слышал, как кто-то взял трубку, но потом положил ее. Я тогда подумал на вас, но, очевидно, это был кто-то другой. Снова жуткое чувство зашевелилось в моей душе. Значит, когда мы с Леночкой проводили время в подземных залах, мы находились в большой опасности. Майор посмотрел на меня и усмехнулся. — Жутко стало? —спросил он. — Разумеется, вы были в опасности... Продолжайте рассказывать, как вы спустились в шлюз и нашли мертвого сержанта Совкова. Я досказал ему наши приключения. — Андрей Матвеевич, я понимаю, что поступил легкомысленно и что без вашего разрешения не должен был спускаться в колодец, — закончил я свою речь. — Да. Ваша инициатива здесь ничем не оправдывалась. Вам следовало бы наблюдать за Петей и, по возможности, охранять его. Ведь вы, помнится мне, обещали это. А теперь с мальчиком приключилась беда. — И с Совковым тоже. — Совков солдат и умер на своем посту. Мы ведем войну. Войну тайную, непрерывную и беспощадную. А война без потерь не бывает. Все мы — и я, и лейтенант Хрулев, и сержант Совков — должны быть готовы в любой момент пожертвовать собой на благо Родины. Это наш долг. Петя Сердобин — другое дело. Впрочем, — добавил он тихо. — я сам здесь виноват. Петю надо было изолировать. К сожалению, я слишком поздно понял, что он ушел из дому не на экскурсию, как он говорил, а в логово врагов. Мне, увлеченному поисками тетради Пасько, казалось, что, похитив этот важнейший документ, враги постараются как можно скорее скрыться и бежать от опасного для них места хотя бы на некоторое время. Но случилось не так. Какая-то причина, которой я пока не могу понять, привязывает их к подземному заводу. Они вертятся вокруг колодца, замуровали его, и это не потому, что вы туда проникли: и карбид, и камень, и цемент у них были заготовлены заранее. Вы, так сказать, подвернулись им под руку. — Андрей Матвеевич. — спросил я, — скажите, ведь моя разведка не была совсем бесполезна? Не правда ли? — Конечно. Вы открыли подземный завод, нашли настоящий вход в него, узнали назначение статуи, которую мы до того времени считали только нелепым украшением. Ее тайну Петя, наверное, унес бы с собой в могилу... Я вспомнил, что мы с Леночкой захватили с собой несколько кусочков руды, и стал рыться в карманах костюма, который висел на стуле, но ничего не нашел. В ящике ночного столика были сложены некоторые мои вещи: кошелек, носовой платок, складной ножик, часы, но руды и там не было. — Вы ищете руду? — улыбнулся майор.— Не ищите. Я счел необходимым эти образцы у вас забрать. Он достал из портфеля коробку и открыл ее. Там, завернутые в бумажку, лежали кусочки руды, черные с зелеными жилками, которые мы подобрали на верхнем ярусе заводского зала. — Какая же это руда? Вы узнали? — спросил я. — А вы не знаете? — Нет. — Ну, а что вы предполагаете? — Не знаю. Может быть, медная или никелевая? — Вы никогда не изучали ни металлургии, ни минералогии? — Нет, никогда. — А Елена Алексеевна? — И она тоже. Мы ведь оба силикатчики, цементники. — Понимаю. — Рожков закрыл коробочку с образцами руды и спрятал ее в портфель. — Имейте в виду, Сергей Михайлович, — сказал он серьезно, — вы должны хранить полное молчание обо всем, что с вами случилось и что вы видели на подземном заводе фашистов. Предупреждаю вас. Это дело государственной важности. Поняли? Я настоятельно требую молчания. Могу на вас положиться? — Можете, майор! Вполне! Обещаю вам! Он крепко пожал мне руку. — Во всяком случае, — добавил он, — вы хорошо сделали, что захватили с собой образцы руды. Мы с полной достоверностью узнали, что представляет собой подземный объект, прежде чем сами смогли туда попасть. — Так вы еще не были на самом заводе? — Нет. Не был. И неизвестно, когда попаду. — Почему? — Водолазы установили, что броневая плита, заслоняющая вход в шлюз из кабинета, очень толстая и сделана из чрезвычайно крепкой марганцовистой стали, которую не берет даже алмазное сверло. Не страшен ей также и взрыв небольших количеств динамита. Только очень сильный взрыв мог бы открыть проход, но он неминуемо привел бы к обвалу всего подземелья и к общей катастрофе. — Что же делать? — Может быть, удастся выплавить сталь электрическим током. Пусть специалисты об этом подумают. Так или иначе мы справимся с этим препятствием. Это только вопрос времени. Майор поднялся со стула и стал прощаться: — Ну, Сергей Михайлович, отдыхайте и поправляйтесь. Вы получили хороший урок, хотя он дорого нам обошелся. Мы поощряем и ценим инициативу, если она разумна и оправдывается обстоятельствами. Любопытство, скука и страсть к приключениям — все это недостаточные поводы для самовольства, которое могло бы очень плохо для вас кончиться. — Да, пожалуй, без вашего телефонного звонка дело бы так благополучно не обошлось. Не знаю, сумели бы мы выбраться из шлюза без указания водолаза. Какое счастье, что вы нашли телефон в развалинах дота! — Конец оборванного провода отыскал лейтенант Хрулев. Я поручил ему обследовать это недостроенное укрепление. Было ясно, что оно имеет какое-то отношение к подземному объекту фашистов. Мы присоединили к проводу автоматический телефонный аппарат — и, как видите, удачно. Майор еще раз крепко пожал мне руку на прощанье и вышел из палаты. Итак, То, чего я ожидал С трепетом, — объяснение с Рожковым, прошло благополучно. Я не лишился его доверия. Ободренный словами майора, я решил задать ему вопрос который уже давно мучил меня. — Андрей Матвеевич! — окликнул я его, догнав в коридоре. — А как тетрадь инженера Пасько? Найдена или ничего о ней неизвестно? Майор остановился и недовольно поморщился. — Вы, товарищ Зернин, — сказал он сухо, — недостаточно усвоили себе то, что я сказал относительно государственной тайны. Никогда не задавайте вопросов, касающихся подобных вещей. Мы сами расскажем вам всё, если найдем нужным. Тем более, что место для подобных разговоров здесь совсем неподходящее. И он ушел, оставив меня, залитого краской стыда, размышлять о своей бестактности. Лишь через некоторое время я узнал во всех подробностях о тех трудностях, которые выпали на долю майора и его сотрудников в поисках похищенного документа.Глава XX ПО БОЛОТУ ЗА РАДИОСИГНАЛОМ
Читатель знает, что, когда происходили события, описанные в нашей повести, строительство цементного завода шло полным ходом. Наряду с монтажом оборудования велись также работы по расширению карьера мергеля. Чтобы быстро организовать добычу мергелей требуемого качества, в карьере проектировалась связь по радио непосредственно с каждой бригадой. Председатель заводского комитета Петляков, страстный радиолюбитель, решил наладить эту связь домашними средствами, так как рассчитывать на скорое получение настоящей аппаратуры было трудно. Пока дело не клеилось. Аппараты не отстраивались, пищали, трещали, разговор заглушался работой других станции, музыкой, сигналами азбуки Морзе. Как раз в то самое время, когда я собирался самовольно спуститься в колодец, Петляков сидел у радиоаппарата, надев наушники, и тщетно старался разобрать, что ему передают с карьера, Вдруг он услышал слабый, но ясный сигнал времени. Неужели уже полдень? Взглянув на часы, он был поражен: они показывали только без четверти десять. «Эко как они отстали! — подумал Петляков. — Этак и опоздать на работу недолго». Он хотел перевести стрелки и обомлел: в наушниках снова прозвучал сигнал московского полдня. Это было нечто невероятное! Позабыв про диспетчерскую связь, Петляков стал слушать таинственные звуки и скоро убедился, что они посылаются аккуратно каждые пятнадцать секунд. Стало быть, это вовсе не сигналы времени, а какие-то другие сигналы. Может быть, сигналы бедствия? Но они не состояли из букв «SOS». Баловство радиолюбителя? Но сигналы подавались с точностью механизма, недоступной человеческой руке. А если это научные опыты по передаче на коротких волнах? Это объяснение было правдоподобно, и Петляков на нем остановился. Однако он счел своим долгом оповестить о сигналах Управление государственной безопасности.* * *
Когда Рожкову доложили о сообщении Петлякова, майор сидел с Краевским в своем кабинете и обсуждал создавшееся положение. Все меры разыскать тетрадь Пасько и ее похитителей были приняты. На вокзалах, в аэропорте, на пристани, на дорогах были установлены посты, наблюдавшие за проезжими. В городе, в селах и деревнях, в заводских поселках, в одиноких усадьбах, в лесных сторожках — словом, всюду, шла проверка жителей. Однако и за прошедшие двое суток ничего подозрительного замечено не было. Майор не придал большого значения сообщению Петлякова. — Никаких научных работ по радиопередаче у нас не ведется, — сказал он, — и без моего ведома вестись не может. Разве что шар-пилот залетел откуда-нибудь издалека и посылает свои автоматические сигналы. Да и о них мы получаем извещение. — Может быть, он прилетел из-за границы? — заметил Краевский. — Возможно. Надо, конечно, установить это. Да некогда и некому: все помощники в разъездах. Может, ты, Артемий Иванович, займешься, — попросил он Краевского. — Как у тебя со временем? — Я свободен. — Ну, так займись. Поезжай на гарнизонную радиостанцию к капитану Лаптеву и поручи ему установить, что это за сигналы и откуда они идут. Я сейчас позвоню ему и попрошу содействия. Может быть, и в самом деле это шар-пилот, выпущенный заграничной метеорологической обсерваторией? Кроме городской радиовещательной станции, в нашем городе была также военная установка, обслуживающая нужды воинских частей и пограничной охраны. Краевский через полчаса был там. Капитан Лаптев ничего не знал о необычайных сигналах. Он без труда поймал их, хотя они слышались довольно слабо. Они давались регулярно четыре раза в минуту. Очень скоро с помощью радиопеленгаторного приемника удалось определить направление, откуда они шли. Антенна таких приемников делается в форме вертикальной рамы, вращающейся вокруг оси. Звук получается наиболее сильный, когда рама расположена по направлению источника радиоволн. Если, медленно вращая эту антенну, прислушиваться к сигналам, то нетрудно определить это направление с большой точностью. Лаптев начертил его на карте. Линия шла от города почти прямо на юго-запад, пересекала под острым углом реку, проходила около села Ольховцы, потом Малые Бунчуки, потом шла прямо через винодельческий совхоз «Новый путь», бывшее имение князя Любецкого, далее — через лес к обширной речной пойме, покрытой множеством протоков и мелких озер, еще дальше — опять через холмы, покрытые лесом, до самой государственной границы. — Я просил две соседние радиостанции, — сказал Лаптев, — следить за этими сигналами и сообщать мне их направления. Тогда останется только прочертить их на карте, чтобы в точке пересечения найти место расположения передатчика. Подождем ответа. Это недолго. Ответы пришли неудовлетворительные: ни одна, ни другая станция пока не могла уловить радиосигналы. Наша станция продолжала принимать их в том же направлении. — Конечно, это не шар-пилот. — заметил Лаптев. — Его давно бы уже отнесло ветром в сторону, и мы бы это заметили. Здесь что-то другое. Нечто вроде радиомаяка небольшой мощности. Подобные радиомаяки на буйках широко применяются в морской практике. Их бросают с самолета в море, чтобы указать место обнаруженной подводной лодки, замеченной мины, а в мирное время — косяка рыбы или стада морского зверя. Делают даже маяки в гарпуне, так что загарпуненный кит сам оповещает о месте своего нахождения. Потом суда быстро и безошибочно отыскивают это место. Может быть, и здесь мы имеем нечто подобное. Краевский внимательно слушал объяснения Лаптева. Оставалась надежда, что в конце концов придет сообщение от соседних радиостанций. Но время шло, а они никак не могли поймать эти сигналы. — Работает передатчик очень небольшой мощности, с радиусом действия самое большее сто километров, — пояснил Лаптев. — Можно предполагать, что от нас он находится не более как за пятьдесят километров и не ближе, пожалуй, двадцати. Вот почему наши соседи и не слышат. Разве что ночью услышат, если только сигналы не прекратятся вовсе. — Аккумулятор истощится? — Возможно, конечно, и это. — А что же еще? — Просто придут те, кому эти сигналы посылаются. — Вы думаете? — А то как же! Ждать не будут. Краевский достал трубку, не торопясь набил ее и закурил. Мысль, что эти слабенькие звуки, регулярно каждые четверть минуты раздающиеся в наушниках, свидетельствуют о чем-то очень важном, имеющем самое близкое отношение к событиям последнего времени, не давала ему покоя. «Нельзя оставить без внимания этот факт,— думал он. — Может быть, именно он и даст ту нить, которая приведет нас к похитителям тетради Пасько». Слова Лаптева, что сигналы могут скоро прекратиться, что за радиомаяком могут прийти, особенно обеспокоили Краевского. Он почувствовал, что надеяться на соседние станции больше не следует, что нельзя терять времени, и позвонил Рожкову. — Ты, пожалуй, прав, Артемий Иванович, — ответил майор по телефону, — возможно, это и радиомаяк. Надо было бы его поискать. — А как их ищут? — Очень просто: с помощью пеленгаторного приемника. Такие у Лаптева имеются, и специалисты у него тоже найдутся. Но, понимаешь, одних их послать нельзя, а у меня все сотрудники заняты. Хрулеву я поручил осмотреть недостроенное укрепление, Анисимов работает на железнодорожной линии. Запросил у начальства помощи, но пока еще никого не прислали. — Я сам поеду, — заявил Краевский, — если только Лаптев отрядит радиста и даст прибор. — А не тяжело будет? — Что же поделаешь! — Хорошо... А ну, передай трубку Лаптеву. Майор предложил Лаптеву выдать Краевскому прибор и откомандировать в его распоряжение специалиста для поисков источника непонятных сигналов. — Вы что же, хотите организовать поиски? — спросил капитан. — Да, считаю нужным. — И когда товарищи отправятся? — Сейчас— Скоро темно будет, товарищ майор. — А разве ночью нельзя искать? — Можно-то оно можно, но трудновато. Лучше было бы отложить до завтра. И погода неважная — пасмурно, того и гляди дождик пойдет. — Вот что, капитан Лаптев, — приказал Рожков,— приготовьте пеленгаторный приемник и подыщите хорошего радиста. Он потребуется через полчаса. Только чтобы был верный человек. — Будет исполнено, товарищ майор. Вот ефрейтор Степанов, думается мне, подойдет. — Ладно, давайте Степанова, — согласился Рожков.— Ну, Артемий, действуй!—сказал он на прощание Краевскому. — Да пригласи в помощь, если хочешь, Сергея Зернина. Он скучает без дела. Парень подходящий и может быть полезен. (Краевский и в самом деле заезжал за мной в тот вечер, но не застал дома. В это время мы с Леночкой коротали время в подземной лаборатории, ожидая, когда нас оттуда извлекут.) Краевский получил от Лаптева переносный радиопеленгаторный приемник, заехал домой, переоделся в охотничий костюм, наполнил заплечный мешок продовольствием, захватил топор, ружье, фонарь, охотничью собаку и встретился с прикомандированным к нему ефрейтором Степановым, одетым в штатский костюм. Оба сели в машину, положили пеленгатор на пол и закрыли его брезентом. Радиопеленгаторный приемник состоял из наушников, портативного заплечного ранца, где помещалась небольшая батарея, лампы и другие детали, и антенны, натянутой на рамку из пластмассы, которую можно было повесить на грудь или же, привинтив шест, воткнуть в землю. На рамке был укреплен компас, позволяющий измерять, под каким углом от направления «север — юг» идут радиоволны. Прибор был удобен и нетяжел. Когда машина выехала за город, был уже вечер. Багровый диск солнца, словно раскаленный тяжелый шар, медленно опускался за облачную занавесь, обдавая небо и землю потоками лучей. Асфальт, шоссе, придорожные камни, застывшая в неподвижном воздухе листва деревьев, выбеленные заборы и стены хат, одежда и лица встречных — все казалось вылитым из бронзы самых различных оттенков. Машина ехала по хорошо известной Краевскому дороге, мимо завода, через паром на село Ольховцы и дальше на запад. До самого совхоза «Новый путь», где дорога круто сворачивала к югу, ехали без остановок. На повороте слезли, чтобы наметить правильный курс на радиомаяк. Степанов установил рамку антенны на шесте, надел наушники, включил приемник и стал прислушиваться. Краевский глядел на него и с беспокойством думал: «А вдруг сигналы не повторятся? Вдруг аккумулятор радиомаяка уже истощился или, что еще хуже, маяк выполнил свое назначение...» Но вот лицо радиста, бывшее дотоле серьезным, расплылось в широкую улыбку: — Есть, товарищ начальник! Пищит. Но так как сигналы не были непрерывными, потребовалось более четырех минут, чтобы точно засечь их направление. Оно указывало на сырую, поросшую лесом и уже подернутую вечерним туманом котловину. Дальше надо было продвигаться пешком. Машину оставили у дороги на попечение шофера. В машине Краевский оставил собаку и свои охотничьи доспехи: ружье и патронташ. Собака сначала протестовала, яростно лаяла, рвалась с цепочки, потом, видя, что ничего не помогает и хозяин ее обманул, жалостно завыла вслед уходящим. Уже наступили глубокие сумерки, когда разведчики стали спускаться в низину. Шли напрямик, без тропинок. Мелкий лес был труднопроходим. Кучи валежника, канавы и ямы, засыпанные прошлогодней листвой, мешали идти. Высокий, доходящий до пояса папоротник путался в ногах. То и дело натыкались в темноте на стволы поваленных деревьев, гнилые пни и валуны. Краевский успел уже натереть себе протезом ногу и прихрамывал. Он шел первым, не спуская глаз со светящихся стрелок компаса и секундомера. Каждую четверть минуты он останавливался. Останавливался и идущий сзади Степанов, чтобы проверить сигнал. Если оказывалось, что звуки слабее, чем в предыдущий раз, ждали следующего сигнала и снова отыскивали нужное направление. Эти остановки сильно задерживали продвижение, и, чтобы наверстать время, в промежутках старались идти как можно быстрее. И все-таки продвигались в час не более чем на километр. Только к полуночи наши разведчики вышли наконец из леса. Перед ними было обширное заболоченное пространство, покрытое кочками и поросшее редким кустарником. Небо было затянуто сплошной пеленой густых облаков, через которые бледным пятном еле-еле пробивался слабый свет луны. Кусты и корявые низкорослые деревца, неожиданно появляясь из тьмы, казались одушевленными существами, стремящимися преградить дорогу усталым путникам. Прошли еще сотни три шагов. Спереди потянуло сыростью, запахом болота, под ногами захлюпала вода... И вот из темноты выросла сплошная черная стена прибрежного камыша. Дальше идти было некуда. Сигналы здесь были слышны чрезвычайно четко и громко. Малейшее отклонение рамки в сторону было чувствительно. — Очевидно, радиомаяк находится где-то здесь, совсем недалеко, может быть за рекой, — сказал Краевский. — Странно, что его поставили в таком мокром месте... Но, конечно, в темноте мы его не отыщем, и думать нечего. Придется дожидаться утра, как это ни грустно... Пошли назад, чтобы поискать место для ночлега. Краевский побоялся развести костер. Выбрав место, где было посуше и посветлее, на поляне среди мелкого кустарника, он решил заночевать здесь. Но скоро стало ясно, что без костра не обойтись: налетели комары. Они кружились целыми тучами, пищали, садились на лицо и руки, забирались под одежду. Местность считалась неблагоприятной по малярии. Медицина уже много лет вела в этом районе борьбу с болезнью, но во время войны работу пришлось прервать. Степанов нарубил можжевельника, сложил небольшой костер и зажег его. Веселые язычки пламени, раздуваемые ветерком, поползли по веткам. Они трещали и дымились, распространяя вокруг смолистый запах. Пламя прикрыли гнилушками и травой. Усталые путники уселись так, чтобы дым отгонял комаров, и стали готовить ужин. Скоро чайник запел, сначала тоненьким голоском, потом более низким, потом зашипел, забулькал, и струйка пара вырвалась из носика. Краевский сидел, вытянув ногу, и, чтобы несколько приглушить боль, курил трубку за трубкой. Он чувствовал смертельную усталость и непреодолимое желание уснуть. — Нет, этак мы все провороним, — сказал он. — Товарищ Степанов, наладьте опять аппарат и давайте слушать. Радист установил раму, нарастил провод к наушникам и надел их. — Все на месте, — доложил он, — пищит по-прежнему. — Будем дежурить по очереди до рассвета, — сказал Краевский, — так спокойнее будет. После ужина Краевский прилег на землю и укрылся плащом. Степанов доедал бутерброды. Вдруг он перестал жевать, и лицо его вытянулось от изумления. — Товарищ Краевский! Пэ-эр-ша!.. — А? Какое «Пэ-эр-ша»? — Пэ-эр-ша! Позывные нашей роты! — Что?.. Что вы говорите?.. — Позывные, говорю. Пэ-эр-ша — нас вызывают, стало быть... — Да? Позывные? Вызывают?.. Слушайте тогда! Слушайте!.. Не теряя ни секунды, он достал записную книжку и, засветив электрический фонарик, приготовился записывать: — Ну что? Что слышно? — Пока только позывные... Ага! Пишите! «Товарищу Краевскому, — начал диктовать радист. — Подготовь площадку. Зажги костры. В три часа спущусь на парашюте. Рожков». Краевский взглянул на часы. Было двадцать минут третьего. Забыв про боль, он вскочил на ноги. Мешкать нельзя. Надо в течение сорока минут расчистить площадку размером по крайней мере пятьдесят на пятьдесят шагов и разложить два больших костра по углам. Вооружившись топором, Степанов стал вырубать кустарник вокруг места ночлега. Краевский стаскивал нарубленные сучья вместе с валежником и сухой травой к углам площадки. Костры еще не успели разгореться, когда он уловил трескотню учебного самолета. Он летел где-то высоко в стороне, потом начал кружить и снижаться. «Заметили!» — с облегчением подумал Краевский. Как знаком был ему этот звук! Как живо напоминал он те длинные зимние ночи, когда он, начальник отряда партизан, ожидал вестей и помощи с Большой земли, отделенной от них кольцом врагов. Самолет застучал где-то совсем близко. Краевский поднял голову, и вот прямо над ним из туманной мглы, словно крылья гигантской летучей мыши, появился купол парашюта, освещенный красноватым пламенем костров. Парашют опустился почти рядом. Краевский бросился туда. На земле, стараясь освободиться от постромок, барахтался Рожков. — Андрей? Ты? — Я самый. И со мной лейтенант Аннсимов и еще радист. — Стало быть, ты считаешь, что здесь что-то важное? — Да. Думаю, что ты пошел по правильному пути... Постой, сейчас сложу парашют. Как твоя нога? — Болит. — Ну, я так и знал... Ладно. Все дальнейшее я беру на себя. Ты теперь останешься в резерве. Оба спутника майора тоже благополучно приземлились и складывали свои парашюты. Рядом, в кустах, словно громадная простыня, лежал четвертый парашют, сброшенный с грузом. — Ну, молодцы, — обратился Рожков к радистам,— раскидывайте костры... Да, надо определить расстояние до источника сигналов... Лейтенант Анисимов, займитесь багажом и соберите лодку. Я пока побеседую с товарищем Краевским. У нас есть о чем поговорить.Глава XXI НЕОБЫКНОВЕННАЯ ТРОСТНИКА
Друзья прилегли возле потухшего костра. Рожков подбросил несколько веток можжевельника, и струйка синего пахучего дыма снова поползла по земле, отгоняя докучливых комаров. — Снял бы протез, — сказал майор, видя, как Краевский морщится и потирает ногу. — Ничего, потерплю. А то после хуже будет — не наденешь... Скажи, что это ты вдруг вздумал прыгать сюда? Раньше как будто ты не принимал моих поисков близко к сердцу. Случилось что-нибудь? — Ничего особенного. Я просто припомнил то, что знал раньше, сопоставил и понял, что тетрадь Пасько нужно искать здесь, на этом болоте. Вчера я не успел тебе сказать, — продолжал майор, — что запросил аэропорт о всех самолетах, какие были в этот день в воздухе. Так вот, никаких самолетов, кроме обычных трех пар пассажирских машин, в нашем районе не летало. Я успокоился. Но какая-то смутная мысль или неясные воспоминания о каких-то еще полетах оставались у меня в голове. Только вечером, когда прекратились почти непрерывные звонки, мне вспомнилось, что возле города есть еще один маленький аэродром. Он принадлежит малярийной станции. Там только два учебных самолета «ПО-2», приспособленные для опыления водоемов ядовитыми веществами. Я это знал раньше. Знал, что они время от времени летают над зараженными малярией пространствами, знал также и обоих летчиков. Это вполне надежные ребята. Один из них, Андрей Баранов, во время войны не раз забрасывал меня в тыл врага. Понятно, я ни в чем не мог их подозревать и не придал значения этим полетам, но все-таки для очистки совести позвонил начальнику малярийной станции. Оказалось, что в последнее время опыление велось ежедневно, если только позволяла погода, и что вчера утром как раз Баранов вылетал трижды, но на какой именно участок, мне сообщить не могли. «Об этом можно узнать у самого Баранова, — сказал начальник малярийной станции и добавил: — Помнится, я вчера разрешил принять на его самолет какого-то очеркиста». Дело сразу приняло другой оборот. Я стал расспрашивать его, откуда этот гражданин, как его зовут, зачем он вздумал летать... Фамилию его, конечно, забыли. Помнили только, что он литератор из Киева. Пишет очерк о борьбе с малярией и хочет лично испытать ощущение полета. Я вытребовал к себе Алексея Баранова и расспросил его о пассажире. Им оказался некий Григорьев Василий Петрович, из Киева. Я стал разыскивать этого Григорьева, но в гостиницах его не оказалось, и вообще в городе он нигде не был отмечен. Номера паспорта его не записали, отношения от какой-нибудь писательской организации не потребовали. Никто ничего не помнил. Пролетал же с ним Баранов как раз над тем местом, откуда исходили сигналы. — Стало быть, ты предполагаешь, что радиомаяк был сброшен с самолета и летчик не заметил этого? Возможна ли такая вещь? — Вполне. В учебном самолете пилот сидит впереди пассажира и не видит, что тот делает. Он не заметит также сброшенного с самолета во время опыления предмета, который скроется в непрозрачном облаке ядовитого вещества. — Значит, Григорьев мог сбросить радиомаяк? — Мог... Ну как? Определили расстояние? — обратился майор к подошедшим радистам. — Сто десять метров, товарищ майор, — ответил один из них. — За точность, впрочем, не ручаемся: кусты очень мешают мерить базу, да и темно. — Спасибо. Ступайте. Да надо дежурить до самого рассвета, непрерывно, по очереди. Радисты ушли. — Совсем близко, рукой подать, — сказал Краевский. — А как они определили расстояние? — Очень просто. Установили оба приемника на определенном расстоянии друг от друга, нашли по компасу азимуты направления на источник сигналов и потом прямо по таблице отыскали нужную цифру. Конечно, сами не решали тригонометрические задачи. Из кустов вышел лейтенант Аниснмов. — Лодка готова,—сказал он. — Собрал все как следует и проверил на воде. В порядке. И весло тоже... Да вы, товарищ майор, ложились бы спать, — обратился он к Рожкову. — До рассвета еще часа два осталось. И вы, товарищ Краевский, тоже. — Хорошо. Разбудите нас, как только начнет рассветать. Да помните: огня больше разводить нельзя — под утро сюда могут пожаловать гости. Наступали последние часы ночи, когда в воздухе становится холоднее и сырой туман ползет вверх по берегу, когда все живое засыпает и все ночные звуки умолкают, когда путники, застигнутые ночью в лесу, не будучи в силах уже бороться с дремотой, забываются тревожным, неглубоким сном. Время, удобное для хищников и злодеев.* * *
— Товарищ майор, товарищ майор! Они пропали! — теребил Анисимов Рожкова. — А? Что такое? Кто пропал?.. — Сигналы пропали. Больше пяти минут, как неслышно. Майор вскочил на ноги. Поднялся и Краевский. — Больше пяти минут? Что же не разбудили меня раньше? — И, не слушая ответа, Рожков побежал к приемникам. Около них суетились оба радиста, непрерывно вращая рамки то в одну, то в другую сторону. Майор сразу понял бессмысленность такого занятия: сигналы давались с промежутками. Он приказал радистам установить рамки обоих приемников параллельно течению реки в обе стороны ее и внимательно слушать. — За десять — пятнадцать минут,— сказал майор,— «он» не может далеко уплыть на лодке, и мы поймаем сигналы, если только... — Если только «он» не выключил передатчик. — Вот именно. Раз «он» завладел радиомаяком, сигналы «ему» теперь вовсе не нужны и даже опасны. Боюсь, что мы только зря теряем время... Артемий Васильевич, ты оставайся здесь и погляди за радистами, а я побегу посмотрю. И, пригласив знаком Анисимова, он побежал, но не к реке, а в обратную сторону, к лесу. Помогая друг другу, они быстро взобрались на дерево и огляделись. Уже наступило утро. Перед ними лежала обширная низина, поросшая кустарником, полого спускающаяся к довольно широкой реке. Болотистый берег ее густо порос камышом. Противоположный берег был крутой и песчаный. Коренастые дубы и высокие клены росли на нем вместе с кустами шиповника и жимолости. Их пожелтевшие кроны, залитые лучами утреннего солнца, казались вызолоченными. Рожков вынул карту и отыскал место, где был их ночлег. Влево от этого места река сворачивала на запад, сильно расширялась, ветвилась протоками и мелела. По карте было видно, что дальше она сворачивает вправо, на север, образуя излучину. Над водой еще клубился розовый туман, из которого то здесь, то там наподобие щетины торчал камыш. В одном из протоков, довольно далеко. Рожков и Анисимов заметили маленькую черную лодочку и в ней сгорбившегося человека с веслом. Перед ним вертикально стояла натянутая на круглый обруч сеть, вроде тех, какими ловят раков. Лодочка то терялась в камышах, то вновь появлялась, чтобы снова раствориться в тумане и потом неожиданно вырасти из него в другом месте. Человек неторопливо работал веслом, по-видимому вовсе не подозревая, что за ним следят. — Лейтенант Анисимов, берите лодку и плывите вдогонку, — приказал Рожков. — Да осторожно, не шумите: он, видимо, не заметил нас. Майор спрыгнул с дерева и поспешил обратно к радистам. — Товарищ Степанов, — распорядился он, — быстро идите вдоль берега, только по верху. Следить надо за маленькой черной лодочкой. В ней человек в черной куртке, с одним веслом. Перед ним антенна пеленгаторного приемника в виде круглой сетки для раков. Поняли? Торопитесь, он уплыл на полкилометра. Если он вылезет на берег, попытайтесь задержать... Вы, — обратился он к другому радисту, — будете со мной. Мы пойдем наперерез, — пояснил он Краевскому, — река здесь делает излучину. Где-нибудь мы его да сцапаем!.. Куда? Куда? Постой! Разденься! — закричал он, видя, как солдат идет прямо в воду. Но было уже поздно: тот плыл саженками к другому берегу, звонко шлепая по воде ладонями. Краевский видел, как майор разделся, сунул в сапоги часы, компас, спички и пистолет, свернул их вместе с одеждой в плотный тюк, положил его на голову, затянул ремнем под подбородком и, спокойно войдя в воду, поплыл через реку, стараясь не брызгать. На берегу он вытерся рубашкой, быстро оделся, поднялся по песчаному откосу и исчез среди деревьев, сопровождаемый солдатом, с которого ручьями текла вода. Проводив их взором, Краевский сталнаблюдать за Аиисимовым. Сделанная из пластмассы лодка была легка, устойчива и очень удобна для охоты или научных наблюдений, но ее широкий корпус и плоское дно не позволяли развить сколько-нибудь значительную скорость. Лейтенант напрягал все силы, работая веслом, но продвигался очень медленно. «Не догонит, нет, — думал Краевский: — лодка неподходящая, и гребец неважный,.. Вся надежда на Андрея». И, не будучи в состоянии оставаться безучастным зрителем, он быстро спрятал в кусты оба ставшие ненужными приемника и пошел вдоль берега вслед за Степановым.* * *
Рожков и его спутник быстро продвигались по лесу, который был довольно редким и легкопроходимым. Держали направление по компасу. Скоро набрели на тропинку, которая шла в нужную сторону. Рожков шел и думал о том, что напрасно он погорячился и послал Аннсимова в погоню на плоскодонной лодке с одним веслом: «Где ему догнать рыбака в челноке, который его сильно опередил! К тому же Анисимов — парень горячий, спугнет, пожалуй. Надо было бы всем бежать по берегу и вот так, наперерез... Зря это, зря!..» И, как бы в подтверждение его мыслей, послышались отдаленные пистолетные выстрелы, один, потом другой... Майор остановился. «Так и есть! — подумал он. — Теперь лейтенант или задержал этого подозрительного рыбака, или спугнул. Надо торопиться». По карте выходило, что расстояние между обоими берегами излучины не превышает двух километров, но тропинка сильно петляла среди скалистых холмов, что удлиняло путь. Рожков и его спутник бежали, и все-таки прошло не менее получаса, прежде чем дорожка пошла круто вниз по овражку через бурьян и неожиданно вывела к самой воде. Перед ними был неширокий рукав реки с чистыми берегами и быстрым течением. Овраг, расширяясь, переходил в небольшой пляжик, который продолжался под водой в виде песчаной отмели. Очевидно, здесь был брод. «Проплыл он или еще не успел? — думал майор. — И если не успел, то проплывет ли здесь?» Он знал, что, кроме этого рукава, река, растекаясь, имеет еще несколько протоков, более мелких, узких и заросших камышом. — Вот что, — приказал он солдату: — полезайте наверх, на скалу, и, если увидите лодку, дайте мне знать. Да осторожно, чтобы вас не заметили. Солдат, упираясь о камни и хватаясь за корни деревьев, вскарабкался на невысокую скалу, стоящую у самого берега. Поднявшись, он взглянул вдоль реки и тут же замахал фуражкой, показывая, что в самом деле увидел лодку. Майор расстегнул кобуру и бросился к отмели. В ту же минуту из-за поворота вынырнул небольшой челнок. На корме сидел старик в черной куртке и картузе, надвинутом на глаза, с длинной седой бородой. Он ловко работал одним веслом, и челнок летел по гладкой воде у противоположного берега. Никакой сети не было видно. — Эй, товарищ! — закричал Рожков. — Правьте сюда! К берегу! Незнакомец вздрогнул от неожиданности и на мгновение сжался в комок, точно собираясь изо всех сил устремиться вперед. Заметив это, майор вошел в воду и взялся за кобуру. Тогда неизвестный повернул к берегу. — Ну, чего надо? Перевезти тебя, что ли? — спросил он словно нехотя. — Вылезайте на берег, — сказал майор, не отвечая на вопрос. Старик, кряхтя и охая, выбрался из челнока. «Это, конечно, связной, и плавал он за радиомаяком, — думал майор. — Но удастся ли нам уличить его — это неизвестно». Между тем старик говорил насмешливым тоном: — Это, стало быть, ваш соколик за мной гнался? Из молодых, да ранний. Ну из пистолета палить! Этак и убить человека недолго. Майор, не слушая незнакомца, быстро обыскал его но ничего, кроме табака и трубки, не нашел. В челноке также не оказалось ничего подозрительного: несколько удочек, острога, топор, хлеб и помидоры в кошелке, бутылка с вином, корзинка с живыми раками, и никаких следов радиоаппаратуры. — Документы есть? — спросил майор. — Документы?.. Паспорт дома есть. Да меня здесь всякая собака знает и без документов. Я здесь сорок лет в речных сторожах живу. Спросите Трофима Ничипоренко — всякий укажет. На что мне их с собой таскать? А дома есть — предъявить могу. — После поговорим. Скажи, куда ты девал радиоприемник, что был с тобой в лодке? Только на одно мгновение старик смутился, и глаза его забегали по сторонам. Но сейчас же он оправился и стал глядеть майору прямо в лицо. Глаза его выражали преувеличенное удивление, но в глубине их таился страх. — Какой приемник? Никакого приемника у меня нет! И знать я ничего не знаю! Тоже выдумали — приемник!.. Да я человек известный, сорок лет здесь живу!.. Рожков хорошо знал этот дерзкий взгляд, маскирующий страх. «Опять себя выдал», — подумал он, не сомневаясь больше, что видит перед собой шпиона. — Ну, сетку для раков, скажем. — Сетка была, точно. Не отпираюсь. Так я же ее в воде оставил. Когда ваш начал палить из пистолета, я бросил все. Где уж тут! Не до сетки... — Ну, мы ее постараемся достать. — Сделайте милость, сетка-то хорошая. Отыщите, пожалуйста. Старик уже совершенно оправился и говорил спокойно. Но теперь в его голосе слышались чуть заметные насмешливые нотки. «Постой,—подумал Рожков, — скоро ты запоешь по-другому». В это время подплыл на своей неуклюжей лодке Анисимов. Он отстал от челнока больше чем на километр, и старик, конечно, скрылся бы, если бы не был остановлен Рожковым. — Лейтенант Анисимов, — сказал майор, — вытащите челнок па берег. И идемте сопровождать задержанного. Вашу лодку понесет радист. Они отправились в обратный путь. Впереди шел Анисимов, за ним — задержанный Ничипорепко, потом Рожков. Сзади шел солдат, неся на голове легкую лодочку и весло. Через реку переправлялись по очереди. Сначала лейтенант и радист — лодка могла поднять сразу только двоих. Последний вернулся с лодкой обратно. Потом перебрались майор и арестованный. После лейтенант съездил за радистом. На месте ночлега никого не оказалось. Только одни приемники, сложенные в кустах. — Товарищ Анисимов, — приказал Рожков, — отвезите арестованного к нам и из совхоза вызовите по телефону другую машину. Захватите также радиоприемники и вот товарища радиста. Я здесь останусь. Он был не удовлетворен результатами дня. Цель всего предприятия — поиски тетради Пасько — не увенчалась успехом. Правда, задержали какого-то шпиона, работающего связным. Это, конечно, была удача. Но майор по опыту знал, что это только первый шаг и что до раскрытия всей шпионской организации еще далеко. Недоволен был Рожков и Анисимовым. «Действовал грубо, — думал он, — дал себя обнаружить раньше времени и испортил все дело. Прямо медведь в посудной лавке. Но мы найдем радиомаяк, хотя бы пришлось обыскать все тростники и протралить все русло! Не мог же он, в самом деле, провалиться сквозь землю».* * *
Краевский выбрался из низины и пошел вдоль опушки леса. Отсюда ему была отлично видна широко разлившаяся река, покрытая песчаными отмелями и островками камыша, с проливчиками между ними. Туман уже рассеялся, но сколько Краевский ни вглядывался, никакого челнока он не увидел даже через сильный призматический бинокль, который носил постоянно с собой. Зато заметил лодку Анисимова. Яростно работая веслом, Анисимов уверенно поплыл в один из проливчиков. Через несколько минут скрылся и он. Почти сейчас же Краевский услышал один за другим два пистолетных выстрела. Звуки их, раскатываясь по воде, казались близкими. Краевский понимал, как важно осмотреть место происшествия хотя бы издали, в бинокль. Он поспешил вперед, насколько ему позволяла нога, прошел еще с полкилометра и с высокого места стал разглядывать реку. В поле зрения бинокля было видно, как бежит по воде и искрится рябь, как дрожит над островками воздух нагреваемый солнцем, как колеблются тонкие тростинки под порывами ветерка, как они гнутся под тяжестью маленьких птичек, целыми стайками перелетающих с одного островка на другой, как утки, часто махая крыльями и поднимая фонтаны брызг, с трудом отрываются от воды и тяжело летят над рекой. Краевский внимательно осмотрел каждый проток, каждое озерко и островок. Внимание его привлекла одна из тростинок. Она торчала из воды в середине маленького озерка, окруженного камышом, и, потревоженная ветром, не гнулась, как другие, а колебалась из стороны в сторону, как колеблется маятник. Чем больше наблюдал Краевский, тем больше удивлялся ее странному движению. Словно на воде качался большой поплавок с длинным и легким перышком. А что, если это тот радиомаяк, за которым они сюда приехали? Но как отыскать эту тростинку? С высокого берега ее хорошо было видно на большом расстоянии, но снизу, от воды, она терялась на фоне зарослей, и найти к ней дорогу было нелегко. Пришлось отыскать большое, одиноко стоящее на берегу дерево и уже отсюда снова найти в бинокль таинственную тростинку. Краевский набросал в записной книжке план реки со всеми видневшимися притоками, островками и озерками, определил по компасу направление на тростинку. Потом вырезал крепкую длинную палку, оставил в кустах свой брезентовый плащ, сумку и другие ненужные вещи, закурил трубку и, твердо решив не возвращаться без добычи, пошел по компасу через кустарник и камыши. Однако скоро стало ясно, что идти напрямик не удастся: дорогу преграждали то глубокая вода, то топкое болотце. Пришлось несколько раз сворачивать в сторону и потом долго отыскивать правильное направление, визируя компасом на дерево. Перебираясь по отмелям и мелководью, от одной поросли камыша к другой, Краевский вымок сначала по колени, потом по пояс и, наконец, по самую грудь. Много раз, добравшись до какой-нибудь лужи, затерявшейся в камышах, он думал, что наконец набрел на нужное место, но сейчас же убеждался, что никакой тростинки здесь нет. Передохнув, он снова шел вперед, к другому озерку. Озерки почти не отличались одно от другого, и Краевский боялся, что бродит по одному и тому же месту. Он проблуждал среди камышей добрый час, как вдруг остановился, пораженный: совсем близко под порывом ветерка, словно стрелка метронома, качалась длинная тростинка. Срезав прутик камыша, Краевский потянул ее к себе. Немного наклонившись, она слегка скользнула по воде. Он схватил ее и вытащил. Это было обыкновенное удилище длиной метра в два с половиной, но оно заканчивалось металлической трубкой длиной в треть метра и толщиной в два пальца, окрашенной в зеленоватый цвет. Радиомаяк! Не раздумывая долго, Краевский схватил желанную находку и кратчайшим путем через воду, грязь и камыши пошел к месту ночлега.* * *
Рожков был несказанно удивлен, увидев Краевского совершенно мокрым и грязным, без пальто, без шляпы и без сумки, с трудом ковыляющим по болоту. Он сначала даже подумал, не приключилось ли с его другом чего недоброго, но, увидя его сияющую физиономию и длинную удочку на плече, понял, что он возвращается с победой. — Артемий! Откуда это у тебя? — Из воды вытащил. Что это, по-твоему? Майор взял в руки тростинку: — Он самый! Радиомаяк! Сомнений быть не может!.. Как же ты его нашел? — В бинокль увидел. — Ну?.. Поздравляю! Значит, шпион нашел радиомаяк, повез его с собой, а затем бросил, когда увидел за собой погоню. Майор внимательно осмотрел радиомаяк, потом легко разобрал тростинку на пять отдельных колен. — Здорово придумано!—заявил он. — Так гораздо удобнее переносить. Ну, а что здесь? Он приложил к уху широкую трубку маяка и долго прислушивался. — Часовой механизм не работает. Мошенник догадался его выключить, вероятно повернув вот это колечко... Занятная штучка, что и говорить! Через полчаса машина везла обоих в город. Еще через час майор в своем кабинете мог рассмотреть радиомаяк в разобранном виде во всех деталях.Глава XXII ФАЛЬШИВОЕ УКРЕПЛЕНИЕ
В то время, когда мы с Леночкой сидели замурованными в подземной лаборатории и ожидали, когда нас освободят, а майор был занят розысками радиомаяка, лейтенант Хрулев по приказанию Рожкова осматривал недостроенное фашистами укрепление. Оно уже давно казалось майору подозрительным. Отдавая приказание лейтенанту, Рожков сказал: — Не может быть сомнения, что укрепление это строилось только для отвода глаз. Расположено оно более чем странно: ни у моста, ни у брода, ни у парома. Обзора и обстрела с него тоже не открывается. Подобное сооружение имело бы еще смысл в системе оборонительной полосы, но здесь и этого нет: оно стоит изолированно. Я думаю, назначение его иное — скрыть выход туннеля, через который велись подземные работы. В этом надо убедиться. Но сейчас важно другое: что, если молодчики устроили себе там убежище? Место подходящее: глухое, редко посещается, рядом со скалой. И заметьте: Галемба распространял слухи, что оно заминировано. Словом, все это подозрительно. Осмотрите форт. Да смените, кстати, Совкова. Он шестые сутки скучает у колодца, а мне здесь нужен. Поставьте вместо него ефрейтора Кормилицына. Хрулев, ефрейтор и еще трое солдат, захватив кое-какой инструмент, быстро доплыли на моторной лодке до Серой скалы и по тропинке добрались до укрепления. Там все было по-старому: груды камней, сквозь которые проросла трава; кучи проржавевших железных балок и мотков проволоки; горы потрескавшихся бетонных блоков; ямы, наполненные позеленевшей водой, в которой резвились лягушки. Только вместо штабелей леса среди опаленных кустов лежали головешки и кучи золы. Кругом — ни души. Лейтенант прежде всего послал ефрейтора к колодцу на смену Совкова. Взвалив на спину тяжелый мешок с продовольствием и закинув за плечо автомат, тот отправился в путь. Ему предстояло идти километров пять в обход скалы, через лес и мимо бывшего концентрационного лагеря, так как прямой тропинки к колодцу не было. ...Приступили к осмотру форта. Хрулев и солдаты влезли в одну из огневых точек и по скользким ступеням хода сообщения спустились в подземный коридор. Там было темно, пахло сыростью и гнилью. Зажгли фонарь. Желтые пятна света забегали по каменным стенам покрытым плесенью, по потолку, сложенному из бетонных плит по лужам воды, скопившейся на полу, сквозь которую проглядывали рельсы узкоколейки. Из коридора можно было проникнуть в обширное помещение — центральный каземат. Там было сухо, но очень душно. Низкий потолок, опирающийся на ряды стальных колонн, нависал над головой, готовый, казалось, обрушиться и раздавить вошедших своей тяжестью. Отсюда можно было подняться во второй, верхний коридор, а оттуда — в верхние огневые точки. Они были почти закончены и представляли собой бетонные цилиндры со щелями наверху, прикрытые стальными колпаками. Хрулев осмотрел все это, но ничего подозрительного не нашел. Многочисленные следы ног, огарки свечей, спички ни о чем не свидетельствовали. Форт много раз посещался разными лицами. Лейтенант спустился снова в нижний коридор, чтобы исследовать его на всем протяжении. В одну сторону он полого поднимался и выходил на поверхность. Узкоколейка шла дальше. Она огибала скалу и оканчивалась у глубокого оврага, почти доверху заваленного осколками камня. Без сомнения, сюда сваливали вынутую из недр скалы горную породу. Рожков был прав: укрепление прикрывало выход туннеля. Но где же он? Хрулев вернулся обратно. Другой конец коридора упирался в сплошную стену. Узкоколейка обрывалась недалеко от нее, причем ни стрелки, ни разъезда, неизбежных у конечного пункта всякой железной дороги, не было. «Значит, узкоколейка здесь не могла кончаться, — подумал лейтенант. — Она тянулась дальше в туннель, сейчас наглухо заложенный. Интересно, какой толщины эта пробка?» Он поднял фонарь. Бетон был крепкий, как камень: нигде ни щели, ни трещины. Только в верхнем углу, у самого потолка, из стены выходила железная труба, какие обыкновенно употребляются водопроводчиками, и тянулась вдоль коридора. «Для чего тут водопровод? — подумал лейтенант. — Надо будет проследить, куда он проложен». Труба сначала тянулась по потолку, потом свернула вверх вдоль лесенки и наконец углубилась в стену, видимо выходя наружу. Хрулев приказал одному солдату стучать камешком по трубе, а сам с другим вылез на поверхность. Он распорядился умно: только руководствуясь слухом, они смогли отыскать среди камней и бурьяна ржавую трубу. Она настолько истлела, что во многих местах сквозила, как решето, и при ударе рассыпалась в бурый порошок. — Товарищ лейтенант, тут провод!—сообщил солдат. Хрулев нагнулся и увидел, что в трубе проложен освинцованный проводник толщиной в карандаш. Вернее всего, это была телефонная линия или же сигнализация. Но мог быть и подрывной провод, идущий к мине. «Надо быть осмотрительным», — решил он про себя. — Будьте осторожны,—сказал он солдатам, — ни в коем случае не рвите и не режьте провода. И лучше всего не прикасайтесь к нему. Труба направлялась в сторону скалы, кое-где прячась в бурьяне, кое-где — в каменной осыпи, но недалеко от скалы она обрывалась. Ее загнутый вверх конец торчал среди травы, и провода в нем не было. Дальше начиналась густая заросль кустарника. Хрулев пошел туда и сквозь частую сеть веток разглядел почти у самой земли узкую, темную щель. «Эге! Смотровая щель! — изумился он. — Вот оно что... Да здесь блиндажик! Понятно, почему сюда провели телефон». Начали шарить по кустам и сразу же отыскали железную дверь. Хрулев потянул ручку и переступил порог. Несколько ступеней вниз вели в длинное помещение. Щель почти не пропускала света, и в комнате царил полумрак. Вдоль одной стены стоял стол. На нем — керосинка, чайник, несколько грязных кастрюлек, куски хлеба, крошки. На крюке — полотенце и связка баранок. Вместо табуреток — бочки из-под цемента. У другой стены на полу валялись грязные тюфяки и подушки, набитые сеном, кое-как прикрытые одеялами. Тут же стояла кадка с водой, накрытая доской, и на ней большой керосиновый фонарь. По всему видно было, что здесь обитают люди, и притом очень нетребовательные к комфорту. «Так вот где свили гнездышко наши голубчики! — подумал Хрулев и усмехнулся. — Теперь я отсюда не уйду, покуда не дождусь хозяев... Хоть целую неделю просижу! Надо поскорее доложить майору». И он принялся за осмотр комнаты. Нашел целый склад продуктов: сухари, консервы, чай, папиросы, варенье; под столом — батарею бутылок, корзину подгнившего винограда и бидон с керосином. В углу — сверток грязного белья и мужской костюм небольшого размера, годный разве что для подростка. Телефонного аппарата не оказалось. Наскоро окончив осмотр, лейтенант написал краткое донесение майору и послал одного из солдат в село Дергачи с поручением передать его по телефону. — Мы здесь заночуем, — сказал он остальным, — подождём, не вернутся ли жильцы. Устроим им мышеловку: впускать всех будем, а выпускать — никого. Так, что ли, ребята? — Не подведем, товарищ лейтенант! Хрулев решил, что солдаты будут дежурить попеременно: один сидеть снаружи и, соблюдая полнейшую тишину, зорко смотреть и прислушиваться, другой в это время спать. Сам он решил остаться в комнате и бодрствовать. Темная осенняя ночь наступила скоро. Хрулев сидел возле щели и курил. Он понимал, что взялся за трудное дело. Солдат было слишком мало. Хорошо, если шпионы будут возвращаться поодиночке. Ну, а если они явятся все сразу? Если начнется перестрелка? Что тогда? Ведь бандитов надо схватить живыми. Беспокоился Хрулев и за Совкова. Прошло уже более четырех часов, а его все не было. Не заблудился ли Кормилицын по дороге? Нашел ли он колодец? Парень он толковый и пошел засветло... От нетерпения лейтенант курил папиросу за папиросой. Вдруг в стену постучали — это дежурный давал сигнал. — Товарищ лейтенант. — услышал он через щель шепот, — там в лесу огонек. Идет кто-то. Хрулев вышел наружу. И точно: далеко внизу среди темноты блестела звездочка. По тропинке прямо к укреплению шел человек, освещая дорогу фонарем. «Это Совков, — решил лейтенант. — Те не осмелятся ходить по ночам с фонарями». — Марков! — окликнул он одного из солдат. — Бегите скорее к нему да скажите, чтобы погасил фонарь, а то, пожалуй, спугнет их. Да не шумите, тише... Солдат побежал выполнять поручение. Хрулев успокоился: с приходом Совкова, у которого был автомат, они получали солидное подкрепление. Послышались тяжелые шаги по камням, и из темноты выступила знакомая фигура солдата. Но это был не Совков, а ефрейтор. Вид у него был растерянный. — Товарищ лейтенант,— сказал он.— сержант Совков пропал! Там один только рядовой Петров из второй роты. — Как пропал? — Так... Рядовой пришел поутру, как ему было приказано, а Совкова на месте не оказалось. Он ждал его, кликал, шарил кругом — нет. Все на месте: и палатка, и шинель, и автомат тоже налицо, а самого нет. — Что же Петров не известил никого? — Боялся оставить пост. Ждал, — может, кто подойдет... Нехорошее это дело, товарищ лейтенант! — А в колодце смотрели? — Нет, не смотрел. — А почему? — Не догадался, товарищ лейтенант. — Эх, вы!.. Хрулев заволновался. Такой сознательный и дисциплинированный человек, как Совков, не мог самовольно отлучиться, бросив к тому же оружие. И если его нет на посту, значит, стряслось что-то недоброе. Хрулев понимал, что надо немедленно спешить к колодцу, все осмотреть, разузнать. Может быть, Совков упал в колодец? Может быть, лежит раненый, нуждается в помощи? Но как оставить такой важный пост? Кому поручить такое ответственное дело, как засада в логовище врага?.. В конце концов он решил идти к колодцу сам. Он назначил Маркова старшим, передал ему автомат, точно разъяснил, как поступать в том или ином случае, приказал никуда не отлучаться и пошел вниз по тропинке вместе с ефрейтором. Тотчас же ночная тьма поглотила обоих.* * *
Хрулев не захотел зажигать керосиновый фонарь. Они шли по лесной тропинке в полной темноте и только в особо труднопроходимых местах освещали дорогу карманным электрическим фонариком. Прошли через лес, мимо заброшенного концентрационного лагеря, перешли вброд речку, опять долго шли лесом, поднялись каменистой тропой к скале, прошли вдоль нее и наконец добрались до колодца. Там их ждал Петров. Лейтенант прежде всего заглянул в колодец. Темно, ничего не видно. Он бросил зажженную газету. Она продолжала гореть, освещая красноватым светом стены колодца и бурое дно. Воды не было. Ефрейтор швырнул камешек. Он ударился почти без звука, как о подушку. Страшная догадка мелькнула в уме обоих: на дне колодца лежит тело Совкова! — Разрешите, товарищ лейтенант, я полезу. — Я сам полезу... Давайте фонарь. Вы меня спустите. Зазвенела цепь, заскрипел ворот, и Хрулев с фонарем в руке начал медленно спускаться в колодец. Придерживаясь за цепь, он вглядывался в темноту, но ничего разглядеть не мог. Вот бадья шлепнулась обо что-то мягкое... У лейтенанта отлегло от сердца: это была груда намокшей бурой бумаги. Оглядевшись, Хрулев понял, в чем дело. Колодец метра на два был забросан крупными камнями, так что водосток был полностью ими закрыт. На камни потом высыпали цемент. Бумажные мешки из-под него сбросили сюда же, очевидно, с целью скрыть следы этой работы. Цемент, растворенный в воде, окаменел и превратился в бетон, более прочный, чем сама скала. Для чего это все сделано? Для того, решил про себя лейтенант, чтобы глубже захоронить тело несчастного Совкова. Выполняя приказ начальника, лейтенант оставил ефрейтора и рядового дежурить у колодца, а сам поспешил в село Дергачи, чтобы по телефону доложить обо всем майору. Рожкова он не застал и продиктовал свой рапорт дежурному. Потом, беспокоясь за оставленную в блиндаже засаду, пошел назад к укреплению и добрался туда уже на рассвете. Там все было по-прежнему: в жилище никто не заходил. ...Когда майор вернулся из экспедиции за радиомаяком, ему передали, кроме двух донесений Хрулева, еще сообщение милиции о том, что Сергей Зернин, вышедший трое суток тому назад на прогулку, до сих пор не вернулся. Майор понял, что должен спешить к Серой скале. Закончив в срочном порядке свои дела, он выехал туда на моторной лодке вместе с командой подрывников и электриком-телефонистом, захватив с собой подрывные материалы и немецкий телефонный аппарат того самого образца, какой он видел в подземной лаборатории.Глава XXIII КОРРЕСПОНДЕНТ КОЛОМИЙЦЕВ
На следующий день после визита Андрея Матвеевича, когда мы с Леночкой, оба в больничных халатах, сидели в саду, позвонил Рожков. Он сказал, что хочет меня видеть по срочному делу и что высылает автомобиль. Я еле упросил его разрешить заехать домой, чтобы привести себя в порядок. Через четверть часа я уже садился в машину. — Возвращайся скорее, — сказала Леночка на прощанье, и в голосе ее звучала тревога. — Если задержишься, сообщи, а то я буду беспокоиться. Да береги себя. Не рискуй без нужды. — Без нужды не буду. — Обещаешь? — Обещаю. Машина покатила вдоль аллеи сада. Леночка осталась стоять на крыльце. Я еще долго видел ее одинокую белую фигуру. Дома я не застал никого: все ушли на похороны Пети Сердобина. Я был рад, что не мог туда попасть. Видеть несчастную Ксению Васильевну, потерявшую последнего сына, было выше моих сил. Я переоделся, побрился и поспешил сесть в машину. Машина мчалась по шоссе. Я не замечал ни красоты осеннего убранства леса, ни оголенных полей, ни холодного бледного неба, отражающегося в тихой глади реки. Только когда мы подъехали к крыльцу, я очнулся от своих грез. Меня сейчас же проводили в кабинет. Там за письменным столом я увидел Рожкова и против него, в кресле, спину какого-то высокого, как будто знакомого мне брюнета в темно-синем костюме. Он обернулся — и я застыл от удивления. Передо мной был корреспондент Коломийцев... Нет, не он. Кто-то совсем другой, мне неизвестный. Густые темные волосы и усы были точь-в-точь такие же, как у Коломийцева. Такие же очки, костюм, ботинки, даже вечная ручка в кармашке пиджака, рубашка, галстук — все было совершенно как у того человека, который представился мне в гостинице в первый день моего приезда. И все-таки это был другой, вовсе незнакомый мне человек. — Сергей Михайлович, обождите минутку, — сказал Рожков. Он поглядел на меня в упор и на мгновение коснулся губ пальцем. — Я закончу беседу с товарищем корреспондентом Коломийцевым... Прошу вас, садитесь здесь. — Он указал мне на стул, стоящий совсем близко от посетителя. — Если я вам больше не нужен, товарищ майор,— сказал тот вставая, — то прошу разрешения уйти. Поезд отходит через час с небольшим, а я еще не успел осмотреть ваш замечательный городок. Я ведь здесь впервые. — Разве уже так поздно? — спросил майор. Корреспондент оттянул левый рукав пиджака и рубашки, и я увидел точь-в-точь такие же золотые овальной формы часы, какие я видел у его двойника, и выше их такой же след пулевого ранения. Повинуясь незримому приказанию майора, я отвернулся. — Пожалуйста, — сказал тот, — я вас не задерживаю... Куда же вы теперь направляетесь? — Недалеко отсюда — на пристань Белые камни. Там сегодня открытие нового элеватора. Не знаю только, успею ли к началу торжества. Приглашение от председателя горисполкома пришло с опозданием. Я даже хотел было ехать прямо туда, а потом уже к вам, но счел неудобным. И вот прилетел к вам самолетом, а отсюда уже поеду поездом. — Я слыхал, что. вы специально спортивный корреспондент? — Это верно. Но у меня есть свободное время, а там, говорят, местность исключительно красивая, да и погода прекрасная. Он попрощался с майором, поклонился мне и вышел. — Андрей Матвеевич, это совсем не тот человек, с которым я познакомился раньше, — сказал я Рожкову, когда мы остались одни. — Конечно, не тот. Это настоящий Коломийцев. Я вызвал его сюда, а вас нарочно пригласил, чтобы показать его. Но вы изволили запоздать, и я битый час говорил с ним о погоде. — А тот? — Тот фальшивый. — То-есть как фальшивый?.. А рана? — И рана фальшивая. Современные хирурги могут сделать вам искусственный нос, не то что поддельную рану. И очки у того бутафорские — со стеклами от часов. Он походит на Коломийцева ростом и цветом волос, копирует его прическу и одежду и имеет хорошо сделанные подложные документы, очевидно, заграничного изготовления, на имя Коломийцева. Вот и все. — Простите, Андрей Матвеевич, но ведь для этого надо заранее подыскать человека, похожего на Коломийцева, изучить его наружность, подробности жизни, знать про рану... Откуда же за границей могли об этом пронюхать? — Видите ли, Сережа, оказывается, личное дело военкора Коломийцева еще в начале войны попало в руки немцев. Они впоследствии продали его другой иностранной разведке. Ну, а сами знаете, в личном деле есть все, что требуется: автобиография, анкета, копии документов, фотокарточки. Шпиону оставалось только нарядиться под Коломийцева и не попадаться ему на глаза. — Так, стало быть, он иностранец! — Нет, украинец. Конечно, по происхождению. — И... и вы знаете, кто он? — С сегодняшнего утра знаю. Нам сильно повезло с приездом Коломийцева. Его разъяснения и документ, который он передал мне, дали возможность установить личность самозванца — того, кто прикрывается его именем. У меня на языке так и вертелся вопрос, кто же этот таинственный двойник, но я сдержался, полагая, что любопытство в таком деле неуместно. — Он допустил оплошность, — продолжал майор,— пустяковую, невольную: только два лишних слова сестре, не более, и вот эта маленькая болтливость разоблачила его. — У него есть сестра? — Да, есть. И вы ее прекрасно знаете. — Я знаю? Кто... кто же это? — Анна Семеновна Шидловская. — Анечка? — Она самая. — Не может быть! Майор поднял на меня строгий взгляд и сказал после некоторого молчания: — Я слов на ветер не бросаю. Я был так поражен этим неожиданным сообщением, что не мог выговорить ни слова. Вид у меня, надо полагать, был настолько оторопелый, что майор счел нужным повторить: — Фальшивый Коломийцев, которого вы встретили в гостинице, на самом деле Григорий Шидловский, брат вашей знакомой. Это вполне достоверно. Месяца три тому назад он проник на нашу территорию через турецкую границу со специальным заданием. Некоторое время жил в Киеве под фамилией Григорьева. Потом очутился здесь, уже с документами корреспондента Коломийцева... Я вижу, вы удивлены. Тоже скажете — не может быть? — Нет... Но я никак не мог подумать, чтобы Анечка, с которой я чуть не каждый день встречаюсь, и вдруг имела бы связь с врагами, работала бы на них. — Это не обязательно так. Сознательно она, наверное, не работала. Вернее всего, она и не подозревала об истинной профессии брата. Зачем ему откровенничать с сестрой? Вовсе не надо. Он сумел ее использовать и без этого... — Но откуда же вы все это узнали? — спросил я и сам испугался своей нескромности. Майор улыбнулся: — Эту девушку видели как-то раз на лодке в обществе мужчины, по внешности похожего на лжекорреспондента Коломийцева, и потом еще дважды ночью. Но главное основание — ее письмо к брату, переданное мне сегодня настоящим Коломийцевым. Он получил его по ошибке. — Как же так? — Анна послала письмо брату без его ведома, может быть, даже вопреки его желанию, в редакцию киевской газеты на имя Коломийцева, а в скобках пометила для верности: «Шидловскому». Там знали адрес настоящего корреспондента и передали ему. Письмо короткое. Сестра выражает надежду, что оно дойдет до брата, извиняется за самовольство и просит денег. Подписано буквой «А». Обратного адреса нет. Представьте себе, как изумился наш гость, получив письмо от несуществующей сестры! По почтовому штемпелю он узнал, что оно прислано из нашего города, и догадался захватить его с собой. Ну, я сличил почерки и убедился, что его писала Анна Шидловская. Письмо разоблачило самозванца и вместе с тем доказало, что сестра не посвящена в его планы. — Теперь понятно, почему из-за границы прислали сюда именно его: он здесь родился. — И поэтому и по другой, тоже очень важной причине. Помните, вы говорили мне, продолжал майор, — что видели у него золотистую расческу в форме рыбки? Потом такую же вы нашли в башне? — Помню, конечно. — Так вот, познакомьтесь теперь с той бумажкой, в которую она была завернута. Вы ею пренебрегли, а мы отыскали ее в амбразуре и бережно сохранили. Майор достал папку. В ней лежал смятый листок ученической тетрадки, наполовину исписанный арифметическими упражнениями. Он, наверное, долго пролежал в башне: бумага пожелтела и написанные чернилами цифры несколько расплылись и выцвели. Вот что там было:
(буквы были подписаны карандашом рукой Рожкова). — Ну, Сережа, поняли теперь? Ясно вам, какую роль играла эта расческа? —спросил майор, глядя на мое изумленное лицо. — Она была опознавательным знаком юных разведчиков? — Совершенно верно. Их, так сказать, вещественным паролем, по которому они узнавали друг друга. Шидловский воспользовался ею, чтобы подчинить своему влиянию Петю, да и Ивана Ивановича, может быть, завлек к обрыву. — Откуда же он достал расческу? Купил в Харькове? Вместо ответа Рожков открыл стоящую на столе коробочку и вынул из нее маленькую желтую расческу в форме рыбки. Это было дешевое изделие из тех, какие часто дарят детям. Ни величиной, ни формой, грубой и малохудожественной, ни однообразной желтой окраской она не походила на прекрасную расческу патриотов. Спутать эти изделия было невозможно. — Я получил этот образец из Харькова, — продолжал майор. — Его нашли на складе горторга. Настоящие расчески юных разведчиков нигде не продавались. Их изготовлял Василий Гаврилов, тот самый, что носил кличку «Дядька». Он работал на фабрике ширпотреба, одно время существовавшей в нашем городе во время оккупации. Расчесок было ровно столько, сколько членов ЮРП. Ну, и что из этого следует? Экий вы недогадливый сегодня, Сережа! — Григорий Шидловский сам был членом юных разведчиков? — Верно! И выдал их фашистам. — Уж не он ли носил кличку «Бедуин»? — Я так и думаю. — Вот оно что!.. Тогда понятно, почему погиб старик Сердобин: Шидловский боялся разоблачения. Майор кивнул головой. — Ему в последнее время стало лучше, — сказал он,— и к нему возвращалась память. — Как это страшно! — ужаснулся я. — Какое безжалостное хладнокровие! — Да, от этих людей не жди великодушия. Война, тайная война... Разве только вместо пушек стреляют пистолеты. Майор встал, показывая, что беседа окончилась. — Вы бы сходили к Артемию Ивановичу, — сказал он на прощанье. — Он болен и будет рад вас видеть. Да передайте ему, что я скоро зайду и принесу одну забавную штучку.
* * *
Хождение по лесам и болотам не обошлось Краевскому даром. Он натер протезом искалеченную ногу и по предписанию врачей был уложен в постель. Я застал его на кушетке, в облаках дыма, с журналом в руках. Он обрадовался моему приходу, просил хозяйничать и организовать завтрак. Я с утра ничего не ел и с удовольствием согласился. Артемий Иванович расспросил меня о подземном заводе. Я рассказал ему обо всем подробно, как днем раньше рассказывал майору. Он мало интересовался романтической стороной приключений и расспрашивал больше про технику, про машины, про число рабочих и так далее. Особенно он интересовался вопросом, возможно ли, по моему мнению, присутствие в подземелье живых людей, или же там остались одни автоматы. Я ничего не мог ответить ему, потому что и сам не знал ничего. Потом я рассказал ему о событиях сегодняшнего утра. О настоящем корреспонденте киевской газеты, о разоблачающем письме Анечки и об открытии инкогнито лжекорреспондента. Краевский об этом уже знал. Он интересовался только некоторыми деталями наружности Коломийцева. — Жаль, что я его не видел. Он уже уехал? — спросил он под конец. — Уехал. На пристань Белые камни. На открытие нового элеватора. — Да, знаю. Там сегодня торжество. Только что же он так поздно? — Председатель горисполкома запоздал с приглашением. — Его пригласил председатель? — Да, и оплатил командировку. Краевский замолчал и закурил новую трубку. Читателям понятно, какие муки любопытства испытывал я во время этого разговора, как хотелось мне узнать, что делалось в мое отсутствие, нашли ли тетрадку Пасько, успешно ли идут розыски шпионов. Наконец я не удержался и спросил: — Артемий Иванович, а вы что делали в мое отсутствие? Краевский рассмеялся: — Наконец-то вы решились спросить! А я уж думал, что вам неинтересно. И без дальнейшего предисловия он рассказал мне историю поисков радиомаяка, — словом, все, что уже известно читателю из предыдущего. Он добавил также, что радиомаяк был разобран в тот же день и что в нем нашли зашифрованное донесение, которое тотчас же послали в Киев для расшифровки. — А тетради Пасько не нашли? — спросил я. — Нет, только короткое сообщение. — Так, может быть, вся история с маяком никакого отношения к подземелью не имеет? — И так может быть. Я был разочарован. Тетрадь Пасько, этот важнейший документ, на розыски которого мы затратили так много сил, опять ускользнул у нас из рук. Радиомаяк перестал меня интересовать. Впоследствии мне довелось держать в руках этот прибор, и я вкратце опишу его устройство. По внешнему виду он немного походил на спиннинг с очень большой рукояткой. Удилище длиной более чем в два метра легко развинчивалось на пять колен. Внутри тростинки была вставлена легкая алюминиевая трубочка, служившая антенной. Роль рукоятки выполняла крепкая латунная трубка, окрашенная в зеленоватый тон и разделенная внутри на три камеры. Нижнюю треть занимал аккумулятор, в средней помещался самый радиопередатчик, смонтированный из крохотных деталей: лампочек, катушек, реле, конденсаторов и проводов, а также часовой механизм, включающий каждые пятнадцать секунд передатчик. Верхняя камера предназначалась для корреспонденции. Там нашли секретное донесение. Аппарат приводился в действие поворотом колечка, находящегося в верхней части трубки. Он предназначался для сбрасывания с самолета или просто устанавливался на участках, поросших камышом, каких очень много в нашей области. Все специалисты, осматривавшие радиомаяк, установили, что он сделан за границей. Когда мы беседовали, вошел Рожков. Он принес большой диск, завернутый в газету. — Вот смотри, — обратился он к Краевскому, — что вытащил Анисимов со дна речки, недалеко от того места, где он почти нагнал Ничипоренко. — Что такое? — Самая обыкновенная сетка для ловли раков, какая здесь имеется у каждого рыбака. — И она принадлежит Ничипоренко? — Да. Он признает ее своей и заявил, что оставил ее в воде, когда ловил раков, испугавшись появления Анисимова. Соседи-свидетели тоже подтверждают, что это его сетка. — Что же это значит? — Это значит, что наш молодчик очень хитер. Кроме радиопеленгаторного приемника, он захватил с собой и эту настоящую сетку. На всякий случай. А когда увидел, что его преследуют, то бросил ее в воду в том месте, где легко можно найти, а приемник спрятал куда-нибудь подальше. — Ловко! Что же ты теперь собираешься предпринять? — То, что обязал сделать. Отдам сетку собственнику, а самого его отпущу на все четыре стороны. Я не верил своим ушам. «Как! — думал я. — Отпустить на свободу иностранного агента, заведомого врага, чтобы он мог уничтожить все следы своей деятельности и оповестить сообщников! Как это возможно?» — Простите, Андрей Матвеевич, —сказал я, — но ведь он ловкий мошенник и опасный шпион, вы же сами сказали это. Как же можно его отпустить? Он скроется, заметет все следы, оповестит своих сообщников. — Что же делать. Сережа, — ответил майор улыбнувшись. — Мы не можем предъявить ему никакого обвинения. — Но радиомаяк! Сам он ведь не мог перелететь па другое место? Его кто-то перенес. Никого другого, кроме этого рыбака, не видели. — Рыбак сам по себе, а маяк сам по себе. Его могло перенести другое лицо, не замеченное нами. А может быть, он вовсе и не двигался, а просто наши измерения были ошибочными. Вы не допускаете этого? — Нет, это немыслимо! И потом: этот Ничипоренко — человек крайне подозрительный. — Почему? Он сорок лет работает здесь речным сторожем. Все его кругом знают. Во время войны был эвакуирован на Каму. Обыск ничего положительного не дал. Наконец, одних наших подозрений мало — нужны доказательства. Говоря это, майор улыбнулся. Я не знал, как понимать его слова — в шутку или серьезно, и оставался в недоумении. — Что же, значит, надо бросить все дело? —спросил я. — Никто этого не говорит, — сказал Краевский и тоже улыбнулся. — Вот что, Сережа, — добавил ом,—давайте займемся чаем, да обновите на столе закуску. Андрей Матвеевич, наверное, голоден. — Что верно, то верно, — сказал Рожков. — Но сначала я хочу показать тебе одну интересную вещь... Только что получил расшифровку. Доставили самолетом из Киева. — Да? Что же там оказалось? — Сейчас увидишь. Майор достал из кармана конверт и вынул оттуда два листочка бумаги. На одном из них была с большим искусством начерчена карта местности возле Серой скалы: изгиб реки, лес, дороги, недостроенное укрепление, брошенный лагерь, тропинки и даже «Колонна согласия» и колодец, с которым у меня было связано столько тяжелых воспоминаний. На другом листочке были написаны несколько строк по-английски, и под ними русский перевод. Ниже шли подписи шифровальщиков и печать. «Сообщения младшего подтвердились. Подземное предприятие существует. Проник туда. Все осмотрел. Запасы руды громадные. Беседовал с комендантом. Для нас бесполезен. Отказался продать мемуары ученого. Отрицает их существование. Опасаюсь, что русские напали на наш след и скоро все узнают. Тогда, не колеблясь, поступлю по вашему указанию. Г 126». Вот что было написано в донесении шпиона. Я как следует не понял его смысла. — Что это значит, Андреи Матвеевич? — спросил я. — Многое, Сережа... Во-первых, что до сих пор в подземелье или около него живет комендант. Во-вторых, и это самое главное, что мы до сих пор ошибались и что шпионы не похищали тетради Пасько, а сами ее ищут. — А куда же она девалась? — Ее взял комендант. О, видимо, это дьявольски хитрая бестия! Пасько и Хиссингера не расстреляли сразу, а посадили на цепь, оставили им продовольствие, свети бумагу вовсе не для того, чтобы продлить их мучения, не из лицемерия. Нет! Здесь был тонкий расчет... Начальники объекта понимали, что приговоренные к смерти герои не унесут в могилу своей тайны, что они захотят поведать ее потомкам. Фашисты правильно рассчитали. Они сыграли на лучших человеческих чувствах. Думая, что в подземелье никого не осталось, ученые трудились для блага будущих поколений, а негодяй воспользовался их трудами... Кроме того, — добавил майор, — из этого донесения мы узнали, что шпионы обеспокоены, как бы мы их не выследили, и будут, наверное, действовать решительнее и что существует какой-то «младший», который информировал иностранную разведку о Серой скале. — Интересно. Что же ты теперь намерен делать? — Теперь — завтракать, — засмеялся майор.—А потом немного отдохнуть в честь сегодняшнего счастливого дня: и с радиомаяком удача и с корреспондентом. Рожков, видимо, и в самом деле проголодался и закусывал с аппетитом. Потом приступил к чаепитию. Возобновив разговор, Краевский сказал: — Жалко, что мне не удалось видеть этого Коломийцева в натуре. Я бы имел представление и о его двойнике. Фотография в данном случае не поможет. — Он очень торопился на пристань Белые камни. Сейчас уже мчится в поезде. — Как хочешь. Андрей, но только здесь что-то странное. Я знаю председателя горисполкома Макаренко. Аккуратный и скуповатый человек. Не станет он выписывать столичного корреспондента и тратить на него деньги, когда местных борзописцев сколько хочешь. Не в его это характере. К тому же открытие элеватора — событие не особенно важное. Майор встал со стула и зашагал по комнате из угла в угол, видимо продумывая новую, только что пришедшую ему на ум мысль. Потом он попросил у хозяина разрешения поговорить по телефону и вышел. Мы продолжали пить чай. Прошло не менее четверти часа, прежде чем Рожков вернулся. Я сразу увидел, что случилось что-то важное, — так бледно было его лицо и так нервны были движения. — Артемий! — сказал он взволнованным голосом. — Коломийцева никто не приглашал на торжество. Я звонил в горисполком. — Ну? Значит, он обманул тебя! — Нет, обманули его самого! Это ловушка, понимаешь? Его заманили в западню! — Что ты говоришь! Ему угрожает опасность? — Да. Он теперь им — как бельмо на глазу. Шидловский, надо думать, узнал, что сестра написала ему в Киев. От кого? Да от нее же самой. Они почуяли опасность. Вдруг Коломийцев передаст письмо органам государственной безопасности? Тогда ведь размотается весь клубочек! Не допустить этого. Немедленно устранить Коломийцева. Тогда Шидловский еще долго сможет фигурировать под его именем, разъезжая по захолустью. — А родственники-то как? — Он одинок, а соседи привыкли к разъездам корреспондента. Я дал распоряжение по линии снять Коломийцева с поезда. Думаю, что удастся это сделать на станции Панычи. Но надо самому там быть... Немедленно ехать! Все остальное подождет. Сейчас придет наша большая машина. Краевский вскочил с кушетки и, опираясь на палку, заковылял к гардеробу. Рожков остановил его: — Нет, Артемий, ты ничем не можешь нам помочь. Оставайся здесь. — Нога почти зажила. — Все равно. Ты здесь необходим, потому что один знаешь как следует место. Прошу тебя участвовать в операции «УН». Это очень важно. А я поеду с Хрулевым и... Майор посмотрел на меня. Я подошел к нему. — Товарищ Зернин, хотите? — Хочу. — Но это дело небезопасное. — Андрей Матвеевич! — Хорошо, едемте... Но вы слишком легко одеты. Будет холодно. — Я дам ему свою фуфайку и кашне. — ответил За меня Артемий Иванович. — Сережа, откройте гардероб. В это время к дому подкатил большой открытый автомобиль. Из него вышел Хрулев и поднялся к нам. Он был в штатском и привез штатское платье для майора. Тот быстро начал переодеваться, не переставая давать указания: — Сережа, не забудьте спички... Артемий, дай ему, пожалуйста, карманный фонарик да приготовь нам штуки по три бутербродов. Через минуту мы уже сидели в машине. Краевский провожал нас, стоя у окна. Я только успел крикнуть, чтобы он позвонил в больницу и успокоил Леночку. Мотор загудел, машина тронулась с места, под колесами заскрипел гравий. Краевский помахал мне рукой в знак того, что понял меня.Глава XXIV ВСТРЕЧА С ДВОЙНИКОМ
Вечерело. Машина почти беззвучно мчалась по асфальту широкой автострады. На прямых участках шофер развивал такую бешеную скорость, что придорожные кусты, камни и деревья, сливаясь, казались сплошной стеной. Машина была открытая, и даже поднятый брезентовый верх не спасал от холодного ветра. Если бы не фуфайка, которую мне любезно дал Краевский, я бы промерз до костей. Мы ехали уже больше часа. Но вот шофёр сильно замедлил ход. Машина свернула в сторону и поехала по грунтовой дороге, огибая холмы и овраги. Быстро ехать здесь было нельзя. Майор посмотрел на часы. — До станции Панычи осталось только шесть километров,— сказал он, — но по такой дороге проедем не меньше десяти минут и будем там без четверти девять, то-есть через двенадцать минут после отправления поезда... Это ничего. Только бы успели снять Коломийцева с поезда. Опасения Рожкова не оправдались. Когда мы, выскочив из машины, вбежали в дежурную комнату, навстречу нам поднялся корреспондент. Вид у него был удивленный и рассерженный. — Простите, майор, — обратился он к Рожкову,— мне сказали, что я задержан по вашему распоряжению. Это верно? — Верно. — Но позвольте... Я не вижу причин! И, наконец, я опаздываю. Вам известно, что я приглашен на торжество, а следующий поезд будет только завтра? — Вас никто не приглашал. — Как — не приглашал? Я получил телеграмму! — Она подложная. — Подложная? Почему вы так думаете? — Горисполком не посылал вам ее. Я снял вас с поезда потому, что вашей жизни угрожает опасность. — Какая опасность? Что вы говорите! — Самая настоящая. Вы стали поперек дороги крупной злодейской организации. Они решили убрать вас и заманили в ловушку. Коломийцев растерялся от неожиданности и не сразу нашелся что сказать. — Убрать, говорите вы? То-есть убить?.. Как же так? За что? Я... я вам очень благодарен, майор! — Это мой долг. Но я хочу вас просить о некотором содействии. — Я могу быть вам полезен? — И даже очень. — Тогда располагайте мной. Пожалуйста! — Я в вас не сомневался. Хотя должен предупредить, что дело рискованное, и если вы боитесь, то я настаивать не буду. Вас тогда под охраной отправят обратно в город, где вы будете в полной безопасности. Корреспондент колебался не более секунды: — Что ж из того, что рискованное. Я всю войну провел на фронте. Не струшу. — Словом, вы согласны? — Согласен. Майор крепко пожал ему руку. — Едемте, — сказал он. — Время не ждет. И вот мы снова, теперь уже вчетвером, несемся в машине. Рожков смотрит на часы: — Пять минут десятого. До автострады проедем минут десять. Оттуда до Белых камней останется еще тридцать два километра, но мы сможем развить большую скорость и пролететь их минут в двадцать. Значит, на станции будем без двадцати пяти десять. По расписанию поезд приходит в девять двадцать семь. Итак, мы запаздываем. Надо торопиться... От станции Белые камни до самой пристани еще пять километров по шоссе. Там регулярно ходят автобусы. Вы, товарищ Коломийцев, пойдете первым и постараетесь занять в автобусе переднее место. Сергей Михайлович пойдет за вами и сядет позади вас. Лейтенант Хрулев будет следовать за автобусом на нашей машине. Я, смотря по обстоятельствам, буду или с вами, или с ним. Все мы между собой незнакомы. Вот каков мой план действий. Но помните, — обратился он к Коломийцеву, — будьте осторожны, от нас не отделяйтесь и не показывайте виду, что знаете их намерения. Когда мы выехали на магистраль, было уже совсем темно. Машина понеслась с предельной скоростью. Ничего подобного я не испытывал в жизни. Казалось, мы не катимся по дороге на колесах, а летим на каком-то фантастическом снаряде или ракете. Только тогда, когда при неровностях дороги нас с силой подбрасывало вверх, эта иллюзия рассеивалась. Ветер дул в грудь и пронизывал насквозь с такой силой, будто на тело была надета одна только рубашка. Рожков то и дело глядел на часы, освещая их карманным фонариком, и торопил шофера. Сирена ревела без перерыва. Встречные машины, возы и пешеходы робко жались по краям дороги. Внезапно появляясь в лучах наших фар, они исчезали почти в то же мгновение. Обгоняемые повозки словно застывали на месте и не двигались. Я никогда не забуду этой дикой ночной гонки. Наконец далеко впереди замелькали белые, зеленые и красные огоньки станции. Потом справа в темноте обрисовалось железнодорожное полотно с рядом телеграфных столбов. Еще две или три минуты — и мы мчимся мимо светофоров, стрелок, будок, шипящих паровозов и подъезжаем к станции почти одновременно с пассажирским поездом. Машина сразу останавливается. Мы соскакиваем, и она тотчас исчезает в темноте, увозя лейтенанта Хрулева. Ему придется сделать крюк и объехать кругом станции через переезд, чтобы встретить нас у выхода из вокзала. — Скорее! — торопит Рожков. — Нам необходимо попасть в общий поток пассажиров. Майор ведет нас какими-то задворками, через калитку, по запасным путям. Мы перебираемся через натянутую на столбиках проволоку, лезем под вагонами, мимо маневрирующих составов, рискуя попасть под паровоз, и, подсаживая друг друга, взбираемся на платформу. Пассажиры еще не покинули перрона. Идем, как условлено: впереди Коломийцев, потом я, сзади майор. ...Все произошло не так, как мы предполагали. Автобуса у вокзала не оказалось: он испортился, и ехать в город было не на чем. Между тем наступила ночь, и стал накрапывать дождик. Пассажиры толпились в зале и на крыльце, бранились, жаловались, торговались с извозчиками. Нашей машины еще не было. Как только высокая фигура Коломийцева появилась у выхода, к нему подошел пожилой мужчина невысокого роста с бледным выбритым лицом и, вежливо поклонившись, сказал: — Товарищ Коломийцев, если не ошибаюсь? Очень приятно! Я из горисполкома. За вами прислали машину. Пожалуйста!.. Корреспондент растерялся. Отказаться не было основания, ехать одному — значило подвергнуть себя крайней опасности. Он стоял, не зная, на что решиться. Я понял, что должен действовать немедленно и смело. — Простите, — обратился я к нему, — за вами, я слышал, прислали машину. Будьте любезны, подвезите меня. Я из Киева и очень спешу в горсовет... Прошу вас! В тот же момент я почувствовал, что кто-то осторожно тянет меня сзади за рукав и вкладывает мне в руку холодный металлический предмет, в котором я ощупью узнаю пистолет. Оружие передал майор. Я принял его как знак доверия и тотчас же сунул в карман пальто. Коломийцев обрадовался моим словам: — Пожалуйста! Буду очень обязан, — ответил он. Теперь растерялся незнакомец. Он хотел было возражать, пробормотал, что, мол, машина небольшая и что «посторонним не разрешается», но Коломийцев его не слушал и усадил меня рядом с собой. Незнакомец не стал спорить, только долго и пристально рассматривал меня, точно стараясь разгадать, случайным ли было мое выступление. Потом он сел рядом с шофером, и мы покатили. Краем глаза я успел заметить, что наша машина с Хрулевым все еще не прибыла. Кругом царила непроглядная тьма. Слабые фары едва освещали десяток метров впереди. Дорога шла по ровному месту. Огни станции постепенно меркли, сближаясь между собой и превращаясь в матовое пятно. Потом исчезло и оно за буграми и кустарником. Скоро машина круто повернула в сторону, поехала в гору и затряслась на ухабах скверной лесной дороги. Мотор завыл на малых скоростях. По обеим сторонам стеной стал лес, темный и неприветливый. «Это не к добру, — подумал я. — Похоже, что нас хотят затащить в такую глушь, куда и ворон костей не заносил». Гляжу через заднее оконце в надежде увидеть огни догоняющей машины, но через мокрое стекло не видно ни одной светлой точки. Прошло еще несколько тревожных минут. Незнакомец сидел неподвижно и через открытое оконце вглядывался в темноту. Я следил за каждым его движением. Вдруг он откинулся на спинку и мельком взглянул на нас. В ту же минуту мотор застучал, закашлял и перестал работать. Машина стала. Свет погас. Шофер выругался, вылез наружу, засветил огарок, поднял капот мотора и стал там возиться. — В чем дело? — спросил незнакомец и тоже вылез. Остановка, конечно, была умышленная, в нужном месте. Очевидно, наступал решительный момент и следовало ждать нападения. Но я был вооружен и чувствовал себя готовым встретить любую опасность. Мы с Коломийцевым тоже выбрались из машины и отошли в сторону. Шофер заявил: — Цилиндр не работает. Испортился... Я говорил, что троих не потащит. Одного бы еще можно было. Ах ты, беда какая! — Зачем же вы брались везти? — начал распекать его незнакомец. — Что же мы будем делать здесь ночью с неисправной машиной? — Исправная была. В нее не влезешь. И не доехали-то всего чуть-чуть... километра два, не больше. А через лесок, по тропинке, и километра до пристани не будет, право слово. — Может быть, почините? — Нет, какое там! В этакой темноте не починишь. Троих не потащит, — заявил он решительно. — Дорога очень тяжелая. Одного еще можно было бы. — Что же поделаешь? Придется пешком идти, — вздохнул незнакомец. — Очень извиняюсь, — обратился он к Коломийцеву. —Такое безобразие!.. А тут и в самом деле недалеко. Тропинка известная. С фонарем живо доберемся. Он говорил совершенно естественным тоном, но шофер был плохим актером, и в голосе его звучали фальшивые нотки. Все было ясно. — Подождем лучше, — ответил корреспондент, — может быть, догонит какая-нибудь машина. — Какое там догонит! — вмешался шофер. — По этой дороге и возы-то не ездят, не то что автомобили. — Зачем же вы поехали? — задал я вопрос. — Здесь короче будет. — Ой ли? Шофер осекся. Незнакомец подошел ко мне. В полутьме я разглядел его бледное, злое лицо и глаза, полные страха и подозрения. Я быстро вытащил пистолет из кармана и скрыл его в рукаве пальто. Он отошел. Наступило тягостное молчание... — Чего же мы ждем? — опять начал незнакомец, уже не так уверенно. — Идемте. А вас, — обратился он ко мне, — машина как-нибудь дотащит. — Мы останемся здесь, — твердо заявил Коломийцев. Незнакомец остановился, потом сделал едва заметное движение, только немного переменил позу: выпрямился и подался вперед. «Сейчас будет стрелять», — пронеслось у меня в голове. Я открыл предохранитель пистолета и отступил за кузов машины. Опять неловкое молчание. Слышно было только, как шумит ветер верхушками деревьев да стучат по листьям редкие капли дождя. Но нападения не произошло. Незнакомец вдруг засуетился и сказал странным, плаксивым голосом, в котором больше всего звучали нотки страха: — Как вам будет угодно, конечно... Товарищ шофер, попробуйте исправить машину. «Он испугался, — подумал я. — Или, может быть, тут еще какой-нибудь подвох... Надо быть осторожным». Он в самом деле испугался, только не нас. Я заметил, что верхушки деревьев вдруг осветились слабым светом. Он стал усиливаться понемногу, сползать вниз, пятнами забегал по стволам, траве, песку. Послышался гул мотора, и на дороге появилась наша машина, заливая все впереди себя потоками лучей. Она остановилась, и я услышал грозный и вместе с тем встревоженный голос Андрея Матвеевича: — Что случилось? Я так обрадовался, что готов был броситься на шею своему избавителю. Коломийцев оказался более выдержанным. — Автомобиль испортился, — заявил он, — и нам предлагают идти пешком через лес. Рожков подошел к шоферу и схватил его за плечо: — Куда ведет эта дорога? — На старую каменоломню, — ответил тот довольно дерзко. — Так зачем же ты по ней поехал? Ну? Отвечай сейчас же! — Куда приказали, туда и поехал. А мне что? — Кто приказал? Кто?.. — Кто нанял, тот и приказал. Он вот... Шофер стал искать глазами незнакомца, но тот исчез. Осмотрели ближайший кустарник, канавы и дорогу — его нигде не было. Очевидно, раньше других заметив огни фар, он успел скрыться в лесу. Машина наша стала бесполезной. Майор понял это. — Лейтенант Хрулев, — приказал он, — доставьте этого молодчика на пристань и сдайте его от моего имени уполномоченному. Товарищ Коломийцев, вы поедете с ними. Попросите начальника милиции приютить вас на время. Там вы будете в безопасности. ...Засветив карманные фонарики, мы стали шарить по кустам, стараясь отыскать тропинку. — Она обязательно должна быть здесь, поблизости — утверждал майор. Но прошло более получаса, прежде чем мы на нее набрели. Тропинка тянулась вдоль дороги, шагах в ста от нее, постепенно отдаляясь вправо. Она сильно заросла травой и покрылась слоем прошлогодней листвы. Здесь, видимо, редко ступала нога человека. Деревья обступали ее со всех сторон. Их кроны повисали, как кровля, защищая тропинку от дождя, и Рожков напрасно искал на ней следы. Он сказал: — И все-таки наш молодчик, выдававший себя за представителя горисполкома, непременно должен воспользоваться этой тропой. Бежать в такой тьме напрямик через лес немыслимо. Мы пойдем вслед за ним. Но надо быть осмотрительными. Их здесь, может быть, целая шайка, готовая на все, а нас только двое. Светите короткими вспышками и исключительно вниз, перед своими ногами, и ни в коем случае не вперед, в стороны или вверх. Идите тихо и прислушивайтесь, да держите оружие наготове. Я пойду вперед, а вы не отставайте. И вот мы пошли. Кругом ничего не видно. Только подняв голову вверх, можно было различить темное кружево листвы, раскачиваемое ветром. Лишь в те мгновения, когда вспыхивал свет фонарика, освещая густую траву, стволы и нависшие ветви деревьев, я видел напряженную фигуру шефа в нескольких шагах впереди. Лес шумел то вдали, еле слышно, то над самой головой. И тогда под порывом ветра верхушки деревьев раскачивались из стороны в сторону, стволы скрипели и жалобно стонали, и сверху сыпались листья. От холода и нервного напряжения я дрожал, как в ознобе. Так шли мы очень медленно и очень долго. Странное чувство постепенно овладело мной. Страх исчез, но мне стало чудиться, что окружающее нереально, что все происходит не в действительности, а во сне или в бреду. Мысли мои оторвались от происходящего и блуждали в воспоминаниях далекого детства. Я не думал ни про незнакомца, ни про опасность, ни про майора, хотя в точности следовал его указаниям. Очнулся я, когда буквально наткнулся на его спину. Лес поредел, отчего кругом посветлело. Слева виднелся невысокий каменистый холм, поросший мелколесьем, справа — овраг, заваленный валунами. Тропинка круто сворачивала туда и терялась среди кустов и камней. — Опасное место, — прошептал я. — Да. Удобное для засады. Только я не про то... Здесь огонек как будто виднеется. Смотрите, Сережа. Вон там, наверху... Я стал вглядываться. И точно: в темноте среди веток и стволов слабо мерцало светлое пятнышко. Оно то заслонялось, то вновь открывалось колеблющимися деревьями. — Надо узнать, что там такое, — сказал майор. Мы долго прислушивались, по ничего, кроме шума ветра да скрипа стволов, не услышали. Тогда мы пошли вверх по косогору на огонек. Свет исходил из оконца маленького домика. Стены его, кое-как сложенные из дикого камня, полуразвалившаяся черепичная крыша, поросшая травой, и остатки плетня отчетливо обрисовывались на фоне леса. — Обойдите слева, — шепнул майор, — а я обойду справа. Да осторожнее... Не показывайтесь в освещенной полосе. Тихонько пробираясь от куста к кусту и от дерева к дереву, я приближался по спирали к домику. Недалеко от него, на маленькой полянке, я наткнулся на кучу земли. Рядом чернела свежевырытая яма длиной метра в два. Что это могло быть? Траншея ли, начатая постройкой, или волчья яма, или же место выкопанного клада, или, наконец, заготовленная могила? И пустая ли она? Я подполз к ее краю и стал бросать камешки. Яма была глубиной около метра и пустая. Это было слышно по звуку. — Сережа, идите сюда! — сказал майор довольно громко. Я подошел. Он стоял возле открытой низенькой двери домика с фонариком в руке. В полутьме я увидел па его лице несвойственное ему возбуждение. — Что там такое? — Идите посмотрите сами. Нагнувшись, я вошел в маленькие сенцы. Пустая кадка для воды и деревянный ковш — в одном углу, веник и лопата со следами свежей земли — в другом. На скамейке чугунок с вареной картошкой. Раскрытая дверь вела в горницу побольше. Я переступил порог. Маленькая керосиновая лампа с закопченным стеклом, стоящая на полочке, тускло освещала комнату. Посреди пола ничком лежало тело мужчины в серой суконной куртке, сапогах, без шапки, с широко раскинутыми руками я неестественно согнутой шеей. Вместо затылка зияла сплошная кровавая рана. Под головой на полу чернела большая лужа крови. — Кто?.. Кто это?.. — воскликнул я. Майор подошел, нагнулся и повернул тело. Я увидел зеленоватое, все испачканное лицо убитого, остекленелый взгляд открытых глаз и длинные усы. — Галемба, — проговорил он. — Я так и думал! Убит наповал. Совсем недавно. Меньше часа тому назад. В этом ужасно искаженном лице осталось мало человеческого, и все-таки оно было мне знакомо. Передо мной, несомненно, лежал тот самый человек, которого я видел ночью в лодочке, когда отважился плыть через реку на разведку. — Андрей Матвеевич, я узнаю его! Это тот самый человек, который напал на меня ночью и потом плыл в лодочке вместе с Петей. Вы говорили, что он работал сторожем у парома. — Разумеется! Теперь взгляните повнимательнее. В профиль. Закройте ему подбородок тряпкой. Ну? Я посмотрел на лицо убитого сбоку и изумился. Он чрезвычайно походил на того самого человека, который выгнал нас с фашистского укрепления, сказав, что оно минировано. Только теперь он был без бороды. Какое странное стечение обстоятельств! — Кажется, я имел с ним столкновение у недостроенного укрепления. Он тогда прогнал нас. Как это странно! — Вы еще больше удивитесь, когда узнаете, что перед вами лежит продавец прорезиненного плаща, за которым мы безуспешно гонялись по дороге... Это старый плут и негодяй. Настоящее имя его Лизогуб. Потом я расскажу вам историю его темной судьбы. Очень жаль, что мы нашли его мертвым. Живым он был бы много полезнее. — Кто же его убил? — Свои, разумеется. Тот самый незнакомец, которого мы ищем. — Но зачем же убивать своего сообщника? — Он им стал больше не нужен, и они его убрали как опасного свидетеля... Ну, нам больше нечего здесь делать. Надо спешить в город. Там, надеюсь, нас ждет сюрприз. Я облегченно вздохнул, когда мы покинули домишко и вышли на свежий воздух. Происшествие подействовало на меня удручающе. — Идемте скорее, — торопил майор, — теперь нечего бояться засады: убийца далеко отсюда и бежит без оглядки. — Андрей Матвеевич, — не согласился я, — а мне думается, что он здесь, поблизости. Он ведь выкопал могилу и хотел зарыть труп, а мы помешали. — О какой могиле вы говорите? — Тут, совсем рядом, есть яма. Я показал ему яму, на которую наткнулся в темноте. Он осмотрел ее при свете фонарика. — Могила, точно. Вы не ошиблись, Сережа. Только вырыта она сравнительно давно, земля успела промокнуть от дождя. И копали ее в спокойной обстановке, а не второпях. И заступ, которым работали, мы с вами видели в сенях. Могила эта, Сережа, предназначалась не для Галембы, как вы подумали, а, несомненно, для нашего друга Коломийцева. И он лежал бы в ней, если бы не отозвался на мое приглашение... Теперь — в дорогу! Мешкать нечего. Мы не стали возвращаться назад, а нашли другую, хорошо утоптанную тропинку и направились по ней. При свете фонариков двигались быстрее и без задержек. Тропинка скоро привела нас к заброшенной каменоломне, находящейся на вершине скалистого холма, господствующего над городом и рекой. Подошли к краю обрыва. Глубоко внизу, словно рассыпанный бисер, искрились огоньки города. Можно было различить параллели улиц, квадраты площадей и извилистый контур набережной. Ярко освещенная пристань и пароход, стоящий около нее, были ясно видны. Их огни отражались в воде. А дальше в обе стороны реки в тумане мерцали зеленые и красные огни сигнальных фонарей, указывающих фарватер. Но любоваться было некогда. Цепляясь за кусты и помогая друг другу, мы стали спускаться прямо по крутизне. Через полчаса мы, усталые, голодные и перепачканные, входили в город. Прошли мимо только что открытого элеватора, украшенного плакатами и флагами, мимо складов, заборов, магазинов и подошли к ярко освещенному клубу. Рожков поглядел на часы. — Без десяти одиннадцать, — улыбнулся он. — Мы еще успеем попасть на концертное отделение. Зайдемте? — Зачем? — изумился я. — Да так... Может быть, что-нибудь интересное будет. — Андрей Матвеевич, — запротестовал я, — право же, мне не до концерта. Устал, небритый, костюм неподходящий. Да и вам надо было бы отдохнуть. — Ничего, идемте. Вы не пожалеете, уверяю вас. Мы вошли в клуб. К моему изумлению, в гардеробе нас дожидался лейтенант Хрулев. Увидя нас, он поднялся со стула и шепотом доложил: — Товарищ майор, он здесь, сидит в первом ряду. — Наблюдение установлено? — Стерегут у всех выходов. — Концерт скоро кончится? — Кончается. Последние номера. — Хорошо. Проводите нас в кабинет директора и поезжайте. Привезите поскорее сюда того... другого. В кабинете никого не было. Мы сняли верхнюю одежду, почистились и привели себя в порядок, насколько это было возможно. Я сгорал от любопытства, но ни о чем не спрашивал. Рожков начал сам: — Сейчас, Сережа, вы будете свидетелем очной ставки корреспондента Коломийцева с его двойником. — Как? Он здесь? На концерте?.. — Здесь. — Но зачем? Ведь глупо же так рисковать! — Напротив, вполне разумно. Настоящий Коломийцев, наверное, дома сказал, что получил приглашение из Белых камней и едет туда. Если бы он не вернулся, прежде всего обратили бы внимание на этот город и начали бы здесь наводить справки. Это вполне естественно. Тогда отсюда сообщили бы, что-де такой корреспондент приезжал, жил в гостинице, присутствовал на всех торжествах и благополучно отбыл при многочисленных свидетелях. Всякое подозрение с этого района было бы снято, а труп несчастного корреспондента принялись бы искать в другом месте. — Какое хитрое и рискованное дело! — Как вам сказать? Риска для них никакого не было и особенной хитрости тоже. Но наглость и самоуверенность действительно громадные. Как они были уверены в успехе своего преступного замысла! Заметьте, Сережа: самозванец появился на торжестве раньше, чем настоящий был убит. И могила была вырыта загодя. ...Приехали Коломийцев и Хрулев. Корреспондента посадили около стола на кресло, спиной к двери. Мы с майором сели по обеим сторонам его, но к двери лицом. Хрулев стал возле входа у стены. Лжекорреспондента должен был привести директор к себе в кабинет якобы для переговоров. Послышались шаги, дверь открылась, и в комнату вошел директор и с ним высокий, статный брюнет, в котором я тотчас же узнал того человека, с которым разговаривал в гостинице в первый день приезда. Он остановился, изумленный присутствием посторонних. Коломийцев медленно обернулся к нему. Бледное лицо самозванца совсем позеленело. Он невольно попятился и глазами, полными ужаса, глядел на своего двойника. Майор не спускал с него глаз. — Позвольте вам представить корреспондента Петра Николаевича Коломийцева из Киева, — медленно проговорил он. Но самозванец уже оправился: — Здесь какое-то недоразумение... Очевидная путаница, — сказал он, обращаясь к директору и пожимая плечами, между тем как глаза его невольно искали дверь. В дверях уже стоял Хрулев, держа руку с пистолетом за спиной. — Или, может быть, неумная шутка?.. Коломийцев — это я. Меня здесь все знают. Вот и товарищ директор может подтвердить. Наконец, у меня есть документы! Рожков знаком предложил директору удалиться. — Оставьте ваши документы при себе, — сухо сказал он. —Мы знаем, что они отлично сделаны. Даже номера и даты точно такие же, как на подлинниках. Только фотографии различны. — Забавно! Кто же я тогда, по-вашему? Он сказал это вызывающим тоном, но голос его сорвался, и спазма сдавила горло. — Кто вы? Хотите, чтобы я вас назвал? Пожалуйста! По метрике вы Григорий Шидловскнй, по прозвищу «Бедуин», предатель своих товарищей — членов организации ЮРП. По прошлой профессии — агент гестапо, а по настоящей — шпион. Вот кто вы по-нашему! Шидловский опустился в кресло и судорожными движениями стал теребить воротник рубашки. Но он еще не хотел сдаваться. — Все это ваша выдумка! — прохрипел он. — Вы ничего не сможете доказать. Майор поднялся с кресла. — Довольно кривляться! — сказал он. — Вы прекрасно понимаете, что доказать это очень просто. Но об этом мы поговорим в другом месте... Лейтенант Хрулев, обыщите его и уведите. Здесь оставаться больше не следует. Хрулев быстро обыскал Шидловского, извлек бумажник, записную книжку, авторучку, футляр для очков, документы и хорошо нам известную золотисто-желтую расческу в форме рыбки. Майор забрал книжку, документы и деньги, а остальное, в том числе и расческу, вернул собственнику. Шидловского увели. С ним уехали майор и Хрулев, а мы с Коломийцевым пошли ночевать в гостиницу. Утомленный и взволнованный происшествиями дня, я заснул только под утро. Спать пришлось недолго. В семь часов меня разбудил майор. Вид у него был огорченный и измученный. Наверное, он и вовсе не спал в эту ночь. — Шидловский — хитрая бестия, — сказал он мне.— Он сознался только в самозванстве, во всем остальном упорно отпирается. Говорит, что пользовался именем известного корреспондента для мелкого мошенничества и шантажа в захолустье. Документы будто бы подделал сам, рану — тоже. Врет, конечно. Свое участие в работе юных разведчиков отрицает категорически. Интересно, как он объяснит, откуда взял расческу?.. Шофер тоже отпирается. Говорит, что ехал, куда ему приказали, а кто его нанял, не знает. Тоже врет. Отправил обоих с Хрулевым к нам в город... Вставайте, Сережа: надо будет еще пошарить в лесу. В этот и следующий дни мы с помощью местных работников милиции прочесали весь лес, осмотрели каменоломню, овраги, тропинки и дороги и побывали в злополучном домике, где застали следователя. Он показал нам стреляную гильзу от крупнокалиберного пистолета, которую нашел в сенях на полу. — Выстрел отменный, — сказал майор, рассматривая ее. — Он сделан из того же пистолета, из которого стреляли в вас, Сережа. Мы нашли несколько таких гильз на песчаном берегу, с которого вы прыгнули в реку. Вам тогда повезло. Поиски не дали никаких результатов. Не было обнаружено ничего, что бы указывало на личность незнакомца, который вез нас с Коломийцевым. Его никто не видел ни на вокзале, ни на пристани, ни на дорогах. Он как сквозь землю провалился. Майор был огорчен этой неудачей. Он отпустил меня домой, и я уехал в тот же вечер. Сам он хотел остаться на пристани Белые камни еще некоторое время.Глава XXV ОПЕРАЦИЯ "УН"
Прежде чем приступить к описанию тех событий, которые составляют содержание последних глав этой повести, я хочу рассказать, что произошло в городе в наше отсутствие, то-есть в то время, когда я, Рожков и Хрулев были в Белых камнях. Читатель помнит, что, неожиданно уезжая из города, майор просил Краевского принять участие в какой-то операции «УН». Чтобы все дальнейшее было понятным, я сейчас разъясню, в чем состояла эта операция. Буквами «УН» была условно обозначена фраза: «Уличение Ничипоренко». Что этот человек несомненно был членом шпионской организации и приезжал на лодке для того, чтобы взять радиомаяк, — в этом мы все ни на секунду не сомневались. Но никаких улик против него собрать не удалось. Тогда прибегли к хитрости. Благодаря счастливому стечению обстоятельств Ничипоренко не видел Краевского, когда тот возвращался с радиомаяком, и не мог знать, что прибор этот найден. Рожков, сразу поняв, что имеет дело с опытным негодяем, не предъявил ему на допросе эту находку и ни одним словом о ней не обмолвился. У Ничипоренко создалось убеждение, что радиомаяк не нашли. Оно еще более окрепло, когда ему вернули сеть для раков. Радиомаяк поставили на то самое место, где его нашли, чтобы он служил приманкой. Шпионское донесение, само собой разумеется, заменили пустой бумагой. Сам радиоприбор переделали так, чтобы вместо редких сигналов, посылаемых в эфир четыре раза в минуту, он испускал частые гудки наподобие телефонных сигналов «занято». Находясь в воде, он молчал, а начинал работать только с того момента, как его извлекали из воды. Это было достигнуто очень простым приспособлением. Внутрь латунной трубки рядом с аккумулятором была впаяна небольшая трубочка с несколькими отверстиями, выведенными наружу. Внутри трубочки поместили маленькую металлическую коробочку, служащую поплавком. Когда радиомаяк находился в воде, она наполняла трубочку, и коробочка свободно плавала в верхней ее части. Но стоило только вытащить его из реки, вода вытекала из трубочки, поплавок падал на ее дно и замыкал контакт электрической сети, отчего передатчик начинал работать, посылал сигналы. Длину волны изменили, чтобы Ничипоренко не мог поймать сигнал своим приемником и догадаться об обмане. Ведь он в свое время радиомаяк выключил. Эту остроумную конструкцию придумал, осуществил и проверил капитан Лаптев в какие-нибудь два дня. На другой день после нашего отъезда в Белые камни Краевскому пришлось самому поставить радиомаяк на прежнее место, потому что никому другому оно не было известно. За радиомаяком установили непрерывное наблюдение. Трудно было предположить, что Ничипоренко рискнет днем отправиться за маяком, но можно было ожидать, что он захочет произвести разведку, чтобы убедиться, остался ли радиомаяк, на месте, все ли благополучно и нет ли какой опасности. Поэтому днем наблюдали за радиомаяком с большого расстояния в сильный бинокль из хорошо скрытого наблюдательного пункта. На всякий случай в укромном месте стояла моторная лодка. Между ней и наблюдательным пунктом была организована радиосвязь. Ночью устроили засаду. Двое дежурили в камышах на лодочках, тщательно укрытых и замаскированных. Двое других дежурили на суше по обоим берегам реки. Дежурные имели радиопеленгаторные приемники. Как только основные приготовления закончились, Ничипоренко был отпущен на все четыре стороны. Нельзя было сомневаться, что он постарается вновь овладеть радиомаяком, и притом не мешкая, чтобы как можно скорее избавиться от важной улики, которую в любую минуту кто-нибудь мог случайно обнаружить. Вечером того же дня, когда Ничипоренко был выпущен на свободу, из соседнего города приехали приглашенные майором Рожковым в помощь капитан Зарубин и сержант Ничкин. Первая ночь прошла спокойно. Следующий день был ясный и солнечный. Краевский вместе с радистом Степановым с утра и до ночи провел на наблюдательном пункте, не выпуская радиомаяка из поля зрения. Еще несколько наблюдателей под видом охотников, рыболовов и просто прогуливающихся осматривали окрестности и в особенности места, откуда радиомаяк можно было видеть в бинокль. Наблюдения ничего не дали. И все-таки, как выяснилось впоследствии, Ничипоренко сумел побывать в этом месте и проверить, цел ли маяк. В то время как его искали в отдалении с биноклем в руках, он проехал на возу с сеном вместе со знакомым колхозником по самому берегу реки. Наступила вторая ночь. Дежурства были распределены так: Пост № 1 — лейтенант Хрулев, вернувшийся к этому времени из Белых камней. В лодке, в камышах, от радиомаяка метрах в пятидесяти ниже по течению реки. Пост № 2 — лейтенант Анисимов. В лодке, в камышах, от маяка метрах в ста выше по течению реки. Пост № 3 — капитан Зарубин. В кустарнике, на левом берегу реки. Этот пост был наиболее важным, потому что маяк находился много ближе к этому берегу, чем к противоположному. И пост № 4 — сержант Ничкин. На правом берегу. Всем дежурным было указано соблюдать тишину, присматриваться и прислушиваться, рамки пеленгаторных приемников направить на маяк, надеть наушник только на одно ухо, чтобы другим можно было прислушиваться к окружающему и время от времени поворачивать рамку во все стороны. Краевский, просидевший весь день на наблюдательном пункте, остался там ночевать. Он не надеялся принять непосредственное участие в слежке за Ничипоренко, потому что наблюдательный пункт отстоял от радиомаяка почти на целых полкилометра, но и не хотел оставаться совсем безучастным к этому делу. К тому же машину свою он отослал домой, опасаясь огласки, а идти ночевать в совхоз «Новый путь», где его все знали, он не хотел по той же причине. Вместе с ним остался ночевать радист Степанов. К ночи погода изменилась. Ветер пригнал мрачные тучи, которые заволокли все небо. Начал накрапывать мелкий, похожий на пыль дождик. Серая туманная мгла опустилась на реку. Деревья, кусты, островки, очертания берегов приняли неясные, расплывчатые формы и, словно прикрытые тюлевым занавесом, слились с общим серо-зеленым фоном. Наблюдательный пункт был выкопан у самого края обрыва в виде земляночки и прикрыт дерном. Оставалась только неширокая щель спереди. Дождь и ветер туда не проникали. Сидя у щели, Краевский мог только прислушиваться, но ничего, кроме шума леса да монотонного стука дизеля совхозной электростанции, временами доносимого ветром, не слышал. «Самая подходящая пора для воровских операций, — подумал он. — За два шага ничего не разберешь. Каково-то тем, кто сидит в лодках, среди сырости, под дождем?» — И Краевский невольно поежился. Степанов поставил сковородку на таганок, сложил костерок из плиточек сухого спирта, зажег его и стал готовить яичницу. После яичницы пили чай с печеньем и курили: Краевский — трубку, а Степанов — папиросу. В земляночке потеплело. Согревшись, Краевский присел на ящик радиоаппарата, вытянул больную ногу, прислонился к земляной стенке и задремал. Усталость брала свое. Он почти не спал прошлую ночь, весь день не выпускал бинокля из рук и теперь еле стоял на ногах. Был уже первый час ночи. Степанов настроил приемник радиостанции на волну маяка, надел наушники и тоже присел вздремнуть. Ветер как будто утих, но туман заволакивал все кругом. Проникал он и в земляночку. Опять стало холодно и сыро. Началась безнадежно длинная осенняя ночь. Вдруг Степанов вскочил на ноги с такой поспешностью, что спросонья ударился о подпорку потолка. — Сигнал! Товарищ Краевский, сигнал! Сигнал! — начал он теребить Артемия Ивановича. Но тот был уже на ногах. Звуки были так сильны, что слышались за метр от наушников. Краевский вылез из землянки, но тщетно пытался что-нибудь различить в окружающей мгле. Ни огонька, ни темного движущегося силуэта ни на воде, ни на суше... Прислушался и не услышал ни одного подозрительного звука — ни плеска весел, ни шума шагов. Так прошло минут десять. Сигналы не прекращались. Наконец он не вытерпел. — Товарищ Степанов, оставайтесь здесь и слушайте сигналы, а я пойду посмотрю, что там делается, — сказал он и, положив в карман фонарик, пошел по тропинке вдоль берега и скоро исчез в туманной тьме.* * *
Когда стало темнеть, лейтенант Хрулев заплыл в указанную ему заросль и тщательно замаскировал свою небольшую лодочку камышом и осокой. С этого места был хорошо виден радиомаяк, покачивающийся на воде у края камышовой заросли. Хрулев навел на него рамку пеленгаторного приемника, уселся поудобнее на скамеечке, укутался потеплее в пальто, положил перед собой весло, фонарик и пистолет и приготовился к длительному ожиданию. Скоро сумрак обступил его со всех сторон. Лес, песчаные обрывы берегов, протоки, окруженные камышом, — все подернулось дымкой тумана и растворилось в темноте. Время тянулось страшно медленно. Светящиеся стрелки часов еле-еле ползли по циферблату. Энергичная натура лейтенанта плохо мирилась с этим вынужденным бездействием. С каким наслаждением прокатился бы он по реке, оглядел каждый уголок, проверил бы каждое озерко! Но оставить свой пост он не смел. От неудобной позы ноги затекли и заболела спина. Пальто отсырело и отяжелело. Фуражка промокла насквозь, и холодные капли воды поползли по голове. Съежившись в комочек, он дрожал от холода. Сигнал, прозвучавший в трубке наушника, застал Хрулева врасплох. Он чуть не вывалился из лодки. Пеленгатор сразу же указал, что источник радиоволн, иными словами — Ничипоренко с маяком, находится справа и несколько впереди. Хрулев в один миг проволок лодку через камыши, вымочив ноги по самые колени, и несколькими ударами весла выбрался на глубокую воду. Быстро достигнув берега, он много раз проплыл вдоль него взад и вперед, осмотрел каждый уголок, надеясь настигнуть лодку врага, но никого не встретил. Сигналы между тем стали приходить как будто бы сверху по течению реки. «Экий черт, — подумал Хрулев, — как быстро сумел улепетнуть!» Он направил лодку против течения и сейчас же убедился, что выбрал правильный путь: сигналы шли прямо по ходу лодки. Но как ни напрягал он силы, впереди была все та же темная пустота, туман и камыш. «Неужели уйдет? — думал он в тревоге. — Ах ты, дьявол! Хоть и стар, а веслом владеет отлично, и челнок у него превосходный». Лейтенант, удваивая усилия, мчался вперед, лавируя между отмелями, камышом и корягами. Но вот из темноты выросла стена крутого берега. Хрулев с изумлением услышал, что в его ушах по-прежнему звучит прерывистый звук сигнала. Что это значит? Неужели Ничипоренко бросил лодку и пошел по земле со своим трофеем? Но у берега никаких следов челнока не было. Хрулев привязал свою лодку к кусту и выбрался на сушу. Перед ним было обширное убранное поле. Вдали мелькали огни деревушки. Проверив направление, Хрулев пошел прямо через поле. Идти было трудно. То и дело он спотыкался о камни, о норки сусликов, ноги вязли в мягкой земле, грязь налипала на сапоги, от чего они стали тяжелыми, будто были сделаны из железа. Так шел он, пока не вышел на знакомую тропинку. Она вела прямо к тому поселку, на краю которого в жалкой избушке жил бакенщик Ничипоренко. Сигналы к этому времени прекратились. Хрулевперестал что-либо понимать и решил идти прямо к дому Ничипоренко, полагая, что тот уже вернулся домой и развинтил радиомаяк. Домишко стоял на холмике, над самой рекой. Возле него высилась мачта, на которую поднимали сигналы о состоянии фарватера реки. Ни забора, ни сарая, ни деревца. Крыша прохудилась, печная труба развалилась. Хрулев хорошо знал эту лачугу, потому что производил в ней обыск. Он обошел ее со всех сторон. Никакого признака присутствия человека. Света нет. Дверь на замке. Окна заперты. Лейтенант спрятался в овражке и твердо решил дожидаться хозяина.* * *
Лейтенант Анисимов сидел в лодке несколько выше по течению реки от радиомаяка, также в камышах. Он предусмотрительно захватил брезентовое пальто и потому не сильно страдал от дождя и сырости. Услышав сигналы, которые были резкими и громкими, он подумал, что Ничипоренко овладел радиомаяком, быстро выплыл на озерко, где был маяк, и, не опасаясь светить фонариком, тщательно осмотрел его. Но никого не нашел. Тогда, убедившись, что сигналы поступают теперь с правого берега, он, но теряя времени, направил лодку туда. Но и у берега тоже никого не нашел.* * *
Капитан Зарубин прятался за деревом против радиомаяка и неподалеку от него. Сигналы зазвучали сразу очень громко, и он подумал, что Ничипоренко овладел маяком, извлек его из воды и плывет прямо к берегу. Он даже несколько раз замечал лодку, шныряющую в темноте у берега, слышал плеск воды и ждал, что вот-вот она пристанет к берегу недалеко от его поста, но так ничего и не дождался. (На самом деле он видел лейтенанта Хрулева.) Капитан просидел на своем посту до самого утра без всякого результата. Нечто подобное произошло и с сержантом Ничкиным, который дежурил у обрыва правого берега реки. Он долго не мог определить, откуда идут сигналы. Ему показалось, что источник их находится где-то недалеко в прибрежных камышах. Он спустился к воде и обшарил заросли, но ничего не нашел. Проверив снова направление сигналов, он убедился, что они теперь распространяются вдоль реки и что похититель, следовательно, плывет вверх по течению. Тогда сержант пошел за ним по берегу. Он проплутал всю ночь и вернулся к утру ни с чем.* * *
Итак, ни один из четырех дежурных не задержал и даже не видел Ничипоренко. Как же это могло случиться? Что же произошло на самом деле в эту темную ночь? Впоследствии майор Рожков тщательно разобрал и обсудил эту операцию, составил карту местности, наметил размещение постов дежурных и приблизительные пути каждого из них. Все ожидали, что Ничипоренко, много лет работающий бакенщиком, приплывет на своем прекрасном челноке, вытащит радиомаяк из воды, а тот тотчас же начнет посылать сигналы. Ожидания эти не оправдались. Ничипоренко подошел к реке пешком с левого берега, по лесной тропинке. Недалеко от поста № 3 он вошел в воду, хотя она была холодная как лед. Частью вброд, частью вплавь добрался до радиомаяка, захватил его и, не вылезая из воды, поплыл к правому берегу, огибая заросли камыша. Плыл он минут двадцать, причем конец тростинки маяка держал в зубах, так что трубка его все время оставалась под водой и передатчик бездействовал. У берега Ничипоренко сумел найти поставленную им вершу и наполнить корзину, которую он принес с собой, мелкой рыбой. Затем он выбрался на берег недалеко от поста № 4 и поднялся по косогору. Только тут передатчик пришел в действие, в эфир понеслись сигналы, и поднялась тревога. Ничего не подозревая, Ничипоренко лесной тропинкой вышел на дорогу и направился в сторону совхоза «Новый путь». Радиопеленгаторные приемники, которыми были снабжены дежурные, предназначались для отыскания передающих станций на сравнительно большом пространстве. Рамки их одинаково хорошо принимали радиоволны, идущие как спереди, так и сзади. Дежурные радисты путались. Каждый считал, что источник сигналов находится перед ним, тогда как у Хрулева и Ничкина он был за спиной. Отправляясь вверх по течению реки, они думали, что гонятся за Ничипоренко, на самом деле удалялись от него. Только один Анисимов принял правильное направление, да и то с большим опозданием. Все это, однако, стало ясным только впоследствии, когда Рожков в спокойной обстановке разобрал всю операцию.* * *
Краевский шел по тропинке вдоль берега. Пройдя лесок, он остановился у самого края обрыва. Снизу, из темноты тянуло холодом и сыростью реки. Не сколько Краевский ни присматривался, ни воды, ни камыша он различить не мог. Только в одном месте чуть заметное светлое пятнышко то появлялось, то исчезало, чтобы вновь появиться и пропасть. «Ищут, — подумал он, — это хорошо. Значит, общая тревога». Он с нетерпением ждал условленного сигнала — трех пистолетных выстрелов, означающих, что шпион схвачен. Но время шло, а все оставалось спокойным. Тут он услышал плеск воды и разглядел в темноте черную лодочку, шныряющую у самого берега. Снова блеснул луч фонаря. «Наши», — подумал Краевский и спустился к воде. — Эй, кто там? — тихо окликнул он. — Это вы, Артемий Иванович? — отвечал голос Анисимова. — Ничипоренко, кажется, уже вылез сюда, на берег... — Ну?.. Почему вы так думаете? Вместо ответа Анисимов живо подвел лодку к берегу и выскочил на землю, захватив с собой радиоприемник. — Сигналы вот так идут, — пояснил он, указывая рукой направление, перпендикулярное линии берега. — На воде и в камышах его нет, значит, он успел вылезти на землю. Они поднялись наверх к лесу и еще раз проверили направление сигналов. Анисимов был прав — сигналы распространялись так, как он указал. — Он может находиться как на этом берегу, так и на другом,—сказал Краевский. — Но там дежурит капитан Зарубин, он его должен задержать. Наше дело искать его здесь. Они пошли напрямик через лес, как указывали сигналы, и очень скоро вышли на дорогу. Она вела на восток, прямо к совхозу «Новый путь». Лес скоро кончился. Впереди на громадном пространстве простирались совхозные виноградники. Еще дальше в темноте мерцали здесь и там светлые точки — это были здания самого совхоза. Недалеко от опушки можно было разглядеть небольшой домик, окруженный деревцами, где жил совхозный сторож. В окнах горел сеет: видимо, там не спали. Краевский и Анисимов обошли домик кругом и сразу же убедились, что сигналы идут именно отсюда. — Маяк там — это безусловно. Ничипоренко, будем надеяться, тоже там. Идемте! — сказал Краевский. Они подошли к крыльцу и постучали. Послышались тяжелые шаги, застучала щеколда, и в дверях показался высокий старик. Он с удивлением посмотрел на непрошен ых гостей. — Ничипоренко здесь? — спросил Анисимов. — Ну здесь... А вам на што? — Надо поговорить. — Ну, поговорите. Анисимов и Краевский вошли в избу и, быстро пройдя сени, открыли дверь в комнату. Там было светло. За большим столом сидел Ничипоренко в нижнем белье и чистил ножом рыбу. На полу стояла небольшая корзинка с крышкой, полная мелкой рыбы. Он узнал Анисимова, приподнялся и выронил нож. — Ну-с, дорогой Трофим Иванович, — сказал тот не без иронии, — друзья, как говорится, встретились вновь. Уху готовите?.. Ну, показывайте, где у вас спрятан радиопередатчик... Ничипоренко молчал, словно набрал в рот воды. Краевский оглядел комнату. У одной стены топилась большая плита, над которой сушилось белье, рваная верхняя одежда и обувь. На плите грелся котел с водой. В другом углу стояли во множестве рыболовные снасти: удочки всех сортов и размеров, сачки, острога. Видимо, хозяин был любителем рыбной ловли. Анисимов подошел к этому углу, протянул руку и вытащил радиомаяк. Теперь он был замаскирован под удочку: к верхушке тростинки была привязана леска с поплавком и крючком. — Что это такое? — спросил Анисимов. Ничипоренко продолжал молчать. — Это ваша удочка? — обратился Анисимов к старику-сторожу. — Зачем моя?.. Его. Сейчас притащил. — Вы сами видите, Ничипоренко, — продолжал Анисимов, — что ваша игра кончена. Одевайтесь и следуйте за нами! Какие здесь ваши вещи? Но одеваться Ничипоренко было не во что — вся его одежда висела совершенно мокрая. — Это вы где же вымокли?—продолжал допрашивать Анисимов. Старик-сторож, удивленный всем происходящим, ответил за него: — Так он же упал в воду, когда рыбу из верши доставал. — И принес ее вам в подарок? — Зачем в подарок? На яблоки сменял. Лейтенант не стал тратить времени на разговоры. Он связался по телефону с городом и вызвал машину. Уже светало, когда Анисимов увез Ничипоренко, переодев его в сухую одежду. Он захватил также радиомаяк и все имущество арестованного — его платье, обувь и корзину. Корзина была та самая, которую видел Рожков у Ничипоренко в челноке, наполненную раками. При внимательном осмотре оказалось, что в ней был искусно скрыт пеленгаторный приемник, которым Ничипоренко пользовался для отыскания радиомаяка. Антенна была вделана в прутья ручки, все приборы размещались внутри толстого прута, служащего ободом дна. Телефонная трубка помещалась в деревянной втулочке, которой запиралась крышка, а провода в ней были вплетены в веревку, привязанную к этой втулочке. Операция «УН» была закончена.* * *
Мне удалось присутствовать на разборе этого дела у Рожкова. Он сам пригласил меня. Это было тотчас же по возвращении его из Белых камней. Присутствовал я также на первом допросе Ничипоренко. Об этом стоит рассказать. Часовой ввел в комнату пожилого человека, неряшливо одетого, нечесаного, с усами и бородой, в которых блестела седина. Ему предложили стул и папиросы. Он сел на краешек, понуро опустив голову. Долго и молча курил. — Ну-с, — сказал Рожков, прервав молчание, — назовите ваше имя. — Что? — очнулся преступник. — Ваше имя? — Имя?.. Ничипоренко Трофим Иванович. — Нет. Настоящее имя. — Так я же и говорю — Ничипоренко. — Значит, вы не меняли своей фамилии? — Нет. — Положим. Где и когда родились? — Здесь, в селе Ольховцы, в девятьсот пятом году. — Вам только сорок лет?.. Гм.. Расскажите, как вас завербовали в шпионы. — Так разве я, товарищ майор, настоящий шпион? Разве такие настоящие шпионы-то бывают?.. Да я, если хотите знать, ни одного шпиона и в глаза не видел. Вот что! — Так кто же вы тогда? — Кто? Связной, вот кто! — Это все равно. Рассказывайте. Монотонным голосом, часто прерываемым сухим кашлем, запинаясь и повторяя одно и то же, Ничипоренко рассказал совсем неинтересную историю своей жизни. Он был сыном мелкого торговца. Учился плохо и школы не кончил. Отец разорился во время первой мировой войны и умер. Трофим поступил в чужую лавку приказчиком, но за неспособность и пьянство его скоро выгнали. Батрачил, бродяжничал, воровал, побывал и тюрьме и в конце концов устроился работать бакенщиком. В те годы, когда фашисты стали усиленно готовить войну с Советским Союзом, его завербовали в шпионы. Пришел какой-то человек, посидел, покурил, посочувствовал и предложил стать германским шпионом за небольшое ежемесячное вознаграждение и обещание большого участка земли на Украине после ее завоевания. Ничипоренко согласился. Через месяц его уже переправили из родной Польши в германский городок Митвейде, в шпионскую школу, а еще через полгода он вернулся на родину, на старую должность бакенщика, обогащенный необходимыми знаниями шпионского дела. Обязанности его были несложны: он брал спрятанные в определенных местах зашифрованные шпионские донесения и, не расшифровывая, передавал их по радио. Передатчик был вмонтирован в рейку для измерения глубины реки. Никого из других агентов он никогда не видел в глаза и не читал ни одно из донесений. Во время минувшей войны он вместе с другими советскими гражданами эвакуировался в тыл, чтобы продолжать на больших прифронтовых реках свою шпионскую работу, но его направили на Каму, и деятельность его прервалась. Война принесла ему много огорчений: скопленный небольшой капитал, хранившийся в Германии, пропал, и вместе с ним исчезла надежда на спокойную старость. Он снова очутился в своей лачуге, без денег, без имущества, без хозяина... Впрочем, ненадолго. Хозяева нашлись, правда, новые, но зато более щедрые. Они ввели усовершенствование — радиомаяк, снабдили Ничипоренко пеленгаторным приемником в виде корзинки и научили обращаться с ним. Радиомаяки можно было оставлять в любом месте. Они делались различных сортов: в виде тростинки, стебля кукурузы или табака, прута из плетня и прочее. Каждый такой вид издавал особый, свойственный только ему звук сигнала. Вот все, что рассказал Ничипоренко, искурив при этом целую пачку папирос. Он, разумеется, ничего не знал ни о Серой скале, ни о шайке шпионов, орудующей около нее, и потому оказался для нашего дела бесполезным.Глава XXVI ОТДЕЛЕНИЕ «А»
На другой день мы с Рожковым отправились к Серой скале чтобы присутствовать при последних актах драмы, начавшейся еще несколько лет назад, когда здесь властвовали фашисты. Когда я и Андрей Матвеевич подъезжали на катере к Серой скале, мы услышали громкие и резкие удары взрывов. С берега пробивали вглубь скалы туннель. Как мне разъяснил майор, те листы железа, цепи и бетонные плиты, которые мы с Леной видели на дне реки, когда покидали подземный шлюз, были частями громадного желоба, служащего входом в подземелье. Желоб этот, укрепленный на петлях, мог подниматься с помощью цепей до вертикального положения и плотно прижиматься к выравненной скале, образуя трубообразный короб, возвышающийся над уровнем воды. После того как откачивали воду, получался проход, по которому можно было сообщаться с подземельем, не опускаясь под воду. — Но желоб занесло песком, железо проржавело, — пояснил майор, — и восстановить это сооружение оказалось невозможным. Проще пробить новый вход снаружи, да он и удобнее будет: нам ведь маскироваться незачем. Толщина скалы в этом месте не особенно велика — не больше тридцати шести метров, и наши проходчики обещают пробить ее в шесть суток. Но мы дожидаться их не будем. Катер обогнул выступ Серой скалы, вдающийся в реку, и подошел к тому месту, где под скалой был подводный проход. Здесь на якоре стояло несколько маленьких суденышек, и среди них одно с забавной тупой кормой и лесенкой, спускающейся с нее прямо под воду. Это был водолазный катер ЭПРОН. Мы надели поверх одежды вязаные шерстяные костюмы и облачились в водолазные скафандры, на этот раз настоящие, с резиновыми комбинезонами. Я вторично совершил тот самый подводный путь, который неделю тому назад прошел рука об руку с Леночкой в обратном направлении. Только теперь идти было много легче: холод не мучил вовсе, подводный коридор был расчищен и ярко освещен электрическими фонарями. Мы без труда поднялись по лесенке в подземную камеру и прежде всего освободились от тяжелого и неудобного водолазного костюма и чересчур теплой фуфайки. Здесь нас встретил лейтенант Хрулев, который отрапортовал майору по всем правилам устава. Я осмотрелся кругом. Множество фонарей освещало низкие каменные своды, маленькую пристань, оба помещения справа и слева от нее. Ничто не напоминало о страшных часах, проведенных мною и Леночкой в этой мрачной пещере. Вместе с ярким светом и веселым стуком молотков исчезли все наши страхи и треволнения. В одной из боковых комнат на стеллаже стояла небольшая лодочка, длиной около трех метров и шириной и высотой меньше метра. Два механика в морской форме занимались ее разборкой, Она очень походила на ту крохотную лодочку, которую я видел ночью две недели назад быстро мчащейся по реке с двумя пассажирами. Обоих их сейчас уже не было в живых. Но как она попала сюда? Я не заметил ее в прошлый раз ни на воде, ни в помещении. Откуда она взялась? — Ее здесь и не было, — ответил Рожков на мой вопрос. — Мне сообщили о ее появлении в шлюзе, вот почему я бросил бесполезные поиски на пристани Белые камни и поспешил сюда... Ну как, товарищи, разобрались в конструкции суденышка? — обратился он к механикам. — Забавное изобретение, товарищ майор, что и говорить!— ответил один из них. — Подводная лодка-малявка. Ходит и по поверхности и под водой. Люди на ней плавают, сидя в скафандрах. — И он с готовностью разъяснил нам устройство суденышка. Почти весь объем его занимают три соединенных между собой стальных баллона для сжатого воздуха, один для керосина и две цистерны для воды, служащей балластом. У кормы помещается двигатель типа Уайтхеда, работающий нагретым сжатым воздухом, передаточные механизмы и гребной вал, оканчивающийся двумя винтами, вращающимися в разные стороны. Лодка поднимает двух пассажиров и может двигаться по поверхности с большой скоростью. Когда надо углубиться под воду, открывают клапаны, и цистерны заполняются водой, причем особый автоматический прибор регулирует впуск ее, а также работу горизонтальных рулей, чтобы судно все время находилось под водой, не всплывало бы и не опускалось на дно. При подъеме цистерны продуваются сжатым воздухом. Перед спуском под воду пассажиры надевают скафандры, питающиеся воздухом тех же баллонов, и прикрепляются ремнями к корпусу лодочки. — Самое интересное то, — докончил механик свое объяснение, — что лодка эта почти целиком смонтирована из частей торпеды «Т-66». И баллоны, и двигатель, и винты, и гидростатический регулятор глубины погружения — всё взято оттуда. Только самый корпус, водяные цистерны да рулевое управление оригинальные. — Остроумно, хотя ничего нового здесь нет, — сказал майор.— Подобные лодки с водолазами практиковались и раньше. А какую скорость может она развить, по-вашему? — Двигатель отрегулирован на небольшую скорость: узлов этак на двадцать при надводном ходе, что составит около тридцати пяти — тридцати семи километров в час. — А радиус действия? — Большой. Не менее ста пятидесяти километров. После надо перезаряжать баллоны. Здесь, в подземной гавани, имеется мощный компрессор для этой цели. Он может нагнетать воздух до двухсот атмосфер. — Эта находка, — сказал майор, — может разъяснить нам очень многое. И как пробрались в шлюз шпионы, и как попали сюда Петя и Совков, и каким путем бежал из Белых камней неизвестный. — Значит, вы полагаете, что он находится здесь, в подземном заводе? — воскликнул я. — Имею все основания. — И проплыл такое громадное расстояние под водой?! — Ну зачем же ему было плыть под водой все девяносто километров? Он прошел их ночью по поверхности часа за три, погружаясь только у пристаней да при встрече с пароходами. Только самый последний этап он прошел целиком под водой, скрывшись от наших наблюдательных постов, и потом, лежа на дне, дожидался рассвета. Я знал о существовании лодки, но никак не предполагал, что она может ходить под водой. Иначе я установил бы дежурство здесь, в этой подземной гавани, или же загородил бы вход сюда сетями. Одно мне непонятно: почему неизвестный бежал именно сюда, зная, что здесь мы до него так или иначе доберемся? Мы оставили механиков работать над разборкой лодки и пошли в верхнее помещение. Крутая каменная лестница в пятьдесят две ступени, по которой мы с Леночкой спускались в шлюз, теперь была ярко освещена. Броневая плита была повернута и открывала вход в кабинет. Несколько слесарей под руководством офицера с погонами техника-лейтенанта демонтировали ее. Гигантская бронзовая рука истукана с тяжелым молотом лежала на полу; кабанья голова была снята, как футляр, и на ее месте открылся сложный механизм со множеством катушек, рычажков, шестеренок и проводов. Но даже лишенная руки и со вскрытым туловищем кабана фигура германского бога все еще вызывала содрогание. Впоследствии мне объяснили устройство этого автомата, с которым у меня связано столько страшных воспоминаний. Сплошная броневая плита из марганцевой стали, толщиной в пятнадцать сантиметров, не поддающаяся даже алмазному сверлу, была совершенно недоступна снаружи. Пришлось долбить камень, чтобы подойти к механизму снизу. Оказалось, что дверь приводилась в действие громадной гирей в три тонны, висевшей на цепях над глубоким колодцем. Гиря эта поворачивала плиту вокруг оси, поставленной на шариковый подпятник, и приводила в движение со страшной силой руку гиганта. Регулирующий механизм помещался внутри кабана. Чтобы открыть дверь, достаточно было, как мы знали, повернуть ухо зверя и нажать на его глаз, который начинал при этом светиться зеленовато-красным светом. Когда выходящий пересекал этот луч, начинало работать фотореле, и дверь захлопывалась. Это мы тоже знали. Но мы не знали, что управление дверями централизовано, что за ними ведется наблюдение, что иметь дело с ними опасно, ибо в любой момент их могут открыть, закрыть или же пустить в действие их смертоносный молот. Мы прошли через кабинет и коридор в заводской зал. Внизу, у электропечи, стояло несколько человек. Они обернулись, когда мы вошли, и я узнал Леночку, Еременко и Краевского. Четвертый, пожилой человек с седеющей головой и небольшой бородкой, оказался ученым, приехавшим из Москвы. Его фамилия была Сапегин. Несмотря на свой преклонный возраст, он не пожелал дожидаться постройки туннеля и не побоялся пройти в водолазном костюме под водой. Еременко представил нас друг другу. — Опоздали, Сергей Михайлович, — сказал он, пожимая мне руку. — Мы без вашего ведома похитили Елену Алексеевну, и она уже второй день водит нас по этому подземному лабиринту. — Мы успели осмотреть все интересное, — добавил Краевский: — и шлюз, и кабинет, и рудник, и самый завод. Побывали в лаборатории и видели то место, где вас, Сергей Михайлович, нашла Елена Алексеевна, и водосборную камеру, через которую вы проникли в прошлый раз. — Как же вы сумели туда пробраться? — спросил я. — Неужели проползли по свинцовой трубе? — Нет, конечно. Саперы продолбили пробку в колодце, пролезли по водостоку и, соблюдая все предосторожности, открыли нам дверь, что скрыта за статуей. Так что мы прошли без всякого затруднения. — Стало быть, вы всё успели рассмотреть? — уточнил Рожков. — Все, кроме отделения «А». — Ну, туда так легко не пройти. А между тем там, наверное, и скрыта разгадка всех тайн. — Почему ты так думаешь? — Есть основания. — Например? — Например, почему броневая плита сама собой закрылась за нашими молодыми друзьями, когда они спускались в шлюз? Есть и другие соображения. Разговаривая, мы не заметили, как прошли мимо кабинета со спуском в шлюз, мимо конструкторской комнаты, ремонтной мастерской, кладовой и подошли к тупику, оканчивающемуся стальной дверью с таинственной буквой «А». — Придется-таки повозиться над этой заслонкой, — сказал Краевский. — Когда вскрывали плиту у шлюза, десять часов подряд долбили и рвали скалу. А здесь потруднее будет. Он подошел к плите и постучал по ней тростью. И вдруг произошло нечто, чего никто не мог ожидать и предвидеть. Словно в ответ на его стук, плита бесшумно и плавно повернулась и открыла узкий проход. Это случилось так внезапно и неожиданно, так походило на волшебную арабскую сказку, что все мы остолбенели. Я, как очарованный, смотрел через вход на небольшую круглую комнату, совершенно пустую, и на слабо освещенный низенький коридор, сворачивающий влево. — Осторожно! Все назад! К стене!.. — закричал майор. Повинуясь его приказанию, мы бросились назад и прижались к стенам. Только тут я понял, какой опасности мы подвергаемся: одной гранаты, одной пулеметной очереди достаточно, чтобы уничтожить всех. Дверь оставалась открытой, точно приглашала нас войти. Впереди, за повернувшейся плитой, ни звука, ни движения — ничего подозрительного, ничего угрожающего. — Надо быть крайне осторожным. Здесь возможна ловушка, — сказал майор. — Сережа, позовите скорее слесарей: пусть они укрепят дверь, чтобы она не могла захлопнуться. Слесари быстро притащили кусок железной балки и положили его на пол между плитой и стеной коридора как распорку. Теперь дверь уже не могла закрыться. Рожков вынул пистолет и переступил порог. Хрулев пошел за ним, мы с Краевским — за Хрулевым. Остальным майор приказал оставаться на месте. Мы шли гуськом, держась левой, более безопасной стены коридора. Идти пришлось недолго. Почти тотчас же за поворотом коридор кончался обыкновенной деревянной дверью. Она была приоткрыта. Рожков осмотрел ее со всех сторон и осторожно открыл. — Лейтенант. Хрулев,— приказал он, — оставайтесь здесь, у входа. Один за другим мы вышли на балкончик, кольцом огибающий довольно большой круглый зал, напоминающий цирк. Это тоже была естественная пещера, некогда промытая водой. Слабый свет немногих лампочек освещал громаднейший агрегат, занимающий всю середину зала с пола до самого верха куполообразного потолка. В полумраке сталью блестели огромные цилиндры, ребра громадной станины, трубы различных диаметров, штоки и коромысла. Сколько я ни всматривался, я не мог понять назначения этой машины. На балкончик выходило еще три двери. Одна из них была открыта. Рожков направился прямо туда. Мы вошли в обширный кабинет, очень похожий на два других, которые видели раньше. Такой же письменный стол с телефонами, такой же электрический камин, такие же кресла и кушетка у стены, такая же фигура бронзового гиганта с поднятой вверх рукой, держащей молот, занимающая всю заднюю стену. Только в одном углу стоял диспетчерский пульт с кнопками и сигнальными лампочками да рядом с ним буфет с закусками и винами. Но все это я разглядел после. В первый же момент внимание мое было всецело поглощено фигурой человека, если только можно этим словом назвать существо, которое поднялось с кресла при нашем появлении. Лишенная всякой растительности голова с мертвенно бледным лицом, исхудалым до такой степени, что, казалось, через кожу просвечивал череп, с трудом держалась на тонкой, морщинистой шее. Костлявые руки непрерывно сводило судорогой, точно их кто-то дергал за нитку. Искривленная спина тряслась. Черный мундир с золотыми дубовыми листьями па петлицах, который сидел на нем, как панцирь на черепахе, был разукрашен нашивками и значками. Большой орден железного креста болтался на шее. Вся его фигура, тощая и сгорбленная, до иллюзии походила на фигуру грифа, только оловянные глаза ничем не напоминали зоркого взгляда хищной птицы. — Спрячьте ваш пистолет.— сказал он Рожкову по-русски, но с сильным немецким акцентом, — он здесь не будет нужен. Вы видите перед собой Зигмунда фон Римше, оберштурмбанфюрера и начальника этого объекта... Прошу садиться, господа! А с кем я имею честь говорить? Вы, конечно, русские? — Не ошиблись. А вот титул ваш немножко устарел. — Устарел, говорите? Значит, верно, что Красная Армия взяла Берлин и что рейх и фюрер уже не существуют? — С мая этого года действительно не существуют. Вам это не было известно? — С ноября прошлого года и до самых последних дней я не имел связи с внешним миром. — У вас не было радиостанции? — Я ее уничтожил. Это было необходимо. Мой первый помощник, отчаявшись в возвращении германской армии, изменил Германии и вступил по радио в сношение с Западом. Это было, когда вы заняли Будапешт. Я приказал его казнить и радиста тоже и уничтожить радиопередатчик, но по ошибке повредили приемник. — Печальное событие. — Оно было совершенно необходимо. Так, значит, фюрер погиб? — Покончил самоубийством. — А наша партия национал-социалистов? — Распущена. — А Геринг, фон Риббентроп, Кальтенбруннер, фельдмаршал Кейтль? — Преданы суду Международного трибунала, и я надеюсь, что они получат по заслугам. — Да? Вот этого Абаза мне не сказал. — Кто это Абаза? Тот самый шпион, которого вы здесь укрываете? — Да... Которого вы ищете и которого я решил выдать вам. — Ага! Так вот почему вы и открыли вход? — Да, поэтому. И еще потому, что хотел узнать от вас, что произошло на свете за долгое время моего уединения. Впрочем, вы ведь все равно бы проникли сюда. — Разумеется, проникли бы. — Хотя одного движения моей слабой руки, одного только ее пальца, — Римше поднял сухую, как у скелета, кисть. — было бы достаточно, чтобы тысяча тони динамита превратила в мусор эту скалу вместе с рудником, заводом и всеми ее обитателями. — Почему же вы не взорвали? — Я уже сказал: чтобы выдать вам Абазу. — Тем самым получить возможность помилования? Не правда ли? Тактика ваша понятна. Римше промолчал. — Мы имеем сведения, — сказал Краевский, — что поезд, на котором эвакуировался ваш объект, был взорван партизанами и вся команда погибла. Оказывается, это не так? Сморщенное лицо Римше исказилось улыбкой: — Это была военная хитрость. Мой вагон был почти пуст. Там погибли только второстепенные работники. Я остался здесь по приказу фюрера, чтобы открыть вход, когда вернутся наши, через несколько недель... — А прожили больше года. — Увы. да! Больше года... Со мной здесь оставались только мой сын Фридрих, мой старший помощник, металлург, радист, врач и повар. Всего семь человек. — Не считая Отто Хиссингера и инженера Пасько,— поправил его Рожков. — О да! Не считая их. конечно... Я про них совсем позабыл.— согласился Римше, нимало не смущаясь. — Но теперь я совсем один. — Судьба вашего помощника и радиста нам известна. Куда же девались остальные? — Инженер-металлург и врач не обнаружили подобающей арийцам твердости духа. Они осмелились требовать, чтобы я выпустил их наружу. Это подрывало воинскую дисциплину. Я должен был их устранить. — Иными словами — убить? — Я направил их в сейф для хранения денег и автоматически запер за ними дверь. Поступить иначе я не мог: они могли бежать. — Через тайный ход, что скрыт за этой статуей? — Рожков указал на бронзового гиганта. — О нет! Здесь, за этой фигурой, нет выхода. Мы не успели его достроить. — Так. Поверим на сей раз... А сын ваш где? Тоже очутился в сейфе? — О нет! Мой Фридрих поступил, как истинный германец. Он знал, что ко мне бесполезно обращаться с подобной просьбой, и покончил с собой. — На сей раз что-то не верится, — заметил Рожков. Я слушал скрипучий голос фашиста, глядел на его полумертвое старческое и все-таки надменное лицо, на его тощую, трясущуюся шею с острым кадыком, и сердце мое холодело от ужаса. Нет, это не человек! Это даже не зверь! Это безумец, выродок, чудовище, машина, лишенная всех человеческих чувств, усовершенствованный автомат — все, что хотите, но только не человек. — А где же ваш повар? — спросил кто-то. — Карл умер месяц тому назад от тяжелых условий жизни под землей и дурного воздуха. Он оставался мне верен до последних дней. Без него мне трудно обходиться. Мое здоровье тоже несколько расстроилось, хотя кабинет этот отлично изолирован и имеет специальную вентиляцию. — Так почему же вы не поселили его у себя, в этом кабинете? — не удержался я. — Он тогда остался бы жив! Римше медленно повернулся в мою сторону и долго глядел на меня оловянными глазами. — Молодой человек, — сказал он наконец, — устав германской армии не разрешает нижним чинам жить совместно с их начальниками. Он замолчал, видимо обессиленный длинным разговором, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Мы тоже молчали. Через минуту он оправился, налил стакан вина и выпил его. — Вы ожидаете, чтобы я передал вам господина Абазу? — сказал он, с трудом приподнимаясь с кресла. — Пожалуйста! Он заперт внизу, в кладовой. — Я прошу вас сначала разъяснить нам, для чего служат эти кнопки, — сказал майор, указывая на пульт. — О, пожалуйста, пожалуйста! — согласился Римше и с готовностью объяснил нам назначение диспетчерского пульта. Оказывается, здесь было сосредоточено управление всеми броневыми плитами, преграждающими переходы подземного завода, а также всеми дверьми в отделении «А». Нажатием кнопок их можно было открывать и закрывать. Сигнальные лампочки показывали положение бронзовых плит и дверей. Здесь же были установлены телефонные трубки особой сети, позволяющей подслушивать даже самые тихие разговоры в кабинетах, мастерских и лабораториях. Отдельно в середине пульта была установлена большая кнопка, защищенная стеклом, и при ней сигнальная лампочка. Рожков поинтересовался ее назначением. — Это, видите ли, кнопка общей тревоги, сигнал бедствия,— сказал Римше. — Инструкция разрешает надавить ее только в самом крайнем случае. — Например, если сюда вдруг проникнут враги, не правда ли? — О да, конечно... И в этом случае. Римше взял ключи и направился к выходу. Его развинченная походка, вихляющиеся, как у картонного паяца, ноги и руки свидетельствовали, что год жизни под землей оказал на его организм гораздо более губительное действие, чем он сам думал. Мы вышли на балкончик. Конечно, наши друзья были уже там: и Леночка, и Еременко, и Сапегнн, и тот техник-лейтенант, который демонтировал броневую дверь. Майор кивком подозвал техника-лейтенанта и, отведя его в сторону, что-то шепотом приказал ему. Потом все направились к лестнице, ведущей в нижний этаж. Но Римше почему-то обязательно захотелось показать нам денежный сейф. Быть может, он рассчитывал этими сокровищами откупиться от суда и справедливого возмездия. Сейф находился рядом с кабинетом. Дверь его тоже выходила на балкон. Она была открыта, но за ней оказалась другая, запертая. Римше достал ключ и начал возиться с замком. Руки его дрожали, и он никак не мог попасть в замочную скважину. — Скажите, здесь и погибли ваш металлург и врач? — спросил Еременко. — Да, именно здесь, в этой камере, — ответил Римше, не меняя тона. — Я сказал, что отпускаю их и согласен выдать им на дорогу по десяти тысяч долларов. Когда они сюда вошли, я автоматически закрыл дверь и прочел им по телефону свой приговор. О, я не был так жесток, как вы полагаете, — продолжал он, заметив наше негодование.— Я оставил им флакон цианистого калия и посоветовал им воспользоваться. Они долго кричали, стучали, но потом... потом поняли, что ничего не остается делать... — Проще говоря, вы их поймали в мышеловку и отравили, — сказал Рожков. — Я не имел другого выхода. — А теперь вы этот испытанный способ применили к вашему гостю из-за рубежа? Не так ли? — Совершенно верно, — ответил Римше, не чувствуя иронии. — Я попросил его принести из кладовой вино. Мне трудно ходить по лестнице. Никто из нас не сказал ни слова. Наконец Римше удалось отпереть небольшую, но очень тяжелую дверь. Мы вошли в маленькую комнатку. Со страхом я оглядел ее, ожидая увидеть полуистлевшие трупы казненных, но ничего похожего там не оказалось. Только два больших несгораемых сундука, стул, стол и телефон на нем. — Здесь, в безопасности от партизан, хранится наша казна, — заявил Римше хвастливым тоном. — Семнадцать миллионов долларов в валюте, золоте и драгоценностях, не считая многих миллионов рейхсмарок, которые, вероятно, уже не имеют никакой цены. Римше многозначительно помолчал, как бы любуясь эффектом своих слов. Потом он вдруг вытянулся перед Рожковым, насколько позволяла его фигура, и громогласно заявил: — Господин майор! Я передаю Советскому правительству рудник и завод в прекрасном состоянии, в полной исправности, готовыми к работе, И еще семнадцать миллионов долларов в золоте и драгоценностях. И, кроме того. — продолжал рапортовать Римше,— я передаю Советскому правительству опасного шпиона. Смею ли я надеяться, что усердие мое будет принято во внимание в дальнейшем? Рожков усмехнулся: — Вы, военный преступник, хотите откупиться от заслуженной кары нашим же добром? Руда наша, завод построен трудом военнопленных, значит, тоже советских людей, сокровища награблены у нас же. Не думаю, чтобы вам это удалось! — Рожков взглянул Римше прямо в глаза: — Вот если бы вы передали нам записки Пасько и Хиссингера, полученные вами обманным путем от умирающих с голоду ученых, тогда можно было бы еще говорить. Римше остолбенел. — Господин майор, — прошептал он, — я не знаю, о чем вы говорите... У меня нет никаких записок. — Господин оберштурмбанфюрер, вы лжете! Тетрадь Пасько у вас, — сухо сказал майор и, круто повернувшись, направился вниз по лестнице. Римше заковылял за ним. Другие тоже направились вниз. На балкончике остались только мы с Леночкой да Сапегин. Развинченный полусумасшедший фашист был до того омерзителен, вызывал такое отвращение, что нам захотелось отдохнуть от его тягостного присутствия. Вдруг неожиданно погас свет, и мы очутились в полной темноте... Но нет, она не была полной. Изумленный, я увидел, что все вокруг — потолок, стены, пол — словно осыпано светящейся пылью. Бесчисленное множество голубоватых искорок вспыхивало всюду — вверху, внизу, со всех сторон. В отдалении, под куполом свода, они сливались в одно слабо мерцающее облако, вблизи распадались на миллионы появляющихся на мгновение огоньков. Словно вокруг нас в черном бездонном пространстве носились, кружились и вихрем метались во все стороны рои падающих звезд. В этом слабом, неверном освещении я различал темные силуэты своих собеседников, черные пятна дверей и тускло поблескивающую громаду машины. — Ах, как прекрасно! — воскликнула Леночка. — Будто в сказочном царстве! Как на сцене в «Синей птице»! — Интересное явление, — сказал Сапегин. — Это люминесцируют минералы, возможно, цинковая обманка, входящие в состав горной породы, под влиянием какого-то излучения, невидимому, весьма интенсивного, которым наполнен весь этот зал. Немудрено, что Римше за один год превратился в полного инвалида, хотя и жил в хорошо изолированном помещении. Мы любовались этим чудесным зрелищем, как вдруг резкий и повелительный голос Рожкова нарушил тишину: — Лейтенант Хрулев, закройте дверь и никого отсюда не выпускайте. — Слушаюсь, товарищ майор! — четко ответил лейтенант. Мы бросились к перилам. Внизу, в темноте, среди рычагов и труб двигались светлые пятна карманных фонариков. — Похоже, что шпион улепетнул, — сказал Сапегин. — Идемте скорее к лестнице. Встревоженные, мы засветили фонарики и побежали к лестнице. Но там никого не было: балкончик, площадки и закоулки были пусты. В это время послышалось глухое рокотание сигнальной сирены. Повышаясь, с низких тонов оно дошло до резкого визга, наполняя душу тоской и тревогой, как при ночных налетах вражеских эскадрилий. И, точно в ответ на это завывание, внизу раздался страшный крик. Нет, это был не крик, а дикий вопль, полный ужаса и отчаяния. Так кричат люди на краю гибели, увидевшие перед собой убийцу с ножом или несущуюся лавину горного обвала. Вопль этот вместе с завыванием сирены, отраженный от свода и многократно повторенный эхом, сливался в один сплошной неясный рев. Ничего нельзя было разобрать. — Это Римше... Чего он визжит? Режут, что ли, его? — встревожился Сапегин. Римше уже взбежал по лестнице и, натыкаясь на стены и перила, пронесся мимо нас прямо в свой кабинет, не переставая что-то выкрикивать по-немецки. Сапегин остолбенел, пораженный смыслом его слов. Я понял, что произошло нечто серьезное и страшное. — Что? О чем он? — Взрыв! Взрыв через тридцать минут! Кто-то нажал кнопку... Силы небесные! Тысяча тонн динамита! Через секунду мы все вбежали в кабинет — и я, и Леночка, и Сапегин, и другие. Там было темно. Только сигнальная лампочка большой кнопки сверкала зловещим, так хорошо мне знакомым красновато-зеленым светом! Лучи фонариков осветили пульт. Стекло, защищавшее большую кнопку, было разбито, и сама кнопка вдавлена вглубь. Сомнений быть не могло. На полу, возле бронзового истукана, я увидел распростертое тело самого Римше. Он лежал в странной позе. Обеими руками он обхватил ногу гиганта, точно молил о пощаде неумолимое божество. Рожков вошел последним. — Товарищ техник-лейтенант, — обратился он к механику, и голос его в эту минуту звучал тревогой, — вы исполнили мое поручение? — Все, как вы приказали, товарищ майор. — Взрыва не будет? — Не должно быть: я перерезал все провода пульта и поломал контакты. Вздох облегчения вырвался из груди каждого. Страшный призрак неминуемой и скорой гибели рассеялся. — Когда ломали контакты, — продолжал майор, — по оплошности открыли все двери нижнего этажа и выпустили шпиона из кладовой. — Все может быть, товарищ майор, — оправдывался техник. — Конструкция этого пульта мне неизвестна, а изучить ее не было времени. — Понятно. А почему работают сигнальная сирена и лампочка, если вы перерезали все провода? — Отдельная проводка где-то осталась, надо полагать. Техник быстро отнял боковую стенку пульта и, просунув сквозь паутину проводов и шин длинную отвертку, принялся ею работать. Скоро сигнальная лампочка потухла, и зловещее завывание сирены замерло на низкой ноте. — Не заметил этого проводочка, товарищ майор. Теперь все в порядке. — Хорош порядок! Этак вы могли прозевать и провода, ведущие к адской машине. Рожков стал нервно ходить по кабинету. Техник снова начал копаться во внутренности пульта. — Времени не было все рассмотреть, — продолжал он оправдываться. — Не должно быть, чтобы прозевал. А там кто его знает! Ручаться не могу. Рожков подошел к нему: — Бросьте! Зря стараетесь. Все равно ничего уже сделать нельзя. Если адская машина приведена в действие, через... — он взглянул на часы, — через двадцать две минуты весь завод и мы все взлетим на воздух. Бежать не успеем. Может быть, Римше что знает? Но бывший начальник объекта валялся на полу без сознания. Леночка подошла ко мне и взяла меня за руку. — Идем отсюда, Сережа, — сказала она.—Там лучше. Мы покинули кабинет и вышли в темный зал, усыпанный огоньками. Я было хотел следить за временем по часам со светящимися стрелками, но она не позволила: — Не стоит, Сережа. Только лишнее волнение. Давай лучше посидим здесь. Мы сели на ступеньке лестницы. Стало совсем тихо. Из кабинета не доносилось ни одного звука. Молчали и мы. Тишина, миллиарды мерцающих в темноте искорок, близость Леночки рассеяли мой страх и тревогу. Я успокоился. Но вот в кабинете зашевелились, задвигали стульями, заговорили, и на балкончике опять забегали зайчики электрических фонариков. — Сергей Михайлович! — услышал я громкий голос майора. — Где вы? Куда спрятались? — Я здесь, Андрей Матвеевич! Время прошло? — С избытком. — Значит, взрыва не будет? — Не будет.Успокойтесь, — ответил он весело. Точно тяжелая гора свалилась с моих плеч. Оцепенение вдруг исчезло, ко мне вернулись жажда жизни и бодрость. Майор подошел к нам. — Хрулев все время был на своем посту и никого пе пропустил, — сказал он, — значит, шпион еще здесь. Идемте искать. Мы спустились вниз. Сюда выходили три двери. Все они были открыты. Одна вела в продовольственный склад, другая — в кухню, третья — на аккумуляторную станцию. Главный рубильник станции был выключен. Очевидно, это сделал шпион, как только открывшаяся дверь позволила ему выйти из кладовой. Мы включили рубильник, и зал снова осветился. И почти одновременно с этим раздался голос Краевского: — Сюда! Сюда идите! Он скрылся через проход! Мы побежали наверх. Первое, что я увидел, войдя в кабинет, был сам Римше. Он сидел на полу и, показывая пальцем на бронзового гиганта, выкрикивал по-немецки: — Хир! Хир! Эр гефлоен хир! — По-видимому, шпион бежал через эту дверь, — сказал майор. — Но Римше утверждал, что здесь нет выхода. А ну, давайте попробуем ее открыть... — Постойте, товарищ майор, — остановил его техник-лейтенант,— разрешите мне. Это мое дело... Прошу отойти. Мы все отступили и невольно подняли глаза вверх, на смертоносный молот бронзового истукана. Техник спокойно подошел к голове кабана, повернул ухо и надавил глаз. Тотчас же он засверкал зеленым светом, плита дрогнула, плавно повернулась, и открылся выбитый в скале низкий, темный проход, Техник запустил отвертку в пасть зверю, покрутил ею, и зеленый глаз погас. — Теперь не закроется, товарищ майор. — весело объявил он, — будьте покойны! Я эту игрушку изучил. Рожков засветил электрический фонарь, вынул из кобуры пистолет и направился к потайному выходу. Хрулев пошел за ним. Луч фонаря осветил низенький свод и крутые ступени лестницы, спирально поднимающейся вверх. Оба осторожно вступили на нее. Их шаги по каменным ступеням становились все глуше и глуше. Но вот я услыхал далекий голос майора: — Эй, кто там? Выходи! Вылезай оттуда! Да ну, скорее!.. Никакого ответа. Все тихо. Майор повторил приказание. Опять тихо. Так прошла минута, другая... Мы ждали, молча глядя в черную щель, не смея ни шелохнуться, ни двинуться с места. Но вот послышались торопливые шаги возвращающихся. Луч фонаря блеснул на камне. Майор вылез из-под свода, весь в пыли, погасил фонарь и спрятал пистолет. Лицо его было бледно и взволнованно, на губах играла странная улыбка. — Застрелился, — сказал он негромко. — Забился в самый конец тупика, в самую щель, и застрелился. Не выдержал ожидания взрыва. Пораженные всем случившимся, мы молчали, столпившись в середине кабинета. Рожков подошел к все еще сидевшему на полу фашисту. — Господин Римше, — сказал он громко, — вы продолжаете отказываться выдать нам тетрадь инженера Пасько? — Их хабе кайн... Я не имею никакой тетради инженера Пасько... Нет, не имею... — с трудом выговорил тот. — Что ж, попробуем обойтись без вас... Товарищ техник-лейтенант, прошу вас, как следует осмотрите ногу статуи. Только осторожнее, чтобы не попасть под удар. — Будьте покойны, товарищ майор, рука этого чудища парализована. Он лег на пол и тщательно осмотрел ногу истукана, потом постучал по ней отверткой. Звук был пустой. — И в самом деле, здесь какой-то фокус, — сказал техник. — Нога эта пустая и не припаяна к подставке. Постойте, мы ее сейчас... Он стучал, смотрел, старался повернуть бронзовую ступню во все стороны, нажимал в разных местах — и все без толку. — Разрешите, товарищ майор, я ее отрежу: металл не толстый. А то секрет этот не скоро отыщешь. — Валяйте! Техник взял зубило и молоток и несколькими ударами отсек ступню. Она отвалилась, и из ноги выпал сверток бумаги. Рожков нагнулся, схватил его и обернулся к нам. В его высоко поднятой руке была тетрадь Пасько. Он широко улыбался и, обводя нас глазами, не мог скрыть радостного волнения. — Вот! — воскликнул он. — Римше сам показал нам, куда он ее спрятал!Глава XXVII ПЕРВЫЕ СТРАНИЦЫ ТЕТРАДИ ПАСЬКО
На другой же день, вечером, в своем кабинете Андрей Матвеевич рассказал мне содержание нескольких первых страниц тетради Пасько, разумеется, только то, с чем я, как он выразился, «имел полное право и основание познакомиться». Некоторые места тетради он даже прочел вслух. Эти страницы, являясь как бы вступлением, были написаны по-русски лично Пасько. Дальнейшее — научная часть тетради была записана им под диктовку профессора Хиссингера по-немецки, только с примечаниями и пояснениями на русском языке. Эту главную часть труда я никогда не видел и ничего о ней не могу сказать. Впрочем, Рожков, отлично владеющий немецким языком, просмотрев ее, пришел к выводу, что без основательного знания высших разделов теоретической физики разобраться в написанном невозможно. Рожков достал из стола несколько листков, напечатанных на машинке. Это было начало тетради Пасько, разумеется, в копии, так как подлинник ее был послан в Москву. Читатели, вероятно, помнят, что первая ее страница была вырвана и валялась на полу карцера, где мы обнаружили тела несчастных. С содержанием страницы мы ознакомились в одной из предшествующих глав, и я здесь не буду его повторять. Вот что следовало дальше: «Но обратимся к делу. В марте 1941 года к нам из Москвы приехал молодой геолог Рябинкин. Целью его командировки были поиски полиметаллических свинцово-цинковых руд. Целыми днями он бродил по горам, часто ночевал под открытым небом, возвращаясь в гостиницу только для того, чтобы уложить в чемодан образцы минералов. Особенно его заинтересовала Серая скала, которая теперь стала нашей тюрьмой и скоро станет нашей могилой. Несколько дней он лазил по ее крутым обрывам с молотком и компасом в руках и мешком за плечами. Потом достал у нас на заводе станок для алмазного бурения с нефтяным двигателем, нанял рабочих и втащил его на скалу, чтобы продолжать разведку бурением. Война застала его за этой работой. Фашисты нагрянули к нам совершенно неожиданно. Рябинкину предоставили место в одном из последних отлетающих самолетов. Он приехал в аэропорт с двумя громадными чемоданами, полными камней, и его, конечно, не посадили. Расставаться со своей коллекцией он не захотел и застрял в нашем городе. Помню, вечером сидели мы в лаборатории. Настроение было подавленное. В городе властвовали фашисты. Ходили тревожные слухи, что приехало гестапо, что составляются черные списки, что заводскую гостиницу переделывают на тюрьму и скоро начнутся аресты. Рябинкин прервал молчание и сказал: — Виктор Иванович, вы знаете, эта Серая скала, которую я сверлил целый месяц, своего рода чудо природы. Ее доломитовый массив пересекают две мощные жилы, с поверхности без рудные, но на глубине становящиеся рудоносными. Я пробил сверху шурф и знаете, на что наткнулся?.. Вот взгляните! Он достал из кармана пестрый камешек и протянул его мне...» Рожков прервал чтение и перелистал несколько страниц. — Дальше подробно описывается, — пояснил он, — какая это была руда, каковы ее запасы, каков характер залегания рудного тела и прочее. Указывается, какое громадное значение для нашей страны должно иметь открытие этого месторождения. Так... Теперь, Сережа, "слушайте дальше... Пасько спрашивает у Рябинкина: «— Вы говорили об этом кому-нибудь? — Никому. Ни одной душе. Вам — первому... Шурф я засыпал, скважины забил, образцы руды закопал в землю и все записи сжег. — Тогда чего же беспокоиться? — А все-таки тревожусь. Сегодня видел, как эсэсовцы с лопатами шли к тому месту, где я зарыл образцы. Кто-нибудь мог выдать. — Ну вот еще! Кто же? — Вы моего десятника Лизогуба знаете? — Видел. — Парень он шустрый и хорошо грамотный. Был очень полезен. Но не лежит у меня к нему душа! Сегодня он был до того со мной любезен, все вертелся, в глаза глядел, улыбался, поддакивал... Страшно стало. Боюсь! — Будет вам! — Боюсь его, боюсь! Слишком много я ему рассказал... Виктор Иванович, если что случится, если вдруг, не ровен час, меня заберут, вам завещаю это дело. Не выдавайте секрета фашистам! Сохраните! Я дал слово... Предчувствия Рябинкина оправдались. Его забрали в гестапо в ту же ночь, и я не ведаю, что с ним стало. Меня тогда не тронули. Но вот в начале 1942 года к нам из Берлина приехала комиссия и сразу же развила бешеную деятельность. Тогда многих в нашем городе арестовали, и в том числе меня. Потом меня долго допрашивали в присутствии нескольких ученых-специалистов, среди которых был и Хиссингер, мой теперешний товарищ по заточению. Дело шло о месторождении Серой скалы. Я заявил, что ничего не знаю и не понимаю, что Рябинкин мне ничего не говорил и что руду вижу в первый раз. Мне поверили, и это отсрочило мою гибель. Около года я провел в концентрационном лагере. Примерно месяца три тому назад ночью меня неожиданно разбудили, велели привести себя в порядок, накормили, одели в новый костюм и увезли неизвестно куда. Потом долго водили с завязанными глазами по каменным коридорам, переходам и лестницам. Очутился я перед самим оберштурмбанфюрером фон Римше. Он объявил мне, совершенно не спрашивая моего согласия, что я назначен химиком-аналитиком при профессоре Хиссингере. На мой недоуменный вопрос, почему я, русский, получил такую ответственную должность, когда в Германии много отличных химиков, он ответил, ехидно улыбаясь: — О, вы тоже очень хороший химик, мы знаем. Если будете честно здесь трудиться, то получите хороший барыш и даже, может быть, железный крест... Это будет иметь очень большое значение, когда Германия завоюет весь мир. Я был немало изумлен таким непрошеным доверием, но впоследствии Хиссингер объяснил все очень просто. Мы оба, и он и я, предназначались к уничтожению, когда отпадет в нас нужда. Мы скоро сблизились...» Майор опять прервал чтение и пропустил страницу, потом продолжал: — «Месяца два мы водили фрицев за нос. Потом наступила катастрофа. Очевидно, мне не доверяли и где-то проводились контрольные анализы. Римше вызвал меня к себе. Он объявил, что я не оправдал доверия и буду уничтожен. Но меня не расстреляли, как я ожидал, а отвели в карцер и приковали цепью к полу. Через неделю сюда же привели Отто Хиссингера. Еще через несколько дней нам объявили, что немцы на две недели покидают подземный завод и что нам на этот срок оставляют продовольствие из «гуманных соображений». Это, конечно, было самое неприкрытое лицемерие: они прекрасно понимали, что так скоро сюда не вернутся». Рожков замолчал. — Ну вот, пожалуй, и все, — сказал он и спрятал тетрадь. — Я прочел вам все, что возможно. — Несчастные! — сказал я. — Если бы они только знали, как ловко обманул их этот хитрый негодяй! — Это было бы для них самым страшным ударом... Ну, что же, теперь вы лучше уяснили себе смысл происшедшего? — Еще бы, конечно! Спасибо. Неясно только, откуда вам стало известно, что десятник Рябинкина, по фамилии Лизогуб, и убитый Галемба — одно и то же лицо?.. Простите, Андрей Матвеевич, может быть, я задаю вам нескромный вопрос? — Ничего. Ваше любопытство понятно. Я обещал вам все разъяснить. Он открыл стол и достал уже знакомую мне фотографию «Колонны согласия» со снятыми у ее подножия немецкими полицейскими. Фотографию эту Рожков захватил с собой, когда отбирал снимки в музее у Маевой. Он молча указал мне на одного бравого полицейского, стоящего в первом ряду, за спинками стульев, на которых восседало начальство. Нельзя было ошибиться: в этом грубом, самодовольном лице с длинными усами я узнал Галембу. — Что скажете? — Он, несомненно! — Разумеется. Все это говорят. А знаете, что навело меня на мысль взглянуть на это фото? При обыске у него в сторожке у парома мы ничего подозрительного не обнаружили, кроме полицейского свистка немецкого образца со свастикой у колечка. Хотя таких свистков было много, я решил проверить. — Как же он решился поселиться в той местности, где его могли узнать? — Его отыскал и завербовал Абаза и устроил работать при пароме. Он им был нужен как хозяин явочной квартиры... Ну, и для других, менее невинных целей. Жил он уединенно, отпустил бороду. Да среди населения его мало кто знал, он не здешний уроженец. При немцах работал в концлагере для военнопленных, из которых, как вы прекрасно знаете, мало кто возвращался. Так мне стала известна история темной жизни предателя Лизогуба.Глава XXVIII ПОСМЕРТНО ОПРАВДАННЫЙ
Как-то вечером, вскоре после событий, разыгравшихся в отделении «А» подземного завода, мы с Леночкой сидели дома и повторяли курс технологии цементного производства. Неожиданно к нам зашел Андрей Матвеевич. Я очень обрадовался его приходу. Поздоровавшись, он достал из кармана знаменитую желтую расческу в форме рыбки —знак юных разведчиков-патриотов — и подал ее мне: — Возвращаю вам вашу собственность. Храните ее на память обо всех приключениях и треволнениях и о нашей совместной работе. — Спасибо! Она вам больше не нужна? — Она никогда мне не была нужна. Я ее оставил у себя из опасения, чтобы она случайно не попала на глаза Пете или Анне Шидловской. Это крайне осложнило бы наше дело, да и для вас было бы не совсем безопасно. Я передал расческу Леночке. Она раньше не видела ее и теперь разглядывала с интересом. — Да, вещица замечательная, — сказал майор. — Она долго была символом беззаветной любви к Отчизне и высокого героизма, а потом стала орудием преступления. Впрочем, последняя ее служба была опять полезной. — Как так? — Она заставила Шидловского признаться в своих преступлениях. Он не смог объяснить, откуда достал ее, начал путаться в показаниях и в конце концов должен был сознаться во всем. Одно только он отрицает: свое участие в покушении на убийство Коломийцева. Он будто бы даже и не подозревал этого. Возможно, что здесь Абаза действовал помимо Шидловского: всегда лучше обойтись без лишнего свидетеля. — Как же это могло быть? — Очень просто. Абаза, узнав про письмо, посланное Анной Шидловской брату, сразу же понял опасность. Он послал Шидловского в Белые камни, ни словом не обмолвившись о своем намерении устроить там ловушку для корреспондента. — Но все-таки именно Шидловский погубил Петю тем, что вовлек его в преступную компанию. Так ведь? — Нет, не так. Совсем не так! Петя никогда в их компании не состоял. Он жертва преступников, а не их сообщник. Они использовали его для своих гнусных целей — это правда, но путем обмана, играя на лучших чувствах мальчика. И Андрей Матвеевич подробно рассказал нам печальную историю сближения Пети с компанией Шидловского. Шидловский появился в городке двумя неделями раньше меня и в первое время поселился в гостинице. На явочной квартире у Галембы, в домике паромщика, он впервые встретился с Абазой. Тут выяснилось, что хотя Шидловский и был членом ЮРП, он играл только второстепенную роль и не знал ничего существенного о подземном заводе фашистов. Деятельность юных разведчиков была строго законспирирована даже внутри своей организации. Абаза поручил Шидловскому разузнать все что возможно о Серой скале. Затем «корреспондент», чтобы замести следы, улетел из города на самолете, чтобы снова вернуться поездом. Проживая в гостинице, Шидловский раньше моего успел списать и расшифровать тюремную надпись. Там было указано место входа из реки в шлюз. Но они не могли понять слов «рука Лисовского», и надпись оказалась бесполезной. Тогда они решили сблизиться с Петей Сердобиным, рассчитывая что-нибудь узнать у него. Для этого Шидловскому пришлось встретиться с сестрой. Шидловский сумел убедить ее, что занимается литературной работой, что его псевдоним «Коломийцев», что он пишет роман о героических делах юных разведчиков, приехал сюда собирать материал и просил ее познакомить его с Петей. Сестра поверила ему. Знакомство состоялось. Она представила Пете своего брата как писателя. Они сошлись очень скоро. Представьте себе мальчика-подростка, пылкого и увлекающегося, благоговеющего перед памятью брата-героя. С какой любовью, с каким открытым сердцем должен он встретить человека, который хочет в литературном труде описать жизнь, борьбу и героическую гибель его кумира! Шидловский стал осторожно расспрашивать Петю про дела юных разведчиков, но мальчик почти ничего не знал. Несомненно, если бы Пете было что-нибудь известно про подземный завод, он не стал бы молчать о таком важном для нашей Родины открытии. Шидловский получил-таки одно очень важное указание. Петя вспомнил, как они с Толей и с товарищами — это было незадолго до арестов — три дня подряд дежурили на холме у реки, напротив Серой скалы. Весь район тогда был огорожен, плавать запретили, даже на противоположном берегу нельзя было находиться. Они внимательно наблюдали, как заключенные гуськом проходили по тропинке вдоль берега реки. Надо было заметить место, где упадет один из заключенных. Это случилось вечером третьего дня на глазах у Пети и Толи. Толя потом отметил это место на самодельной карте и надписал слово «вход». Петя тогда мало вникал в это дело, но место запомнил. После ухода оккупантов он ходил к Серой скале, нашел возле самой воды место, отмеченное на карте словом «вход», но там ничего не оказалось. Он не догадался тогда, что вход находится под водой. Вот какими важными сведениями обогатил Петя Шидловского и его сообщников. Именно этого им и не хватало. Шидловский пустился на откровенность. Он не стал скрывать от Пети, что немцы вели внутри скалы очень важные работы, что проникнуть туда можно только через тайный вход, вероятно, тот самый, место которого знали юные разведчики, и просил Петю провести его туда ночью, чтобы сохранить пока тайну. Потом они сообщат обо всем в Москву и тем принесут громадную пользу Родине. Словом, предатель развел турусы на колесах. Романтически настроенный мальчик заслушался сладких речей своего ложного друга и попался на удочку. Он сам предложил переодеться в женское платье. Он уже рядился в него под Новый год и знал, что оно ему к лицу. И вот на свет появилась таинственная девочка, так долго смущавшая всех нас. В ту ночь, когда я блуждал по лесу, Петя вел Шидловского, чтобы показать ему место входа. Абаза и Галемба, о которых Петя тогда не имел никакого представления, шли за ними. Мое появление чуть было не расстроило все их планы. Выстрелы были слышны на весь лес, и Абазе пришлось открыться. И тут он проявил весь свой талант. Нимало не смутившись и вовсе не скрывая своего знакомства с Шидловский, он просто объяснил Пете, что они выследили того предателя «Бедуина», который выдал юных разведчиков, и что они намерены поймать его и передать судебным органам. Он заявил также, что сам имел связь с ЮРП, и в доказательство предъявил расческу, которую получил от Шидловского. — Кого же они представили как «Бедуина»? — спросил я, когда Рожков рассказал мне все это. — Неужели не догадываетесь? Конечно, вас, Сережа. — Меня?.. — Разумеется. — Как же так?—сказала Леночка недоуменно.— Нужны же хоть какие-нибудь основания и доказательства! Этак можно что хочешь наговорить. — Они их представили, Елена Алексеевна. Во-первых, Сережа знает ключ к шифру. Ведь так? Во-вторых, его «узнал» Иван Иванович Сердобин. И, наконец, Абаза, видите ли, тоже «припомнил». Все в порядке. — И Петя поверил этому вздору? — воскликнул я. — Поверил. Даже согласился следить за вами. — Ловко! Пожалуй, чего доброго, они наговорили Пете, что я столкнул с обрыва его отца? — Вы угадали: они именно так и сказали. Им нельзя отказать в остроумии. Затем майор рассказал, как Абаза и Шидловский проникли на подводной лодочке в шлюз, как Абаза созвонился с Римше и как тот, открыв броневую дверь, впустил только его одного. — Простите, Андрей Матвеевич, — перебил я, — откуда же они достали эту лодочку? — Как вы любите забегать вперед, Сережа! Ну, раз вы спросили, я постараюсь вам ответить. Теперь мне все ясно. Вот, слушайте. Еще до приезда Шидловского Абаза и Галемба откопали заваленный камнями вход в блиндажик, что у недостроенного форта, и нашли там лодочку. Несомненно, Абаза раньше знал об этом и знал также, как созвониться с Римше. Откуда, спрашивается? От того самого таинственного «младшего», о котором говорится в донесении, найденном в радиомаяке. Кто же это? В сейфе Римше нашли журнал, где он собственноручно записывал различные события, достойные внимания. Записи в общих чертах подтвердили его показания. Там, однако, не упоминается о самоубийстве его сына Фридриха, зато имеется заметка о выдаче ему тридцати тысяч долларов. Само собой напрашивается объяснение, что он и не думал умирать, а был послан отцом с каким-то поручением и не вернулся и что он-то и есть этот «младший». Сей «достойный» отпрыск фамилии фон Римше, очевидно, пренебрег отцовскими поручениями, продал иностранцам секрет Серой скалы и спокойно зажил на вырученные денежки. От него иностранная разведка узнала про лодочку, и про тетрадь Пасько, и про все остальное. Папаша, однако, упорно продолжает твердить, будто его Фридрих покончил с собой,—усмехнулся майор, — да и понятно: ведь факт измены сына опозорил бы честь их рода. Так или иначе, Абаза проник к Римше. Он отрекомендовался представителем иностранной разведки и наобещал всяких благ. Старый эсэсовец, однако, был осторожен. Он показал все сокровища, но отказался продать тетрадь Пасько. Все секреты подземелья Абаза знал раньше, конечно, от Фридриха, имел он и план завода. План этот нашли на его трупе. На нем недостроенный выход наружу из кабинета показан как законченный. Ошибка эта оказалась роковой для шпиона. Абаза осмотрел все закоулки, побывал и в карцере, где раскидал бумагу, оставил стеариновые пятна и обожженные спички... Узнав, что мы спускались в колодец, Абаза понял, что через него можно пробраться на подземный завод, и решил ликвидировать этот проход. Был заготовлен карбид за неимением взрывчатки. За колодцем наблюдали. Увидев, что вы в него проникли, Абаза решил немедленно действовать. Враги убили Совкова, затем попытались взорвать проход ацетиленом, для чего бросили в колодец целый барабан карбида... После, убедившись в неуспехе этого дела, колодец решили зацементировать. Убийство происходило на глазах у Пети. Он в это время был в палатке. В суматохе про пего забыли. Он слышал откровенные разговоры бандитов, видел их озверелые лица, бледные от страха и жестокости, и сразу понял все. Напасть на солдата госбезопасности могли только враги. Трудно представить, что пережил мальчик в эти минуты! Изумление, негодование, ужас перед убийцами, сознание своей вины, страх перед ответственностью за соучастие в преступлении, желание помочь жертве... Он понял, что попал в лапы злодеев, что надо скорее бежать от этих страшных людей. И он бежал, не успев переодеться, потому что его платье осталось в блиндаже. Скоро сознание долга пересилило страх. У Пети окрепла мысль, что он должен спасти человека, которому угрожает смерть и, может быть, по его вине. Но как? К кому обратиться? Кого позвать? Петя терялся. Идти в милицию он ни за что не хотел: боялся, что его обвинят в соучастии. Он знал, что к вам приехала жена, и решил сказать ей. Он вернулся в палатку, захватил ваше письмо, документы и пошел к домику Пасько, но туда не вошел, а встретился с Еленой Алексеевной на улице. Вам, Елена Алексеевна, — его, связали и отвезли в шлюз. Потом туда же протащили и труп Совкова. Они несколько дней продержали мальчика в насосной камере и, уже не стесняясь, вели при нем разговоры о секретах завода. Вот откуда узнал он тайну германского бога. Потом выстрелом из пистолета Петю смертельно ранили. Майор замолчал. Молчали и мы с Леночкой. — Вы правы, Андрей Матвеевич, — сказала она наконец. — Петя, конечно, жертва, а не соучастник преступления. Его обманули, а не обольстили. Им руководили честные намерения, и я сразу тогда почувствовала это. Я бы его оправдала. — А последний его поступок, Андрей Матвеевич,— сказал я, — по-настоящему геройский. Он ведь знал, что идет почти на верную смерть. — Конечно, — согласился майор. — Его можно считать оправданным... посмертно оправданным. Что произошло дальше, читатель уже знает. После убийства Совкова и ликвидации прохода через колодец шпионы побоялись оставаться возле Серой скалы и перебрались в Белые камни. Шидловский — легально, в гостиницу, Абаза и Галемба — в лесной домик. После разоблачения Абаза бежал опять-таки в подземелье. Почему именно туда? Ведь он знал, что подземный объект фашистов перестал быть тайной. Прежде всего подземелье вовсе не казалось врагу особенно опасным местом. Он считал, что мы с Леночкой замурованы в лабораторном помещении, Петя убит, подводный проход никому не известен, броневую дверь снаружи открыть невозможно. Словом, несколько дней там можно будет прожить в безопасности. Но главное, ему надо было во что бы то ни стало достать тетрадь Пасько. Кроме того, его прельщали сокровища, накопленные эсэсовцем: доллары, золото, драгоценности. Наконец, ему надо было выполнить последнее распоряжение начальства и взорвать подземелье. Раз секрет Серой скалы стал известен Советскому правительству, она должна была взлететь на воздух. Римше хвастался, что во-время разгадал этот злодейский замысел и спас завод от гибели. Во всяком случае, он не солгал насчет тысячи тонн динамита. Наши минеры обнаружили сорок колодцев в разных местах подземелья и в каждом — по двадцати пяти тонн взрывчатки. Все они взрывались от адской машины, скрытой в стене кабинета. Она приводилась в действие той самой большой кнопкой, которая была в кабинете Римше. Не догадайся мы о ее назначении, скала превратилась бы в груду щебня... Так окончилась наша беседа с майором в этот достопамятный вечер.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На этом закончились мои приключения. Через два дня я уже работал на заводе в должности начальника новой цементной печи, которая только что прошла испытания и была принята в эксплуатацию. Леночке предложили должность сменного инженера, пока не будет достроена третья печь. Я покинул домик Пасько и переехал в новую квартиру, в заводской поселок. Старушка Надежда Петровна сердечно со мной простилась и пожелала мне счастья. Но с Татьяной мы расстались холодно. Скоро, двумя неделями раньше окончания каникул, она уехала обратно в Киев. На этом, пожалуй, можно было бы и закончить мое повествование, но, думается мне, читателям интересно будет узнать еще некоторые подробности. Римше был извлечен из подземелья и доставлен в больницу только после того, как был пробит прямой проход в шлюзовую камеру. Провести его под водой в водолазном костюме врачи не позволили. Волнения последних дней подействовали на него настолько губительно, что в больнице он прожил всего лишь одну неделю, все время оставаясь в тяжелом состоянии. Негодяй, он был к тому же трусом. Легко распоряжаясь жизнью других, он не имел ни капли мужества, чтобы встретить свою смерть лицом к лицу. Как только открылся удобный проход в подземелье, комиссия, возглавляемая Сапегиным, приступила к работе. Специалисты занялись прежде всего детальным изучением оборудования, подсчетом геологических запасов руды и разбором технической документации, найденной в сейфе у Римше. Скалу со всех сторон обнесли высоким забором. Подводный проход и колодец зацементировали наглухо. От соседнего высоковольтного кольца начали вести линию электропередачи. Сейчас здесь строят новую большую пристань и прокладывают хорошую дорогу. Невдалеке заложили заводской поселок.Тайна профессора Макшеева
В ГОРАХ КАВКАЗА
Скорый поезд приближался к станции. За окнами мерно покачивающегося вагона чернела ночь, и мимо проплывали неясные очертания каких‑то предметов. Несмотря на позднее время, в одном из купе жесткого вагона бодрствовало трое человек. На столике стоял чайник, банка консервов, булка и другие остатки неприхотливого ужина. Невысокий коренастый человек лет сорока, с серьезным и спокойным лицом, курил трубку и, просматривая какой‑то толстый журнал, делал в нем отметки красным карандашом. Отложив работу в сторону, он поглядел на часы. — Скоро приедем, — оказал он. — Пора собираться. Сборы были недолгими: человек, куривший трубку, сунул журнал в чемодан, добрую половину которого занимали табак и книги, надел брезентовое пальто, подпоясался кожаным поясом и нахлобучил на голову потертую кожаную фуражку с темными автомобильными очками над козырьком. Другой спутник, уже пожилой, в очках, с седыми волосами и небольшой белой бородой, тщательно уложил свой рюкзак, в котором также было много всяких книг и тетрадей. Третий, на вид почти юноша, уложил остатки провизии в вещевой мешок и сверху прицепил к нему чайник. Одевшись, все трое направились к выходу. Поезд, замедляя свой ход, остановился, и через минуту пассажиры сошли на платформу небольшой станции Эльхотово Орджоникидзовской железной дороги. Начинало рассветать. Найдя ожидавшего их возчика, спутники забрались на повозку, разлеглись на соломе и в предрассветном тумане тронулись в путь. Все лето в горах Северного Кавказа работала геологическая экспедиция из центра. Целью ее было изучить открытые недавно месторождения редких металлов — молибдена и вольфрама. Надо было сделать тщательную геологическую съемку участка, наладить буровые работы, собрать образцы горных пород, сделать ряд измерений рудных тел, для того чтобы можно было бы, уже после возвращения в Москву, на основе этих материалов дать полное описание и оценку месторождения. Начальник партии, профессор геологии Андрей Васильевич Другов, его помощник, инженер–геолог Сергей Ильич Званцев, и студент второго курса Геологического института комсомолец Ваня Чуваев, участвующий в экспедиции в качестве коллектора, только что вернулись из кратковременной поездки в Москву. Дни, проведенные в поезде, явились для них отдыхом. Здесь, в горах, снова наступили горячие трудовые будни. В Москве предложили форсировать все работы и поскорее представить полные данные о месторождении. Уже было пробито несколько колодцев, так называемых шурфов, чтобы на небольшой глубине исследовать недра. Профессор с ловкостью юноши спускался в шурфы, поднимался по склонам гор, делал измерения и зарисовки, откалывал молотком куски камня. Званцев проверял топографические съемки и вычислял, где лучше всего поставить буровой станок. На станке в буровой бригаде работал молодой грузин, по фамилии Ткешелашвили, но все его звали просто «Ткеша». Веселый и простой, он был общим любимцем. Ваня особенно близко сошелся с Ткешей. Этот умный, живой и любознательный юноша ему очень нравился. Днем они встречались редко, но по вечерам, лежа возле палаток, долго беседовали на разные темы. Ткеша окончил семилетку в Нальчике и года три работал при геологоразведочных партиях. Мечтой его было учиться на инженера, и Ваня горячо поддерживал его рвение. Решено было, что Ткеша поедет в Москву и поступит на рабфак того института, где учился Ваня. Никто не сомневался, что он выдержит экзамены.ТАИНСТВЕННАЯ НАХОДКА
В работе незаметно промелькнул месяц. Приближался сентябрь, а с ним и возвращение в Москву. За несколько дней до отъезда Званцев и Ваня отправились осматривать новое жильное месторождение. Идти надо было километров пятнадцать в один конец. Вначале шли по знакомым местам, среди веселой зелени, но, по мере того, как поднимались в горы, кругом, становилось все угрюмее и безжизненнее. Цветы и пахучие травы сменились колючими растениями, веселые птицы и бабочки исчезли. Было тихо. Оба путника молчали. Званцев не выпускал изо рта трубки. К полудню они достигли обрывистого склона, на темном фоне которого были видны беловатые наклонные полосы. — Отдохнем и за дело, — сказал инженер. — Вы, Ваня, обследуете эти ближайшие жилы, а я займусь теми, что повыше. Ваня не без труда поднялся по склону и приступил к обследованию. Он измерил рулеткой толщину жилы, определил с помощью горного компаса угол, под которым она падает к горизонту, и ориентировал ее по отношению к сторонам света. Он отбивал молотком образцы жилы в разных местах и делал зарисовки в свою тетрадь. Провозившись несколько часов, оба геолога сошлись возле небольшого углубления и сели отдохнуть. Званцев привычным взглядом окинул стены пещерки и неожиданно встал. В углу пещеры он поднял небольшой плоский предмет. — Вот и находка, да к тому же и совсем не обычная для этих мест. В руках Званцева оказалась маленькая, покрытая толстым слоем пыли записная книжка. — Да это, наверное, какой‑нибудь турист потерял! — воскликнул Ваня. — А мы посмотрим, что он там записывал. И оба внимательно стали рассматривать находку. Но, увы, странички книжки оказались чистыми. Человек, потерявший книжечку, по–видимому, не успел еще ею воспользоваться. Не было указано даже имя владельца. Единственно, что привлекло внимание Званцева и Вани, это лежавший в книжечке небольшой листок плотной бумаги, сложенный вчетверо. Он весь был покрыт цифрами. Цифры располагались группами, с промежутками между ними. Внутри каждая группа разбивалась запятыми на три части. Внизу, вместо подписи, стояло: «И. №267 (5198)». — Занятно, очень занятно, — медленно произнес Званцев, рассматривая бумажку. — Вернее всего, Сергей Ильич, это какая‑нибудь чепуха, которую написали ребята. Мы в детстве постоянно выдумывали подобные тайные азбуки. — Едва ли. Какие ребята могут попасть сюда? Здесь бывают только местные пастухи. А кроме того, записка написана взрослым, и притом вполне грамотным человеком. Не думаю, чтобы это была мистификация. Впрочем, здесь мы ничего не разгадаем. Пора домой. Он тщательно сложил записку и спрятал ее в карман рубашки. Первыми, кого они увидели, приближаясь к лагерю, был научный сотрудник экспедиции Пашкевич и лаборантка Оля. Все знали, что этот красивый, стройный мужчина, всегда такой корректный и вежливый, ухаживал за Олей — синеглазой блондинкой. Оля была страстной спортсменкой. Она увлекалась теннисом, лыжами и даже прыгала с парашютом. Оля их окликнула. — Ну, как успехи, что несете? — Да кое‑что есть, — ответил Ваня, и на душе у него стало грустно оттого, что Оля предпочитает дружбу с Пашкевичем дружбе с ним, с Ваней. Разумеется, находка записки была главной темой разговоров. Геология отошла на второй план. Каждый высказывал свое предположение. — Может быть, это какая‑нибудь военная тайна? Ведь здесь шли бои в гражданскую войну, — сказал Ткеша. — Или, — воскликнул Ваня, — дело идет об открытии богатейшего месторождения. Какой‑нибудь геолог открыл и зашифровал его. — Не стоит гадать, — промолвил инженер, — все равно не придумаем ничего путного. Это явно шифр, и надо найти ключ к нему. — Шерлок Холмс живо бы отгадал. Помните рассказ «Пляшущие фигурки», где он отгадывает азбуку с буквами в виде пляшущих человечков? — сказал Пашкевич. — Или вот в рассказе Эдгара По «Золотой жук», — там один человек открывает шифр пиратского письма. Вплоть до ужина разговор вертелся вокруг таинственной записки. Ужин состоял из шашлыка, который жарили сами на костре, помидоров, вина и винограда. Он удался на славу. Все смеялись, острили, было очень весело. Но Ваня вскоре отошел от шумной компании и присел один на камни. Тайна шифрованного письма не выходила из его головы. «Спишу записку и займусь этим делом в Москве», — решил он и пошел к палатке. На столе горела лампа. Ваня открыл ящик, достал документ, положенный туда Званцевым, тщательно переписал его и спрятал обратно. Через несколько дней экспедиция с большим грузом образцов камней выехала в Москву. Вместе со всеми ехал и Ткеша.ШИФРОВАННОЕ ПИСЬМО
По приезде в Москву Ваня в первое время оказался по горло заваленным всякими хлопотами. Надо было помочь Ткеше подготовиться к испытаниям. Ткешу на первое время он поместил у себя, так как занимал небольшую отдельную комнату. Ткеша выдержал испытания и был зачислен на рабфак. Вскоре начались занятия, и у наших друзей осталось очень мало времени для посторонних дел. Но мысль о таинственном документе не оставляла Ваню. На его столе, рядом с учебниками и тетрадями, появились также «Приключения Шерлока Холмса» и рассказы Эдгара По. Впрочем, Ваня скоро убедился, что применяемые в этих рассказах методы расшифровки не подходят для их случая. Шерлок Холмс и герои Эдгара По разбирали документы, написанные особой азбукой, где каждой букве соответствует отдельный знак, объяснил он Ткеше. Они применяли статистический метод, вычисляя, как часто встречается буква в языке, с одной стороны, и одинаковые значки в зашифрованном документе — с другой, и отсюда заключали о значении последних. В найденной же записке одинаковых чисел, кроме первых в каждой группе, почти не встречалось. — У нас имеется двадцать две различные комбинации чисел, тогда как букв в русском алфавите всего только двадцать семь. Это что‑то другое, — твердил Ваня, — какой‑то другой метод зашифровки. Но в чем здесь дело — мне непонятно. Друзья немного приуныли. Орешек оказался крепче, чем они предполагали. Как‑то в середине сентября Ваня встретил в коридоре института профессора. Здесь, в учебном заведении, он казался более суровым и официальным. Ваня поздоровался и спросил с волнением: — Андрей Васильевич, не разгадали шифрованной записки? — Какое там! Представь себе, эта записка где‑то затерялась. Пробовали искать — безнадежно. Профессор махнул рукой и ушел. Ваня хотел сказать, что у него есть копия, но раздумал. Профессор здесь был для него не товарищем по работе, а деканом. Дружба, зародившаяся на геологической разведке, распалась в Москве. Ольгу Ваня встречал редко, только в лаборатории, так как она училась на третьем курсе. При встречах Ольга улыбалась ему, весело болтала и смеялась, как со старым знакомым, но Ваня всем существом своим чувствовал, что он ей безразличен. Это огорчало его. Званцев работал в Академии наук и в институте не бывал. Чаще других Ваня видел Пашкевича, так как он вел у них практические занятия по исторической геологии. Однажды, впрочем, Ваня встретился в коридоре института с инженером Званцевым: — Здравствуйте, Сергей Ильич, что вы у нас тут делаете? — Да вот Пашкевич просил заместить его на несколько занятий. Он уехал куда‑то по семейным делам. Кстати, Ваня, наша таинственная записка потерялась. — Сергей Ильич! А у меня есть копия с нее. Я тогда же списал записку к себе в тетрадь. — О! Ну и молодец же вы, Ваня. Значит, можно попробовать разгадать. Вот что: принесите‑ка мне записку на квартиру сегодня вечером. Займемся расшифровкой. Вечером Ваня отправился к Званцеву. Инженер жил в Староконюшенном переулке, занимая вместе с матерью небольшую квартиру. Когда Ваня вошел в его комнату, первое, что ему бросилось в глаза, — ковер на стене, увешанный всякого рода холодным оружием. — Богатая и интересная коллекция у вас, Сергей Ильич. — Ну, идите, я вам покажу. Званцев снял со стены большой складной нож с ручкой из оленьего рога и раскрыл его. — Это настоящая испанская наваха. Ее мне приятель привез из Испании. Это фамильное оружие, оно переходило от отца к сыну, смотрите — здесь выгравированы имена владельцев: Педро, Родриго, еще Педро, Мигуэль… А вот этот нож с зеленой костяной ручкой — сербского происхождения. Видите, здесь на лезвии их марка: горный козел. — А вот тоже любопытная штука! — И Званцев снял со стены клинок странной формы в кожаных ножнах. — Это японский самурайский нож, таким ножом самураи делают себе харакири. Ваня засмеялся. — А это у вас старый кавказский кинжал? — Да. Я купил его в Тбилиси, на базаре, у чеченца. — А вот это настоящая старинная рапира. — Званцев снял со стены шпагу. — Она тверда и вместе с тем гибка и упруга. Он обернул ее вокруг пояса, затем отпустил. Шпага расправилась со звоном и упала на пол. — А вот и венец моей коллекции — смотрите. Эта кривая, на вид неказистая турецкая сабля — не что иное, как настоящий булат. Мне посчастливилось купить его у казака во время войны. Наверное, каналья, снял с убитого. При правильном ударе этой саблей можно перерубить стальную шашку, как деревянную палку. Осмотрев оружие, Ваня передал инженеру списанный в тетрадь документ и рассказал о своих неудачах. Тот долго и внимательно рассматривал ряды цифр. — Разумеется, — сказал он, наконец, — это не секретная азбука, это совсем другой способ шифра. Я думаю, что его можно расшифровать только с помощью специальных таблиц. — Но в состоянии ли мы сами расшифровать такое письмо? — Для нас с вами, Ванечка, надо полагать, это почти невозможно. — Что же тогда делать? — Передать письмо в руки, более искусные, чем наши. Что же еще придумаешь? Скоро Ваня распрощался и пошел домой. Дня через два после лекций Ваня зашел, как обычно, в читальню просмотреть газеты. Он прочел главнейшие известия на первой странице и перевернул следующую. Тут взгляд его упал на верхний правый угол листа. Там стояло: «Пятница, 16 сентября 1938 г. № 217 (6684)». Вдруг, словно яркая молния, пронеслась в его уме догадка: подпись шифрованной записки! Как она похожа на газетный номер! Ваня ясно помнил эту подпись «И. № 267 (5198)». «И» это может означает «Известия». Ну, конечно! Надо достать «Известия» № 5198. Он быстро рассчитал, что этот номер должен был выйти в 1933 году. Через несколько минут, в страшном волнении, он перелистывал пачку газет за 1933 год. Номер 267 оказался газетой от 1 ноября. Ваня осторожно, так, чтобы никто не видел, вырвал газету из подшивки и побежал к себе. — Что случилось? — спросил Ткеша, увидев своего друга взволнованным. — Я, кажется, догадался, как расшифровать документ. Вот смотри. — И он в двух словах рассказал, в чем дело. — Газета от первого ноября тысяча девятьсот тридцать третьего года. Постой! Что же было у вас в это время? — Что было?! Они остановились, глядя друг на друга. — А ведь в самом деле в 1933 году у нас в горах произошла неприятная история. — И, волнуясь, Ткеша рассказал,как в ноябре, на том участке, где работала экспедиция, местные жители случайно обнаружили труп пожилого человека. — Я хорошо помню, что фамилия его была Макшеев, профессор из Москвы. Его нашли убитым пулей в голову навылет. Грабители украли сумку, пальто, часы… Мы все ходили смотреть… Из Орджоникидзе собаку привозили… только все безрезультатно. Никого не нашли. — Конечно! Это он, Макшеев, написал документ и зашифровал его, воспользовавшись газетой! Ясно! Газета оказалась у него под рукой, и он использовал ее как шифровальную таблицу. Друзья лихорадочно принялись за разбор документа. Затруднение вызвал вопрос, что означает первая цифра каждой группы. Второе число, очевидно, означало строчку, а третье — букву в строчке. Первоначально предположили, что первая цифра означает страницу газеты. Стали отмечать буквы. Вскоре, однако, работу остановили: получился бессмысленный набор букв. — Нет, это не то, — сказал Ваня. — Он встал и зашагал по комнате. — Мы неправильно поняли значение первой цифры. А может быть, она означает не страницу, а столбец в газете. Более вероятно, что Макшеев пользовался одной стороной газеты, это удобнее. Ваня бросился опять к газете. Он стал расшифровывать, пользуясь передовицей «Дать транспорту 15 000 вагонов». Через минуту он воскликнул: — Смотри! Смотри! Получается! На бумаге было написано: «Я сделал откр…» Трудно описать волнение, охватившее обоих друзей при этом. Руки их дрожали, лица были потны, — глаза устремлены на бумагу. Через четверть часа шифр был разгадан. Получилась следующая запись: «Я сделал открытше гром военной важнза рыл ок Серпухова с малан?? оно вово сток южн угл цер? ви 22 м преслкдует блобрысыйм». Некоторые буквы были поставлены ошибочно, другие были лишние, так, в слове «открытие» буква «ш» была поставлена вместо «и». То же относится к букве «к» слова «преследует». Но в трех случаях указывались несуществующие буквы неполной строки. Человек, видимо, торопился, когда шифровал записку. Сделав исправления, расчленив слова, Ваня написал следующее: «Я сделал открытие громадной военной важности. Зарыто около Серпухова (в) селе Малан ?? оно (на) вовосток (от) южного угла церкви (на) 22 метра (Меня) преследует белобрысый. Макшеев». — К Званцеву! — закричал Ваня. Они схватили газету, тетрадь и, несмотря на позднее время, побежали к инженеру на квартиру. На лестнице Ваня встретился с Ольгой. Голубая вязаная кофточка и такой же берет очень шли к ней. — Оля!.. Олечка!.. Мы… мы…. нашли ключ к записке! — прошептал он, взяв ее за руки. — Что с вами?! Какой ключ? При чем тут мои руки? — Ольга резко отстранилась и стала подниматься по лестнице.НЕУДАЧА
Ваня и Ткеша застали Званцева в кабинете за работой. Он спокойно и серьезно выслушал бессвязный рассказ взволнованных молодых людей. Открытие поразило и его. Он позвонил по телефону Другову и попросил его приехать, а сам стал проверять расшифровку письма. Профессор не заставил себя долго ждать: он жил недалеко. — «Вовосток», — конечно, ошибка. Макшеев тут написал лишний слог. Жаль, что оказались пустые места в самом важном для нас слове… Ну, да мы догадаемся по карте. Сергей Ильич, давайте сюда ваши карты. Все наклонились над картой Московской области и стали изучать прилегающий к городу Серпухову район. К востоку от железнодорожной станции Тарусская, километрах в восьми по шоссе, на карте было написано: «Село Маланьино». — Ну, теперь все ясно. Здесь, — указал карандашом профессор на карту, — отгадка нашей тайны. Ваня, ты вел себя молодцом! — И он пожал Ване руку. — Да, по–видимому, это так и есть, — заметил Званцев. — Недостающие буквы — это мягкий знак и «и», а буква «о» лишняя, она поставлена по ошибке. — Ну, — сказал профессор, — я занят, да и стар, а вы трое завтра же в путь–дорогу, в село Маланьино. Вы, Сергей Ильич, кажется, не очень заняты, а этих молодцев я отпускаю на два дня. Поезд на Тулу отходил в 00 часов 40 минут ночи. Званцев и двое комсомольцев, одетые по–дорожному, в сапогах и брезентовых плащах, сидели в ярко освещенном вагоне. У Ткеши были с собой кирка и заступ, завернутые в газету. Первое время шли оживленные разговоры. Но вскоре усталость взяла свое, и путники затихли. На станцию Тарусская приехали на рассвете. Удалось нанять подводу до села Маланьино, и часа через два друзья увидели высокую белую колокольню среди кустарников, а затем вскоре и большое село. Волнение возросло. Каждый подумал, что, если есть церковь, значит, они не ошиблись в расшифровке письма Макшеева. Улицы еще были пусты. Чтобы не привлекать к себе внимания, путники обошли село по окраине и подошли к церкви. Инженер встал у южного ее угла и по компасу дал рукой направление на восток. Ваня взял конец заранее заготовленной им бечевки, длиной в двадцать два метра, и пошел в указанную сторону. — Яма! Здесь яма! Все бросились на крик. Ровно на расстоянии двадцати двух метров от угла, за кустарником, была видна большая яма, глубиной в два метра. Друзья остолбенели. — Нас опередили! — Кто же мог это сделать, когда? — Опередили и очень ненамного, — с досадой произнес Званцев. — Вырытая земля совсем свежая, даже дожди не успели ее размыть… — Вы никому, Ваня, не говорили о вашем открытии? — Нет, ни одному человеку! Ведь я только позавчера расшифровал записку. — Секрет, может быть, уже в руках врагов, — сказал Ткеша. Все переглянулись. Только теперь стало ясно им все значение случившегося. Они стояли вокруг ямы, не будучи в силах отойти от нее. Деревенские ребята собрались поодаль и с любопытством глядели на них. «Что же делать? Что делать?$1 — вертелось в уме каждого. Но делать было нечего, оставалось только вернуться в Москву. — Ребята, — спросил Званцев, — был здесь недавно кто‑нибудь приезжий? — Был, — ответил детский голос. — Когда был? Давно? — Да с неделю будет. — Какой он из себя? — А из себя он добрый, дал нам всем три рубля. — Нет, не то, ну… вид у него какой? Высокий он или низкий? Как был одет? — Высокий, одет в пальто, с бородой, — сказала девочка. — Она все брешет, он был без бороды, — пробасил мальчик. Званцев понял, что толку он не добьется, и прекратил расспросы. Печально было возвращение наших друзей. Лил осенний дождь. Они молча шагали один за другим по грязной дороге. На станции в ожидании поезда сели пить чай. В конце концов все порешили, что унывать не стоит. — Мы сделали все возможное, — сказал Званцев. — Вернемся в Москву и обсудим с Андреем Васильевичем, что делать дальше. На следующий день у Званцева состоялось совещание… Другов молча выслушал доклад инженера о неудачной поездке. — Выходит, что вы трудились зря. Все потеряно!.. Но мы можем сделать последнюю попытку, — добавил он после небольшой паузы, — выяснить, не осталось ли каких‑нибудь бумаг у родных профессора. Я тут без вас навел кое–какие справки о Макшееве. Профессор достал из кармана блокнот, посмотрел поверх очков на присутствующих и начал читать: — «Макшеев Николай Власович, родился в Казани в 1871 году. В 1893 году он окончил Казанский университет по физико–математическому факультету, а через три года защитил диссертацию на тему „Методы определения температур звезд". В 1904 году Макшеев получил звание профессора и кафедру в Казанском университете. В 1918 году он переехал в Москву, где работал в Физическом институте, сначала с академиком Лазаревым, а затем самостоятельно. С 1930 года Макшеев был членом–корреспондентом Академии наук. Главнейшие его работы: „Основа аналитической оптики", „Волновая механика и теория квант", „Явления интерференции в катодных лучах". Последнее время профессор работал в области ультрафиолетовых лучей». — Вот и все сведения, — сказал Другов. — Надо еще добавить, что из близких родственников Макшеева осталась в живых только его дочь, Елена Николаевна. Ее фамилия по мужу Савельева, и живет она в Москве. Я думаю, не лишнее было бы поговорить с ней. Поручим Ване узнать адрес Савельевой, и мы с Сергеем Ильичей побываем у нее. Может быть, что‑нибудь выясним! Елена Николаевна Савельева, по профессии врач, жила с дочерью, девочкой лет шести, в двух небольших комнатах у Петровского парка. Другов и Званцев представились ей и объяснили цель своего прихода: они хотели бы узнать, не осталось ли каких‑нибудь работ, чертежей или записок после смерти профессора Макшеева. — У меня, к сожалению, ничего не осталось, — сказала Елена Николаевна. — Когда я вышла замуж, папа уехал отсюда и поселился в институте рядом со своей лабораторией. Кое‑что из его старых работ у меня, правда, было, но я все передала в Академию наук. — В таком случае нам остается только извиниться перед вами за беспокойство и тяжелые напоминания об отце, — сказал профессор. — Да, смерть отца была для меня страшным ударом. И зачем он только поехал на Кавказ?! Папа всегда проводил лето в средней полосе России: ведь он был страстный рыболов и мог целыми днями с удочкой просиживать у реки. И вдруг я получаю известие, что он убит поздней осенью на Кавказе. Как он туда попал, понять не могу. — Скажите, — спросил Званцев, — а где именно ваш отец должен был провести это лето? — Я и сама точно не знаю; где‑то под Серпуховом. Письма я посылала до востребования на станцию Свинская, Курской дороги. Гости встали. — Между прочим, — заметила на прощание Елена Николаевна, — вы не первые задаете мне вопросы об отце. Вскоре после его трагической смерти сюда заходили двое каких‑то научных работников и интересовались его бумагами. Званцев насторожился. — Простите, не можете ли вы припомнить их наружность? — спросил он. — Одного я как сейчас вижу! Такой маленький, блондин. — Что же вы им сказали? — Да то же, что и вам, — ничего, — развела руками Елена Николаевна. Геологи вернулись домой обескураженные. Все несколько приуныли. Особенно горевал Ваня, который считал себя главным виновником неудач. Ему казалось, что если бы он серьезно отнесся к делу и вовремя разгадал шифр, чертежи не попали бы в руки врагов, так как он не сомневался, что именно враги стали им поперек дороги. — Меня все же удивляет яма, — как бы высказывая мысли вслух, заговорил Званцев. — Она слишком глубока. Зачем Макшееву надо было зарывать свои чертежи так глубоко? Да и сил для этого у старика не хватило бы. — Знаете, — сказал Другов, — я думаю, что глубина ямы объясняется тем, что наши враги ничего в ней не нашли! Не ошиблись ли мы местом? Нет ли в Маланьине второй церкви? Проверьте, Ваня, еще раз расшифровку названия села. Ваня в тот же вечер взялся за документ Макшеева и газету, служащую к нему ключом. «Село Малан? Конечно, подозрительно, — думал он. — Очевидно, Макеев или я, переписывая, допустили здесь ошибку. Но в чем ошибка? Прежде всего, Макшеев мог ошибиться в счете строки». Ваня взял строчкой выше, полупилось «Маланпроно». Строчкой ниже — получилось «Маланитоно». Он брал различные комбинации цифр — ничего не выходило. Тогда ему пришло в голову, что ошибка заключалась в первой цифре группы, то есть в номере газетного столбца. Он исправил в шифрованной записке первые цифры обеих сомнительных групп и взял буквы «д» и «р». Получилось слово «Маландроно». И вдруг его осенила мысль: это может быть Малое Андроново! Ну конечно! Вовсе нет никакого «вовостока». Лишний слог «во» следует отнести к предыдущему слову! Макшеев не писал лишних букв и слов. Он ошибся в номере столбца! — Ах мы ослы! Ах чурбаны! — закричал Ваня. — Что это ты ругаешься? — спросил Ткеша. — Мы ошиблись. Никогда Макшеев ничего не зарывал в Маланьине! Это Малое Андроново, другое село, расположенное к северу от Маланьина! — кричал Ваня. — Нас сбила карта. «Андроново» написано крупными буквами, а слово «малое» сокращено до одной буквы «м». Я, видимо, ошибся тогда… спутал. Никакого «вовостока» нет, и это не Маланьино, а Малое Андроново… Надо было взять первый столбец, а мы взяли второй. Мы должны немедленно ехать в Малое Андроново. Оба друга в ту же ночь сели в поезд и к утру уже были на станции Свинская. От станции они пешком пошли к селу. Малое Андроново живописно раскинулось на берегу реки. В конце села в рощице виднелась деревянная церковка. Увидев ее, наши друзья облегченно вздохнули. Церковь была очень старая, покосившаяся; крыша во многих местах продырявлена, дверь и окна забиты досками. Отметив от нужного угла двадцать два метра, друзья радостно переглянулись. Конец веревки пришелся над тремя сложенными в ряд кирпичами. Сняв кирпичи, Ткеша лихорадочно принялся работать лопатой. Не успел он прокопать и полметра, как лопата ударилась о что‑то твердое. — Постой, постой! Осторожнее! — закричал Ваня и стал разгребать землю руками. Через минуту он извлек из ямы обыкновенную крестьянскую кринку, плотно замазанную глиной. Осторожно разбив ее, Ваня дрожащими от волнения руками, вытащил тетрадь в черном клеенчатом переплете. Оба стояли в каком‑то оцепенении: казалось невероятным, что тайна Макшеева была у них в руках. Потом, оглядевшись, Ваня схватил тетрадь, завернул ее в полотенце и сунул к себе на грудь, под рубашку. Молодым людям стало страшно. А вдруг за ними наблюдают? Внимательно оглядевшись и убедившись, что поблизости никого нет, они быстро зашагали к станции.ТЕТРАДЬ ПРОФЕССОРА
Появление Вани и Ткеши на квартире у Званцева, рассказ о поездке и сама тетрадь явились полной неожиданностью для Званцева. Немедленно явился по вызову Другов, и все с огромным нетерпением сели за круглый стол. Профессор раскрыл тетрадь и начал читать. — «Макшеев И. В. Тетрадь двенадцатая… Несколько мыслей о природе космических лучей (апрель 1933 года)»… Профессор перевернул несколько страниц. — Посмотрим, что идет дальше… «Упрощенный вывод формулы Гамильтона (июль 1933 года)». Он перелистал еще несколько страниц. Его лицо оживилось. — «Сверхультрафиолетовые лучи особо интенсивной химической активности (август 1933 года). Еще в 1912 году, изучая ультрафиолетовые лучи колпачка ауэровской горелки, я установил в них присутствие особого рода лучей, гораздо более активных и обладающих гораздо более высокой способностью проникания. Правда, интенсивность этого излучения была ничтожна. Ауэровский колпачок, как известно, состоит из тканей, пропитанных смесью азотнокислых солей тория и церия, причем первого девяносто девять процентов, а второго только один процент. В пламени газа ткани сгорают, а соли сохраняют форму колпачка. Я доказал тогда, что новые лучи идут исключительно от цериевых солей. Недавно я вновь занялся этой проблемой. Мне удалось установить, что в момент вспышки паров церия, что бывает при температуре 1800 градусов Цельсия, происходит внезапное излучение сверхультрафиолетовых лучей, продолжающееся, по–видимому, лишь ничтожные доли секунды. Интенсивность излучения зависит от количества церия. Лучи эти весьма легко проникают через воздух, дерево, бумагу и даже через металлы. Только особо тяжелые металлы — свинец, золото, ртуть — задерживают большую часть лучей. Химическая активность их поистине изумительна. Йодистый азот — вещество весьма легко разлагающееся — взрывается от самого ничтожного излучения. Мне удалось взорвать такими лучами ружейный пистон с гремучей ртутью на расстоянии десяти метров от установки. Вспышку я производил так: помещал крупинку металлического церия в платиновую капсюлю и нагревал ее в пламени гремучего газа. Через некоторое время пары церия разрывали капсюль, воспламенялись и испускали излучение сверхультрафиолетовых лучей. Обычные лучи задерживались при этом экраном из черной бумаги». Другов взволнованно остановился и осмотрел слушателей. — Дальше написано другими чернилами, — сказал он. — Продолжаю! «15 августа 1933 года. Я тревожно провел эти дни. Открытие лучей не дает мне покоя. Ясно, что их можно применять во время войны для взрывов на расстоянии. Это страшное военное изобретение. Имею ли я право продолжать свои опыты над ним? Могу ли я, мирный человек, боящийся ужасов войны, дать такое оружие?.. Нет, мне надо прекратить свои опыты…» — Дальше запись идет карандашом, — вновь прервал чтение Другов. — «Пишу взволнованный отвратительным событием. Вчера ко мне в кабинет зашел какой‑то маленький белобрысый человек и отрекомендовался научным сотрудником Ленинградского радиевого института Хромченко. Он начал с лести и сказал, что в институте меня знают и очень ценят. Он выказал хорошее знакомство с моими трудами. Я промолчал. Он стал говорить, что мне трудно и неудобно работать в моей маленькой лаборатории с ограниченными возможностями. — Такому ученому, как вы, надо иметь собственный институт и неограниченные средства, — сказал он. Я ответил, что обеспечен всем необходимым и не понимаю, к чему этот разговор. Тогда он неожиданно сказал: — А знаете, мы могли бы вас устроить лучше. Мы могли бы предоставить вам возможность работать за границей и дать вам сто, даже сто пятьдесят тысяч долларов для ваших работ по передаче химических импульсов на расстояние, — подчеркнул он последние слова. Я был ошеломлен. Откуда в Радиевом институте могли узнать тайну моего открытия?! И что это — действительно проявление внимания или шантаж, гнусное предложение изменить своей родине? Хромченко откланялся и сказал, что скоро зайдет. Обеспокоенный предложением, я решил на следующий день позвонить в Ленинград, директору Радиевого института. Да, научный сотрудник по фамилии Хромченко у них числится, но он никуда из Ленинграда не уезжал и кроме того… он — брюнет». Другов остановился. — На этом рукопись кончается, — больше ничего нет. В комнате воцарилась глубокая тишина. За круглым столом, перед раскрытой тетрадью, взволнованные, сидели четверо наших друзей. Первым заговорил Званцев. Он встал… Никогда Ваня не видел Званцева таким вдохновенным. — Друзья мои! В наших руках изобретение огромной ценности. Правда, оно не доведено до конца, опыты, по–видимому, не завершены, но одно ясно, что враги как‑то пронюхали об этом, пытались купить Макшеева и завладеть его открытием, чтобы направить его против нашей родины. Ясно и другое, что старик Макшеев был неправ, склоняясь к тому, чтобы прекратить свои опыты и таким образом похоронить чудесное изобретение. Я предлагаю нам самим взяться за дальнейшие опыты и проверку макшеевских данных. Затем мы с гордостью передадим наши материалы правительству. А пока давайте сохраним все в глубокой тайне. Ни одна живая душа не должна знать о том, что мы здесь слыхали. Тут же договорились, что Другов пойдет завтра с утра в Институт тонкой химической технологии и постарается достать сколько‑нибудь металлического церия. В шесть часов решили собраться в лаборатории профессора и попробовать проверить опыт Макшеева.ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ
Когда Ваня и Ткеша пришли в лабораторию, они застали там Другова и Званцева уже за приготовлениями. Профессору удалось достать несколько граммов чистого церия. Из листочка платины выдавили маленький капсюлечек и крышечку к нему. У стены установили горелку для гремучего газа и баллоны с кислородом и водородом. Инженер вынул из кармана жестяную коробку и высыпал на стол ее содержимое. — Вот пистоны для охотничьих ружей, — сказал он. — Они наполняются гремучей ртутью — веществом, легко взрывающимся от огня или даже удара. Пистоны удобны для опытов тем, что все они одинаковые. Пистоны разложили вдоль комнаты на столах, через метр один от другого. — Ну, ребята, выносите‑ка отсюда все, что может взорваться или загореться. Ткеша и Ваня тщательно обыскали всю комнату. Фосфор, бертолетовая соль, селитра, эфир, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости были унесены из лаборатории в другой конец флигеля. Коробочка с пистонами была укрыта за толстой свинцовой доской. Профессор отрезал маленький кусочек церия, взвесил его на аналитических весах и сказал с видом лектора: — Для начала хватит полграмма церия. Мы его поместим в платиновый капсюлечек и замажем щели огнеупорной глиной. Капсюль нагреем в пламени гремучего газа, который, как вам известно, дает температуру до 2000 градусов и, следовательно, может расплавить платину, точка плавления которой равна 1770 градусам. Но этого не произойдет, так как церий плавится при 630 и переходит в пар примерно при 1800 градусах. Пары вырвутся наружу и воспламенятся раньше, чем расплавится капсюль. Итак, к делу! — Одну минуту, — сказал инженер, — давайте вынем из карманов спички… на всякий случай. Горелку зажгли, и профессор внес капсюль в ее пламя. Все замерли в ожидании. Капсюль быстро накалился, зашипел и вспыхнул ярким пламенем. В то же мгновение на столе загорелись спички, вспыхнули пистоны, а за стеной раздался глухой удар, потом шум и крики. Ослепленные внезапной вспышкой, наши друзья нашлись не сразу. Первым выбежал в коридор Ткеша, за ним Званцев и Ваня. Здесь они столкнулись с перепуганной насмерть лаборанткой. Она беспомощно бегала по коридору. Из соседней комнаты, в которой тоже помещалась лаборатория, валил дым. Медлить было нельзя. Ткеша схватил лежавший в коридоре войлок, Ваня сорвал со стены огнетушитель, а инженер вооружился ведром с песком, которое стояло возле двери, и все трое бросились в комнату, где горела какая‑то жидкость. Стена и часть пола были в огне. Через пять в минут огонь удалось ликвидировать без вызова пожарных. Лаборантка стала объяснять Другову, что она совсем не виновата в этом происшествии. Она стояла далеко от банки с эфиром. Взрыв произошел сам по себе. Профессор успокоил ее и сказал, что выяснит причину взрыва, к счастью, не принесшего ей вреда. — Вернее всего, взрыв произошел вследствие… контакта проводов, — промычал он. Несмотря на неприятный эпизод, все внутренне ликовали. — А опыт все‑таки блестяще удался, — сказал Ваня, когда волнение несколько улеглось. — Даже слишком блестяще! Все семь пистонов взорвались, спички вспыхнули, воспламенились пары эфира, несмотря на то, что они были за оштукатуренной перегородкой. — Да, наделали мы дел! Хорошо еще, что сами вынесли все огнеопасные вещества из нашей комнаты. — И вынули спички из карманов, — добавил Ткеша. — Лучи Макшеева оправдали себя, — сказал профессор. — Назовем их просто М–лучами. Это короче и лучше позволит сохранить секрет. Все согласились. — А продолжать опыты здесь нельзя. Если столь ничтожное количество церия дало такой эффект, то что же случится, если мы возьмем его в большем количестве? — заключил профессор. Инженер вынул из кармана трубку и зажег ее о пламя гремучего газа, который до сих пор никто не догадался погасить, затянулся и сказал: — Я предлагаю перенести опыты на мою дачу… Это, собственно, еще не дача, но есть участок земли и изба — будущая кухня, с печкой и даже с электричеством. Есть и колодец. Местность глухая; от станции Катуар Савеловской железной дороги минут сорок ходьбы. Сейчас там живет только старик–лесничий. Я предлагаю переехать туда с нашими молодцами, а вы, Андрей Васильевич, будете наезжать к нам. Оборудования нам много не потребуется, что нужно, перевезем на машине. Предложение инженера было принято.ЛАБОРАТОРИЯ В ЛЕСУ
Дача Званцева представляла собой маленькую избушку из двух комнат. Инженер нашел свою «кухню» в плачевном состоянии: окна были выбиты, крыша протекала, все было покрыто страшной грязью. После чистки и ремонта домика Званцев привез туда самую необходимую мебель, исправил электричество, а затем на машине было доставлено оборудование: горелка с баллонами, аналитические весы, штативы, химическая посуда, реактивы, а также набор слесарных и столярных инструментов. Всякого рода легко воспламеняющиеся и взрывчатые вещества были строжайше исключены из обихода. Даже спички. Званцев смастерил несколько электрических зажигалок, состоящих из куска асбестового картона, обмотанного тонкой нихромовой проволокой. При нажатии кнопки ток раскалял проволоку, о которую можно было зажечь сухую бумагу. Горелку установили у окна, выходящего на север, так как в этом направлении километра на четыре не было никакого жилья. С боков горелку огородили экранами из толстых свинцовых досок. Этим исключалась возможность распространения М–лучей на восток и запад, где с одной стороны неподалеку стояла изба дорожного сторожа, а с другой — строящиеся дачи. К началу июня все было подготовлено для опытов. Однажды в дождливое, пасмурное утро на дачу приехал Другов. Он привез с собой изрядный запас металлического церия. За чаем он изложил программу предстоящих опытов: — В первую очередь нам надо установить зависимость между количеством церия и радиусом действия М–лучей на различные взрывчатые вещества. Мы возьмем те из них, которые сможем легко достать или изготовить сами: черный и бездымный порох, гремучую ртуть, пироксилиновую вату, пары эфира и бензина. Затем надо будет изучить проникновение лучей через препятствия и, прежде всего, через землю, камень, дерево и кожу. Для этого мы поместим какое‑нибудь весьма легко взрывающееся вещество, я думаю, лучше всего йодистый азот, на небольшом расстоянии от источника М–лучей и будем ставить на их пути экраны различной толщины и из различного материала. Таким путем мы сможем установить, какому расстоянию соответствует данная толщина экрана. Если, например, мы узнаем, что йодистый азот взрывается от одного грамма церия не далее одного километра, а железный экран в один сантиметр толщиной предохраняет его от взрыва, то мы можем считать, что один сантиметр железа эквивалентен одному километру расстояния. Понятно? — Затем, — продолжал Другов, — надо заняться отысканием материалов, отражающих М–лучи, из которых можно было бы изготовлять зеркала. Это, пожалуй, самая трудная часть работы, и я беру ее на себя. Я также недоволен самим источником М–лучей. Платиновая капсюль дорога и недостаточно огнестойка. Я предвижу, что при больших количествах церия она будет прогорать раньше, чем весь церий обратится в пары. Поэтому надо будет подумать, чем можно заменить платину. План профессора был единогласно одобрен и принят к исполнению. Для Званцева, который был хорошим химиком, изготовление йодистого азота не представляло никакого труда. Достаточно было бросить кристаллы йода в нашатырный спирт и отфильтровать получившуюся коричневую муть, чтобы получить йодистый азот, который после просушки взрывался от малейшего прикосновения. Также без особых затруднений было изготовлено небольшое количество гремучей ртути и пироксилина. Инженер предложил хранить запасы взрывчатых веществ в колодце. Их клали в ведро, закрывали его массивным свинцовым листом и опускали в колодец, до уровня воды, на десять — двенадцать метров. Подоспело время летних каникул, и вся четверка переехала на дачу Званцева. Два раза в неделю кто‑нибудь из четырех друзей ездил в Москву и привозил продукты и газеты. По большей части эту обязанность выполнял Ткеша. Опыты шли удачно, и к концу июля накопился обширный материал, который с величайшей тщательностью заносился в маленькую книжечку. Для хранения этой книжечки Ткеша выдолбил потайную щель в доске стола. Щель эта закрывалась планочкой, вращающейся на гвозде, и заметить ее было очень трудно. С самого начала работ остро встал «платиновый вопрос». Званцев заложил все свои облигации для покупки платиновых дисков, идущих на зубные коронки. Как и предвидел Другов, платина часто проплавлялась раньше времени и вспышки М–лучей не получалось. Вопрос этот, однако, был решен неожиданно скоро. Как‑то раз, рассматривая химический справочник, Ваня спросил: — А что, вольфрам дешевле платины? — Ну, конечно, и во много раз, — отозвался профессор. — Тогда почему бы нам не заменить платину вольфрамом? Ведь он плавится при 3370 градусах? — Разумеется, можно, как это я не догадался?! Конечно, вольфрам заменит нам платину. — Ваня! Вы молодец, — похвалил Званцев. В этот же день инженер поехал в Москву за вольфрамом. Вернулся с целым набором аппаратуры — колб, проводов, реостатов и ванн. — Что это вы приволокли? — встретил его профессор. — А это лабораторная электролитная ванночка. Мне пришла мысль покрывать церий вольфрамом электролитным способом, вместо того чтобы заключать его в капсюль из вольфрамовой жести. — То есть вы предлагаете вольфрамировать церий, подобно тому, как никелируют или хромируют металлы?! — Ну да! Мы можем таким путем наложить слой вольфрама любой толщины и притом вполне плотный. — Это счастливая идея. Надо ее испробовать. Прибор быстро собрали. Он состоял из ртутного выпрямителя тока, реостатов и ванны. В ванну наливался раствор соли вольфрама и опускался листок вольфрама и кусочек церия на проволоке. Через прибор пропускался ток, и вольфрам, отлагаясь на церии, покрывал его слоем требуемой толщины. Это было ценное усовершенствование в методе получения М–лучей. Опыты были организованы так. Начиная от северного окна комнаты, там, где была установлена горелка, все пространство на километр вперед было вымерено рулеткой, и через каждые пятнадцать метров положены доски с небольшим количеством взрывчатых веществ: порохом, гремучей ртутью, пироксилином, селитрой, бертолетовой солью и пробирками с эфиром и бензином. После вспышки определенного количества церия проверяли действие М–лучей на взрывчатые вещества. В результате опытов инженер смог составить и записать в секретной книжечке следующую табличку предельного расстояния действия М–лучей от одного грамма церия: Йодистый азот……..940 метров Нитроглицерин…….900 » Гремучая ртуть……..670 » Азид–свинца……….650 » Бертолетовая соль…..440 » Черный порох………310 » Селитра…………..300 » Сухой пироксилин ….280 » Бездымный порох…..260 » Пары эфира……….130 » Спички…………..30 » Вместе с тем было подтверждено, что интенсивность лучей прямо пропорциональна количеству церия. Одновременно друзья вели другую серию опытов, имеющую целью установить способность М–лучей проникать через преграды. У южного окна комнаты, на расстоянии семи метров от горелки, установили подставку для взрывчатых веществ. Перед ней помещали испытуемые экраны из различных материалов. Результаты этих опытов также тщательно записывались. Работа кипели вовсю.НЕОЖИДАННЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ
Как‑то раз под вечер Другов с Ваней и Ткешей заканчивали сложные опыты по взрыву зарытых в земле ружейных патронов. Дали вспышку М–лучей, и через несколько мгновений послышался звук взрыва. Но странно: звук был слишком сильным и шел совсем не с той стороны, откуда его ожидали. — Слышали? Это не наши патроны. Это что‑то другое взорвалось! — Что же может быть? Ну‑ка, Ткешенька, сбегай, посмотри. Ткеша и Ваня побежали в сторону выстрела. На тропинке, идущей к дороге, недалеко за забором дачного участка сидел какой‑то человек. Драповое пальто его тлело и дымилось. Ваня подбежал к нему и остановился в изумлении. Это был Пашкевич! — Юрий Станиславович! Что с вами? Как вы сюда попали?! Пашкевич застонал. Ваня и Ткеша загасили тлеющие на нем пальто и брюки и подняли пострадавшего. Правая нога геолога была в крови. Его перенесли в домик, положили на кровать. Осмотрели рану: бедро и верхняя часть правой ноги были не сильно обожжены, но вдоль ноги шла царапина длиной в ладонь. Рану и ожоги перевязали. — Это пустяки! До свадьбы заживет, — сказал профессор и облегченно вздохнул. — Но что же с вами случилось, дорогой мой? Рассказывайте. И как вы сюда попали? — Я ехал к вам, Андрей Васильевич, и вдруг вот здесь, на тропинке, на меня напал какой‑то мерзавец и навел на меня револьвер… Я успел схватить его за руку и опустить ее… он выстрелил в упор… пальто загорелось… — Ах, боже мой! Это ужасно! Как же это так?.. А зачем я вам был нужен? И как вы узнали, где я? — Повестка пришла из Академии наук на ваше имя… вот она… Я позвонил вам домой, мне сказали, что вы уехали на станцию Катуар… Я здесь ищу вас часа три… — Это ужасно: из‑за такого пустяка вы так беспокоились, — говорил профессор взволнованно. — Надо все же заявить в уголовный розыск. — Стоит ли, Андрей Васильевич, в сущности, я отделался совершенными пустяками… царапиной. Нет, не надо этого. Теперь все равно не найти этого мерзавца. Другов согласился, так как ему не хотелось, чтобы кто‑нибудь еще знал об опытах на даче. Рана действительно была пустяковая. Пашкевич через час настолько оправился, что выразил желание ехать в Москву. При прощании Пашкевич горячо поблагодарил Другова за заботы. — А почему вы так уединились и чем это вы здесь занялись? Другов уже давно подготовил ответ на этот вопрос. — А я, видите ли, предпочитаю летом работать на вольном воздухе. Вот с ребятами и решил заняться исследованием кавказских молибденовых руд. Пашкевич, казалось, был удовлетворен этим ответом. Он попрощался и ушел на станцию. Скоро вернулся Званцев. Ему рассказали о происшествии с Пашкевичем со всеми подробностями. — Понимаете, — говорил Другов, — я не могу отделаться от мысли, что какой‑то бандит напал на Юрия Станиславовича. Стало быть, около нашей дачи шатаются посторонние люди. — Возможно, — сказал Званцев, дымя трубкой. — Ваня! Вы хорошо оглядели тропинку? Ничего там не нашли? — Нет, ничего подозрительного. — Конечно, это может быть случайностью, но в наших условиях надо опасаться всего, Андрей Васильевич! Это происшествие произвело на всех тяжелое впечатление. Друзья решили всячески торопиться с опытами и ликвидировать лабораторию при первой возможности. Инженер решил привезти из Москвы оружие. Ваня взял толстую резиновую трубку, зашил и заплавил один ее конец, влил в нее килограмма два ртути, после чего заплавил и другой конец. Такой кишкой можно было нанести страшный удар. Несколько дней прошло спокойно, и опасения начали рассеиваться. Все понемногу успокоились. Так прошел июль. В первые дни августа утром на дачу зашел старик–сторож. На плече у него висела старая шомпольная двухстволка, на поясе — патронташ. — А, дедушка! Здравствуй. Ну, что, много настрелял дичи? — спросил его Другов. — Какой там! — старик махнул рукой. — Скажи на милость, иду я утречком… ружье за плечом. Вдруг как пальнет на оба ствола… мать честная!.. Хотел зарядить… все пистоны в коробке сгорели… вот чудеса‑то! Пистоны, что ли, теперь стали такие делать? Все переглянулись. — А порох с тобой был? — Был… порох ничего! — Ты, дедушка, погоди здесь поблизости охотиться, иди куда‑нибудь подальше, — сказал профессор. — С чего бы это такое? — ворчал старик. — Хорошо еще, что он не подошел к нам ближе, а то взорвался бы у него порох. Вот беда бы вышла! — сказал профессор после ухода старика. Опыты с отражением лучей не дали результатов. — А между тем, если мы не научимся направлять лучи, куда следует, — говорил Другов, — грош цена всей нашей затее. — Можно действовать в тылу у противника, — на его территории сбрасывать, например, аппараты с аэроплана. — Или даже помещать их внутри артиллерийских снарядов. — Пожалуй, при нашем способе нагрева церия в пламени гремучего газа это трудно выполнимо, — серьезно заметил Званцев, — но если найти другой способ нагревания, например, с помощью термита… — Видели ли вы, как в Москве сваривают трамвайные рельсы? Бывают и зажигательные термитные бомбы, — вставил Ваня. — Правильно! Вот и надо нам идти по этому пути. При горении термит может развить температуру до трех тысяч градусов. — Браво, браво! Это замечательная идея! Ее надо обязательно попробовать осуществить. Этим мы чрезвычайно упростим задачу, и вам не нужно будет мучиться над опытами по отысканию материала для зеркал! — воскликнул профессор. — Почему? — спросил Ваня. — Потому что мы сможем тогда перебрасывать источник М–лучей на территорию противника, где они будут взрывать все вокруг, причем на такое расстояние, откуда до нас они не достигнут. Понятно? — Да, — сказал инженер, — именно в этом направлении надо искать решение задачи. Все принялись с жаром обсуждать новую идею. Для ее осуществления надо было преодолеть только технические трудности, так как принципиально задача, собственно говоря, была уже разрешена. Поэтому друзья решили прекратить работу на даче и перебраться в Москву, на квартиру Званцева, где и подвести итоги проделанной работе.НАПАДЕНИЕ
Ваня и профессор остались ночевать в лаборатории в последний раз. Стояла темная августовская ночь, шел дождь, и было холодно. Окна закрыли. На водородном пламени горелки грелся чайник. Другов сидел за столом, склонившись над тетрадью с записками Макшеева. Ваня разбирал реактивы и упаковывал их в ящик. Вокруг шумел лес, и капли дождя стучали по окнам. Неожиданно электрический свет погас. — Вот беда! — воскликнул профессор. — Где‑то были свечи. Надо их отыскать, — сказал Ваня и в полутьме двинулся к шкафу. Пламя водорода почти не освещало комнату. В это время на дворе послышались шаги. Кто‑то шлепал по лужам, обходя вокруг домика. — Тсс! Кто‑то идет, — прошептал Ваня. — Книжечка спрятана? — спросил Другов. — Спрятана! В окнах промелькнули тени трех человек. Профессор быстро снял с горелки чайник, положил на пламя кусок мрамора, лежавшего на столе, и открыл кран с кислородом. В сенях послышались осторожные шаги. Через минуту открылась дверь, и один из неизвестных осветил комнату электрическим фонарем. В это же мгновение мрамор, лежавший в пламени гремучего газа, зашипел, и яркий друммондов свет залил комнату. Впереди стоял человек громадного роста и, по–видимому, страшной силы, с дубинкой в левой руке; за ним второй, тоже вооруженный палкой, а сзади виднелась маленькая фигура третьего. Все были одинаково одеты: в черных кожаных пальто, автомобильных кожаных шлемах и в очках. Внезапный свет ошеломил их, и они попятились… Профессор, выйдя из оцепенения, схватил тетрадь Макшеева и стал прятать ее у себя на груди. На него набросились двое. Ваня схватил свое оружие — резиновую кишку — и кинулся на помощь профессору. Удачным ударом он сбил низенького с ног. Тот с криком покатился на пол. Из‑под кожаного шлема выглянуло злое, птичье лицо с белыми ресницами и бровями. Быстрым движением Ваня вырвал у него драгоценную тетрадь и прижал ее к себе… «Бежать, спрятать куда‑нибудь», — мелькнуло у него в уме. Но бежать было невозможно. — Отнять! — закричал маленький визгливым голосом. «Отнимут», — с отчаянием подумал Ваня и огляделся кругом. Взгляд его упал на глиняную банку с серной кислотой, стоявшую в углу, и… тотчас тетрадь оказалась в банке. Едва Ваня успел это сделать, как, пораженный ударом в голову, отлетел на середину комнаты и со стоном рухнул на пол. Второй бандит бросился к банке, запустил в нее руку, но тотчас же с криком выдернул ее обратно. Рука, обожженная кислотой, почернела. Бандит громко стонал и тряс ею в воздухе. Недолго думая, профессор схватил со стола большую колбу с какой‑то жидкостью и со всей силой бросил ее в бандита. Колба пролетела мимо, ударилась о печь к разлетелась вдребезги. Невыносимо удушливый запах аммиака заполнил помещение. Нападавшие зажали рты и бросились вон из комнаты. Кто‑то из них задел горелку, мрамор упал, и свет погас. Ваня, задыхаясь, пытался подняться с пола. Профессор обхватил его и потащил на свежий воздух. Из темноты слышались быстро удаляющиеся шаги бегущих по лужам людей. Затем со стороны шоссе раздался шум мотора и звук отъезжающего автомобиля. Настала тишина. Отдышавшись и немного придя в себя, Другов и Ваня поднялись с земли. У Вани левая сторона головы была в крови, он тихо стонал. Они сели на ступеньках. Так прошло с полчаса. Затем снова послышались шаги. Кто‑то шел со станции, освещая дорогу электрическим фонариком. Это был Званцев. Подойдя к крыльцу и увидев своих друзей, он с недоумением остановился. — Что случилось? — На нас напали трое. Кое‑как мы отбились. — А где книжка? — в тревоге спросил Званцев. — Книжка цела, а тетрадь Макшеева погибла. Званцев перевел дух. Он попробовал было войти в лабораторию, но вынужден был тут же вернуться. Тогда, закрыв нос мокрым платком, он пробрался в пристройку, открыл шкаф, где был запас реактивов, и достал бутылку с соляной кислотой. Затем он разбил окно, отбил у бутылки горлышко и бросил ее в комнату. Тотчас густое облако наполнило всю лабораторию. Аммиак с соляной кислотой взаимно уничтожались и дали совершенно безвредное химическое вещество — хлористый аммоний. Через четверть часа в помещение можно было войти, не подвергаясь никакой опасности. Зажгли свечи. Инженер прежде всего взял щипцы и вынул из банки с серной кислотой макшеевскую тетрадь. Но от тетради осталась лишь черная труха. — Все же лучше, — сказал он, — что документ этот погиб, чем если бы он достался врагам. Ваню раздели, уложили в постель и перевязали. Голова его была рассечена, шея и левое плечо покрыты ссадинами и синяками. Другов от пережитых волнений и борьбы тоже захворал. Инженер уговорил его лечь в постель и принять порошок бромурала. К утру погода разгулялась и выглянуло солнце. Лес уже не казался таким мрачным, и на душе у Званцева стало легче. Больные выспались и чувствовали себя лучше. Профессор совсем оправился от пережитого. Он подробно рассказал Званцеву о происшествии ночи. — Несомненно, — заметил тот, — этот маленький, которого Ваня сбил с ног, и есть «белобрысый», преследовавший Макшеева. Вы хорошо запомнили его лицо? — Думаю, что никогда не забуду эту мерзкую физиономию. Она была освещена яркими лучами друммондова света, — ответил Другов. — В общем, мы теперь имеем кое–какое представление о наших врагах. Один отличается высоким ростом и сильным телосложением, кроме того, он,по всем признакам, левша: удар Ване он нанес ведь слева и дубинку держал в левой руке. Другой сжег себе правую руку кислотой. След непременно останется. Третьего вы оба видели в лицо. Это, по–видимому, их руководитель. К полудню на грузовике приехал Ткеша. Стали собирать и переносить на машину имущество: приборы, реактивы, посуду. По совету профессора, решили ликвидировать всякие следы проведенных опытов. — Незваные гости ведь могут пожаловать сюда без нас. Поэтому прежде всего надо удалить все следы церия. Сожгли доски, на которых рубили церий, и крышку стола, где стояла горелка. Пепел тщательно собрали, чтобы впоследствии выкинуть его, ибо по анализу пепла легко можно было установить присутствие даже ничтожных количеств церия. Затем пол и стены комнаты чисто вымыли. После всего этого окна домика заколотили, а дверь заперли. Все сели в грузовик и двинулись к Москве.ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ
Кабинет Званцева был превращен в рабочую комнату. Мать инженера уехала к родственникам, и на квартире остались только он и домашняя работница. Дачные приключения показали, что нашим друзьям приходится иметь дело с наглыми, осведомленными врагами, способными на многое. Поэтому нужны были меры предосторожности. Открытое нападение на квартиру, расположенную в центре города, было маловероятно, но можно было опасаться тайной кражи. Друзья решили ни на минуту не оставлять квартиру и установили непрерывное дежурство. К обеим дверям — парадной и кухонной — в дополнение к замкам приделали электрическую сигнализацию. Ваня и Ткеша переселились в квартиру Званцева. Им поставили раскладные кровати в столовой. В первый же день переезда с дачи в Москву за чаем друзья подвели некоторые итоги своей работы. — В сущности, — говорил профессор, — мы добились уже весьма значительных результатов в исследовании М–лучей. Мы знаем их получение, основные законы распространения и действия. Имеется у нас и идея их практического применения. Известно и то, что каким‑то образом враг пронюхал о наших опытах. Я считаю, что пора передать все материалы соответствующим органам. И нам будет спокойнее, и для дела лучше. Что вы на это скажете, друзья мои? — Вы, конечно, правы, Андрей Васильевич, — сказал Званцев, — у нас достаточно оснований для того, чтобы так поступить. Но я думаю, что мы не должны прекращать наших работ по применению термитного нагревания. — Я уверен, что мы и сами великолепно справимся с этой задачей, — сказал Ткеша. — Конечно, — воскликнул Ваня, который лежал на кушетке с забинтованной головой. Через десять дней две горелки новых систем были изготовлены и наполнены термитом. Модели сделали в уменьшенном виде; церия взяли всего полтора грамма, и, следовательно, практический радиус действия генератора М–лучей не мог превзойти одного километра. После того как подготовительные работы были закончены, встал вопрос о месте, где бы можно было провести опыты. — Неужели придется опять ехать на дачу? — сказал Званцев. — Сейчас ведь охотничий сезон, взорвем какого‑нибудь охотника. Решили найти ровное место, где бы можно было видеть кругом на два–три километра. — Едемте на озеро… на Сенежское! — воскликнул под общее одобрение Ваня. — Горелку и взрывчатые вещества можно поместить на маленьких плотах. И видно все кругом, и безопасно! — Никаких взрывчатых веществ брать не надо, — вмешался Званцев. — Обыкновенное заряженное ружье заменит их. Это безопасно и не привлечет внимания посторонних. Таким образом, программа предстоящих опытов над термитными горелками была выработана.ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ОЗЕРЕ
Ранним сентябрьским утром Другов, Званцев и Ткеша, — Ваню оставили дома охранять квартиру, — сели в поезд, отправлявшийся в Клин. Кроме них, в вагоне сидело человек шесть, не больше. Инженер внимательно осмотрел их, но ничего подозрительного не нашел. На всякий случай решили все же ехать до Клина, а потом обратным поездом в Подсолнечное, на озеро. Прибыв в Клин, отправились сначала в Музей П. И. Чайковского, осмотрели усадьбу и кабинет великого русского композитора и только потом сели в обратный поезд к Москве. Было около четырех часов, когда наши друзья сошли на станции Подсолнечная. Три километра до озера без труда прошли пешком. Дорога шла через поселок, затем по насыпи через лесок к пристани. Народу встречали мало. Погода была тихая и теплая, хотя во всем чувствовалось приближение осени: поля были убраны, листва деревьев приобрела более темную окраску, на дорожках кое–где валялись желтые листья. На пристани взяли две лодки: в одну сел профессор, — он должен был произвести вспышку лучей; в другую — Званцев и Ткеша с ружьем. На средине озера Другов достал из чемодана небольшой деревянный круг, установил на нем одну из моделей термитной горелки и спустил круг на воду. Другая лодка в это время отплыла метров на двести. Ткеша и Званцев сидели на корме. Ткеша взял патрон и зарядил ружье. Остальные патроны и спички Званцев положил на нос лодки и заслонил их от действия лучей листом свинца. Когда все было готово, инженер поднял руку. Профессор, предварительно надевший темные предохранительные очки, зажег фитиль термитной горелки, отбросил спички от себя и отъехал немного в сторону. Термит зашипел, цилиндрик загорелся, лопнул, расплавленная масса растеклась по кружку и зажгла дерево. Вспышки не последовало. Опыт с другой моделью был также неудачен. — Что за чертовщина? — бормотал Другов. — В чем тут дело? Экая неудача! Лодки сблизились. Делать было нечего, и пришлось отправляться в Москву. На обратном пути в поезде все были сильно не в духе. Профессор ворчал: — Ездили взад и вперед по железной дороге, а в Москву возвращаемся несолоно хлебавши! — Зато были в Музее Чайковского, — съязвил Ткеша. — Тсс! Здесь не место для разговоров, — остановил Званцев. — В Москве наговоримся. Вечером на квартире Званцева установили причину неудачи: горелка оказалась недостаточно прочной. Нужно было заключить ее в огнеупорный стакан, а также увеличить слой вольфрама, покрывающего церий. Для изготовления новой модели установили срок в пять дней. В институте огнеупоров заказали стаканчик из смеси графита и окиси циркония. Такой состав должен был выдержать температуру до 3000 градусов. К установленному сроку были изготовлены два экземпляра термитных горелок нового образца. Ваня, несмотря на его протесты, вновь остался в Москве, так как все еще не вполне оправился, и компания поехала на озеро в прежнем составе. Весь маршрут был заново повторен: друзья еще раз посетили Музей Чайковского и закрепили полученные в прошлый раз сведения о биографии гениального композитора. Пришли к озеру, взяли лодки и разместились в них таким же порядком, как и в прошлый раз. Однако, когда профессор зажег фитиль, эффект получился совсем иной. Термит зашипел, огнеупорный стакан быстро накалился до белого цвета, затем последовала вспышка, и на другой лодке Ткешино ружье выстрелило. Удар раскатился по воде, и эхо повторило его несколько раз. Лодки сблизились. Профессор ликовал, Ткеша потирал рукой ушибленное ружьем плечо. Званцев снабдил профессора новым коробком спичек, так как старый воспламенился, и лодки разъехались на еще большую дистанцию для повторения опыта. Второй опыт удался также блестяще. Лодки направились к пристани. Другов первый вышел на землю; через минуту подплыли Званцев с Ткешей. Когда они поднялись на берег, их остановил рослый старик с седенькой бородой, в черной шинели, фуражке, с берданкой за плечами и с медной бляхой на груди, по всей видимости — сторож. — Гражданин, — сказал он, — здесь не полагается охотиться, запретная зона… Объявление читали? — Мы и не охотились, мы так просто стреляли. — Это все единственно, и стрелять не разрешается. Пожалуйте в контору. — Но позвольте! — возразил инженер. — Вы же видите, что у нас нет никакой дичи! Значит, мы не охотились. Стреляли просто… ну, хотели попробовать ружье. — Это я уж не знаю. Раз стреляли — значит надо платить штраф. Пожалуйте в контору. — Вы же понимаете, — вмешался профессор, — что они не охотились, да и стрелять‑то нечего было. — Прошу вас, гражданин, не вмешиваться, — важно сказал сторож. — Я знаю правила и должен их отвести в контору. Там разберут. — Тьфу ты! Словно истукан, — пробормотал профессор. — Андрей Васильевич! Идите на станцию, а мы вас догоним. В крайнем случае заплатим штраф, — сказал инженер. — Далеко до конторы‑то? — Тут рядом. Но контора оказалась не очень близко. Прошли с полкилометра лесом, потом по просеке, потом мимо пустующих дач, свернули в какой‑то переулок и, наконец, достигли старенькой дачи, у которой горел электрический фонарь. Над калиткой на шестах была прибита вывеска: Контора 1–80 участка Клинского лесничества Поднявшись по ветхим ступеням и пройдя через террасу, Званцев с Ткешей, конвоируемые сторожем, вошли в комнату. Она была почти пустой. Стол, стул, скамейка, на столе керосиновая лампа, телефон старой системы, чернильница и несколько книг — вот и все. За столом сидел дежурный в пальто, фуражке и перчатках, с коротко подстриженной бородкой. — Что такое, Яценко? — спросил он сторожа. — Такое, что задержал двух граждан. Охотились на озере и стреляли из этого ружья. Дежурный поднял глаза на наших злополучных друзей. — Охотиться здесь не разрешается! Везде имеются надписи. Сознательные граждане, а не понимаете. Раз запрещено охотиться, значит нельзя. — Мы не охотились, мы даже не видели никакой дичи. Мы только пробовали ружье, — начал оправдываться Ткеша. — Все равно… надо уплатить штраф двадцать пять рублей… Впрочем, ежели хотите, я позвоню в отделение… Он взял телефонную трубку, вызвал отделение милиции и доложил о случившемся. Выслушав ответ, он положил трубку, помолчал и сказал: — Вам придется немного подождать. Начальник отделения сам сейчас прибудет. Предъявите документы. Званцев дал свой паспорт, а Ткеша студенческий билет. Дежурный посмотрел документы и спрятал их в стол. — Простите, — сказал он, вставая, — но я должен подвергнуть вас личному обыску. — И прежде чем друзья опомнились, карманы их пиджаков и пальто были вывернуты и содержимое их очутилось на столе. Дежурный, быстро осмотрев бумажник Званцева, вернул его инженеру, точно так же, как и все остальное, кроме записной книжки. У Ткеши в кармане почти ничего не оказалось. Извинившись, дежурный сказал: — Яценко, проводи граждан в приемную… Вам будет там удобнее, товарищи, — добавил он. «Приемная» оказалась маленькой комнатой, со столом и двумя скамейками у стен. Окно было наглухо забито досками. Только у самого верха оставалась щель в ладонь шириной. На столе горела керосиновая лампа. Едва Ткеша и Званцев вошли в нее, как дверь за ними была заперта. — Черт знает, что такое! — воскликнул Ткеша. — Подождем, — сказал инженер и закурил трубку. Они сели на лавку и стали ждать. Время шло. Ткеша посмотрел на часы: — Уже двадцать минут девятого. Почти два часа здесь валандаемся! Лампа стала гаснуть: в ней выгорел керосин. Ткеша не выдержал: он начал стучать в стену и кричать: — Эй! Кто там? Товарищ дежурный! Долго вы будете нас здесь держать? Это же безобразие! Ответа не последовало. Инженер встал, видимо, охваченный беспокойством. — Что за ерунда! Не могли же они на самом деле уйти, позабыв про нас! Лампа совсем погасла, и только тлеющий фитиль слабо мерцал в темноте. Через верхнюю щель в окно пробивался свет. — А ну‑ка, Ткеша, поглядите, что делается снаружи. Ткеша подвинул стол к окну, забрался на него и заглянул в щель. Окно выходило на улицу. Ветер качал фонарь и ветви деревьев, отчего на дорожке и траве двигались причудливые светлые пятна. В конце дорожки была видна калитка. — Ну что? — Так, пустая улица… никого нет… только калитка как будто не та, через которую мы входили. — Ну, как не та… Эта самая. — Нет, она как‑то изменилась… Да, вывески нет! — Что вы сказали? Нет вывески? — В голосе инженера слышалась тревога. — Нет… наверное, ветром свалило. — Какой там ветер… Надо скорее отсюда выбираться. Оба бросились к двери и пытались ее выломать. Но дверь была прочная и не подавалась. — Попробуем через окно. — Званцев достал свой нож и стал резать им нижнюю доску у края окна. Несмотря на то что сталь глубоко врезалась в дерево, потребовались не малые усилия, чтобы справиться с доской. Наконец низ окна освободился от обшивки. Прошло около часа, прежде чем таким способом удалось оторвать четыре нижние доски и открыть окно. Ткеша, а затем Званцев выскочили наружу. Они побежали тотчас же через террасу в первую комнату. В ней было тихо и пусто. При свете спички инженер увидел, что все осталось в том же порядке, как было при допросе, только телефона на столе больше не было. Ткешино ружье стояло в углу. Инженер бросился к столу — Ткешин студенческий билет лежал в ящике, но его записной книжки и паспорта не оказалось. Перерыли все ящики стола, книги и бумаги, но тщетно. Ничего не оставалось делать, как только идти на станцию. После долгих блужданий в темноте по неизвестной местности они вышли к пристани, откуда знакомой дорогой, сильно уставшие, добрели до станции. На платформе их встретил встревоженный Другов. — Что случилось? Где вы были? Что вы там столько времени делали?! Только сев в поезд, Званцев и Ткеша рассказали об устроенной им ловушке. — Я уверен, что это были те же лица, которые напали тогда на вас, — сказал Званцев Другову. — Почему вы так думаете? — Перчатки… на дежурном были перчатки. Он хотел скрыть обожженную руку. Бороды были несомненно наклеенные. Сторож — левша: он обыскивал Ткешу левой рукой. — Да, да, так оно и есть, — растерянно закивал профессор. — Но какая у них была цель во всей этой истории? — Я думаю, что главная их цель — получить мою записную книжку. Но здесь они просчитались. Ничего, кроме адресов и обычных записей, они в ней не найдут. Хуже то, что мы недооценили своих врагов и до сих пор не сообщили обо всем, куда следует. — Несомненно, — говорил Званцев, — что охотятся за нами агенты иностранных государств; по их упорству и наглости можно судить, как им важно получить материалы опытов. Они поняли их военное значение. Мы должны опасаться всего. Надо прекратить работу дома и вести проектирование под надежной охраной. Завтра же я пойду в наркомат. Приехав в Москву, профессор распрощался с друзьями и пошел домой. Несмотря на позднее время, дома его дожидалась какая‑то дама. Другов удивился, узнав в ней дочь Макшеева Елену Николаевну. — Здравствуйте, профессор, — сказала она, поднимаясь ему навстречу. — Простите, что беспокою вас так поздно, но я решила во что бы то ни стало вас дождаться. — Пожалуйста, пожалуйста… Садитесь… Чем могу служить? — Видите ли, вчера вечером у меня опять были те два неприятных субъекта, о которых я вам говорила прошлый раз. Они мне показались еще более противными и, признаюсь… испугали меня. Они откуда‑то узнали, что вы у меня были, и вообразили, что я вам передала какие‑то бумаги. Я, конечно, отрицала это… они мне не верили и в конце концов стали грозить… Этот маленький так злобно глядел на меня… у него глаза, как у гадюки. Он говорил, что, если я от них что‑нибудь скрою, мне придется скоро раскаяться в этом… Я прямо перетрусила. Хорошо еще, что они спешили на поезд и скоро ушли. — Почему вы думаете, что они спешили на поезд? — Они говорили об этом и все поглядывали на часы. Я так разволновалась, что тотчас поехала к вам. — И давно вы здесь? — С шести часов. Они уехали ровно в двадцать минут шестого. Я точно заметила время. — Не знаю, что вам и посоветовать, — сказал Другов. — Во всяком случае, я очень вам благодарен за сообщение. С этими господами и нам пришлось иметь дело. Не думаю, впрочем, чтобы в городе они были опасны. Держите с нами связь и не волнуйтесь. Елена Николаевна успокоенная ушла домой. Добившись приема в Наркомате внутренних дел, Званцев и Другов подробно рассказали всю историю, начиная с таинственной смерти Макшеева, раскрытия шифра, нападения на Пашкевича и кончая вчерашним приключением на озере. Они также описали наружность каждого из трех неизвестных: белобрысого плюгавенького человека, высокого широкоплечего верзилы–левши и третьего, неизвестного, у которого правая рука должна быть сожжена кислотой. Следователь по особо важным делам товарищ Ремизов тщательно записал все, что рассказали ему Другов и Званцев. Между прочим, он спросил их: — Могли бы вы узнать этого, как вы сказали, белобрысого? — Да, безусловно, хотя и видели его только мельком. У него чрезвычайно характерное лицо. — Кто еще, кроме вас, видел его лицо? — Дочь профессора Макшеева, Елена Николаевна. Она могла наблюдать его два раза и подолгу. Она видела этого блондина и еще одного, того, у которого, как мы полагаем, сожжена кислотой рука. Она их видела совсем недавно… — Прекрасно, с ней надо будет побеседовать… — Вы, кажется, сказали, товарищ Званцев, что у вас они похитили паспорт? Подали ли вы заявление в милицию? — Конечно. — Что же нам теперь нужно предпринять? — спросил Званцев. — В ближайшие дни вы перенесете проектирование в один из специальных институтов. Об этом договоримся особо. Но пока все должно остаться без изменений. Не подавайте вида, что вы собираетесь это сделать. И главное — они не должны понять, что об этом стало известно нам. — Вашим делом мы займемся вплотную. Чрезвычайно важно выловить этих молодчиков, — добавил Ремизов, когда Другов и Званцев стали прощаться с ним. ___ Проектирование шло усиленными темпами. Через несколько дней чертеж снаряда был уже вычерчен в карандаше, оставалось только скопировать его на кальку и сдать чертежи и расчеты. Но тут выяснилось, что никто не может похвастаться искусством чертить. Появилась необходимость пригласить чертежника. — Очень бы не хотелось посвящать постороннего человека в это дело, — сказал Другов. — А мы и не будем посвящать. Чертежник у нас ничего существенного не узнает. Мы дадим ему только скопировать при нас немой чертеж без всяких надписей и размеров, которые мы после проставим сами. Желательно, конечно, чтобы это был свой, надежный человек. — Давайте пригласим Ольгу! Ольгу Пермякову, участницу нашей прошлогодней экспедиции. Она прекрасно чертит, — воскликнул Ваня. Вечером того же дня Ольга появилась в квартире Званцева. Она пришла оживленная и веселая. Ваня при виде ее просиял. Ольге поручили снять с карандашного чертежа две копии на кальку. Чертеж был несложный, и эту работу можно было выполнить часов за десять. — Ну, что копировать? На полотняную кальку надо снимать! А тушь хорошая? Это что такое? — тараторила Ольга без перерыва. — Это… калориметрическая бомба! Вроде бомбы Бертло… помните? — соврал ей профессор. Ольга удовлетворилась ответом, приготовила инструменты и ловко принялась чертить. Ольга весело болтала с Друговым и Званцевым, которые ни на минуту не прекращали наблюдать за ее работой. — В нынешнем году я была на геодезической практике. Совсем не интересно. А в прошлом году, помните, Сергей Ильич, как мы шикарно жили! Сколько одного винограда поели!.. А какое вино у вас, Ткеша, и шашлык! У меня осталось самое великолепное воспоминание. — Вы, говорят, замуж собираетесь? — шутя, спросил профессор. — А почему бы нет? — ответила, смеясь, Оля и посмотрела на Ваню. Для Вани это было новостью. В его уме проносились горькие мысли. Да! Конечно, она выходит замуж… Это несомненно. Она кого‑то любит. Но кого? Кто ее жених?.. Ваня перебирал всех знакомых студентов и ни на ком не мог остановиться. После ухода Ольга разговор перешел на серьезные темы. Ткеша задал вопрос о церии: откуда он берется и как его добывают. — Видите ли… химики относят церий к так называемым «редким землям», — сказал профессор. — Это пятнадцать химических элементов, помещенных в восьмом ряду третьей группы менделеевской таблицы и весьма схожих между собой по химическим свойствам. Церий, впрочем, можно без особого труда выделить в чистом виде. За границей он добывается по преимуществу из минерала монацита, который встречается в больших количествах в прибрежных песках океанов. Например, в Бразилии, Индии и на Цейлоне. Церий уже давно применяется в промышленности для изготовления колпачков к ауэровским горелкам, о чем упомянул и Макшеев. Помните? Впрочем, теперь эта область применения сокращается. Зато фосфористые его соли стали добавлять в прожекторные угли — для яркости. А вот помните кремни для зажигалок, которые в начале революции были в большом ходу? Эти кремни — не что иное, как сплав железа с небольшим количеством церия. — А у нас есть эти самые монациты? — спросил Ткеша. — Есть кое–где. Но у нас есть и более ценные минералы. Я говорю о лопаритах и ловчоритах. На севере европейской части Союза они имеются в громадных количествах. В них содержится много редких земель, а следовательно и церия. Мы обладаем безусловно первыми в мире запасами этого элемента. Перед уходом профессор зашел зачем‑то в столовую. Ваня сидел за столом и делал вид, что учится. На самом деле мысли его были далеки от учения. Профессор словно угадал настроение Вани. — Ну, полно, Ванечка, — сказал он и погладил Ваню по голове. — Перемелется — мука будет. Есть девушки лучше Ольги. Обойдется!.. Вечером на другой день вторая копия с чертежа была закончена, и Ольга пошла в столовую пить чай. Воспользовавшись ее отсутствием, Другов предложил Ткеше и Ване перенести на чертеж все размеры, обозначения и надписи, так как один экземпляр чертежа было решено сдать в наркомат. — Надпишите также материалы, из которых сделаны детали снаряда… Церий обозначьте химическим символом, — добавил он. Оба друга взяли себе каждый по чертежу и, запершись в кабинете, быстро стали выполнять эту несложную работу, тем более, что за красотой надписей они не гнались. — А как обозначается церий? — спросил Ткеша. — Церий обозначается, насколько мне помнится, латинскими буквами «зет» и «эр». Вот так… — И Ваня написал: «Zr». Ткеша посмотрел и поставил на своем чертеже точно такой же знак. Через некоторое время в дверь постучались Другов и Званцев. — Ну, как, готово? Дайте‑ка взглянуть, что вы тут сделали. — Профессор стал просматривать чертежи. Вдруг он наморщил лоб, поправил очки и поднял глаза на Ваню. — Что это ты здесь написал? — Церий… химический символ церия… — Церия!! Это символ церия? — Он покраснел от гнева. — Несчастный! И как тебя пропустил на зачете Иван Петрович! Ты же спутал церий с цирконием, металлом шестого ряда четвертой группы менделеевской таблицы. Церий обозначается латинскими буквами «це» и «о», а не «зет» и «эр». Исправить немедленно. Ваня густо покраснел и принялся подчищать чертеж. — Хороши пошли студенты, нечего сказать, — ворчал профессор, — церий с цирконием путают. — Теперь давайте решим, куда ненадежнее спрятать чертежи, — сказал Званцев. — Лучше всего, я их увезу в институт и пока запру в несгораемый шкаф в своем кабинете, — предложил Другов. — Только никому об этом ни слова. Черновики и разные наброски мы сейчас же сожжем. Последнее решение было немедленно выполнено. Вызвав на следующий день утром по телефону такси, Другов и Званцев отправились в Геологический институт. Приехав на место, они поднялись на третий этаж лабораторного флигеля. Там никого не было. Профессор открыл свой кабинет и запер чертеж во внутренний ящик несгораемого шкафа, где хранилась платиновая химическая посуда. — Уф! Отлегло от души, — сказал Другов. В это время в коридор вошла группа студентов. Они видели Другова и пришли звать его на собрание. — Андрей Васильевич! Профессор! — раздавались крики. — Идемте на собрание в главную аудиторию. Народу много собралось. Другов запер кабинет и пошел в большую аудиторию, где было собрание. Званцев на всякий случай остался во флигеле. Аудитория была полна народа. Здесь были студенты, преподаватели, служащие, рабочие института. На собрании выступал с докладом директор института. Он говорил об итогах прошлого учебного года, о новых программах, о студентах–отличниках, о работе всего коллектива. Прослушав доклад, профессор вместе с Ваней, Ольгой и еще несколькими студентами пошел во флигель. Инженер их ждал в коридоре. Не желая отпирать своего кабинета, Другов зашел в соседнюю комнату и уселся на диване отдохнуть. — Да! Действительно, — говорил профессор, — вы, Сергей Ильич, тогда были правы. Нельзя было столько тянуть и не сообщать о нашем деле. Может быть, давно бы уже выловили этих молодчиков. За закрытой дверью в это время послышался какой‑то шум и возня. Званцев вскочил со стула, кинулся к двери и дернул ее. Дверь не подавалась. — Нас заперли! — закричал он. Все вскочили и начали тянуть дверь, но без успеха. Другов прежде всего стал рыться в кармане… Ключи от несгораемого шкафа были на месте, на цепочке, прикрепленной к петле пиджака. — Проклятие! Кто‑то засунул в дверную ручку палку, скорее ломайте дверь! Стали стучать в дверь, — пытались сорвать ее с петель — ничего не вышло, дверь была крепкая. Тогда инженер достал свой нож, который уж не раз выручал его, и стал вырезать нижнюю филенку двери. Званцеву помогал Ваня. — Скорее! Скорее! Ради всего святого, — торопил их профессор. Прошло, однако, около получаса, прежде чем удалось подрезать филенку со всех сторон. Наконец ударом ноги филенка была вышиблена, Ваня пролез в отверстие, вынул кусок железной трубы, засунутой в дверную ручку, и освободил всех из плена. Бросились к кабинету… Дверь его была открыта. Несгораемый шкаф взломан. На полу валялись бумаги, деньги, платиновая посуда, но… конверта с чертежом не было. Все остолбенели. Другов схватился за голову. — Украли. Нет! Нет, не может быть! — шептал он. Снова стали перебирать разбросанные бумаги. Конверта не было. — Что делать! Что делать? — Как это могло произойти?! — Кто проболтался? Ваня, вы никому не говорили? — Нет, никому, решительно никому. — Может быть, в шутку, нечаянно? — Нет, честное слово, нет, не говорил. — Кто еще знал? Ольга, вы никому не сообщали о том, что чертеж будет заперт здесь? — Нет, никому не говорила… только Юрию… — Какому Юрию? — Юрию Станиславовичу, — ответила Ольга, бледнея. — Пашкевичу?! — Да… он мой жених. — Жених! Пашкевич‑то! — воскликнул Другов. — Так ведь он давно уже женат! Его жена и двое ребят живут в Тарасовке! Лицо Ольги вытянулось, глаза и рот широко раскрылись… и она зарыдала. — Но неужели Пашкевич из этой же темной компании? — продолжал Другов. — Он же пострадал за нас, на него самого напали бандиты. — На него напали?! — с яростью закричал Званцев. — Никто на него не нападал. Он все наврал. Он шел к нам для каких‑то своих грязных дел с револьвером в кармане, и от действия лучей револьвер сам разрядился. Ах! Я во всем сам виноват. Мне тогда же вся эта история с нападением показалась подозрительной, а я ничего не предпринял. Ну, конечно! И пальто у него загорелось… а револьвер он успел куда‑нибудь закинуть… — А я рекомендовал! Кого! Ольгу… О, безмозглая дура! Неужели не хватило у тебя ума, чтобы раскусить этого франтика! — закричал Ваня. Ольга рыдала, лежа на диване, и билась головой о подушку. — Что же делать? Что же делать? Все… все пропало, — твердил профессор. — Надо действовать! Не все еще потеряно. Сейчас же звоните Ремизову. Прошло не более четверти часа, как они скрылись. Инженер овладел собой. — Пашкевич сегодня был здесь? — Был, — сказал Ваня. — Я видела его в коридоре… он разговаривал с блондином маленьким, — сказала Ольга, не переставая рыдать. — С белобрысым! Ваня, звоните Ремизову. Андрей Васильевич, закройте кабинет… пусть все остается, как было. Вам, Ольга, придется обождать здесь. Возьмите себя в руки. Но Ольга рыдала и, казалось, ничего не слышала.ПОГОНЯ
Весть о взломе несгораемого шкафа с быстротой молнии облетела весь институт. Через несколько минут коридор был заполнен студентами. Любопытные заглядывали в дверь кабинета, расспрашивали о происшествии, вздыхали и возмущались. «Что случилось? Как это могло произойти!$1 — слышалось со всех сторон. Нужно было во что бы то ни стало скрыть истину и очистить коридор от посторонних. Званцев и Ваня взяли это на себя. — Пожалуйста, успокойтесь! — кричал инженер. — Ничего особенного не произошло. Воры хотели взломать несгораемый шкаф, в котором хранилась платина. Но кража не удалась… Освободите коридор, вы мешаете розыскам. С улицы донеслись звуки автомобильных гудков, и у крыльца института остановились две машины. Из первой машины вышел следователь Ремизов и еще два сотрудника; из второй — помощник Ремизова Аксенов с ищейкой на поводке. Ваня уже был около машин и проводил прибывших к месту происшествия. Коридор моментально очистили от посторонних. — Как это произошло? Расскажите быстро, но подробно, — сухо спросил Ремизов. Званцев обстоятельно рассказал обо всем случившемся и добавил, что Пашкевич, судя по всему, должен быть причастен к этому делу. Выслушав сообщение Званцева, Ремизов заметил: — Очень жаль, что вы здесь все перерыли. Ну, а дверцу шкафа кто‑нибудь трогал? Оказалось, что до дверцы шкафа никто не дотрагивался. Ремизов осмотрел ее. — Работали универсальным американским инструментом с электрическим приводом, — заметил Ремизов, — и, по всем признакам, работал специалист своего дела… Ага, вот это интересно! — и он указал на тряпку, которой была обмотана ручка шкафа. — Товарищ Аксенов, ну‑ка, принимайтесь за дело! Аксенов подвел собаку, дал ей понюхать тряпку, за которую держались взломщики, и пустил ее по следу. Собака, обежав несколько раз комнату, бросилась в коридор, а затем к боковой лестнице, ведущей во двор. — Мы подождем здесь, — сказал Ремизов. — О результатах они нам позвонят. Впрочем, особенных результатов ждать не следует. Вернее всего, Тоби доведет их до места стоянки автомобиля, на котором уехали преступники. — Вы говорите, — продолжал Ремизов, — что о чертежах Пашкевичу сообщила Ольга Пермякова. Где она? Я бы хотел с ней побеседовать. — Ольга в соседней комнате. У нее нервный припадок, — ответил Другов. — Там доктор возится с ней. — Жаль. Впрочем, вы сами, очевидно, знаете адрес Пашкевича. Как его зовут? — Юрий Станиславович. Профессор порылся в кармане и достал записную книжку. — Вот и адрес, — сказал он. — Улица Кропоткина, Полуэктов переулок, семь… Телефона у него нет. Следователь записал адрес. — Но здесь он живет один, — заметил Другов. — Его семья, насколько я знаю, живет на даче в Тарасовке. Ремизов сел у стола. Другов тяжело опустился в кресло, а Званцев ходил по комнате и порывисто курил трубку. Все молчали. Ремизов от нетерпения стучал пальцами по столу. Вошел Ваня. — Ольгу увезли. Эких дел натворила по глупости! — сказал он и сел около Другова. Воцарилось тяжелое молчание. Наконец, послышались шаги, и в кабинет вошел Аксенов. Все вскочили с мест. — Уехали на метро, — сказал Аксенов. — На метро?! — Да. Со станции «Улица Коминтерна». — Тоби повела нас отсюда прямо по двору, вокруг физического корпуса, потом через улицу Герцена по левой стороне улицы Грановского. След был совершенно свежий. У метро собака задержалась — слишком много проходило народу, — а через минуту нашла след и быстро спустилась вниз. — К какой платформе? — спросил Ремизов. — К левой, где отходят поезда в Сокольники. — Отлично! Вы, Аксенов, сейчас же займитесь Пашкевичем. Отправляйтесь сначала к нему на московскую квартиру, хотя там вы его, конечно, не застанете, потом в Тарасовку, разыщите его семью. Мы с товарищем Званцевым поедем к дочери Макшеева… Мне необходимо с ней поговорить. Ремизов взглянул на часы. Они показывали двадцать пять минут второго. Машина быстро довезла Ремизова и Званцева до Петровского парка. Елена Николаевна была дома. Она сидела за столом и занималась со своей дочерью. Званцев представил ей Ремизова и объяснил причину их визита. — Ирина, пойди в свою комнату. Я скоро освобожусь, — обратилась к дочери Елена Николаевна. Затем со всеми подробностями она рассказала Ремизову о своих встречах с мнимыми научными сотрудниками. Да, действительно, они снова были у нее. Сидели недолго, требовали сообщить, какие материалы отца она передала Другову, угрожали ей… Она безусловно может их опознать. Они не были одеты в кожаные пальто: на маленьком было новенькое коричневое драповое пальто и шляпа, а в руках трость. Другой был в темно–сером пальто и в такой же кепке. — Скажите, — перебил Елену Николаевну Ремизов, — вы не заметили, не было ли на их руках перчаток? — На одном были перчатки, а вот маленький… не могу сказать точно, но на его руках перчаток, кажется, не было, — ответила Елена Николаевна. — Вы сказали, что они спешили на поезд. Откуда вам это известно? — снова задал вопрос Ремизов. — Видите ли, брюнет все время смотрел на часы, а один раз он напомнил своему спутнику, что до отхода поезда осталось только двадцать две минуты. После этого они вскоре ушли. — А не можете ли вы припомнить точно, в котором часу они ушли… это очень важно. — Было без восемнадцати минут шесть. Я тогда взглянула на часы и еще подумала, что уже поздно, а Ирина еще гуляет. — Могу я позвонить от вас по телефону? — спросил Ремизов. — Пожалуйста. Ремизов вышел в коридор, где висел телефон. Вернувшись через минуту, он сказал решительным тоном: — Едемте. — Вы обнаружили что‑нибудь новое? — спросил Званцев. — Да! Кое‑что… Благодаря сообщениям товарища Савельевой. — Едемте скорее, товарищ Званцев. Они откланялись. Елена Николаевна стояла в дверях, обняв Ирину. Мать и дочь были очень похожи друг на друга. Обе стройные, с худощавыми лицами, большими темными глазами и прямыми, сросшимися над переносицей бровями. Волосы у обеих были гладко причесаны на прямой пробор. — Еще увидимся, — сказал на прощание Званцев. Автомобиль тронулся. — Я навел справки, — повернулся Ремизов к Званцеву. — В восемнадцать часов четыре минуты отходит только один поезд с Казанского вокзала — Москва — Голутвин. Только на него могли спешить эти господа. Если так, то можно предположить, что они туда же отправились после взлома шкафа. — Конечно, это возможно. Они ведь и на метро уехали в сторону Комсомольской площади. — Вот видите! Кроме поезда в восемнадцать ноль четыре, на Голутвин идут еще пять поездов, из них два днем: в двенадцать часов двадцать одну минуту и в двенадцать часов пятьдесят пять минут. Вы вызвали меня ровно в двенадцать пятьдесят. Десять минут вы разговаривали. В двенадцать сорок вышли из комнаты, где были заперты. Сколько времени вы там были? — Около получаса. — Получаса? Опытный взломщик вскроет несгораемый шкаф за пятнадцать–двадцать минут. Следовательно, когда они похитили чертежи, было чуть больше двенадцати часов. До станции метро они шли пять минут, на метро ехали не больше пятнадцати минут и, следовательно, могли уехать со вторым поездом — Луховицким, в двенадцать пятьдесят пять. А сейчас, — Ремизов поглядел на часы, — уже два часа двенадцать минут. Они отъехали от станции Бронницы, а мы только от площади Маяковского. — Вы хотите их догнать? — удивился Званцев. — Да. Я, правда, дал уже распоряжение по линии снять с поезда трех подозрительных пассажиров и сообщил их приметы, но лучше самим быть на месте… Вы ведь ничего не имеете против? — Нисколько. А где рассчитываете вы догнать их? — Где‑нибудь около Воскресенска. — Машина у нас прекрасная, — продолжал Ремизов, — и за городом мы сможем развить скорость до девяноста километров в час. Проехав улицу Горького, машина свернула к площади Свердлова затем к площади Ногина, направилась к Таганской площади, Крестьянской заставе и выехала на Остаповское шоссе. За городом шофер прибавил скорость. Сирена ревела почти непрерывно. Машина была открытая, и ветер пронизывал до самых костей. Званцеву стало холодно. Он поднял воротник пальто. Шоссе то удалялось от линии железной дороги, то вновь приближалось и шло параллельно, то пересекало ее. Один раз машина была задержана у шлагбаума, чтобы пропустить товарный поезд. — Будем останавливаться? — спросил Званцев. — Нет. В Раменском, по расписанию, поезд был в два часа. Я дал распоряжение в час пятьдесят, и оно не успело еще дойти. Остановимся у следующей станции. Еще через десять минут машина въехала в город Бронницы. Ремизов велел остановиться у отделения милиции и пошел звонить на железнодорожную станцию. Агенты охраны были на месте, но распоряжение Ремизова пришло через семь минут после отхода поезда. Помчались дальше, к станции Фаустово. Здесь оказалось, что агенты вовремя получили распоряжение и сели в поезд примерно четверть часа тому назад. Чтобы не терять времени, тотчас же двинулись дальше. Шоссе отошло в сторону от линии железной дороги. Стали набирать скорость. Обогнали какой‑то грузовик, груженный железом, еще грузовик с ящиками, желтую карету с надписью «Хлеб», бензиновую цистерну и две легковые машины М-1. Чтобы добраться до станции Виноградово, пришлось свернуть с шоссе и ехать примерно с километр по проселку. На станции оказалось, что никого с поезда не сняли, и единственный милиционер, который был на вокзале, сам сел на этот поезд для выполнения распоряжения. Поехали дальше. Наконец, стали нагонять быстро идущую большую легковую машину. Ремизов приказал прибавить газ. Машина оказалась «Линкольном», в ней сидело трое. Ремизов знаком предложил им остановиться и, выйдя из автомобиля, пошел проверять документы. Ничего подозрительного, однако, не оказалось. Это ехала на Коломенский завод комиссия Главтрансмаша. Все было в порядке. Пока они таким образом стояли и осматривали «Линкольн» и его пассажиров, их обогнали в обратном порядке легковые машины, цистерна, машина с хлебом и грузовики. Когда Званцев и Ремизов подъезжали к станции Конобеево, от нее только что отошел поезд на Москву. Шофер затормозил машину, Ремизов выскочил из нее, чтобы пойти на станцию… и остановился, как вкопанный: у края дороги стоял желтый автомобиль с надписью «Хлеб», обе дверцы его были открыты, за рулем никого не было. Внутри карета была пуста — обычных выдвижных полок для хлеба не было. — Что? Что вы стоите? — удивленно спросил инженер. — Вас это не поражает? — сказал Ремизов, указывая на карету. В голосе его чувствовалась тревога. — Неужели вы думаете, что они ехали в этом автомобиле? Значит, они слезли с поезда?! — Да, когда заметили, что агенты на него садятся… Идемте на станцию. Ремизов пошел к дежурному. Через минуту он вышел оттуда. Вид у него был сумрачный, губы сжаты, кулаки стиснуты. — Со станции Фаустово действительно угнали хлебный автомобиль. Полки и хлеб выбросили прямо в грязь. На Луховицком поезде, конечно, никого не обнаружили, — сказал он. — Я дал распоряжение по линии, в Бронницы, Раменское и Москву, но… едемте скорей обратно. Машина понеслась обратно по дороге к Москве. Снова замелькали мимо деревья, избы, встречные машины… — Они сделали ошибку, — заметил Званцев, — что бросили автомобиль. Этим они выдали себя. — Струсили. Они были в панике. Не ожидали, что их выследят. Автомобиль достиг предельной скорости. Уже стемнело, когда наши уставшие и продрогшие путники вернулись в Москву. Ремизов остановил машину у первого телефона–автомата и соединился с Казанским вокзалом. Поезд уже полчаса тому назад прибыл в Москву. Ничего подозрительного на нем не было обнаружено. — Между пальцев ускользнули! — с досадой сказал Ремизов. — Ну, едемте к Другову. И машина покатила по улицам города.НОВЫЕ НИТИ
Когда Ремизов и Званцев вошли в квартиру Другова, они застали там, помимо самого хозяина, Ваню и Аксенова. Другов сидел в кресле у стола. На нем был домашний халат и туфли. Ваня и Аксенов только что вернулись из своей поездки. Другов казался очень подавленным. Увидев входящих, он заволновался и поднялся им навстречу. — Где вы так долго пропадали? Обнаружили какие‑нибудь следы? Инженер успокоил его, усадил в кресло и попросил не спешить с расспросами. — Прикажете доложить, товарищ начальник? — спросил Аксенов. — Докладывайте. Аксенов начал рассказывать. Они не застали Пашкевича на его московской квартире. Комната была заперта на замок. По словам соседей, он накануне пришел поздно вечером и ушел очень рано утром. Никто, впрочем, его не видал, и потому не удалось установить, ушел ли он с каким‑нибудь багажом или без вещей. Аксенов дал распоряжение взять квартиру под наблюдение, а сам вместе с Ваней поехал в Тарасовку. Никого под фамилией Пашкевич среди постоянно проживающих в этой дачной местности не оказалось. По наведенным справкам, однако, выяснилось, что некая Мария Петровна Константинова, жена какого‑то инженера, вместе с двумя детьми снимает комнату на даче одного железнодорожника. Она и оказалась женой Пашкевича. — Мы застали ее дома за стиркой, — сказал Аксенов. — Да, живут они очень посредственно, — добавил Ваня. — В комнате грязь, горшки, какие‑то тряпки… Дети одеты кое‑как, не умыты. Я бы ни за что не поверил, что пришел в семью этого выхоленного щеголя. Аксенов продолжал: — Она удивилась нашему приходу и обеспокоилась, когда узнала, что мы ищем ее мужа. Она, видите ли, думала, что он в командировке, где‑то на Алтае. Выяснилось также, что в начале августа Пашкевич недели две жил у них на даче. — Это когда он после ранения и ожогов лечился на курорте, — не удержался заметить Ваня. — Во время своего пребывания на даче Пашкевич посылал несколько писем до востребования в Москву, но в какое почтовое отделение и на чье имя — она не могла или незахотела сказать. Перед отъездом Пашкевич оставил им немного денег и сказал, что пришлет еще, но до сих пор ничего не прислал. Я распорядился установить надзор за дачей… Вот и все, — закончил Аксенов. Ремизов помолчал некоторое время. — Наша работа на сегодняшний день вовсе не так бесплодна, как вы думаете, товарищи. Мы установили, что диверсанты, или хотя бы один из них, проживают где‑то но линии Казанской железной дороги, между Воскресенском и Голутвиным, это во–первых. Во–вторых, Пашкевич посылал в начале августа из Тарасовки кому‑то из них, я так полагаю, письма до востребования. Можно предположить, что он и впредь будет посылать их. Если нам удастся установить фамилию адресата… — И устанавливать не надо, и без того ясно, на чье имя од посылал письма, — сказал инженер. — Конечно, на имя Званцева. Все удивленно переглянулись. — Паспорт‑то мой ведь у них, — пояснил Званцев. — Ваше предположение основательно, — заметил Ремизов, — паспорта в почтовых отделениях не проверяются по справочнику утерянных документов, а по вашему паспорту получать корреспонденцию до востребования им значительно безопаснее. — Но в какое же почтовое отделение он мог направлять письма? — спросил Другов. — Можно было бы предположить, что письма адресовались в почтовые отделения района Воскресенск–Голутвин. Между прочим, почему Константинова утверждает, что письма были московские? — спросил Ремизов. — По маркам: она покупала марки для местных писем. — Отлично. Я дам распоряжение по всем почтовым отделениям Москвы сообщить мне, если появится письмо до востребования на имя Сергея Ильича Званцева. С этого мы и начнем свои розыски. Кроме того, я, конечно, буду наводить справки относительно всех лиц, проживающих в районе Воскресенска и Коломны и подходящих под их приметы. Дело это сложное, и оно займет много времени, но оставить без внимания его нельзя. — А не будет ли проще, — сказал Аксенов, — навести справки в амбулаториях о человеке, лечившем правую руку от ожога кислотой? — А ведь это идея! — воскликнул Другов. — Прекрасно, — согласился Ремизов, — это может очень сильно облегчить розыски. — Едва ли он обратился в амбулаторию, — выразил сомнение Ваня. — Вероятно, он лечился у частного врача. — Отчего же, он вполне мог обратиться и в лечебное учреждение. Он, наверное, где‑нибудь работает и потому нуждается в бюллетене. Кроме того, частных врачей немного, особенно за городом, и их можно будет тоже расспросить, тем более, что день ожога нам точно известен. — Итак, у нас в руках появились две новые нити… Ремизов поднялся. — Едемте, товарищ Аксенов. Нам надо спешить. До свидания, товарищи. Ремизов и Аксенов ушли. Званцев также стал прощаться. — Вы, Сергей Ильич, Мне тотчас же звоните, если будет что‑нибудь новое, — сказал Другов на прощание. ___ Прошло четыре дня, прежде чем пришли новые известия. Эти дни показались нашим друзьям целой вечностью. Их томило вынужденное бездействие, работа валилась из рук. Большую часть времени они проводили у Другова в разговорах о похищенных чертежах и о том, на какие успехи может рассчитывать Ремизов. Свои прямые дела они забросили. Другов почти не бывал в институте, сказавшись больным. Званцев взял отпуск без сохранения содержания, сославшись на семейные дела. Ваня просто манкировал занятиями. Ткеша все это время болел и теперь на положении выздоравливающего тоже пропадал у Другова. На пятый день вечером раздался звонок у входной двери. Через минуту в комнату вошел Ремизов. — Здравствуйте, товарищи! Сергей Ильич, а у меня для вас письмо. Званцев вскочил с места. Ремизов передал ему обыкновенный конверт из желтой бумаги с адресом, напечатанным на машинке. Здесь. 47–е почтовое отделение. До востребования. Сергею Ильичу Званцеву. В углу стоял почтовый штемпель 38–го отделения Дзержинского района, датированный 13 октября. Инженер вынул сложенный вдвое листок бумаги. Все сразу узнали мелкий, аккуратный почерк Пашкевича. «Смею надеяться, что Вы ошиблись или сознательно обманули меня, написав, что захватите с собой для меня условленную сумму денег и я получу все сразу. Прошу помнить об услуге, которую я оказал вам. Относительно девицы не беспокойтесь — она глупа и ничего не знает. Сообщите, когда и куда мне ехать тем способом, как раньше сообщали. Надеюсь уже 30 октября получить от Вас указания. До свидания». — Ну и гадина! — воскликнул Другов. — Письмо, конечно, вполне характеризует автора! — сказал Ремизов. — Но оно, к сожалению, не дает нам ничего нового. Мы только узнали, что молодчики собираются улепетнуть и не сошлись в цене. Но об этом можно было бы предполагать и без письма. Правда, здесь упоминается способ сообщения, которым они сносились с Пашкевичем, но в чем он состоит — непонятно. — Так или иначе, письмо это сослужит нам неплохую службу. Оно сегодня же будет запечатано в новый конверт, на нем появится тот же адрес, и мы отправим его из того же Дзержинского района, предварительно, конечно, сняв копию. — А как Ольга, она помогла чем‑нибудь следствию? — спросил Другов Ремизова. — Я допрашивал ее. Но она очень нервничает, и ничего толком сказать не могла. Пашкевич за ней ухаживал, водил в театр, ресторан, говорил, что любит ее, обещал жениться. Встречались они большей частью в кафе или в метро. У него на квартире она была будто бы только два раза. Как она выразилась, он обладал страстным темпераментом и слишком любил ее, а поэтому оставаться с ним наедине она побаивалась. Предложение ей он сделал двенадцатого августа, после того, как узнал, что вы пригласили Ольгу копировать чертежи. Это было на стадионе Динамо. Женитьбу он все откладывал; говорил, что сперва обменяет одну комнату на две или хотя бы на большую площадь, давал объявления в «Справочнике по обмену жилплощади» и в «Вечерней Москве». Расспрашивать ее обо всех ваших делах и открытиях ему не было нужды: она по своему легкомыслию сама рассказывала все, что знала. В это время в прихожей позвонили. — Должно быть, шофер вернулся, — сказал Ремизов и стал прощаться. Но в комнату неожиданно вошел Аксенов и, поздоровавшись со всеми, что‑то тихо сказал следователю и передал ему пакет. Ремизов улыбнулся. — Что? Что такое? Что‑нибудь важное? — посыпались вопросы. — Четвертого августа в амбулаторию одного подмосковного химического комбината обращался за помощью по поводу ожога правой руки кислотой их старший химик, некто Александр Федорович Лунц. Он сказал, что нечаянно попал рукой в травильный бак с крепкой серной кислотой. Ожог признан легким, так как своевременно были приняты меры. Он попросил бюллетень на пять суток. Ну… что еще… Вот копии его анкеты и фотографическая карточка, на которой, впрочем, абсолютно ничего нельзя разобрать. Все с интересом стали рассматривать карточку. Но разобрать на ней что‑нибудь действительно было невозможно. — Вот это снимочек! — усмехнулся Ваня. — Это специально так сделано, — заметил Ремизов, — фотография обработана каким‑то реагентом с тем, чтобы через некоторое время она выцвела. Ну, нам пора. До завтра.ПО ГОРЯЧЕМУ СЛЕДУ
Ваня, по приглашению Ремизова, должен был явиться в сорок седьмое почтовое отделение ровно в десять часов утра. Там ждал его Аксенов и еще два агента. Но он их узнал не сразу. Аксенов был в форме почтового служащего и сидел за стеклянной перегородкой у стола. Он глазами указал Ване на других агентов: один из них выглядел старичком и сидел на подоконнике вестибюля, уткнувшись в газету; другой, в шинели красноармейца, читал таблицу выигрышей. Письмо до востребования на имя Сергея Ильича Званцева, посланное вчера вечером, еще не поступило в почтовое отделение. О нем никто и не справлялся. Ваня хорошо помнил роль, которая выпала на его долю. — Мы вас просим прийти, — говорил ему накануне Ремизов, — потому что вы видели преступников в лицо. Может статься, что кто‑нибудь из них явится, но не решится спросить письмо. Это часто бывает, если возникают подозрения. Тогда вы укажите нам его. А чтобы вы сами не спугнули их, вам придется изображать электромонтера. Вид у вас подходящий. Можете развинтить один телефон–автомат и возиться в будке целый день. Вам это разрешается. Смотрите через стекло на всех входящих. Когда заметите кого‑нибудь подозрительного, отвернитесь лицом к аппарату и потом, когда тот пройдет, дайте знак товарищу Семенову — он будет стоять с газетой, а сами из будки не выходите… иначе можете спугнуть. Поняли? Имейте также в виду, что мы получили строгое приказание выследить его и не задерживать без крайней необходимости. И вот теперь, вооружившись отверткой и плоскогубцами, Ваня возился у телефона. Письмо пришло с двенадцатичасовой почтой. Оно было положено в отделение ящика под буквой «З». Скучно и однообразно тянулись часы ожидания. Ваня несколько раз успел разобрать и вновь собрать телефонный аппарат. Он, можно сказать, в совершенстве изучил его устройство, так что мог бы и в самом деле сойти за электромонтера. Однако время тянулось мучительно долго. Стало уже темнеть. Кругом зажгли электричество. Ваня отчаялся дождаться прихода кого‑нибудь за письмом. «В самом деле, — думал он, — совершенно неизвестно, придут ли за письмом именно сегодня. Могут прийти завтра или послезавтра, а то и вовсе не зайдут. Неужто я так все время и буду стоять в этой конуре? Веселенькое, нечего сказать, занятие изображать из себя огородное чучело! Хоть бы присесть на минутку. Черт знает, что такое, — ноги прямо затекли». Терпению Вани приходил конец. Он вышел из будки, намереваясь подойти к Аксенову, и вдруг недалеко от себя заметил высокого мужчину в коричневом драповом пальто и шляпе, чья широкая спина показалась ему странно знакомой. Сердце замерло у него в груди. «Кто это? Тот или нет?$1 — мучительно завертелось в голове у Вани. Незнакомец повернулся и стал расталкивать публику, чтобы пройти вперед. Движения его были столь характерны, что Ваня сразу узнал его и чуть не вскрикнул от испуга. Дав условный знак Семенову, который был тут же, в толпе, Ваня бросился в свою будку и дрожащими от волнения руками начал работать отверткой. «Заметил он меня или не заметил? И зачем я ушел со своего поста? Впрочем, наверное, не заметил… народу здесь много… А может быть, это и не он?.. Нет, он… Явился за письмом…$1 — проносилось в голове у Вани. Прошла минута или две. Ваня был вне себя от волнения. Наконец, высокий незнакомец вышел из зала в вестибюль и быстрыми шагами направился к выходу. Через мгновение в дверь юркнул Семенов, потом мимо Вани прошел Аксенов. Ваня вслед за ними также вышел на улицу. Неизвестный быстро зашагал по переулку в сторону улицы Горького, пересек ее и направился по правой стороне, к площади Маяковского. Ваня перебежал на левую сторону улицы, боясь быть замеченным. Народу на улице было много, но массивная фигура неизвестного, несмотря на сумерки, хорошо была видна; зато Аксенов с товарищами сразу будто сквозь землю провалились. Один раз неизвестный остановился у витрины комиссионного магазина, постоял некоторое время и затем быстро огляделся вокруг, очевидно, с целью убедиться, что за ним не следят. Ваня в это время тоже остановился у магазина и сделал вид, что разглядывает игрушки. Достигнув площади Маяковского, неизвестный быстро направился к станции метро. Ваня оглянулся. Аксенова и Семенова нигде не было видно, а громоздкая фигура уже смешалась с толпой в дверях станции метро. Он мог теперь легко скрыться. Отчаяние овладело Ваней. Улучив момент, когда движение чуть замедлилось, Ваня очертя голову бросился через улицу. Со всех сторон слышались рев сирен, ругань… Но вот он уже вбежал в метро, на ходу достал из кармана книжечку абонементных билетов, которую, к счастью, имел при себе, и бросился к эскалатору. Длинная труба с двумя рядами огней была заполнена плотным потоком людей — два из них двигались вниз, а один вверх. Пальто разных оттенков, меховые воротники, шапки, платки, шинели, шляпы, полушубки… поднимались и спускались. Ваня взглянул вниз и… почти у конца лестницы соседнего эскалатора заметил знакомую широкую фигуру в коричневом драповом пальто и шляпе. У него дух захватило. Он бросился вперед, расталкивая толпу. Ваня не мог оторвать взгляда от драпового пальто. «Он!.. самый!.. Он сядет в поезд раньше меня… Что же делать? Что же делать?» Эскалатор между тем продолжал спокойное движение. Тут Ваня увидел слева у борта запломбированную ручку для экстренной остановки движения. Только одно мгновение он колебался. Затем быстро перегнулся через перила, резким движением сорвал пломбу и повернул рукоятку. Соседний эскалатор сразу остановился. Со всех сторон послышались возгласы негодования и протеста. «Что за хулиганство! Это черт знает что такое! Зачем вы остановили эскалатор? Задержать его за хулиганство!» Ваня старался сделать вид, будто это к нему не относится. — Вы, молодой человек, не того? — спросил его сосед в меховом пальто, очках и с портфелем в руках, постучав себя по лбу, — у вас тут все в порядке? Ваня схватил его за рукав. — Так надо, уверяю вас… это необходимо. Не кричите, умоляю вас… тише! Я вовсе не хулиган. В лице и словах Вани было что‑то настолько убедительное, что все кругом замолчали. Спуск продолжался, и Ваня отвернулся к стене, чувствуя, что движется мимо человека, которого он выслеживает. Ваня быстро пошел вперед и притаился в толпе возле колонны, каждое мгновение ожидая появления великана в коричневом пальто. Но прошло с полминуты, а тот не доказывался. Ваня оставил свой наблюдательный пост и взглянул на эскалаторы — там его не было. Эскалаторы работали полным ходом, поднимая одних и опуская других, но никого похожего на неизвестного в коричневом пальто не было. Ваня поднялся вверх, опять спустился, обежал станцию, всюду всматриваясь в толпу пассажиров… неизвестный как сквозь землю провалился. Ваня был в отчаянии. «Упустил, упустил из‑под носа. Ах, что я наделал?! Неловко, как мальчишка, открыл этому бандиту, что за ним следят. Теперь он уже больше не попадется. Он, конечно, сумеет скрыться. Пропал такой исключительный случай», — с отчаянием думал Ваня, возвращаясь домой. Он брел в темноте улиц, освещенных лишь тусклыми огнями дежурных фонарей, спотыкаясь о неровности тротуара и наталкиваясь на встречных прохожих.ЖЕРТВА
Ваня вошел в свою комнату. Ткеши дома не было. Не раздеваясь и не зажигая света, он лег на постель. С раннего утра он ничего не ел, все время был на ногах, волновался, спешил, пережил горькое разочарование и теперь чувствовал себя совершенно разбитым. «Надо только сообщить обо всем Ремизову. — подумал Ваня. — Обязательно надо позвонить ему по телефону… Вот полежу еще немножко, отдохну и пойду позвоню…» Но усталость взяла свое, и Ваня заснул. Стук в дверь разбудил его. — Кто там? Войдите! — крикнул Ваня. Дверь медленно отворилась, и на пороге появился темный силуэт женской фигуры. — Кто это? Ольга, ты!? Ваня вскочил с кровати и зажег свет. Ольга стояла в дверях. Она сильно осунулась и побледнела. Под расстегнутым, смятым пальто была видна голубая кофточка, волосы клочьями торчали из‑под берета. — Я пришла к тебе… к вам, Ваня, по важному делу, — начала Ольга, задыхаясь от волнения. — Скажите, эти чертежи, которые там выкрали… они были очень важные? В самом деле очень важные? — Да. Очень важные, Ольга… Они нужны родине, всему нашему народу, — ответил Ваня. Ольга тяжело опустилась на стул, закрыла лицо руками и застонала, как от сильной физической боли. Ване стало очень жаль ее. — Ну, полно, Оля, полно… будет тебе… — стал утешать он, гладя ее рукой по голове. — Будет… Ты нечаянно проболталась — все это понимают. И Другов, и Ремизов — все говорят, что ты просто по легкомыслию проболталась… чертежи найдутся… Уверяю тебя, их разыщут! Не надо так убиваться… Вот увидишь, что все устроится. — Не то, не то!.. — Что не то? Ольга подняла глаза, как‑то странно посмотрела на Ваню и тихо сказала: — Я не все сообщила следователю. — Не все?! — Да, не все… Я знала, где может скрываться Юрий и где могут быть чертежи… и не сказала. — Ты… ты знаешь? — Да. Знаю. Он снял комнату у сторожа… у железнодорожного сторожа на станции Клязьма. Маленькую комнату. — И ты была там? — Да… бывала. — Бывала? — Да. Несколько раз. — Несколько раз! Ты знала и не сказала!.. Ты пожалела его?! — Голос Вани задрожал. Ольга молчала. — И ты была его сообщницей, Ольга! — закричал он. — О нет! Нет! Никогда! Я ничего не знала! Не знала! Честное слово! Я только отвечала ему, когда он спрашивал!.. Я ничего, ничего не знала! Клянусь тебе! И Ольга зарыдала. Ваня отвернулся к окну. Холодный дождь стучал по стеклу. Тоска и какая‑то страшная пустота наполняли его, точно он потерял кого‑то. Ольга, наконец, перестала плакать, и в комнате стало так тихо, что было слышно тиканье карманных часов, лежавших на столе. Вдруг Ольга сказала каким‑то странным, точно чужим голосом: — Пора. Надо ехать. Собирайтесь. — Ехать? Куда? — Туда. Он еще может быть там. Скорее, скорее. Надо спешить. Ваня торопливо надел пальто, галоши, фуражку, хотел еще сверху надеть брезентовый плащ, но, увидев, что Ольга одета слишком легко для такого путешествия, протянул плащ ей. — Надень. — Пустяки. Не надо. Скорее. — Одевайся, одевайся. Ольга накинула плащ, они поспешно вышли из комнаты и сбежали вниз по лестнице на улицу. Было холодно и сыро. Ольга успела промочить ноги прежде, чем они дошли до станции метро. Подземная дорога быстро доставила их к вокзалу Северных железных дорог. Там, проходя мимо телефона–автомата, Ваня остановился: — Надо позвонить Ремизову. — Это необходимо? — спросила Ольга, не оборачиваясь. — Да. Их может быть много, а я один… Кроме того… я боюсь, что не сумею все сделать, как надо. — Тогда звоните. Только скорее. Ване удалось быстро соединиться с Ремизовым и наспех рассказать ему положение дела. Он указал также адрес возможного местопребывания Пашкевича. — Поезжайте сейчас же вперед и ждите нас на станции, — был ответ Ремизова. Через несколько минут они уже мчались и вагоне электрического поезда. Ольга молчала. От холода и нервного возбуждения она дрожала, как в лихорадке. Ваня глядел на нее, и она казалась ему чужой и незнакомой, словно он видел ее в первый раз в жизни. Их совместная работа на Кавказе вспоминалась ему теперь как нечто далекое, давно прошедшее. Наконец поезд остановился у станции Клязьма, и Ваня с Ольгой вышли на мокрую и плохо освещенную платформу. Здесь надо было ждать Ремизова. Ольга села на скамейку, Ваня стал на краю платформы и смотрел вдаль, на разноцветные огни сигнализации. Из Москвы пришел поезд — Ремизова не было. Потом подъехал другой — то же самое, затем с шумом пронесся мимо станции поезд дальнего следования. Неожиданно Ольга вскочила: — Надо идти одним… Идемте скорее. Надо следить за домом… Ремизов сам нас найдет: это совсем близко отсюда, не доходя до моста… Идемте скорее, идемте! Ольга в нетерпении теребила Ваню за рукав. Ее возбуждение передалось Ване. Он решил дождаться следующего поезда, и, если Ремизов не приедет и на этот раз, идти одному к избушке сторожа, оставив для Ремизова записку у дежурного по станции. На следующем поезде Ремизова тоже не было, и Ваня с Ольгой пошли одни. Надо было идти по полотну железной дороги. Кругом стояла полная темнота, только поблескивали рельсы да впереди горели красные и зеленые огни светофоров. Ольга шла быстро, спотыкалась о шпалы, несколько раз падала, вставала и снова шла. Ваня следовал за ней. Так шагали они с полчаса. Затем она спустилась с полотна и пошла по еле заметной, очевидно, ей хорошо знакомой тропинке. Меж ветвей блеснул огонек. Это был домик железнодорожного сторожа. В одной из комнат горела керосиновая лампа. Ее желтый свет падал через окно наружу, освещая голые деревья и пустые грядки огорода. — Здесь, — сказала Ольга. Ваня присел на пенек. Ветер шумел и качал голые деревья. Так прошло некоторое время… Вдруг в сенях дома послышались шаги, дверь раскрылась, из нее вышел высокий человек с чемоданом в руках — это был Пашкевич. Ваня сразу узнал его. Ольга вскочила и решительно направилась ему навстречу. Возле нее стоял высокий старик–сторож… Пашкевич остолбенел. — Кто это? Ольга! Ты зачем сюда пришла? Чего тебе надо?! — Юрий! Отдай чертеж. Слышишь?.. Отдай сейчас же! — Не твое это дело!.. Нет у меня никакого чертежа. И вообще, я ничего не знаю. — Врешь! Ты все знаешь. Ты сказал им, где Другов спрятал чертеж. Отдай, отдай, умоляю тебя! — Ольга схватила Пашкевича за рукав. — Пошла прочь! Дура… Он резко оттолкнул Ольгу. Она упала. Пашкевич побежал по тропинке. — Стой! Стой! Останови его! — закричала Ольга и бросилась за Пашкевичем. Ваня тотчас же побежал за ней. Вдруг он заметил, что Пашкевич обернулся к ним лицом и как‑то странно присел. Вся поза его показалась Ване удивительно похожей на положение тигра перед прыжком. Ваню охватил ужас. — Назад, Ольга! — закричал он, но Ольга, казалось, не слышала. Яркое пламя блеснуло и осветило на мгновение тропинку, кустарник и мокрую землю. На фоне пламени Ваня увидел черный застывший силуэт Ольги. Резкий удар выстрела раскатился по лесу. Ольга упала на колени. Ваня бросился за Пашкевичем, убегавшим прямо через кусты, но споткнулся и упал. Когда он поднялся с земли, шум и треск сучков, производимый убегающим Пашкевичем, слышался уже издали. Ваня вновь двинулся вперед, раздвигая руками ветки, и вскоре вышел в поле. Вблизи никого не было. Он стал прислушиваться. Где‑то вдали лаяли собаки. Потом послышался шум проезжающего автомобиля. Ваня понял, что ему не найти Пашкевича, который, очевидно, прекрасно знал местность. Он вернулся обратно. Ольга сидела на пне, прижав руки к груди. Возле нее стоял высокий старик–сторож в полушубке, шапке, галошах на босу ногу и с фонарем в руках. Старик качал головой. — Ах, ты, господи… Экие вредные люди бывают на свете… В этакую девку и палить… Ольга попробовала встать, но ноги у нее подкосились, и она упала. Ване и старику пришлось нести ее в домик на руках. Там все уже переполошились. Дочь старика стояла с лампой на крыльце, ребятишки повскакивали с постелей и в одних рубашках толпились в прихожей. Ольгу положили на кровать в комнате, занимаемой до сих пор Пашкевичем. Грудь около левого плеча была прострелена, кровь сочилась из небольшой раны. Ваня приложил к груди мокрое полотенце. Старик позвонил по служебному телефону на станцию и сообщил обо всем случившемся. Ольга слабела с каждой минутой и то впадала в забытье, то начинала бредить. Ваня взглянул на Ольгу и вдруг с ужасом понял, что рана ее вовсе не пустяковая, и что она может даже умереть. Ольга страшно осунулась, глаза у нее ввалились, нос заострился. Она редко и тяжело дышала, при этом в груди у нее что‑то клокотало и хрипело. С каждым вздохом из раны с бульканьем вытекала кровь. Чтобы не слышать этого ужасного звука, Ваня выбежал в кухню, сел на лавку и зажал уши руками. — Отходит, — сказал старик и начал что‑то шептать. Ваня вышел во двор. В это время послышались шаги. Это были следователь Ремизов, Семенов и еще два агента. Ваня бросился к ним. — Пашкевич убил Ольгу и скрылся. Что же вы так запоздали! Ремизов хотел что‑то сказать, но, поглядев на Ваню, махнул рукой и вошел в дом. Ваня последовал за ним. Усталость, волнение и голод стали сказываться: он сел на табуретку возле натопленной печи и забылся тяжелым сном. Проснулся он от звука знакомого голоса: над ним склонился Ремизов. Ваня вскочил. При свете утренних сумерек лицо Ремизова казалось серым и мрачным. — Поймали Пашкевича? — Нет. Он, по–видимому, удрал на автомобиле. Его ждали сообщники. Но его поймают, будь спокоен. В доме было много народа; представители местной власти, милиция, врачи. Тело Ольги лежало, покрытое простыней. — Ах, если бы вы, Ремизов, пришли вовремя! — с горечью воскликнул Ваня, — Пашкевич тогда от нас бы не ушел! — Вы сами, Ваня, отчасти в этом виноваты. Вы мне сказали, что надо ехать до Тарасовки, а сами сошли у Клязьмы. Лучше рассказывайте, как все произошло. Ваня подробно обо всем рассказал Ремизову. — Я сегодня испортил все: и Ольга погибла, и тот верзила скрылся… и все из‑за меня, — грустно закончил Ваня. — Ну, не надо так отчаиваться. Только никогда не горячитесь в таких делах, — заметил Ремизов. — А верзила, как вы его называете, уже в наших руках. — Задержали? — Да. Семенов видел всю вашу проделку с остановкой эскалатора и проследил за верзилой. Тот поднялся вверх, сел на автобус, поехал до Курского вокзала, затем вернулся опять на площадь Маяковского и отправился на Казанский вокзал, там он взял билет до Ростова. Весь вечер он просидел в буфете, потом взял свои вещи из камеры хранения и хотел садиться на поезд, но тут мы его задержали. У него оказалось богатое уголовное прошлое. У них он работал за подручного: исполнял всякие щекотливые поручения, получая за это большое жалованье. Правда, он говорит, что не интересовался делами своих хозяев и не знает, кто они и куда собираются уехать, но кое‑что полезное мы от него все же узнали. Верные нити теперь в наших руках.НА ПОЛИГОНЕ
Ваня был глубоко потрясен трагической смертью Ольги. Первые дни он не находил себе места, работа валилась у него из рук. Он похудел и заметно осунулся. Тогда Другов поручил ему ответственное дело: контроль за производством цериевых горелок для снарядов. Ваня должен был проверять качество церия, следить за его прокаткой, за изготовлением цилиндров, проверять толщину вольфрамового покрытия и вес горелки. От тщательности контроля зависело качество снаряда, и Ваня с усердием принялся за работу. Это отвлекло его от мрачных мыслей, да и молодость взяла свое. Ваня успокоился, и улыбка снова стала появляться на его лице. Званцев продолжал опыты над распространением макшеевских лучей в различных средах, над их преломлением и отражением, что было необходимо для дальнейших расчетов. Ткеша был увлечен конструированием ручной гранаты, испускающей М–лучи. Идея создания гранаты принадлежала ему самому. Такая граната могла иметь большое военное значение, особенно при обороне. Радиус действия ее должен был быть не больше пятидесяти метров, дабы М–лучи не могли достигать своих же бойцов. Сам Другов занялся главным образом получением церия из ловчоритовых концентратов. Он сконструировал установку, обеспечивающую добычу этого металла в достаточном количестве. С тех пор, как четверо наших друзей во главе с профессором Друговым перенесли опыты над изобретением Макшеева в один из специальных институтов, дело значительно подвинулось вперед. Каждый был уверен, что теперь секрет изобретения надежно сохранен. В новой лаборатории работал военный инженер 2–го ранга Владимир Черкасов — племянник Другова. Черкасов кончил Артиллерийскую академию РККА с отличием и был большим знатоком баллистики. Брюнет лет тридцати, с веселым, красивым лицом, статной фигурой, живыми глазами, светящимися умом и энергией, Черкасов с большим интересом взялся за разработку чертежей снаряда. В качестве консультантов к этому делу были также привлечены видные профессора. Лаборатория института разработала несколько типов снарядов: трехдюймовый — для полевой артиллерии, с предельным радиусом действия в один километр, четырехдюймовый — для зенитных орудий, с радиусом действия в два километра, и шестидюймовый — для дальнобойных орудий типа «Канэ» и морских пушек, с радиусом действия в пять километров. Под предельным радиусом действия подразумевалась способность взрывать на этом расстоянии открыто лежащий винтовочный патрон. По конструкции снаряды напоминали шрапнель: такой же стакан с дистанционной трубкой и пороховой камерой у дна. Вместо пуль в снаряд закладывалась термитно–цериевая горелка с парашютом. При разрыве снаряда в воздухе горелка выбрасывается наружу, парашют раскрывается, а особый механизм должен зажечь термит. Теоретически подсчитали, что наилучший эффект должен получиться, если разрыв снаряда произойдет на высоте одной трети радиуса действия над ровной местностью и на половине радиуса над местностью пересеченной. Рано утром Другова разбудил звонок у входной двери. В квартиру ворвался Черкасов. — Одевайся, дядюшка, скорей! Сегодня на полигоне назначены опыты с твоими снарядами. — Да что ты, Володя! Разве можно будить старика ни свет ни заря и тащить его неизвестно куда! — забеспокоилась Екатерина Львовна. — Он и так не спал всю ночь… И не думай, пожалуйста, никуда ездить, Андрей Васильевич! — Ничего со мной не случится… Вот фуфаечку теплую надену… У тебя машина закрытая? — Закрытая. Профессор наскоро помылся, оделся и, покрепче запахнув шубу, торопливо сошел по лестнице. В машине сидели Ткеша и Званцев. Надо было спешить. Полигон находился за сто километров от города, а начало опытов было назначено на одиннадцать часов. Друзья имели в своем распоряжении всего два с половиной часа. Как только машина тронулась, все принялись за еду. Раскрыли корзиночку, заготовленную Званцевым, и достали оттуда булки и большой термос. Машина помчалась по улице Горького, затем мимо Белорусского вокзала, мимо стадиона «Динамо», Военно–воздушной академии, оставила позади себя завод имени Войкова, водный стадион, и вот вдали показалась звезда речного вокзала. Дальше путь лежал мимо полей, дач и огородов. Наконец автомобиль свернул с шоссейной дороги в лес, а через некоторое время остановился возле будки, у ограды из колючей проволоки. Здесь их уже ждали и тотчас же пропустили машину на полигон. Автомобиль остановился у небольшого каменного здания. Оттуда вышла группа артиллеристов и военных инженеров. Черкасов представил всех приехавших начальнику полигона и членам испытательной комиссии. — Очень рад познакомиться, — сказал начальник полигона, пожимая всем руки. — Итак, приступим к стрельбе. Здесь впереди, — указал он вдаль, — расположены патроны, снаряды, взрывчатые вещества в упаковке, без упаковки на поверхности земли, под землей на различной глубине и даже в бочках под водой. Орудия расположены там, в лесу, — вы их отсюда не увидите… Весь этот район, конечно, оцеплен усиленным нарядом пехоты и кавалерии. Я думаю, что здесь мы можем остановиться, отсюда все будет хорошо видно, — закончил он, когда все поднялись на невысокий холм. Опыты продолжались около пяти часов. За это время было произведено всего двенадцать выстрелов, так как после каждого выстрела нужно было заново размещать все взрываемые объекты. Каждый выстрел был триумфом для изобретателей. Всякий раз, как над ними с ревом проносился снаряд, сопровождаемый резким ударом орудийного выстрела, далеко впереди над полем появлялось белое круглое облачко, возле него тотчас же загоралась яркая звездочка, она плавно опускалась вниз, и вдруг, как по волшебству, в разных местах поля вздымались громадные клубы черного дыма, летели вверх земля, камни, осколки, щепки, и через несколько секунд раскатистый удар потрясал воздух. Особенно эффектен был последний выстрел по воздушным целям. Пустили свободным полетом подвесной аэростат, с привязанной к нему аэробомбой большого веса. Когда он поднялся вверх километра на три, вдогонку был послан снаряд. Высоко в небе появился беленький комочек ваты, затем яркая точка, и вдруг аэростат превратился в густое черное облако, охваченное пламенем, которое постепенно растаяло, не оставив после себя ничего. Зрелище было потрясающее. Начальник полигона горячо поздравил профессора и его друзей с успехом, — Скажите, — спросил Другов одного из членов комиссии, когда они шли по полю, — какое количество этих снарядов мы можем производить в настоящее время? — Само производство этих снарядов не представляет никаких трудностей, и мы можем их изготовлять в любом количестве. Все зависит от того, сколько церия сможет дать нам промышленность. — Ну, за церием дело не станет, — заметил Другов. — Сырья — фтористых солей редких земель — у нас очень много. На днях заканчивается монтаж нового большого аппарата, который даст возможность получать ежесуточно восемьдесят килограммов металлического церия. — Скажите, товарищ комкор, — снова заговорил Другов, — вы можете разыскать на полигоне остатки термитных горелок? — Конечно, — ответил комкор. — Надо бы собрать горелки и золу, оставшуюся после сгорания церия и термита, и обязательно уничтожить их. Анализ золы может отчасти раскрыть наш секрет. — Не беспокойтесь, профессор. Это уже предусмотрено. Друзья распрощались с членами комиссии и двинулись в обратный путь.КЛУБОК РАЗМАТЫВАЕТСЯ
Газеты сообщали большую новость. На наших границах враг затеял очередную крупную провокацию. В телеграмме ТАСС говорилось: «…Несмотря на численное превосходство противника, наши пограничные части отразили ряд атак противника, пытавшегося захватить высоту „N", что в 30 километрах к западу от города „М". Бои продолжаются…» На следующий день за утренним чаем Ваня развернул только что полученную газету. — Ну, что нового? — спросил Званцев. — Назревают крупные события. Вот официальное сообщение: «Вчера наш полпред посетил министра иностранных дел, господина Б., и заявил решительный протест против провокационного нападения частей регулярной армии их государства на наши пограничные посты. Господин Б. сказал, что не имеет достаточной информации по этому вопросу и затрудняется дать немедленный ответ по поводу нашего протеста». — Замечательно, как плохо бывают информированы эти господа дипломаты! — воскликнул Ткеша. — Враги тщательно подготовили наступление и сразу ввели в действие большие силы. Ставка на неожиданность. Это преимущество всякого бандита. Не правда ли? Конечно, это только проба сил, авангардные бои, борьба за наиболее выгодные позиции. Наша задача, милый Ткеша, дать родине как можно скорее новое мощное оружие — лучи Макшеева. Ими мы отразим и покараем любого врага и сохраним родине тысячи жизней. — Верно, Сергей Ильич. Только я боюсь, как бы они сами не пустили в ход наши лучи, — выразил тревогу Ваня. — Будем надеяться, что этого не произойдет. Ремизов полагает, что Пашкевич со своими друзьями не успели пробраться за границу. Вряд ли переправлен и чертеж. — Ну, а как дела у Ремизова? Он сообщал что‑нибудь? — Да. Он мне звонил и говорил, что дела идут успешно. Обещал скоро известить… — Поскорей бы, — вздохнул Ваня. — Кстати, Ткеша, как идет работа с вашей ручной гранатой? — спросил инженер. — Готова, — ответил Ткеша и достал из портфеля свою гранату. — Я сделал всего три гранаты, — пояснил он, — две передал для испытаний, а одну принес показать вам. — И он, смущенный, протянул гранату Званцеву. — Она без капсюля, а потому безопасная. Капсюлечек я храню отдельно. Званцев осмотрел гранату, которая по виду ничем не отличалась от обыкновенной ручной гранаты бутылочной формы, применявшейся еще во время мировой империалистической войны. — А каков радиус ее действия? — спросил Званцев. — Я рассчитывал на пятьдесят метров… Испытания покажут. Я думаю… Телефонный звонок прервал Ткешу. Званцев взял трубку. — Здравствуйте, товарищ Ремизов… Слушаю, слушаю… — Инженер довольно долго молчал. Наконец он сказал: — Что ж, как всегда, я готов. Скажите, можно взять с нами Ткешу?.. Отлично, мы сейчас соберемся. До свидания. — Он положил трубку. — Что такое? — спросил взволнованный Ткеша. — Он предлагает мне и вам ехать в Великие Луки. По дороге обещал все объяснить. Вы не возражаете, Ткеша? Я за вас дал согласие. — Конечно, не возражаю! — Хорошо. Поезд отходит через полтора часа с Октябрьского вокзала. Мы поедем до станции Бологое, а там пересядем на другой поезд. — А вы, — обратился инженер к Ване, — останетесь здесь и поможете Андрею Васильевичу закончить работу. Сборы были недолгими. Званцев дал Ткеше полотенце, мыло и другие необходимые в дороге вещи, которые Ткеша уложил в свой портфель вместе с гранатой. Званцев дал ему также теплую фуфайку, шапку и шарф, так как на дворе стояла уже поздняя осень, и Ткешино драповое пальто было недостаточно теплым. Сам Званцев взял с собой только маленький чемоданчик, который, как это заметил Ткеша, был у него заранее уложен. Через полчаса они были уже на вокзале. В ресторане их ждали Ремизов, его помощник Семенов, еще три товарища в форме и… Елена Николаевна Савельева. — Решила пуститься в приключения, — сказала она, глядя на Званцева и протягивая ему с улыбкой руку. — Дочурку отправила к бабушке. И вот еду с вами. — Я попросил Елену Николаевну сопровождать нас, — вмешался в разговор Ремизов, — так как она единственный человек, который видел в лицо Лунца. Я очень рад, что она согласилась, хотя это путешествие не лишено опасности. — И вы не боитесь? — спросил Званцев Елену Николаевну. — Я не трусиха. А, кроме того, прошу помнить, что я дочь Макшеева. — Глаза ее стали серьезными, но губы по–прежнему улыбались. — Я никогда и не считал вас трусихой. Я знаю, что вы — храбрая женщина. А как же вы устроились с работой?.. — Мне дали отпуск на пять дней. Думаю, что этого времени хватит. — Товарищ Ремизов, но когда же вы откроете нам тайну этой поездки? — спросил Ткеша. — Позже, в вагоне. — Тогда, если никто не возражает, давайте выпьем чаю, — предложил Ткеша. Все уселись за один столик и заказали чай. Ресторан был полон народа. Это в большинстве были военные: летчики в кожаных пальто, артиллеристы, военные врачи, интенданты. Через полчаса подали поезд. Ткеша взял один чемоданчик Елены Николаевны; другой, маленький, с красным крестом на крышке, она взяла сама. — Что это у вас? — спросил Ткеша. — Дорожная аптечка. Я всегда беру ее с собой. Я ведь врач, а врач без аптечки — все равно, что солдат без ружья. Елена Николаевна улыбнулась. Черная шуба с каракулевым воротником и такая же шапочка очень шли к ней. Для путешественников было приготовлено отдельное купе в мягком вагоне. Все сняли верхнее платье и разместились на диванах. Поезд тронулся. Сквозь запотевшие окна замелькали яркие станционные фонари, колеса вагона застучали на стрелках, и поезд постепенно стал набирать скорость. Все уселись поудобнее и приготовились слушать Ремизова. Заперев дверь купе, Ремизов, наконец, заговорил. — Вы уже знаете, что допрос этого петлюровца — Жигуды — не принес ожидаемых результатов. Он был у них только «исполнителем» по части взломов, налетов, покушений. Показания он давал охотно, но о деятельности Лунца и компании сообщил немногое. Завербовал его года два назад тот самый человек, которого вы называете «белобрысым». Настоящее имя его Леопольд Радовец — это первые положительные данные, которые мы получили от Жигуды. Он клялся, что об убийстве профессора Макшеева ему ровно ничего не известно. Что же? Возможно, что это так… Утверждал, что нападение на вашу дачу, товарищ Званцев, было осуществлено под руководством Радовца. Попутно признался, что в сентябре 1938 года им было произведено ограбление сберегательной кассы в городе Ромнах… а осенью 1933 года, когда был убит Макшеев, он под фамилией Лучникова служил кладовщиком на сахарном заводе на станции «Смела», откуда, после растраты, скрылся. Все это подтвердилось. Как видите, это старый уголовник, так что приходится верить, что он был в этой банде только «техническим работником». Радовец откуда‑то узнал о его прошлом, специально съездил за ним в Ромны, без особого труда склонил принять предложение, привез в Москву, достал ему подложный паспорт на имя Коваленко и устроил счетоводом на 140 рублей в месяц в домоуправление дома, где жил сам. К этому он приплачивал от себя тысячу рублей. Так что Жигуда не мог жаловаться на свое положение. Сам «хозяин» служил переводчиком в одном из московских научных учреждений. Я не стану его здесь называть. Он занимал маленькую комнату в подвальном этаже большого дома на Брестской улице. Жил бедно. — Конечно, нечего говорить, что на этой квартире мы его не застали и что обыск не дал никаких результатов. Складная кровать, конторский стол, несколько стульев, этажерка с книгами, комод с бельем — вот почти все, что мы нашли в его комнате. — Выяснилось, что он исчез в день ареста Жигуды, за несколько часов до убийства Ольги Пермяковой — ушел из дому с чемоданом в руках и больше не возвращался. — Жигуда также показал, что Радовец несколько раз уезжал из Москвы на четыре–пять дней, причем всегда со Ржевского вокзала. Это — второе ценное показание… Очевидно, где‑то недалеко от Москвы у них была запасная квартира. Но где? Тут нам опять помог Жигуда. Он показал, что Радовец и Лунц очень интересовались справочником по обмену жилой площади. Это внимание к жилищному вопросу поразило Жигуду, хотя он и не вникал в дела Радовца. Вспомним, что Пермякова тоже отметила повышенное внимание Пашкевича к этому справочнику. Несколько номеров его было найдено при обыске в комнате Пашкевича. Мы поняли тогда, что справочники по обмену жилой площади должны играть особую роль во всей этой истории. Тщательно изучив номера справочника за этот год, мы нашли три очень интересных объявления. Ремизов достал с полки свой портфель и вынул из него несколько экземпляров справочника адресов по обмену жилплощади. Он раскрыл один из них на разделе «2 комнаты на 1–2 комнаты» и показал на объявление, отмеченное красным карандашом. Все с интересом стали его рассматривать. «9/345. Пред. 2 комн. 25 + 25 кв. м., дер. особн., лич. тел., гол, отоп. Первомайский район, Вал Золоторожский, 15, спр. Лунц. Треб. 1 ком., газ., р–н Арбата, не выше 4 эт., изолир., центр., удобств.» — Чем же интересно это объявление? — с некоторым разочарованием спросил Ткеша. — Кто‑то имеет на окраине излишнюю площадь в деревянном доме, без удобств, и хочет обменять ее на меньшую с удобствами и в центре. Это вполне естественно. — А некажутся ли вам самый слог и расстановка слов несколько странными, особенно в конце? — спросил Ремизов. — В объявлении есть лишние слова. Например, Первомайский район, это лишняя подробность. В конце объявления есть слово: «центр». Что оно означает? Непонятно. Все это и без фамилии Лунца было бы достаточно подозрительным. Мы, конечно, проверили адрес. Он оказался ложным: на Золоторожском валу дом № 15 каменный, а не деревянный, и никакой Лунц там не проживает. Под скромным объявлением об обмене комнатами кроется гнусное предложение. Вот смотрите: возьмем по одной или по две первые буквы из каждого слога и выкинем лишние слова, вставленные для сохранения смысла. Ремизов выписал буквы на полях справочника. Друзья прочитали: «Предлагаю 25 + 25 дол. отправ. за границу». — Вот негодяй! — воскликнул Ткеша. — Да, это похоже на правду, — сказал Званцев. — Только, признаться, непонятно, почему Лунц дал свою фамилию? — Надо было предъявить паспорт, а другого у него не было: ведь этот справочник издан в июле, то есть до похищения вашего паспорта. Ремизов перевернул страницу и показал заглавный лист справочника. Там стояло: «Справочник по обмену адресов жилплощади. № 31, 8 июля». — Постойте, — воскликнул Ткеша, — стало быть, этот номер вышел в свет за четыре дня до визита Пашкевича к вам на дачу, Сергей Ильич. Пашкевич был ранен двенадцатого июля… я отлично помню. Нет ли здесь какой‑нибудь связи? — Есть. Мы так и должны рассматривать это предложение как оценку вашего секрета, — ответил Ремизов. — Дешево же продал нас Пашкевич! — Погодите. После того как Пашкевич на собственной шкуре убедился в действии ваших лучей, цена поднялась ровно в шесть раз. Вот смотрите. И Ремизов показал другой номер справочника адресов по обмену жилплощади от 1 августа. Там, на четвертой странице, было очерчено красным карандашом такое объявление: «428. Предл. 1 ком. 14 кв. м., солн. отопл. гол., лифт; Арбат Староконюшенный, 7, кв. 22, Званцев. Треб. большая площ., Таганский р–н, изолир., солнечн., телеф. обяз.» — Можно мне попробовать разобраться? — спросил Ткеша. Он выписал первые буквы всех слов и получил следующий ряд: пкхмсогласкз тбп триста… Подумав немного, он прочел: — Соглас… тристо… То есть согласен триста тысяч долларов. Здорово! А? Какова цена! По семьдесят пять тысяч за брата. Все засмеялись… — Это ужасно мерзко, — сказала Елена Николаевна, — вот так же, быть может, они купили и жизнь моего отца. — Едва ли, впрочем, — продолжал Ремизов, — Пашкевич получил эту сумму, да и получит ли он ее вообще когда‑нибудь. Из его письма мы знаем, что они не заплатили ему всего обещанного. Надежда на честное слово этих господ плоха. Обратимся теперь к последнему выпуску справочника от девятнадцатого октября. Этот выпуск сейчас интересует нас больше всего. Посмотрите объявление в разделе «иногородние». Друзья склонились над справочником. «Великие Луки. 9/344. Предлаг. Изол. квар. 30 кв. м. с кух., электр., отопл. гол. Великие Луки. Первомайская ул., 13, сообщ. Москва, 6 п/о, до востр. Званцеву С. И. Треб. Срочно 1 ком. в Москве 10–22 кв. м.» — Это адрес явочной квартиры! — не удержался Ткеша. — Конечно. Только так и нужно понимать это объявление. Здесь указан адрес, по которому кто‑то должен явиться… Но обратите внимание и на последние две цифры: комната требуется от десяти до двадцати двух квадратных метров. Какая странная точность. В чем же тут дело? — Это дата явки, — сказал Званцев. — Двадцать второе октября. — Именно так. Двадцать второе октября, а сегодня двадцать первое; значит, явка назначена на завтра… Может быть, сейчас еще кто‑нибудь, кроме нас, спешит в Великие Луки. Вот почему я вас повез туда по Октябрьской дороге с пересадкой в Бологом, а не по Ржевской — прямым сообщением. — Теперь проинструктируйте нас, как нам вести себя, что нам нужно будет делать, — попросил Ткеша. — Да ничего особенного… все дело мы возьмем на себя… Вас, признаюсь, мы захватили с собой на тот случай, если надо будет опознать их на улице или на вокзале. Ведь мы имеем фотографию только одного Пашкевича. — Теперь многое стало ясным, — оказал Званцев, — но многое еще осталось в тени. Как Пашкевич сошелся с Радовцем? Откуда он узнал об открытии Макшеева? Как пронюхал, что эта тайна у нас в руках?.. — Конечно, этого мы еще не знаем… Но надо надеяться, что, в конце концов, докопаемся и до этого. Все замолчали. Званцев вышел из купе покурить трубку. Коридор был ярко освещен. Там было холодно и пусто. Вагон тихо покачивался под мерный стук колес. Званцев вышел на площадку и стал смотреть в окно. Пятна желтоватого света, падающего из окон вагонов, бежали вдоль железнодорожного полотна по черной земле. Они то поднимались по выемке, и тогда казалось, что поезд едет внутри темного тоннеля, то убегали вниз по откосам насыпи, освещая редкий лесок и голый кустарник, покрытый инеем. Дальше кругом, за пределами этих светлых пятен, была густая, непроглядная темнота. Проехали, не останавливаясь, какую‑то маленькую станцию… Прошел по вагонам кондуктор с фонарем. Трубка давно уже была докурена. Наконец, прозябнув, Званцев вернулся в купе. Там было уже темно: светилась только ночная фиолетовая лампочка. Все улеглись спать. Елена Николаевна спала на диване, укрывшись шубой. Ткеша и Ремизов лежали на верхних полках. Было уже около полуночи. До станции Бологое оставалось не более двух часов пути. В девять часов утра поезд прибыл на станцию Великие Луки. На платформе толпились пассажиры, бойко торговали ларьки и поодаль стояла очередь за кипятком. Станция выглядела оживленной, шумной. Наших путешественников здесь уже ожидали. Через несколько минут Ремизов и его спутники сидели в одной из служебных комнат вокзала. — Итак, решено, — говорил Ремизов, только что совещавшийся с представителями местных органов НКВД. — Мы берем на себя все хлопоты, связанные с Первомайской улицей. Вам я хочу поручить наблюдение за шоссейной дорогой… Она проходит вон там… сейчас же за главной стрелкой. Если вы заметите здесь среди проезжающих подозрительных лиц, вроде Радовца или членов его шайки, тотчас же сообщите лейтенанту, он сегодня дежурный по станции. — И Ремизов представил Званцеву и всем остальным лейтенанта государственной безопасности. — Чтобы вам было удобнее следить за дорогой, — продолжал Ремизов, — там будет стоять машина. В случае надобности вы можете ею воспользоваться. Шоссейная дорога пересекала железнодорожное полотно в двухстах метрах от станции. Во дворе небольшого домика у самой дороги стоял большой открытый автомобиль. Шофер сидел за рулем. Друзья решили организовать наблюдение таким образом: Званцев и Елена Николаевна следят за дорогой, а Ткеша должен был держать связь между дорогой и станцией. Чемоданы, портфели и остальные вещи сложили в машину. Ремизов повторил еще раз свои наставления и ушел. Дежурство началось. Елена Николаевна заняла место на пеньке возле дороги. Званцев пошел на станцию, потолкался в толпе, зашел в битком набитый зал для ожидания и в буфет, полный посетителей. Затем он сменил Елену Николаевну, чтобы та могла поесть и выпить стакан чаю. Время тянулось медленно. Так прошло несколько часов. За это время прибыло еще два поезда. На платформу высыпали пассажиры, у кипятильника снова выстраивалась очередь… Затем поезд отходил, и опять воцарялась тишина. Ничего подозрительного до сих пор не было замечено. Все с нетерпением ждали известий от Ремизова. Около трех часов дня друзья решили пойти обедать. Отпустили также и шофера. Обедали по очереди. Званцев был последним, и не успел он поесть второе, как в буфет ворвался бледный, запыхавшийся Ткеша. — Скорее, скорее… Он проехал… в военной форме, — зашептал Ткеша. — Кто проехал? Что такое? — Лунц! Она его узнала. Скорее! — Сообщите дежурному! — на ходу бросил Званцев Ткеше и побежал к шоссе. Елена Николаевна отворяла ворота. Она была взволнована. Что делать, шофер еще не вернулся, а медлить нельзя ни одной минуты! Нам надо выследить его. — Обойдемся без шофера. Я умею управлять автомобилем и как‑нибудь справлюсь с этой машиной, — сказал Званцев, который и в самом деле был неплохим автомобилистом–любителем. Он сел за руль, нажал кнопку, стартера и вывел машину на дорогу. Елена Николаевна поместилась на заднем сиденье. — Лунц проехал здесь не более десяти минут назад. Мы его безусловно догоним! — нервно заговорила она. В это время подбежал Ткеша и на ходу вскочил в автомобиль. — Обо всем доложено, — сказал он, еле переводя дыхание. — Приказано не терять машины из виду. Званцев дал полный газ, и автомобиль помчался по шоссе. Уже через несколько минут езды к Званцеву вернулась былая уверенность в управлении автомобилем. Он развил полную скорость. Сильный ветер бил в лицо. Прямая, как стрела, дорога бежала навстречу. Кусты и деревья мелькали по обеим ее сторонам и казались сплошной стеной. Но впереди не было видно никакого автомобиля. Миновали мост через речку Ловать, не сбавляя хода, обогнали медленно двигавшийся по шоссе крестьянский обоз. Затем им пришлось обгонять колонну грузовых машин. Так прошло с полчаса, и, следовательно, не менее сорока километров отделяло теперь наших друзей от Великих Лук. Характер местности изменился. Дорога то подымалась петлями на невысокие холмы, то вновь спускалась в поросшие мелким лесом низины. Ткеша зорко оглядывал лежащую перед ним дорогу. Вдали, на подъеме, показался автомобиль. — Вот он! — закричал Ткеша. Лунц, по–видимому, понял, что его выслеживают, и развил предельную скорость. Началась погоня. Мотор машины Званцева работал прекрасно. Сначала расстояние между ним и Лунцем оставалось неизменным. Потом, когда дорога пошла под уклон, Званцев стал нагонять его. Видно было, как на поворотах Лунц оборачивался и глядел назад. Но вот дорога пошла снова вверх, и автомобиль Званцева начал отставать. Когда он поднялся на возвышенность, машина Лунца виднелась далеко впереди. Званцев снова стал набирать скорость. Его охватил азарт охотника: скорее, скорее вперед… Догнать во что бы то ни стало! Он тщательно отрегулировал опережение зажигания. Дорога впереди была ровная и прямая, и расстояние между ними стало понемногу уменьшаться. Через несколько минут обе машины разделяло не более четверти километра. Однако дорога сделала насколько поворотов, вступила в лесок, и автомобиль Лунца скрылся из виду. Званцев стиснул зубы и, вцепившись руками в баранку, не отводил взгляда от дороги. Движения его были уверенны и точны. Дорога стала петлять. Начался подъем. Званцев сбавил ход. Неожиданно лес кончился, и перед путниками открылась обширная панорама. Впереди лежала долина, поросшая леском и мелким кустарником. Ее перерезала узенькая полоска реки. Вдали, в вечерних сумерках, виднелось большое село. Окна домов отражали красноватые отблески заходящего солнца. Шоссе шло зигзагами вниз. Вдруг Ткеша закричал: — Смотрите… смотрите! Впереди, примерно в одном километре, у края дороги стояла машина Лунца. — Что же это? Поломка? Бензин кончился?.. Расстояние между машинами быстро сокращалось, и Званцев начал убавлять ход. Держа одной рукой руль, он достал из кармана браунинг. Ткеша не мог оторвать глаз от врага. Он ясно видел, как Лунц обернулся, и вдруг оттуда заблестели вспышки выстрелов. Вокруг Ткеши что‑то зажужжало, и на переднем стекло автомобиля появилось несколько круглых дырочек. Званцев как‑то странно взмахнул правой рукой и опустился на руль. Он успел потянуть на себя тормозной рычаг, и машина остановилось. От резкого торможения автомобиль занесло, и он встал поперек дороги. Званцев вышел из машины, но тут же споткнулся и сел на землю. Правая рука его болталась, как плеть. — Не упускайте Лунца! — крикнул он Ткеше. Но Лунц в это время был уже за рулем, и его автомобиль, оставляя за собой облачко дыма, покатился вниз по дороге. Бешеная злоба овладела Ткешей. — Постой же. Ты не уйдешь, голубчик, не уйдешь! — пробормотал он. Ткеша вспомнил о своей гранате. Он вернулся к автомобилю, схватил портфель, достал из него гранату, вставил капсюль, открыл предохранительную задвижку и побежал вниз, под откос, наперерез пути, по которому должен был проехать Лунц. В этот момент машина Лунца появилась из‑за поворота. Ткеша с яростью метнул гранату. Она вспыхнула на лету и, упав метрах в сорока от него, продолжала гореть на земле. Ткеша впился взглядом в бешено несущийся невдалеке автомобиль, за рулем которого, пригнувшись, сидел ненавистный враг. Внезапно из‑под автомобиля вырвалось яркое пламя. Он подскочил вверх задними колесами и, перевернувшись в воздухе, покатился под откос. Клубы черного дыма поднялись над тем местом, где упала машина. Ткеша остолбенел… Страшное зрелище поразило его… Потом он ужаснулся… А как их автомобиль? Он ведь тоже мог взлететь на воздух? Ткеша обернулся и с облегчением вздохнул. Автомобиль стоял невредимый. Он побежал обратно к своей машине. Когда он подошел, Елена Николаевна безуспешно пыталась поднять Званцева. — Да помогите же мне! Он ранен, понимаете, ранен! — с отчаянием крикнула она. Званцев сидел на подножке машины. — Ничего, пустяки, — говорил он слабым голосом. Ткеша бросился на помощь Елене Николаевне. Она достала свою аптечку, приготовила инструменты и медикаменты и спокойным голосом приказала Ткеше: — Полейте мне на руки спирт. Так. Дайте вату. Протрите и себе руки. Разрежьте рубашку. Вот так. Достаньте пузырек с йодом. Теперь придержите здесь бинт. Нет, рана не смертельная, — ответила она на немой вопрос Ткеши, — опасна только потеря крови. Одна из пуль, выпущенных Лунцем из автомата, попала Званцеву в правое плечо немного ниже ключицы. Раненому была наложена повязка по всем правилам, его укутали в плед и уложили в автомобиле. От потери крови Званцев сильно ослаб. — Где Лунц? — тихо спросил он Ткешу. — Удрал? — Нет, Сергей Ильич. Я взорвал его автомобиль своей гранатой, и он, наверное, погиб. Званцев улыбнулся. — Молодец, Ткеша, — прошептали его губы. — Тише, ему нельзя разговаривать, — вмешалась Елена Николаевна. — Нам нужно скорее доставить его в село… Вы, Ткеша, можете довезти? — Я не умею управлять машиной, — смущенно ответил Ткеша. Но, будь он даже самым искусным шофером, о пуске мотора нечего было и думать. Радиатор был пробит в нескольких местах. Вода вытекла, и по луже расползались капли масла. — Лучше я пойду в село и приведу помощь, — предложил Ткеша. — А дойдете? Скоро будет темно, — неуверенно спросила Елена Николаевна. — Дойду. Ничего другого ведь не придумаешь. Ткеша застегнул пальто и двинулся по направлению к селу. Проходя мимо остатков лунцевского автомобиля, он остановился. Остов машины лежал вверх колесами. Отвратительный запах горелой резины и масла распространялся вокруг. Несмотря на все пережитое, Ткеша почувствовал себя удовлетворенным: предателю не удалось ускользнуть. Ткеша зашагал к селу. Совсем стемнело. На небе зажглись звезды. Елена Николаевна с трудом подняла брезентовый верх автомобиля, укутала раненого шубой и села возле него. Званцев был в полузабытье и, как ребенок, не выпускал ее руки из своих горячих рук. Было тихо, лишь со стороны села доносился лай собак. Прошло не более получаса. Вдруг послышался треск мотора. Яркий луч осветил дорогу, и к автомобилю подъехал мотоциклет. Это был помощник Ремизова — Семенов, посланный вдогонку за Званцевым. Узнав обо всем случившемся, он тотчас же кинулся к месту катастрофы автомобиля Лунца. Пока Семенов возился, разбирая обломки, издали стал доноситься стук копыт, скрип колес и голоса людей. Звуки постепенно приближались, и, наконец, подкатила подвода. Это был Ткеша, местный врач и еще пятеро колхозников. В одну минуту развернули машину, впрягли запасных лошадей. Ткеша сел за руль. Один из колхозников поместился в качестве кучера рядом с ним. Автомобиль покатил по дороге. Через час они были в селе, и Званцева немедленно поместили в местную больницу. Поздно вечером из Великих Лук приехал Ремизов. Он сообщил, что там удалось схватить некоего фармацевта Зборовича, державшего явочную квартиру, и еще нескольких подозрительных лиц, но ни Радовца, ни Пашкевича среди них не оказалось. Им каким‑то образом удалось ускользнуть из облавы. — Впрочем, — говорил Ремизов, — возможно, что ни Пашкевич, ни Радовец вовсе и не приезжали в Великие Луки. Как видите, результат нашей операции не столь блестящий. Вы сделали больше, товарищ Ткешелошвили, и я хочу вам выразить особую благодарность. А вот и подарок. — Ремизов достал из портфеля папку, раскрыл ее и осторожно вынул из него остатки обгоревшей полотняной кальки. — Это обнаружил Семенов, копаясь в автомобиле Лунца, смотрите. Ткеша радостно вскрикнул, узнав похищенный чертеж. — А!.. Наш чертеж… Он самый. Да, да… он самый. Наконец‑то! И он тут же побежал рассказать об этом Званцеву. — Не хочется его огорчать, — сказал Ремизов Семенову, — но боюсь, что с чертежа сняты копии. И кто знает, где они находятся? Они, конечно, обязательно сфотографировали столь важный документ. Вечером Ремизов и Семенов отправились на аэродром, чтобы лететь в Москву.У РУБЕЖЕЙ
Ранним утром с Н–ской пограничной заставы выехала группа конных пограничников под командой лейтенанта Кокшаева. Ему было поручено усилить охрану границы и тщательно обследовать приграничную полосу на протяжении 20–30 километров. Густые леса, болота и многочисленные овраги делали эту местность труднопроходимой, но на заставе получили сообщение, что именно на этом участке следует ожидать «гостей», которые будут пытаться перейти границу. В полевой книжке Кокшаева было записано: «Радовец, Пашкевич… Крупные диверсанты. Приметы…» Лошади шли рысью. Копыта лошадей гулко стучали по мерзлой земле. Проехали поле, свернули в мелкий кустарник и въехали в лес. Кругом было тихо. На земле, покрытой свежим снежком, отчетливо виднелись многочисленные следы зайцев. Пограничники медленно пробивались вперед. Спустились в овраг, по сторонам которого свисали корни вековых сосен. Они образовывали в откосах оврага пещеры, в которых легко могло бы спрятаться целое семейство медведей. Кокшаев внимательно осмотрел каждый уголок, но ничего подозрительного не обнаружил. Дальше шли болота. — Шагурин, через болото пройдем? — спросил лейтенант своего отделенного командира. — Вряд ли, товарищ командир. Еще не подмерзло совсем. Взвод остановился. — А все‑таки, — сказал Кокшаев, — надо двигаться дальше. Бойцы спешились и пошли вперед, ощупывая почву жердями. Лошадей вели на поводу. Кругом были только кочки да сухая осока, запорошенная снегом. Так прошли километра два. Снова начался лес. Еле заметная тропинка привела к выжженной полянке, заваленной золой и кучами валежника. На полянке стояла полуразвалившаяся лачуга. — Здесь жгут уголь, товарищ командир, и летом живут угольщики, — доложил Шагурин. — Посмотрим… Э! да тут были гости! — воскликнул Кокшаев, указывая на утоптанный около лачуги снег. Все внутри лачуги говорило о том, что здесь недавно были люди: солома на топчане была смята, на грубо сколоченном столе валялись крошки и кусок хлеба. В дверь вбежал один из бойцов. — Товарищ командир, нашли убитого. — Убитого? Где? — Да здесь вот рядом. Лейтенант вышел из лачуги. Неподалеку, в кустах, лежал человек в пальто, без шапки и со странно согнутой головой и раскинутыми руками. Кокшаев нагнулся над убитым. Лицо его было залито кровью; открытые глаза остекленели. — Так. Убит он не более пяти–шести часов назад, — проговорил Кокшаев. Бойцы осмотрели труп. Пуля большого калибра, по–видимому, из автоматического пистолета, ударила прямо в затылок и разворотила весь череп. Щегольской костюм и пальто тоже были залиты кровью. На руке убитого были золотые часы, в карманах — серебряный портсигар, платок, автоматическая ручка и большая записная книжка в красном кожаном переплете. Больше ничего на убитом не нашли. Кокшаев раскрыл записную книжку. На первой странице стояло: «Пашкевич Ю. С.». — Вот так история. Его‑то нам и нужно было! — воскликнул лейтенант. В это время подошел Шагурин. — Товарищ командир, здесь следы… Они идут по кочкам… Кокшаев быстро отдал распоряжения: бойцам Лютикову и Орбельяни оставаться у трупа. Шагурину идти по следу, а остальным бойцам — в обход, наперерез нарушителю границы.ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
Званцев быстро поправлялся. Крепкий организм и хороший уход делали свое дело. Елена Николаевна не оставляла его ни на минуту. Она выписала свою дочь, так как не хотела надолго оставлять ее одну. Ирина быстро освоилась в новой обстановке. Она часами просиживала в палате у Званцева и очень подружилась с ним. Девочка рассказывала Званцеву о своих школьных делах, о подругах, о том, что она обязательно будет врачом, «как мама». — А у вас есть сестра, Сергей Ильич? — однажды спросила Ирина. — Нет, Ирочка, у меня нет сестры и никогда не было. — У меня тоже нет, и это скучно. А у больших обыкновенно вместо сестры бывает жена… Званцев засмеялся и поцеловал девочку в голову. — Ира, там, на столе, лежит моя трубка и табак. Выбей‑ка из трубки золу. Так. Теперь набей ее табаком. Покрепче… Хорошо. А теперь зажги спичку и дай мне закурить. Званцев вдохнул ароматный дым. После ранения он курил в первый раз. — Ируся, — заговорил Званцев, — ты бы хотела, чтобы я был твоим папой? — Мамочка уже спрашивала меня об этом, и я ей сказала, что, конечно, хотела бы. Сергей Ильич еще раз поцеловал девочку. Вошел Ткеша. Он поздоровался со Званцевым и сел возле кровати. — Холодно, Сергей Ильич… Скоро будет зима. А у нас дома сейчас совсем тепло. Вы были когда‑нибудь в Тбилиси? — Был. Давно только. Помню, стояли весенние ночи, цвела черешня. — Сергей Ильич, приезжайте к нам в Тбилиси. У меня там мать. Вот поправитесь!СНОВА В МОСКВЕ
В первой половине ноября Званцев и Елена Николаевна с дочкой вернулись в Москву. Званцев уже вставал с постели. В Москве Званцева ждала еще одна радость: Ремизов сообщил, что Радовец попался. Фотография злополучного чертежа, записки и другие документы были найдены при нем. Узнал Званцев и о смерти Пашкевича, убитого своим сообщником. Обо всем этом ему рассказали Ваня и Ткеша на следующий же день после его приезда. — Понимаете, Сергей Ильич, — говорил Ваня возбужденно, — они вдвоем заночевали в избушке угольщиков… на болоте. Этот Радовец, по–видимому, очень хорошо знал местность… Он убил Пашкевича наповал выстрелом из револьвера. Поссорились ли они, или Радовец просто решил избавиться от лишнего свидетеля, сказать трудно. Наши пограничники, через шесть часов приехавшие на место происшествия, напали на след. Догнали‑таки… Радовец начал отстреливаться. Ранил одного бойца. Потом попал в трясину, его и вытащили оттуда. Все нашли: и наши чертежи, и еще какие‑то бумаги. — Ну вот и отлично. Я очень рад, — говорил Званцев. — Как будто какая‑то тяжесть с плеч свалилась. А как Андрей Васильевич? — Он счастлив! Поет все время и даже помолодел. Через полчаса пришел и сам Другов. Он действительно выглядел помолодевшим. Другов и Званцев крепко обнялись. — Ну, вы совсем молодцом выглядите! — воскликнул Другов. — Ваня, конечно, все уже рассказал вам? А у меня есть еще интересные новости, — добавил профессор после небольшой паузы. — Что такое? Да вы садитесь, Андрей Васильевич. Профессор сел на стул и достал из кармана толстый пакет. — Вот, — сказал он, — сегодня получил от Ремизова. И он вынул из пакета записную книжку в красном кожаном переплете. — Это нашли в кармане у Пашкевича после его смерти, — объявил он. Все оживились. — Интересно узнать, что содержит посмертный документ этого негодяя, — сказал Ваня. — Сейчас узнаете, — ответил Другов. Он окинул взглядом всех присутствующих и раскрыл книжечку. — Тут — целый дневник, — сказал он, — чего только нет. Вот это, например, нас касается: «Двенадцатого апреля. Получил приглашение ехать на Кавказ с партией Другова. Условия подходящие: оклад 800 рублей и полевые. Местность чудесная. Дела будет не много, так что отдохну. Выезжаем 1 июня. Десятого мая. Опять бы у З. Договорились обо всем». — Дальше идут бессвязные записки. Зарисовка выходов кварцевой жилы… Разрез жилы по падению… «Седьмого июля. Получил из Тарасовки письмо. Конечно, просят денег. Послал двести. Надоели мне они до черта». Другов продолжал чтение: «Двадцать четвертого. С. И. нашел какой‑то зашифрованный документ. Не люблю я этого молчальника. Но документ, кажется, серьезный — может пригодиться». Другов остановился. — Здесь записи обрываются. Дальше идет уже о событиях в Москве. «Девятнадцатого сентября. Был у З. Состоялся серьезный разговор с Р. Десятого октября. Жребий брошен. Просил Званцева заменить меня на три дня. Пятнадцатого октября. Ничего не нашли. Р. говорит, что нас опередили… Вернее — все это чепуха… Досадно». — Дальше записи идут реже. Очевидно, Пашкевич охладел к своему дневнику, — заметил Другов. «Третьего мая. Познакомился с балериной М. Был с Ольгой на „Фигаро"». — А вот опять интересная запись: «Пятого июля. Ольга сообщила, что Званцев у себя на даче ведет какие‑то опыты. Странно. Этого нельзя оставить без внимания. Двадцать четвертого июля. Живу у жены. Я поступил крайне неосторожно, и вот приходится отлеживаться. Семнадцатого августа. Приходил Р. Их на даче постигла неудача. Четвертого сентября. Сделал Ольге предложение. Конечно, приняла. Теперь она ради меня способна на все. Седьмого сентября. Живу у сторожа. Дела идут блестяще». Другов остановился: — Дальше идет какая‑то геологическая сводка: эвдиалиты Кольских месторождений, запасы по всем категориям… Цирконы. Южные россыпи. Прииртышские месторождения… Тут идет полная сводка наших запасов по циркониевым минералам. — Разве он когда‑нибудь занимался цирконием? — спросил Званцев. — Насколько я знаю, нет. Дальше идет схема технологического процесса получения циркония из эвдиалита, разработанная в Институте редких металлов… Потом, смотрите, какая забавная запись: «Доставлено восьмого сентября в лабораторию Д. окиси циркония высокого качества полторы тонны». — Это когда мы изготовляли огнеупорные стаканчики, — вставил Ваня. — Но зачем это ему надо было, Андрей Васильевич? — Зачем? Я вам сейчас раскрою секрет, — и Другов с усмешкой поглядел на Ткешу. — Ткешенька, скажи мне, как пишется химический символ церия? — Латинские «пэ» и «э», — ответил Ткеша. — Правильно. А циркония? — «Зет» и «эр»… А почему вы меня об этом спрашиваете? — удивился Ткеша. — А вот почему. Помните, когда вы делали чертеж в кабинете у Сергея Ильича, вы изволили ошибиться, дорогой студент, и написать вместо символа церия символ циркония? Припоминаете? Затем, когда я вас как следует отругал, вы исправили надпись в одном чертеже, а на другом, который остался у нас и потом был похищен, вы забыли исправить надпись. Ткеша взволнованно встал из‑за стола. — А Пашкевич и этот Радовец, — продолжал профессор, — приняли вашу ошибку за чистую монету. В таком духе они и составили донесение своим хозяевам. Вот послушайте еще письмецо, которое нашли у Радовца. «Счастлив донести вам, что секрет передачи химического импульса на расстоянии, открытый в свое время Макшеевым и который вы так долго добивались получить, находится полностью в наших руках. Я уже имел честь сообщить вам, что практическое применение этой идеи разработал профессор Другов и его ученики. Это цилиндр из циркония, покрытый тонким слоем вольфрама и наполненный обыкновенным термитом. Цилиндр помещен в снаряд с дистанционной трубкой. Я имею точный чертеж снаряда, который передам вам лично. Шифр снаряда, принятый в Главном штабе МЦ, „сто двадцать шесть". Цилиндры изготовляются в лаборатория Другова; шифр — „К — двести семьдесят три". За три недели туда было доставлено четыре тонны окиси циркония, из которых можно получить примерно две тысячи шестьсот килограммов металла циркония, что должно хватить на пятьдесят две тысячи цилиндров. Снаряды наполняются в мастерской номер четыреста четырнадцать. Я имею все данные о геологических запасах циркония в России, а также о методах его извлечения. Завербованный мною поляк номер ноль сорок восемь, о котором я имел честь вам донести, оказал нам некоторую услугу. Впрочем, ассигнованную для него сумму можете отнести к экономии. Согласно параграфу двадцать четыре положения, тридцать процентов этой суммы прошу перечислить на мой счет. Сообщаю вам все это, чтобы можно было до моего приезда закупить цирконий самой высшей чистоты. Обыкновенные сорта не годятся. В будущем цена на него должна сильно возрасти». — На этом донесение кончается. Подписано оно: номер ноль двадцать два, район номер двадцать два, дробь десять. Прочтя письмо, Другов спрятал его в карман и весело расхохотался. Смеялись и остальные. — Как же это случилось? — Значит, я… — сказал, густо покраснев, Ткеша. — Да. Ошиблись… с пользой для нас. — Тебе бы еще чего‑нибудь напутать, — съязвил Ваня. — Совсем нельзя было бы догадаться. — А сам‑то! Ты сам тоже ведь ошибался. — Я у себя исправил… — Исправил! После того, как тебе показали. — Ну, ладно, не петушитесь, — улыбаясь, заметил Званцев. — Идемте, нас ждет обед. У Елены Николаевны давно уже все готово. Обед прошел очень весело. — Выходит, что номер двадцать второй ликвидировал номер сорок восьмой за тридцать процентов экономии… Прямо алгебра какая‑то, — смеясь, говорил Ткеша. — Вор у вора дубинку украл. — И фальшивую дубинку‑то, — заметил Ваня. — Значит, напрасно за ними гонялись? — спросила Елена Николаевна, глядя на мужа. — Никакими секретами они, собственно говоря, и не владели! — Нет, Елена, это не так, — ответил жене Званцев. — Они очень скоро обнаружили бы ошибку, после первых же неудачных опытов. Они ведь тоже не дурачки. Мы можем только радоваться, что и это письмо не попало им в руки. — Совершенно верно, — добавил Другов. — Но даже если бы они владели настоящим секретом, то и тогда не все еще было бы проиграно. Все устремили изумленные взгляды на Другова. — Да, друзья мои. Представьте себе, что враги нашей родины разгадали секрет и готовятся в случае войны применить это страшное оружие против нас. Разве мы не были бы подготовлены к тому, чтобы отразить и парализовать действие М–лучей? — Уж так и быть, — с улыбкой продолжал Другов, — я сообщу вам еще одну тайну. Это мы сообща работали над применением боевых лучей, а другие люди в институте упорно трудились над тем, как бы защититься от них… И с успехом трудились, результаты прямо‑таки поразительные. — Что же они предлагают, экраны из свинца? — спросил Ваня. — Ты, Ваня, всегда что‑нибудь скажешь не подумавши. Попробуйте покрыть толстым слоем свинца патронные и снарядные ящики, склады, подсумки. Какой вес получится! Нет, это невозможно. — Ну, так расскажите, Андрей Васильевич, нам все подробнее, — это очень интересно, — почти в один голос заговорили присутствующие. — Мне известен лишь самый принцип. Оказывается, что М–лучи хорошо отражаются некоторыми кристаллами… Так вот, товарищи, разрабатывающие защитные средства, нашли раствор, похожий на лак, из которого выпадают мельчайшие кристаллы сложной соли… Важно то, что кристаллы эти покрывают предмет сплошным слоем. Лучи от кристаллов рассеиваются, как от матового зеркала, и теряют свою активность. Понятно? Вот все, что мне известно. — Это замечательно! И так просто. — Выходит — нас же и опередили. — Да, пожалуй, что и так. Просто, а сами мы не додумались… Даже досадно. Званцев засмеялся. — Ну, огорчаться этим нечего. Нельзя до всего самим дойти. Надо и на долю других что‑нибудь оставить. В комнате темнело. Синие зимние сумерки глядели в окно. За окном мягкий, пушистый снег бесшумно падал на землю. И как‑то совсем неожиданно в комнате прозвучал телефонный звонок. Елена Николаевна подошла к телефону. — Да, это квартира Званцева. Что? Вам нужен профессор Другов? Другов взял трубку. С первых же слов лицо его приняло серьезное, озабоченное выражение. — Хорошо. Я сейчас же приеду. — Ну–с, друзья, — обратился он к сидевшим за столом, — меня по очень срочному и важному делу вызывают в Наркомат обороны. Я немедленно должен ехать. Подробности потом. Все встали и начали прощаться с профессором.БОЕВАЯ ПРОВЕРКА
Большой четырехмоторный самолет приземлился на полевом аэродроме в ста километрах от границы. Из кабины вылез пожилой человек в военной форме с петлицами военинженера 1–го ранга. За ним сошел на землю другой, также в форме. Это были профессор Другов и его племянник Черкасов. Они прибыли, чтобы принять личное участие при первом боевом применении М–снарядов. На борту самолета находились также два больших продолговатых ящика, в которых лежали унитарные патроны новых снарядов, похожие на огромные сигары. На каждом снаряде красовалась голубая буква «М». Проследив за разгрузкой самолета, Другов и Черкасов в сопровождении встретившего их адъютанта штаба дивизии отправились в помещение. — Ну, как идут наши дела, капитан? — спросил Другов у адъютанта. — Бьем, профессор. В долгу не остаемся. Правда, «сосед» не унимается. Лезет с остервенением. Сведения нашей разведки показывают, что враг снова концентрирует большие силы и готовится к боям крупного масштаба. — Выходит, что затеянный ими пограничный конфликт явился только предлогом — сказал Другов. — Да, это бесспорно. Но они сами же пожалеют об этом. Наше командование вчера получило приказ проучить их как следует. Вот увидите… — Прекрасно, капитан. Мы и сами кое в чем поможем. — И Другов весело взглянул на племянника. Было около одиннадцати часов утра, когда прилетевшие из Москвы, после легкого завтрака, заняли места в автомобиле. Машина быстро покатила по прекрасному асфальтированному шоссе. День был ясный, прохладный. Машина скоро нагнала колонну пехоты, двигающуюся в походном порядке. Шофер замедлил ход. Бойцы шли неторопливым, ровным шагом. Сапоги четко стучали по асфальту, и в такт им над головами бойцов колыхался лес штыков. Прибавили ходу и скоро нагнали ехавший шагом дивизион тяжелой артиллерии. Шестидюймовые гаубицы и дальнобойные пушки чередовались с зарядными ящиками и двуколками. Потом перегнали танковую часть. Машина поднялась на возвышенность, и тут Другов впервые обратил внимание на непрерывные глухие удары, приносимые ветром откуда‑то издалека… Точно где‑то вдали выбивали ковры. Звуки эти то усиливались, то замирали. — Пушечная канонада? — спросил Другов. Адъютант кивнул головой. Проехали еще несколько минут и поднялись на горку. Слева виднелся большой железнодорожный мост, и поблескивала широкая гладь реки. Адъютант распорядился замедлить ход. Нужно побывать у зенитчиков. Они здесь рядом. Автомобиль свернул с дороги и направился к копнам сена, которые при ближайшем рассмотрении оказались великолепно замаскированными палатками. В одной из них жили командир и комиссар батареи. Они встретили гостей чрезвычайно радушно. В разгар неприхотливого угощения в палатку вбежал связист и что‑то сказал командиру. Тот поспешно вышел вместе с адъютантом. Вскоре оба вернулись. Адъютант обратился к Другову: — Профессор, через четыре минуты здесь будут вражеские бомбардировщики. Хотите испробовать свои снаряды? Другов и Черкасов оживились. — Конечно, конечно, тащите скорей ящик сюда… Черкасов и два артиллериста побежали к автомобилю. Завыла сирена, подающая сигнал воздушной тревоги. Черкасов уже хлопотал возле большого ящика. Из него вынули четыре унитарных артиллерийских патрона, напоминающие патроны гигантской винтовки. Такими мирными, ручными выглядели снаряды, помеченные голубой буквой «М». Черкасов быстро установил дистанционную трубку на одном из снарядов. Двадцать семь вражеских двухмоторных бомбардировщиков летели правильным строем. На земле все притихло и замерло, точно под хищным взглядом ястреба. Воздух наполнился рокотом моторов. Враг, по–видимому, поставил себе целью разрушить важный в стратегическом отношении железнодорожный мост. Профессор искал глазами батарею, но ничего, кроме кустарника, вокруг себя не видел. Он хотел следить в бинокль за эскадрильей, но от волнения никак не мог поймать ее в поле зрения. Вдруг грянул резкий удар залпа зенитных орудий. У Другова зазвенело в ушах, он выронил бинокль и едва удержался на ногах. Батарея была буквально в десяти шагах от него. Другов знал, что до момента вспышки лучей должно пройти несколько секунд. Эти секунды казались ему вечностью… «Пора!.. Нет, еще рано!.. Теперь пора!.. Неужели не действуют снаряды?!. Нет, опыты были удачны… рано еще…$1 — проносилось у него в голове. Самолеты приближались к мосту… Вот–вот начнут метать, бомбы. «Неудача!!. Нет, не может быть», — думал в отчаянии Другов. Внезапно словно гигантская молния мелькнула среди самолетов. Бомбардировщики вдруг превратились в огненно–черные клубки, из которых градом посыпались на землю обломки. Другов, Черкасов, артиллеристы застыли, пораженные этим зрелищем. Прошло несколько секунд, и по небу прокатился глухой раскат грома. Это нарушило оцепенение. Земля сразу ожила: все вскочили на ноги, из кустов, канав, оврагов — отовсюду появились люди. Громкое радостное «ура» пронеслось над полем, никто не мог оторвать взоров от неба, где вместо вражеских бомбардировщиков осталось теперь только тающее облако дыма. Ликованию не было конца. Артиллеристы все еще не могли придти в себя от изумления. — Что за чертовщина?! Как же это могло случиться?! В чем тут дело?! — говорил командир батареи. — Да, уж такую чудесную штучку мы придумали, — говорил Другов, крепко пожимая ему обе руки. — Но ведь это совершенно потрясающее открытие?! — Да, пожалуй, это и так. Стемнело, когда Другов и его спутники тронулись в дальнейший путь к месту, где должна была находиться тяжелая артиллерия N–ского дивизиона. Ехать пришлось медленно. Фары были погашены, и только красные огоньки идущих впереди машин показывали дорогу. Шофер свернул вдоль железнодорожной линии. Вскоре из темноты выросло большое мрачное здание вокзала. Нигде не было видно света, только над входом тускло мерцала синяя лампочка. У входа в вокзал наших путешественников ждали военные; это был командир артиллерийского дивизиона, командир тяжелой батареи. Адъютант представил их друг другу. По взглядам своих новых знакомых и тому почтению, с которым они относились к нему, Андрей Васильевич понял, что им уже все известно относительно гибели вражеской эскадрильи. — Ну, как доехали? Все благополучно? — спросил командир дивизиона. — Спасибо, полковник, хорошо… Можно сказать, даже великолепно. Когда автомобиль разгрузили, полковник повел всех вдоль линии. Шли по шпалам. Тупик свернул в лесок. Минут через пять прошли мимо часовых. — Ну вот мы и дома, — сказал полковник. Другов увидел впереди нечто похожее на громадное допотопное чудовище. Это было дальнобойное орудие. На огромной, склепанной из стальных балок, шестиосной железнодорожной платформе стоял сложной конструкции лафет с целой системой рычагов и компрессоров. Длинный ствол лежал вдоль платформы, несколько маленьких электрических лампочек освещало механизмы, моторы, рукоятки и циферблаты измерительных приборов. — Да это целый завод! — воскликнул Другов. — Так оно и есть. Иначе и быть не может. Здесь все механизировано: и наводка орудия, и зарядка, и подача снарядов. У нас вон в том вагоне своя электростанция. — Наша батарея шестидюймовых дальнобойных орудий, — продолжал полковник, — стреляет на пятьдесят километров. — Сектор обстрела сейчас — это район города К. Там находятся артиллерийские склады всего укрепленного района, в котором укрылся враг. Кроме того, сейчас там скопилось множество артиллерийских парков и значительные массы пехоты, так как противник формирует сильную ударную группу для наступления на нас. Затем там же имеется аэродром и громадные запасы бензина. Этот городок находится отсюда в сорока трех километрах по прямой. Вот смотрите. — И полковник показал профессору карту, на которой была уже нанесена прицельная линия. — Сегодня, — продолжал полковник, — предстоит генеральное сражение. Общее наступление наших частей намечено на двадцать часов, то есть ровно через полчаса. Я имею приказание в девятнадцать сорок пять обстрелять привезенными вами снарядами район города К. У вас все готово, товарищ Другов? — Да, да, за нами задержки не будет, — ответил тот. Черкасов тут же вместе с командиром батареи проверил вычисление и установил дистанционную трубку снаряда. Командир дал знак. Механик подошел к пульту управления орудием и нажал кнопку. Моторы тихо зашумели, громадный ствол орудия стал медленно подыматься, одновременно поворачиваясь в сторону наводимой цели, и наконец остановился. Заработали другие моторы: замок орудия открылся, рычаги втолкнули в ствол снаряд и пороховой заряд, замок закрылся, и орудие стало готово к выстрелу. — Приготовиться, — сказал полковник, с трудом скрывая волнение. — Лейтенант Хрулев, тотчас же после выстрела сообщить в штаб армии… Профессор, я бы советовал вам открыть рот… Удар будет порядочный… Возбуждение росло. Другов едва переводил дух. Чтобы скрыть волнение, он отошел в сторону и стал глядеть на юг, куда сейчас должен полететь снаряд. Перед ним было темнее облачное небо, на котором непрерывно бегали бледные лучи прожекторов. 19 часов 45 минут. Яркий свет на мгновение осветил все кругом, и тотчас же глухой и тяжкий удар выстрелапотряс воздух. И снова наступила тьма. Издали доносился слабеющий рев улетающего снаряда. Все смотрели на юг. Полковник с секундомером в руках ждал результатов выстрела. Другов чувствовал, что сердце его готово выскочить из груди. — Двадцать секунд, — громко сказал полковник. «Еще рано, — подумал профессор, — снаряд еще не долетел». — Сорок секунд… Другов напряженно глядел вдаль. Там все было спокойно, только лучи прожекторов по–прежнему шарили по небу, да слышалась орудийная канонада. — Шестьдесят… На юге оставалось без перемен… — Семьдесят секунд прошло… Снаряд уже должен долететь, — сказал полковник глухо. Другову стало не по себе. Неужто неудача! Но он тотчас вспомнил, в чем дело. «Лучи возникают не сразу… термит должен гореть секунд двадцать… Надо еще ждать…» Полковник опять обратился к секундомеру. — Подождем, — сказал он. — Так… девяносто пять. Все застыли в ожидании. Вдруг южная сторона неба вспыхнула красным заревом. Оно разлилось почти до зенита и заколыхалось точно северное сияние. Все невольно вскрикнули. Из‑за горизонта медленно вырастал громадный ярко–огненный гриб и рядом с ним множество других поменьше. Стало светло, как около большого пожарища. Окрестные кусты, деревья, железнодорожный путь, громадное орудие, люди — все осветилось красноватым отблеском взрыва. Команда батареи выбежала на пригорок и с изумлением смотрела на зарево. Наконец волна взрыва достигла станции. Мощный удар грома раскатился по всей округе. Вихрь поднял с земли сухие листья, закачал деревья, пахнул в лица смотревших горячим воздухом. Взволнованный полковник подошел к профессору и горячо пожал ему руку. Все окружили дядю с племянником и наперебой поздравляли их. — Какой взрыв! — Все к черту у них полетело! Нет, это прямо как в сказке! Другов смущенно улыбался, и сердце его стучало от счастья. В это время подбежал связист с радиограммой. Полковник прочел ее и передал профессору. «Штаб N–ского артдивизиона профессору Другову. Горячо поздравляю с громадным успехом деле обороны любимой Родины. Командарм С.» Через шесть часов, сидя в палатке полковника, Другов и Черкасов читали свежий номер фронтовой газеты. На первой странице крупным шрифтом было напечатано: «Сегодня огнем нашей тяжелой артиллерии взорваны артиллерийские склады и бензинохранилища в тылу у противника в районе города К. Неприятель понес громадные потери военным имуществом и людьми. Части Красной армии в 20 часов 00 минут, перейдя в наступление, успешно продвигаются вперед. Противник бежит, охваченный паникой. К 22 часам Красная армия заняла город К., обойдя его с флангов. Движение наших частей продолжается». Профессор отложил газету. — Ну, Володенька, как будто мы закончили свое дело… Думаю, что скоро вернусь и к мирным занятиям… Я их порядком подзапустил. В это время в палатку вошел вестовой и подал Другову телеграмму. В ней было следующее: «Штаб N–ской армии Другову Ремизов сообщил блестящем завершении наших опытов тчк Сердечно радуемся успеху родного дела поздравляем крепко целуем Званцевы Чупаев Ткешелошвили». Профессор, растроганный, подал телеграмму Черкасову. — Кроме счастья служить своей Родине, Владимир, — сказал он, помолчав, — есть еще счастье — иметь близких и друзей, с которыми вместе творишь, которых любишь и уважаешь.Авдеенко Ю. Ожидание шторма
В сборник вошли остросюжетные повести, объединенные образом чекиста М. Каирова. В повести «Четыре почтовых голубя» рассказывается об освобождении Черноморского побережья Кавказа от деникинцев. Повести «Дантист живет этажом выше», «Последняя засада» раскрывают мужество советских людей в борьбе с империалистическими разведками в середине 30-х годов. Действие повести «Ожидание шторма» происходит в период Великой Отечественной войны.
ЧЕТЫРЕ ПОЧТОВЫХ ГОЛУБЯ

Ночь. Март 1920 года
Он не увидел людей. Долинскому показалось, что на пристани в голубоватом, призрачном свете луны между канатами и литыми чугунными кнехтами лежат предметы неопределенной формы, возможно мешки с фуражом или какие-нибудь другие упакованные в тюки грузы. Но когда он подошел ближе, то понял, что это люди. И опознал двух казаков, охранявших их. Полночь студила ветром, хлынувшим с запада. И туман не простирался над морем. Наоборот, оно было ясным, но не сверкающим, как обычно, а очень мягким, почти серебристым, точно мех песца, который в Екатеринодаре Долинский выиграл у барона Хайта. Офицеры тогда коротали вечер в Дворянском собрании. Развлекалась картами. Как правило, в «двадцать одно». Хайту везло. Долинский сперва проигрывал ему крупно. Но потом судьба отвернулась от барона. И он спустил все, вплоть до шкурки голубого песца, попавшей к нему лишь богу известными путями. Барона Хайта убило у Касторной, когда он под прикрытием четырех танков вел эскадрон на село Успенское. Танки поначалу наделали паники в стане противника. Большевики кричали: — У, гады! Яки-то воза пустили, що идут и стреляют. Немного погодя осмотрелись. И за орудия... Два танка пришлось на буксирах в Касторную оттаскивать. Для ремонта. Барона тоже доставили на станцию. Только ремонт ему уже не потребовался. Он умер возле коновязи, протянутой по четырем гладким дубовым кольям. Лошадь его крутила хвостом, дико водила глазами и грызла удила, норовя освободиться от привязи, наконец метнулась в страхе по флангу эскадрона, подминая и людей, и амуницию. Шкурку песца Долинский полагал превратить в талисман, своего рода шагреневую кожу. Но в тифозном Ростове ее съели крысы... — Поднять людей! — сказал Долинский казакам. Один из казаков, видимо старший, кряхтя, встал с кнехта, поправил сползшую с плеча лямку карабина и сказал не громко, а, скорее, нудно: — Поднимайтесь, граждане. Мабудь, не глухие. Команда их благородием дадена. Люди вставали без понуканий. Не быстро и не медленно. А спокойно, с выжидательной осторожностью... Долинский сразу же решил не смотреть им в лица, но среди девяти разных по возрасту женщин стояла девочка лет семи с прижатым к груди плюшевым медведем, у которого было оторвано левое ухо. Долинский не удержался, остановил взгляд на ребенке. Почувствовал холод между лопатками. «Ей тоже холодно», — подумал он. Была середина ночи. Конечно же, девочка хотела спать. Люди не знали уготованной им судьбы. У ног женщин темнели чемоданы, горбились оклунки. Долинский подумал: «Нужно сказать, чтобы не брали вещей». Но тут же отказался от этой мысли: женщины заволнуются, запаникуют. Широкая баржа черным пятном покачивалась возле пристани. Вода хлюпала. Матросы с буксира, над которым горела желтая мутная лампочка, ладили на баржу трос. Буксир был раза в три меньше баржи. Черная труба торчала над ним, как шляпа. Капитан буксира — здоровяк в незастегнутом бушлате — преданно смотрел в глаза Долинскому. Долинский сказал: — На барже оставьте надежного матроса. Пусть он по нашему сигналу откроет кингстон. А потом под охраной перейдет на буксир. — Все будет в ажуре, ваше благородие. Военно-полевой суд приговорил арестованных подпольщиков к смертной казни через расстрел. Между тем начальник контрразведки на свой страх и риск решил поступить иначе. Он не считал себя жестоким по натуре, но, по его разумению, жестокости требовало время. И у Долинского выработалась своя собственная точка зрения в отношении к государственным преступникам. Он полагал, что любой человек, вне зависимости от его политических воззрений, много раз задумается, если будет знать, что за совершенное преступление понесет ответственность не только он лично, но и члены его семьи, пусть даже невиновные. Вот почему Долинский решил вывезти на старой барже приговоренных к смерти подпольщиков вместе с их семьями, а там, в море, открыть кингстон — клапан в подводной части судна, служащий для доступа забортной воды. С открытым кингстоном баржа не продержится на воде и четверти часа. Абазинский проспект мрачной дырой темнел между высокими пирамидальными тополями. Неярко светя фарами, с проспекта к набережной выползла грузовая машина. Громыхнул задний борт. И ночь подхватила звук, как горы эхо. Конвой привез арестованных. Их было четверо. Трое — с завода «Дубло». И один — с завода «Юрмез». С того самого постылого «Юрмеза», где действовала мощная большевистская организация во главе с неуловимым Бугай-Кондачковым*["2]. Сапоги казаков гулко стучали по деревянному настилу пристани. Арестованные же были босоноги. Двигались почти неслышно, оборванные, избитые, с лицами, оделенными спокойствием — не тупым, безысходным, а одухотворенным, точно на иконах. Кто-то из женщин охнул и зарыдал громко. Но казак крикнул: — Прекратить! И рыдание стихло. Лишь слышалось всхлипывание, редкое, приглушенное. Четыре и девять. Тринадцать! Нехорошее число. Долинский сказал казаку: — Ребенка в баржу не сажать. Пусть остается. Казак схватил малышку за плечи. Но она продолжала держаться за материнскую юбку. И со слезами кричала: — Мама! Мама! Я с мамой! Мамочка, не оставляй меня! Женщина лет двадцати шести, с косой, уложенной вокруг головы, и лицом правильным, чистым, сама не знала, что же ей делать. Возможно, она предчувствовала беду, ожидающую их всех там, на барже. Потому только бормотала: — Доченька, милая... Казак сильно дернул девчушку. Мишка, которого она прижимала к груди, выпал, кувыркнулся по пристани и плюхнулся в воду. Долинский увидел, что он плавает лапами вверх. И глаза у него сверкают, как у живого. Девочка голосила отчаянно. Долинскому было жутко слышать ее крик. Он подумал о загадочности бытия: почему все-таки эта маленькая жизнь так настойчиво рвется к смерти? «Рок, судьба, — несколько высокопарно определил он. — Да, ее величество судьба». Долинский махнул рукой: — Оставьте девчонку с матерью. Когда с баржи убрали трап, начальник гарнизонной контрразведки поднялся на палубу буксира. ...Через полчаса буксир и влекомая им баржа были далеко в море. Оно по-прежнему выглядело мягко-голубым, но город утопал во мраке. И горы сливались с небом, темным и очень звездным... — Подавайте сигнал, — сказал Долинский. Усы капитана буксира надломились в улыбке: — Все будет в полном ажуре, ваше благородие. Потом капитан поднял руку, в которой был зажат увесистый металлический болт. И тьма раскололась угластой молнией. И забортная вода шумно приняла тело Долинского... Начальника контрразведки спасло чудо в образе остроконечного ржавого буя, сорванного вешними штормами с какого-то черноморского пляжа. Только на рассвете Долинского обнаружил патрульный катер. Матросы не смогли разжать пальцы, которыми окоченевший контрразведчик держался за обрывок каната. Пришлось прибегать к помощи ножа. Трупы казаков, несших охрану на барже, выловили лишь на пятые сутки. Баржу буксир увел к красным в Новороссийск. Анализируя случившееся, Долинский понял, что не ошибся в недавнем донесении. Большевистское подполье в Туапсе продолжало действовать...
1. Глас вопиющего в пустыне
Входная дверь хлопнула. Клавдия Ивановна догадалась: пришел постоялец. Она опустила крышку рояля. Несколько минут сидела без движения, не отнимая пальцев от лакированного дерева. Вспомнила: видела в Ростове спектакль, где актер вот так же сидел у рояля. Он изображал человека, думающего о чем-то сложном и важном. Кто-то же учил актера сесть именно так, замереть, откинуть назад голову. Молчать. Значит, есть связь между позой человека и его размышлениями. А может, все это ерунда. И нет, и не было никакой связи между тем, как человек сидит и о чем думает... Постоялец щелкнул замком своих дверей. «Странная личность, — подумала о нем Клавдия Ивановна. — Хотя...» В людях, и прежде всего в мужчинах, Клавдии Ивановне нравилась загадочность. Нет-нет, разумеется, она не требовала от каждого таинственности Монте-Кристо, но полагала, что человек должен быть сложнее, чем арифметическая задача в два действия. Постоялец, назвавшийся врачом, вопреки традициям своей профессии, был человеком малообщительным. Уходил на службу рано утром, возвращался поздно вечером, а иногда даже на рассвете. — Я работаю в военном госпитале, — объяснил он однажды. — Это совсем иное, чем частная практика. Был он красив, этот сорокалетний мужчина, рыжебород, одевался опрятно и со вкусом. Они жили вдвоем в большом и, пожалуй, пустынном пятикомнатном доме, отгороженном от тихой улицы буйно цветущим фруктовым садом, между тем постоялец не делал никаких попыток ухаживать за своей молодой и достаточно привлекательной хозяйкой. Это не то чтобы обижало Клавдию Ивановну, привыкшую к вниманию со стороны мужчин, но несколько озадачивало. Взгляд женщины уже давно был обращен к просторному венецианскому окну, но только сейчас она поняла, что сумерки сгущаются и что нужно встать из-за рояля и пойти закрыть голубятню. Голуби уже спали. Настоящие почтари брюссельской породы, они имели красивый, как говорил покойный отец Клавдии Ивановны, подбористый вид. Он был страстным голубятником, ее отец. Но разводил только почтовые породы, ценя в них прежде всего чистоту. В его роскошной голубятне можно было увидеть редкие по тем временам породы почтарей: карьер, люттихский, антверпенский, брюссельский, дракон, скандарон. Клавдия Ивановна помнит отца вечно сидящим перед голубятней на самодельной маленькой скамейке, убеждающим кого-нибудь из приятелей: «Что твои царицынские! Высоко летают, да без толку. Почтарь же — не поверил бы сам, но читал — до тысячи километров одолеть может. Конечно, не каждый, а выдающийся. Но может же...» Голуби. Словно чувствуют, паршивцы, что их нахваливают. Корпус несут прямо, шеей вертят бодро. Округлость головы у почтарей плавная. Сходится с клювом почти без всякого угла. Восковица над клювом большая, серая. Вокруг глаз — бело-розовые кольца с красноватыми прожилками. Нельзя сказать, что Клавдия Ивановна любила голубей. Но их любил покойный отец. И это было для дочери свято. Дернув конец старого, однако еще крепкого шнура, она подняла сетчатый козырек голубятни. Закрепила шнур в повлажневшем от вечерней росы медном кольце. И вернулась в дом. Постоялец стоял возле ведра с водой, отхлебывая из кружки. Капли воды застряли в его бороде. И он вытер их большим клетчатым носовым платком. Поставив кружку на квадратную, сделанную из дуба дощечку, он спросил Клавдию Ивановну: — Вы сами носите воду из колодца? Клавдия Ивановна отрицательно покачала головой: — Это делает соседский мальчик. Постоялец понимающе кивнул. Он был в сером костюме, в свежей сорочке, при галстуке и в короткой соломенной шляпе канотье. То, что он, будучи в доме, не снял шляпу, говорило о его плохом воспитании и немного покоробило Клавдию Ивановну. Впрочем, она ничем не выдала этого. И ничего, кроме любопытства, не было в ее глазах. — Это правда, что наши оставили Новороссийск? — спросила она. Вместо прямого ответа он вспомнил библию: — Правда сиречь истина... Как сказано у Иоанна: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными...» — Очень ли это нужно? — Быть свободным? Сие понятие — как мода. Никто не задумывается, нужна ли она. Ей просто слепо подражают. Он говорил тихо. Но с какой-то едва заметной долей фальши, точно провинциальный актер, играющий роль человека, давно познавшего жизнь и уставшего от ее нелепостей. — А нельзя ли образумить людей? — Клавдии Ивановне не хотелось, чтобы разговор окончился так быстро. Она должна разобраться, что за человек ее постоялец. — В истории человечества акция вразумления много раз имела место, но, увы, безуспешно. Вот и сейчас красные и белые вразумляют друг друга пулями, снарядами, саблями. А иногда попросту плетьми. — Я имела в виду совсем другое — слова. Ибо сказано: вначале было Слово... — Но сказано и другое: я глас вопиющего в пустыне... Милая девушка, строгие, только очень строгие меры способны вразумить человечество. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается... Он повернулся и направился к двери в свою комнату, явственно давая понять, что не склонен продолжать беседу. — Спокойной ночи! — проникновенно пожелала Клавдия Ивановна. Он обернулся, на какое-то время задержался у двери: — Спасибо. Увы, профессия эскулапа не всегда позволяет осуществить это хорошее пожелание. Спокойной ночи и вам, милая хозяйка. — Он открыл дверь, потом вновь обернулся. И, увидев, что она продолжает стоять на прежнем месте, спросил: — Кстати, вы не смогли бы перепечатать для меня несколько страниц? — У моей машинки сломался лентоводитель. — Давайте я посмотрю. — Благодарю вас. Но я уже пригласила мастера. «Странно, — придя в комнату, подумала Клавдия Ивановна. — Откуда он может знать, что у меня есть пишущая машинка? Ведь я никогда не печатала в его присутствии».2. Записки Кравца
Я, конечно, не видел лично, но слышал в разведотделе, что Деникин бежал из Новороссийска на военном корабле под французским флагом. Последним улепетывал из порта американский крейсер «Гальвестен». Американцы предлагали деникинцам бязь, фланель, солдатские ботинки, носки, лопаты в обмен на кубанскую пшеницу. Вот об этом я читал сам в белогвардейской газете «Кубанское слово». Мы захватили кипы этих газет и еще других, белоказачьих — «Вестник Верховного округа». Газеты эти мы пустили на раскурку, потому что были охочи до табачка, а точнее, махорки, с которой подружились за трудные военные годы так же верно, как и с винтовкой, шинелью, седлом. Кони разной масти, оставленные белогвардейцами, словно собаки, бродили по городу. Большими, обалделыми глазами глядели на опрокинутые повозки, тачанки, орудия. Будто в доме перед дальней дорогой, на улицах лежали узлы, чемоданы, корзины. Несметное количество! Железнодорожные пути были забиты эшелонами с фуражом, продуктами, снарядами... Мы сдавали охране пленных на Суджукской косе, когда прискакал нарочный и передал мне приказ явиться в штаб 9-й армии к товарищу Каирову. Вечерело. Но небо еще фасонилось голубизной, хотя на нем уже, точно веснушки, проступили первые звезды. Земля, разморенная солнцем, парила. И воздух на улице был мутноватый, как в прокуренной комнате. Каиров, с перевязанной рукой, — разорванная кожанка внакидку — хитро посмотрел на меня и спросил: — Как настроение? За его спиной маленький и желтый, точно привяленный, человек, в очках со сломанной дужкой, монотонно диктовал машинистке: — Захвачено сорок орудий, сто шесть пулеметов, четыре бронепоезда, тридцать аэропланов... Общее количество пленных составляет... — Боевое, — ответил я. — Добре. Дело для тебя есть. — Наконец-то. — Время пришло, — сказал Каиров. — Не зря же я тебя четыре месяца готовил. Посиди минут пять в коридоре. — И добавил с улыбкой: — Больше ждал. Не знаю, почему он назвал прихожую коридором. Никакого коридора в этом барском особняке я не увидел. Двери с улицы — возле них стоял часовой-красноармеец — заглядывали прямо в широкую прихожую, выложенную цветным паркетом. На паркете тускнел пулемет. Усатый дядька протирал его ветошью. В глубоком, обшитом золотым плюшем кресле небрежно, словно барин, сидел молодой парень. С толстыми губами, мясистым носом. Взгляд у парня был ленивый и немного презрительный. Он курил толстую вонючую сигару. Потом ему надоело дымить, и он затушил ее, вдавив в золотистую плюшевую обшивку. — Друг, — сказал я, — мебель портишь. — Буржуазную рухлядь жалеешь?! — окрысился парень. И сморщился, и заморгал ресницами, словно в глаза ему угодило мыло. — Мебель не виновата, — возразил я. — Теперь она наша. Революционная... Рабоче-крестьянская. — Отвали! — сказал парень. — Ты мне свет застишь. И мешаешь сосредоточиться. И он опять, уж, конечно, назло мне, ткнул в плюш кресла, правда, на этот раз загашенную сигару. Вывел какую-то закорючку. Возможно, расписался. — Ты откуда такой умный? — спросил я. — Откель надо, — ответил он. — Вот поднимусь, между глаз приласкаю. Полная ясность появится. И твой интерес ко мне пропадет. Тут я тоже нахохлился: — Интерес мой к тебе разбухает. Может, выйдем?.. Потолкуем. — Выйдем, — равнодушно ответил парень. Поерзал в кресле. И достал из кармана наган. — Кравец! — Каиров высунулся в приоткрытую дверь. — Давай-ка... На этот раз мы не задержались в комнате, где стучала пишущая машинка, а прошли дальше, в узкий кабинет, стены которого сплошь были заставлены книгами. Мы находились в кабинете только вдвоем. И Каиров спросил: — Готов ли ты, рискуя собственной жизнью, спасти Миколу Сгорихату от смертельной опасности? — Если смогу... — Надо смочь. Каиров присел на краешек письменного стола, широкого, ровного, обшитого хорошим зеленым сукном. И кожанка его коснулась мраморной доски с бронзовыми чернильницами, большими и массивными, точно ядра. — Слушай меня, Кравец. Сутки назад Микола через горы ушел в Туапсе к белым... Я дал ему явку. А сегодня, два часа назад, мне сообщили, что явка провалена, что пользоваться ею нельзя... Туапсе — город маленький. Ты должен разыскать там Миколу. И сказать ему от моего имени, что задание остается в силе, но явка... недействительна. Понял? — Все понял, — сказал я. — Главная заковырка состоит в том, — Каиров нервно передернул плечами, накинутая на плечи кожанка сползла и упала к чернильному прибору, — что ты должен попасть в Туапсе раньше Миколы Сгорихаты. Как только он доберется до города, сразу же отправится на явку. Такова была установка. И Микола будет выполнять ее... — Как же быть? — сказал я. — Если морем... — Морем ни шиша не получится. И долго это... И французы вдоль берега шныряют... Закуривай. Каиров достал портсигар. Закурили. Потом он посмотрел на меня, словно о чем-то сожалея, и сказал: — Выход такой... Есть у нас аэроплан на ходу. «Фарман». И летчик есть — отчаянный парень. Полетите на рассвете. Где-нибудь поближе к Туапсе найдете полянку. Приземлитесь. Оттуда — выложись, но завтра к вечеру в Туапсе прибудь. — Сделаю, товарищ Каиров. — Уверен. Но это только половина дела... Предупредив Сгорихату, ты направишься в поселок Лазаревский. Я дам тебе связь. В поселке находится престарелый и больной профессор Сковородников. И при нем коллекция древнерусской живописи, представляющая ценность. Надо сделать все, чтобы коллекция не была вывезена белыми за границу. Понимаешь, древние картины, иконы — это теперь народное достояние. Рано или поздно война кончится. А мы, большевики, должны думать вперед... — Каиров помолчал, затем неохотно сказал: — Не забывай лишь, чему я тебя учил. Храбрость, ловкость, находчивость — это все хорошо. Но главное для разведчика... — Он назидательно постучал пальцем по голове. — Я все понимаю, Мирзо Иванович. Память у меня — как у волка ноги. — Знаю. Потому и взял тебя в свое хозяйство... А теперь пошли. С пилотом познакомлю.— Он?! — не поверил я своим глазам, когда в прихожей Каиров указал на плюшевое кресло, в котором сидел тот нахальный парень. — Сорокин! Парень вскочил, подошел к нам. — Полетишь вот с ним, — сказал Каиров. — Ищите посадочную площадку. И приземляйтесь. — Приземлимся — дело нехитрое, — ответил Сорокин. — Аэроплан загубить можно. — Рискнешь, — твердо сказал Каиров. Потом он еще сказал: — Встретимся на аэродроме. Там получите окончательную инструкцию. И ушел. А мы остались вдвоем на красивом цветастом паркете, который видел, конечно, и мазурки, и вальсы, а теперь солдаты и матросы ступали по нему сапогами, как по каменке. — Осознаешь? — спросил я. Сорокин настороженно посмотрел в мою сторону. Признался: — Думал, ты на меня накапал. — Я, друг, не таковский. Ты лучше ответь: осознаешь ответственность и важность задания? — Мы привычные. В нашем летном деле простых заданий не бывает. Это тебе не в пехоте щи хлебать. — Что же, вас шоколадом кормят, пирожными? — Угадал, — кивнул парень в знак согласия. И предложил: — Закурим. Трофейные. Он картинно (знай наших!) вытащил из кармана коробку с сигарами, на которой розовым была нарисована пышногрудая девица, а за ней пальмы и море. Не случалось мне раньше курить такой отравы. Говорят, большие деньги стоит! Поперхнулся дымом, закашлялся, слезы на глазах выступили. А Сорокин от смеха разрумянился, как спелое яблоко. — Деревня! — говорит. — На махре взращенная... Саданул бы его по вывеске. Да нельзя. Кулак у меня что колода, еще аэропланом управлять не сможет. Сдерживаю себя, говорю: — Из Киева я. Город такой, между прочим, на реке Днепр есть. Гимназию окончил. Диплом учителя земской школы имею. — Буржуй, значит... — Отец мой — переплетных дел мастер. Водку не пил. И о детях заботился. — Водку одни гады не пьют, — сказал Сорокин. — Давить таких надо... — Молодой ты, верхоглядный... Не верю, что с аэропланом сладишь. Помрачнел Сорокин, засопел. Расстегнул на груди куртку. Бумагу вынул: — Читай!
— Значит, Серегой тебя кличут. — Серегой-то Серегой... Но я думаю, ты, как и отец, водку не пьешь, потому лучше называй меня товарищ Сорокин.Р С Ф С Р
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
Предъявитель сего, Сорокин Сергей Егорович, есть действительно краснофлотец воздухоплавательных частей Красной Армии, что подписями с приложением печати удостоверяется.
Вечер загустел. И луна желтыми ладонями приласкала город. Море ворочалось рядом, поигрывало свежестью. Пахли медом цветущие вишни, яблони. Улицы не казались такими покалеченными, как днем. Темнота убрала все лишнее. Только кони по-прежнему бродили но городу, не в силах выбраться из лабиринта улиц, переулков. Они цокали копытами и грустно ржали. Я остановил двух взнузданных тонконогих коней, седла с которых уже кто-то срезал. Сказал: — Товарищ Сорокин, две ноги хорошо, а четыре лучше. Тем более аэродром неблизко. Уже восседая на коне, я услышал в ответ что-то невнятное. Потом увидел, как краснофлотец воздухоплавательных частей подвел коня к опрокинутой бричке, вскарабкался на нее, рассчитывая, видимо, что таким образом сподручнее взобраться на лошадиный круп. Но конь, повертев шеей, сделал несколько шагов вперед, и Сорокину пришлось слезать с брички и опять хватать коня за узду и ругаться при этом громко и со знанием дела. — Ты смелее, — подсказал я. — Обопрись руками. Неужели никогда на лошадях не ездил? — Лешаку они нужны в авиации. Кабы у них крылья были. С горем пополам Сорокин все-таки обхватил конские бока ногами. Натянул узду. Попросил: — Не поспешай... Поспешать действительно было некуда, потому что вылет наш планировался лишь на рассвете.
...Маленько мы сумели вздремнуть. На прелых, словно прошлогодняя листва, матрацах, сваленных в ветхом сарае, стоящем на самом краю взлетного поля. Матрацы были из госпиталя, воняли йодом, карболкой. А крыша в сарае светилась как решето. И понятно, что матрацы прели. Но нам нужно было отдохнуть хоть пару часов, и лучшего места поблизости не оказалось. Каиров приехал за полчаса до рассвета на открытом автомобиле, который чихал, словно простуженный, стрелял, точно орудие, и чадил дымом, будто испорченная керосинка. На заднем сиденье, за спиной шофера, куталась в платок какая-то женщина. У Каирова по-прежнему правая рука была на перевязи. И он морщился, когда ненароком делал какое-нибудь движение. Подойдя к нам, он спросил: — Отдохнули? — Само собой... Тогда, словно слепой, он ощупал здоровой рукой мое лицо. И, повернувшись к машине, коротко бросил: — Побрить! Женщина вышла из машины. Шофер включил свет, фары заглазели в темноте. И поле перед радиатором и дальше стало зеленым и нежным. Открыв плоский маленький чемодан, женщина виновато сказала: — Вода холодная. Голос у нее был приятный. Сочный и не писклявый. — Сойдет, — ответил я. Она стояла спиной к свету. И я не видел ее лица, потому что оно оставалось темным, как тень. Но руки у нее были теплыми и мягкими. Я подумал: конечно же, всю дорогу она их прятала под платком. Пульверизатор шипел, как гусь. Одеколон щекотал кожу. Я сказал: — Спасибо. Женщина закрыла чемодан. Это удивило меня. И я спросил: — А Сорокина? — Он бреется один раз в две недели, — без подначки, а как-то очень равнодушно ответил Каиров. Но Серегу аж передернуло. Он засопел и повернулся ко мне спиной. Каиров распахнул дверцу, взял с заднего сиденья узел средних размеров, что-то сказал шоферу... Дрогнув и задымив, машина увезла парикмахершу в дальний конец поля. Узел упал возле моих ног. — Переодевайся, — сказал Каиров. Трава была влажной, а небо серым. И уже можно было различить лица и детали одежды, если стоять так близко, как стояли мы. Я рванул веревки. В узле оказалась форма белогвардейского поручика. — Да, — сказал Каиров. — Там, в Туапсе, у них сейчас винегрет. Мешанина разных частей и подразделений. Никакого планомерного отступления они организовать не смогли. Драпали на юг каждый по собственной инициативе... Вот документы. Подлинные. Ты — Никодим Григорьевич Корягин, офицер связи пятого кавалерийского корпуса генерала Юзедовича, откомандированный в распоряжение штаба Кубанской армии. В штабе без нужды не появляйся. Для встречи с патрулем — документы надежные... Запомни адрес проваленной явки. Улица Святославская, дом восемь. Я никогда не был в Туапсе, не знаю этой улицы. Ты ее разыщи. И сделай все, чтобы встретить Миколу Сгорихату. Повтори адрес. Я повторил. Каиров удовлетворенно кивнул. Посмотрел на Сорокина: — Найдешь поближе к Туапсе поляну или лощину, приземлишься. Если не сможешь взлететь, замаскируешь самолет. И будешь пробираться навстречу нам.
3. Текущий момент
Армейской конференции, которая должна была состояться в самое ближайшее время, предстояло выбрать делегатов на IX съезд партии. Каиров намеревался выступить в прениях по текущему моменту. На партийных собраниях Мирзо Иванович редко пользовался трибуной, ограничиваясь, в случае нужды, репликами с места, порой по-восточному цветистыми, но всегда дельными и нередко остроумными. На этот раз он собирался изменить своему правилу, ибо коммунисты, выдвинувшие его на конференцию, просили обязательно сказать несколько горячих слов от их имени про революцию, про мужество, про текущий момент. Вернувшись с аэродрома, Каиров не лег спать, что, кстати сказать, было ему крайне необходимо, а сел за письменный стол с решением набросать конспект своего выступления. Он задумался, призвав в помощники благословенную предутреннюю тишину. Но, увы, она тут же была нарушена скрипом колес, ржанием лошадей, забористым солдатским словом. Каиров подошел к окну. Распахнул раму. Дом был одноэтажный, но стоял на высоком фундаменте. И двор поэтому лежал внизу. Из окна хорошо было видно, что тыловики-снабженцы превратили двор в продовольственную базу. И вот сейчас двое красноармейцев разгружали телегу. Они сняли задний борт, положили наискосок доску, пытаясь скатить по ней бочку. Но лошадь ненароком ступила вперед. Доска соскочила, бочка тоже. Ударилась о бетонный выступ фундамента и раскололась надвое. Сладковатая свежесть утра отступила под натиском проперченного и начесноченного рассола, запах которого был таким духовитым и упругим, что казалось, его можно потрогать руками. Небо глянуло на огурцы. И они сделались сизыми, потому что облака стояли сизые и неподвижные, как лужи. — Угостите огурчиком, ребята, — попросил Каиров. Солдат, прервав замысловатое словоизвержение, изумленно посмотрел на окно. И, вероятно узнав Каирова, подобрал ему с полдюжины самых крепких, самых славных огурцов. — Спасибо, — сказал Каиров. И вернулся к столу. Значит, текущий момент. Оценка ему, безусловно, благоприятная. Да-да, благоприятная. Главная причина тому — VIII съезд партии. На съезде правильно решен вопрос о строительстве Красной Армии, разоблачена «военная оппозиция», призван к порядку Троцкий, стремившийся к ослаблению партийного влияния в армии. Взяв карандаш, Каиров написал:«Сопутствующие причины благоприятности момента. Июль, 1919-й — армия Юденича отброшена за Ямбург и Гдов. Январь, 1920-й — расстрелян адмирал Колчак и члены его «правительства». Март, 1920-й — взят Новороссийск, армия Деникина дышит на ладан. О чем нельзя забывать: граница меньшевистской Грузии начинается в 10 верстах южнее Гагр. Значит, нужно быстрее освобождать Туапсе, Лазаревский, Сочи; Врангель сидит в Крыму; на польско-русской границе — Пилсудский...»— Если не секрет, какие сутки вы не спите, Мирзо Иванович? — Уборевич, командарм-девять, был, как всегда, превосходно выбрит, подтянут. И пенсне, отражая бледную синь рассвета, скрывало следы усталости возле глаз. — Нам бы об этом вспомнить вместе, Иероним Петрович, — вздохнул Каиров. — Угощайтесь. Уборевич даже пальцем повел по губам — до того аппетитными показались огурцы. — Непременно для князей готовили, — улыбнулся он. — Вкусно. Каиров спрятал конспект в папку. Сказал: — Отправил я парня в Туапсе на самолете. — Пилот надежный? — Уборевич сощурился. Морщины обозначились резко на лбу. Сбегали к переносью. — Надежный. Но все равно душа болит. — Без этого нельзя. Без боли мало что в жизни получается. — Так-то оно так... Да дело совсем новое. — Я понимаю. Давай порассуждаем вслух... Если все обойдется хорошо, то мы будем иметь перспективную игру с далеким прицелом. Если дело на каком-то этапе сорвется или получит нежелательное для нас развитие, то и в этом случае мы основательно прощупаем контрразведку белых. От этого тоже польза немалая... — Хорошо. Будем ждать.
4. Партизаны (продолжение записок Кравца)
Мне приходилось лазить по горам. Смотреть вниз на долину, где домики кажутся размером с ботинок, деревья — не длиннее штыка, а спешащая к морю речушка выглядит тонкой и гибкой, как уздечка. Нечто подобное ожидал я увидеть из аэроплана. И чуточку опешил, когда взглянул за борт. Под нами проплывали горы, но не прежние, гордые и высокие, а покатые, приземистые, словно упавшие на колени. Деревья, облепившие их, напоминали темные кляксы. А дома... Я понял, почему на топографической карте их рисуют в виде крохотных прямоугольников. Облака, белые И круглые, курчавились над горами. И выше нас. Но мы ни разу не попали в облако. Мне так хотелось потрогать его руками. Необшитый корпус самолета был гол, как рама велосипеда. И место, где мы сидели, походило на корзину, зажатую сверху и снизу крыльями. Мотор гудел громко, но очень ровно. Я быстро привык к его монотонному гулу. И мне нравилось лететь. И задание не казалось сложным и опасным. Колючий воздух холодил лицо. Забирался под шинель. Мне пришлось нагнуться к ветровому щитку. И видеть перед собой лишь небо да шлем Сереги Сорокина. Шлем был поношенный, темный. А небо — очень красивым: с востока золотистым, а с запада густо-голубым. Широкие крылья «фармана» немного покачивались, а иногда машину бросало в воздушную яму, и сердце тогда замирало, как на качелях. Сорокин стращал меня накануне, что я могу укачаться, вывернуться наизнанку и вообще превратиться в живой труп. Но ничего подобного не случилось. Я чувствовал себя превосходно. Ибо верил в удачу еще на аэродроме, когда с аппетитом ел горячую кашу, запивая ее свежим молоком. Потом Каиров развернул карту, уточнял с Сорокиным маршрут полета, а я ходил по влажной траве и смотрел в небо, на котором угасали звезды... Внезапно тишина пинком отшвырнула рев мотора назад, за хвост самолета, и горы стали разгибаться, поднимаясь во весь свой гигантский рост. Я не сразу понял, что мы падаем, а только тогда, когда Сорокин обернулся ко мне и я увидел его злое, бледное лицо. Я услышал: — Мотор отказал! Мы падали, не кувыркаясь с хвоста на нос, не переваливаясь с крыла на крыло, а планируя, точно бумажный голубь, пущенный ребенком. — Не психуй! — крикнул я. — Может, сядем? — Куда? На самом деле: куда? Не садиться же на вершину горы! — Серега! Лощина! — Вижу! — Рули туда. — А если камни? Но выбирать не из чего. Да и время не позволяет. Наш «фарман» делает полукруг. И лощина дыбится перед нами... Я уловил момент, когда мы коснулись земли. Толчок получился сильный, упругий. Но у меня сложилось впечатление, что аэроплан подскочил, будто мячик, и мы опять зависли в воздухе. В действительности же мы катили по лужайке — совсем не широкой, короткой, — врезались в плотный кустарник. Едва ветки захлестали по корпусу и крыльям, как взревел мотор, отчаянно завертелся пропеллер. Сорокину не сразу удалось его утихомирить, Когда же вновь наступила тишина, он повернулся ко мне и сказал: — Видишь, какой подлый! — Последнее слово повторил несколько раз. Выбираясь из кабины, предложил: — Попробуем его, паскуду,развернуть. Я тоже спрыгнул на землю. Ой как приятно стоять на теплой, пахнущей весной земле! Разглядывать траву зеленую, букашек разных. А первые шаги делаешь — состояние такое, словно под хмельком. Сорокин обошел самолет. — Собачье дело, — говорит, — левое шасси погнули. — Туапсе далеко? Он пожал плечами: — Верст пятьдесят, возможно... По горам. Без дороги. Такое расстояние за день мне никак пешком не одолеть, если даже я из кожи вылезу. Конечно, вслух этого не сказал, только подумал. А Сорокин говорит: — Давай этого слона выкатим. Молоток у меня есть. Может, шасси выпрямить удастся. Я сбросил шинель, Сорокин — куртку, потому что солнце висело над лощиной и было тепло и немного душновато. Молодая трава, молодые листья зеленели радостно, чисто. Запах от земли шел добрый, густой. Стоило обойти самолет, как я сразу убедился: прежде чем его выкатить, нужно избавиться от кустарников, в которых он зарылся, как телега в сено. А характер у Сорокина оказался раздражительный. Словами лихими жонглирует, точно циркач, а дело — ни с места. Возимся мы полчаса, возимся час. Машина по-прежнему в кустах. И надежда вытащить ее с каждой минутой подтаивает, как льдинка. У меня же в голове одна мысль: надо спешить в Туапсе, надо спешить... Вдруг за спиной — бас: — Руки в гору! Поворачиваюсь. Ребята обросшие, с карабинами. А на шапках красные ленты. Партизаны, значит. — Братцы! — кричу я. — Какая удача! — Шакал тебе братец, сволочь господская! Поднимай руки! Партизан шестеро. А который басит, тот, видимо, главный. Здоровый такой, насупленный. Брюки ватные, в сапоги заправленные. Стеганка желтыми и зелеными пятнами бросается — на земле, знать, лежал. Как гаркнет: — Обыскать! Ко мне невысокий подбежал. Мужчина годов на тридцать. С лица белый, и ресницы, и брови, и глаза белесые, а губ словно совсем нет — уж такие они тонкие. Опасливо сказал: — Ты только не шуткуй. А то вмиг начинку свинцовую схлопочешь. Обшарил он меня. Документы, револьвер... все забрал. Вслух читает: — «Поручик Никодим Григорьевич Корягин, офицер связи пятого кавалерийского корпуса генерала Юзедовича...» У партизан глаза от удивления на лоб лезут. — Вот так птица! Потом удостоверение Сорокина читать стали: — «...есть действительно краснофлотец воздухоплавательных частей...» Реплики: — А сигары в розовой коробке — барские. — Ни черта не поймешь. — Ярмарка! Тонкогубый: — А мне все как сквозь стеклышко. Поручика предлагаю при аэроплане шлепнуть, а краснофлотца частей этих самых, — он показал рукой на небо, — доставить до командира. Голосуем. Трое из партизан подняли руки, потом и главный поднял, но только не для голосования, а чтобы почесать затылок. Этой секундой я и воспользовался. — Меня нельзя при аэроплане шлепать, — говорю. — У меня специальное задание... Ведите и меня к командиру. — Брешет он, собака белогвардейская! — закричал тонкогубый и щелкнул затвором. — Хватит, попили нашей кровушки! Он, может, и прикончил бы меня сразу, но молчавший до этого Сорокин психанул окончательно: — Вы что, очумели, паразиты проклятые! Никакой он не белогвардеец, а самый настоящий рядовой боец Красной Армии!.. Сорокин хотел сказать еще что-то, но тонкогубый опередил его, визгливо выкрикнул: — Предлагаю шлепнуть у аэроплана и ентого. — Он указывал штыком на Сорокина. — Голосуем!5. Благоразумие графини Анри
— Милый капитан, я уезжаю. — У графини были прямо-таки лимонные глаза. И по цвету, и по форме. «Если бы сбылась голубая мечта моего детства, — подумал Долинский, — и я, как Брешко-Брешковский писал детективные романы, я бы начал главу о графине Анри так: «Она была красива. Но как-то очень не по-русски. И обычные сравнения, которыми наделяют российских женщин — березка, ивушка, рябина, — совсем не шли к ней. И ее легче было сравнить с магнолией или кокосовой пальмой, волей шального случая оказавшейся на черноморском берегу». В меру банально и романтично. Долинский, почтительно поцеловав руку графини, опускал ладонь медленно, чувствуя, как нежны и холодны ее пальцы. Она смотрела на него со своей обычной загадочной улыбкой. А может, и не загадочной, а просто порочной. Но Долинскому не хотелось в это верить. Потому что он знал графиню очень мало, знал с самой лучшей стороны. А слухи... К черту все слухи! Жизнь, подобно глыбе, сдвинулась с места и покатилась под уклон, давя и пачкая все святое. И прежде всего веру. Это было особенно жутко, потому что без веры человеку нельзя никак. Долинский считал, что верить в женщин и легко, и трудно, но еще и мистически приятно верить в женщину вопреки логике, вопрекислухам, сопутствующим ее имени. Вторым абзацем мог быть такой: «Графине, видимо, исполнилось тридцать. Или исполнится совсем скоро. Наверно, ночами она задумывается над тем, что уже подступает старость, и рассматривает себя в зеркало с грустью, трепетом, тоской». Годы... Долинский тоже не забывает о них, однако не считает морщин на своем лице, потому что они, морщины, равно как и седина, свидетельствуют об опыте, о зрелости, а это весьма важно для мужчины. К сожалению, опыт и зрелость, подобно духовным ценностям, — понятия не материальные. Может, в другое время, спокойное, как осеннее течение реки, личные качества человека, так сказать сокровища непреходящие, имели известную цену, но в нынешнее лихолетье люди, в их числе и молодые красивые женщины, уж очень откровенно предпочитают уму бриллианты, а благородству, честности — крупную сумму в твердой валюте. Долинский не имел намерения осуждать графиню. Да и осуждение как понятие, как критический процесс по отношению к женщине молодой, красота которой достойна всяческих эпитетов, едва ли соответствовало этическим представлениям капитана. Он мог принимать женщину или не принимать. Графиня Анри принадлежала к первым. Они шли аллеей к морю. И кипарисы стояли вдоль нее породистые, как аристократы на высочайшем приеме. Море лежало желтое, раздольное. Солнце ласкало его жарко, с томительной весенней страстью. И юные липы смотрели на море с открытой завистью, и птицы шалели, словно гости на свадьбе. — Евгения... — сказал он, коснувшись рукой ее локтя. Она остановилась. Завороженный ее профилем, он вдруг забыл слова, которые хотел сказать. Ему почему-то стало плохо — не в переносном, а в самом прямом смысле. Он понял, что может упасть на этой тщательно заасфальтированной дорожке. И от этой мысли пришел страх. И холодным потом покрылись лицо и руки. — У вас перевязана голова, — сказала графиня. — Ранение? — Пустяки. — Не храбритесь, Валерий Казимирович. — Она говорила тихо, но как-то очень озабоченно, словно была его матерью или по крайней мере старшей сестрой. — Епифан Егорович Сизов заверил меня, что немногие люди вашей профессии переживут эту весну и уедут к благословенным заморским берегам. — Я не собираюсь к заморским берегам. — Верите в победу? — Верю или не верю — какая разница?.. Лишь Россия для меня земля благословенная. — Вы полагаете, для меня Россия — пустое место?! — Ваши предки были французами. Он чувствовал себя уже лучше. Уверенно взял женщину под руку. И они продолжили путь по аллее к морю. Она шла очень легко, чуть наклонив голову. И он видел улыбку в уголках губ ее и догадывался, что лимонные глаза графини не подвластны грусти. — Моя прабабка была японкой. Да и у вас, бесстрашный капитан, к русской крови добавлена не только польская, но, может, еще и немецкая, и монгольская. Если историкам придется разбираться в вашем генеалогическом дереве... — Они обратятся к вам за помощью, — перебил Долинский, что очень удивило графиню, заставило остановиться. Посмотреть в лицо спутнику. — Ну все, — потерянно произнесла она после небольшой паузы, когда они оценивали друг друга взглядами. — У вас на лице, как в библии, написано и будущее, и прошлое. Не отрицайте, вы верите, что ваше мужество и бескорыстие принесут вам известность и признание соотечественников. — Я не думаю об этом. — Правда была бы вашим счастьем. — Я не вижу иного счастья, как в спасении отечества. — И вы собираетесь спасать его, работая в контрразведке? — Совершенно верно. — Вас убьют, капитан. — Так вещал Епифан Егорович Сизов? Она усмехнулась открыто, и доброта не покинула ее лица, равно как не покинули убежденность, спокойствие, — Епифан Егорович Сизов со вчерашнего дня мой супруг. Он имеет в швейцарских банках золота на восемь миллионов и еще шестнадцать судов в Средиземном море. Его непроходимое невежество может вызывать улыбку и даже раздражение, но он дальновидный человек, и в этом ему отказать нельзя. Графиня Анри говорила назидательно и громко, как гувернантка, вдалбливающая премудрости бестолковому воспитаннику. Но Долинский плохо слышал ее, складывая в уме новый кусок романа. Пусть будет так... «— Я счастлив за вас, графиня. И прошу не судить строго мою дерзость. Удобно, когда общество имеет одну гарантированную конституцию, но каждый человек живет по своей собственной конституции, которая внутри нас. — Вы хотите сказать, что наши с вами конституции несовместимы? — Ваши чуткость и проницательность ничуть не уступают вашей красоте. — Но есть же еще чувства, не подвластные уму. — Вот почему я буду бороться до конца. И хочу верить, что, если стану героем, ваша благосклонность и сердечность не оставят меня. А коли погибну — бог нам судья... И то и другое лучше, чем следовать за вами на Лазурный берег и быть стареющим пажем у ваших ног... — Вы не видели ног, о которых говорите, капитан. Иначе бы не торопились с выводами. — Охотно верю, графиня. Но счастье, увы, выпадает не каждому». «С ногами, конечно, перебор, — подумал Долинский. — А впрочем, в стиле времени. Графиня двадцатого года должна говорить именно так. Может, и правда, что год назад в пропахшем рыбой Ростове полуголодная Евгения за небольшое вознаграждение демонстрировала господам офицерам свои прелести. И не только демонстрировала, но иногда позволяла ими пользоваться». Они вышли к берегу моря, который не был расчищен. Водоросли лежали на камнях, как рыбацкие сети. Коряги и щепы, обглоданные волнами, чернели на берегу. Голубая дача купца Сизова стояла под горой, близ Сочинского шоссе, недалеко от поселка Лазаревский. Место было редкостным по красоте, сухим, хорошо продуваемым ветрами. Построенная в начале века, за десятилетие до первой мировой войны, дача несомненно являлась свидетельством благополучия и богатства ее владельца. Долинскому не приходилось раньше слышать фамилию Сизова в ряду крупнейших русских миллионеров. Но ведь сегодня положение с капиталами весьма своеобразно. Размер богатства нынче зависит от того, где были вложены капиталы — в России или за границей. Кто-то потерял все, кто-то много выиграл. Много ли выиграла графиня Анри? На это может ответить только будущее. Кажется, у купца Сизова нет прямых наследников. Он бездетен. А супруга его лет пять назад отбыла в мир иной. Может статься, что восемь миллионов золота в швейцарских банках и шестнадцать действующих паровых судов очень скоро достанутся молодой графине... — Счастье выпадает тем, кто за него борется. Это прописная истина, капитан. Но ведь все великие истины уже прописные. Долинский порадовался. Графиня говорила словно на страницах романа. — Я согласен с вами, Евгения. Я согласен очень. Я готов бороться за свое счастье. Потому не складываю оружия. Потому утверждаю: за пределами России для меня места нет. — Если у человека есть деньги, для него найдется место на земном шаре. Но как я догадываюсь, именно в бедности — истоки вашего патриотизма? — У нас с вами странный разговор. И совсем не в тональности, уместной для беседы очаровательной женщины с мужчиной, влюбленным в нее. Графиня требовательно спросила: — Это признание или издевка? — На последнее по отношению к вам я не способен, — ответил он вполне искренне. Она разочарованно сказала: — Вы опять ушли от ответа. Вот что значит сыскная школа. Повернулась и не торопясь пошла прочь от моря по аллее, тянувшейся к даче. Долинский покорно последовал за пей. — Мы уезжаем сегодня, капитан. Как только прибудет авто из Сочи. Епифан Егорович вызвал пароход. Завтра на рассвете он уйдет в сторону Стамбула. Я могу пригласить вас совершить с нами это путешествие, но, полагаю, вы откажетесь. Ибо подобный поступок означал бы дезертирство из рядов доблестной русской армии и с вашими принципами несовместим. — Я восхищен вашей дальновидностью. — Спасибо. Однако о дезертирстве может идти речь до тех пор, пока существует армия. Я верно схватываю суть? — Верно. — В самое ближайшее время остатки Кубанской армии прекратят существование. — Смелый вывод. — Деловые люди перебираются в Грузию, а кто побогаче — в Европу. Это признак краха. — У вас государственный ум, Евгения. — По мере того как вы будете узнавать меня, капитан, вы откроете во мне много неожиданных достоинств, — Оптимизм неизменно вселяет надежду. — Приятно слышать нотки бодрости в вашем голосе. — Я вовсе не нытик. — Он уже не был уверен в том, что этот разговор происходил наяву, а не в его воображении. — Выслушайте совет! — решительно сказала графиня. — В Лазаревском сейчас проживает известный искусствовед, собиратель древнерусской живописи профессор Михаил Михайлович Сковородников... При престарелом профессоре находится уникальная коллекция древнерусской живописи. Епифан Егорович предлагал за нее миллион: Сковородников отказался. — Сколько же коллекция стоит в действительности? — Этого никто не знает. Но уж если Сизов дает миллион, то два миллиона она стоит точно. Вы догадываетесь, что от вас требуется? — Уговорить профессора дать согласие на продажу. — Не совсем. Попросите у него коллекцию. — Я не понимаю. — Объявите себя знатоком, любителем. Я не знаю, — чертом, дьяволом! Попросите коллекцию на хранение. Для народа русского. А если откажется, конфискуйте... — Кто мне даст на это право? — Я даю вам право. Я... Когда коллекция будет в Европе, я уговорю мужа заплатить полтора миллиона. И тогда вам незачем будет ждать химерной победы над большевизмом, чтобы женщины видели в вас героя. Мужчина с деньгами — победитель всегда. Долинский подумал: «Вот и все. Моя ступенька в социальной лестнице та, на которой стоят громилы». Родилась концовка главы романа: «— Графиня! — гневно произнес капитан. — Вы смеете предлагать мне это? Поистине издевательская усмешка промелькнула в глазах и на губах женщины. Словно процеживая слова, она сказала спокойно и ясно: — В таком случае, я могу предложить вам гоголь-моголь. Он помогает при импотенции. Она повернулась. Гордая, стройная, продолжала путь к дому, только несколько быстрее, чем прежде...» Качнув головой, точно стряхивая наваждение, Долинский взял графиню за руку. Сказал устало: — Я подумаю над этой идеей, Евгения.6. Побег (продолжение записок Кравца)
Балки, почерневшие, дубовые, распирали стены сарая, держа на себе стропила, крытые старой дранкой. Солнечный свет, ручьями сочившийся сквозь дыры, золотил паутину, которая, точно сеть, свисала между балками, а паук, маленький, но пузатый, прятался, стервец, в самом углу под крышей, поглядывая крохотными хитрыми глазами. Мы лежали на сухих кукурузных стеблях, что были свалены в углу сарая. За дверью ходил часовой с винтовкой и мурлыкал какую-то незнакомую мне песенку. Лучи солнца, проникавшие в сарай, меняли угол, становясь все отвеснее. Время двигалось к полудню, а я лежал в сарае, где-то у черта на куличках. И меня охранял часовой, точно самую настоящую контру. Серега Сорокин глядел в мою сторону виновато. И кусал губы. И клял свой «фарман» на чем свет стоит. Командиром партизанского отряда оказался высокий, худощавый адыгеец в богатой черкеске с серебряными газырями. Он не пугал нас, не матерился, не грозился «шлепнуть немедля». Посмотрев мои документы, он выслушал доклад старшего группы, пленившей нас. Потом вежливо, с холодной улыбкой спросил: — Как прикажете поступить, господа? — Не господа мы, товарищи, — сказал Сорокин. — Пусть будет так. Что дальше? — Разведчик я. Посланный разведотделом девятой армии в Туапсе. Задание имею важное. Неужто такое диво, когда разведчик в форму врага переодевается? — Это хитрость, — согласился командир отряда. — Хорошая хитрость. Но почему я вам должен верить? Я полюбопытствовал: — Как же без веры? — Вопрос уместен. — Он опять согласился. — Но, веря людям, мы должны проверять. Иначе нас могут обманывать. Кто вас послал? — Товарищ Каиров. — Не знаю такого. — Я вас тоже не знаю. Но вы красный партизан. А я красный разведчик. У меня задание прибыть в Туапсе сегодня до захода солнца. Если я не прибуду вовремя, можете меня расстрелять. Завтра мне в Туапсе делать нечего. Озадачил я партизанского командира. Стал ходить он по комнате. Сапоги на нем мягкие, дорогие. Кинжал в серебряных ножнах. Остановился. Нас разглядывает. Говорит: — Вы мои гости. Я вам верю. Я вас понимаю... Наш кавказский обычай требует, чтобы гости тоже верили хозяину, тоже его понимали. Буду откровенен с вами, как с родным отцом... Я пошлю человека в Новороссийск. Пусть найдет там товарища Каирова, пусть привезет для вас добрые вести. — Когда он вернется? — с надеждой спросил я. — Быстро. Поскачет как ветер, друг. Как ветер... Лучшего коня дам. За два дня успеет. После этих слов у меня прямо опустились руки. Что делать? Как быть? А командир отряда сказал партизану: — Отведи гостей в сарай. Накорми. Пусть отдыхают. Хорош отдых! В шинели, но без поясов (отобрали пояса и у меня, и у Сорокина) я пригрелся на сухих кукурузных стеблях. Сорокин ходил по сараю. Хмурый, злой. Иногда он останавливался у дверей и разговаривал с часовым. — Эй, земляк. Ступай к командиру, пусть до аэроплана велит людей послать. — Чаво? — переставая бубнить песню, спрашивал часовой. — Охранять аэроплан надо. Дорогая эта машина. — Уж не дороже коровы. — Десять... Двадцать коров за ее цену купить можно. — Ты это брось! — сердито говорил часовой. И со смешком — дескать, простака нашел: — Двадцать коров! Корова телкой рождается. Ее три года растить и блюсти надобно. А это, тьфу, фанера да железяки. — Серый ты человек, — сокрушенно говорил Сорокин. — Крестьянин. — Это верно, — соглашался часовой. — Крестьяне мы... И опять бубнил свою песню. — Влипли! — Это Сорокин мне. — Ложись, — говорю, — экономь силы. Он на меня смотрит. В глазах решимость. — Хочешь, — говорит, — я сейчас воды попрошу. Откроет дверь часовой, я ему промеж глаз. А ты беги. Вон кони оседланные стоят... Сквозь щели виден затоптанный в навозе двор. И кони под седлами. Пять, шесть, семь коней. Я молчу. Сорок верст! Три часа езды по хорошей дороге. В горных условиях час набавить нужно. Четыре часа езды. Пусть пять... Теперь я тоже шагаю по сараю. Останавливаюсь у перекошенной двери. Она сколочена из старых, но крепких досок. Закрыта на щеколду. Дверь неплотно прилегает к наличнику. Между ними щель. Отлично. Я нахожу в сарае щепку. Крепкую, но достаточно тонкую... В конце концов, и я, и Сорокин рискуем одинаково. Кого из нас раньше пуля отыщет, разве угадаешь! — Начальник! — говорит Сорокин. — Слушай, начальник, у меня от вашего душевного гостеприимства живот расстроился. И далее, не выбирая выражений, пространно объясняет, по какому делу ему необходимо покинуть сарай. — Может, потерпишь. — В голосе часового нерешительность. — Побойся бога! — Уж приспичило, — ворчит часовой, но дверь распахивает. В светлом солнечном проеме фигура его точно вырублена из угля. Даже не могу разобрать, стар он или молод. Сорокин, потягиваясь, выходит. Скрипят петли. Звякает щеколда. Яркая полоска щели, вдоль которой дрожат серебристые пылинки, словно зовет меня. Я приник к шершавым доскам, теплым, пахнущим лошадьми. Вижу, как Сорокин и часовой идут по двору. Поворачивают к кустам. А кони стоят возле забора. И седла на них такие хорошие. И во дворе — никого из партизан. Пора! Сердце сжалось. И не только сердце. А будто весь я стал меньше и легче. Но страха нет. Лишь во рту пересохло, язык к нёбу прилипает. Щепка свободно вошла в щель. Подскочила щеколда. Эх, дверь, сатана, скрипит. Надрывно и громко. Я шагаю через двор. Ноги гнутся в коленях, норовят в бега броситься. Но бежать нельзя. Нужно идти спокойно, обыкновенно. Бег обязательно привлечет чье-нибудь внимание. Тогда крышка. Припечатают друзья партизаны в два счета. Кони вертят мордами. Сытые. Породистые кони. Я уже облюбовал вороную кобылку. Она стоит крайней. У дороги. Уздечкой за столб привязана. Узел подается хорошо, потому что руки мои ведут себя молодцом. С ногами дела похуже. В какой-то момент меня охватывает сомнение: смогу ли в седло забраться? Смог. Лошадь послушно выходит на дорогу. И я бросаю ее в галоп. Солнце, ветер... Низкие ветки деревьев. Они хлещут меня по голове, я пригибаюсь... Слышу запах лошадиного пота. И гудение пчел. Это, наверное, дикие мелкие пчелы. Теперь выстрелы! Я понимаю, догадываюсь, что никаких пчел не было. Просто гудели пули. Вот они... Справа, слева. Чего доброго, и куснуть могут. Жаль! День-то какой хороший. Теплый день, пахнущий весной. Как там Серега Сорокин? Прощай, краснофлотец воздухоплавательных сил! Видимость на дороге короткая, точно конский хвост. Повороты, повороты. Обалдеть от них можно. А за каждым поворотом нетрудно и на засаду нарваться. Ведь сидят где-то же в засадах партизаны. Неужели вокруг отряда охраны нет? Я слышу цоканье копыт. Ржание лошадей. Это погоня! Гнилое дело! По одну руку — овраг, растерзанный кустами. По другую — горы лесистые. Дорога — камни да глина. По такой дороге далеко не ускачешь. Спешиваюсь. Беру коня под уздцы и начинаю уходить в гору. Деревья заслоняют меня. И я слышу, преследователи проскакали мимо. Это хорошо. Однако нужно торопиться. Партизаны скоро поймут свою ошибку. А эти леса и горы они знают лучше, чем я. Час. Нет, конечно, больше часа шел я горами, оврагами. Иногда на коне, но чаще рядом. Мне нужно пробираться на юго-запад. И я легко определял направление, потому что небо было ясное, солнце не заслоняли облака. И оно красовалось передо мной. И я понимал, что иду правильно. На склонах гор дул свежий ветер, в оврагах же оседала духота. И воздух там был затхлый по-подвальному. Лошадь послушная, выносливая. Она шла рядом. И я слышал ее дыхание, чувствовал ее теплоту. Я называл ее словом «милая», потому что не знал ее клички, а это слово очень подходило к ней. Я старался идти быстро, но кусты, камни, деревья вставали на моем пути. И я с нетерпением мечтал выбраться хоть на какую-нибудь дорогу. Мне повезло. Теперь я понимаю, что там, в горах, когда за мной гнались свои же, партизаны, мне можно сказать, крупно повезло. Перевалив через лесистую вершину, я, к радости и удивлению, оказался вблизи железнодорожного полотна. Желтоватые от ржавчины рельсы, огибая гору, убегали по черным шпалам к морю на юго-запад. Я помнил: в этих местах только одна железная дорога. И она ведет к Туапсе. Шпалы лежали сношенные. Осевшие. И лошадь легко скакала между рельсами, не рискуя зацепиться и переломать ноги. Скоро с лошадью мне пришлось расстаться... Неожиданно пробасил гудок паровоза. Съехав с железнодорожного полотна, я спрятался в кустах. Через несколько минут по рельсам пошел густой стонущий гул. Из-за поворота показался товарный поезд. Он полз медленно, но вагоны казались пустыми. Лишь в тамбуре первого вагона дремал пожилой проводник. Я потрепал лошадь за холку: — Бывай здорова, милая! — и вскочил в тамбур предпоследнего вагона.7. Разговор об искусстве
Большое лицо Валерия Казимировича Долинского, подпаленное рыжей бородой, поза (сидел он в кресле, чуть подавшись вперед), взгляд, несосредоточенный, но живой, полный любопытства, выражали почтительное внимание к словам собеседника. Говорил профессор Сковородников. И чувствовалось, что Михаилу Михайловичу нравилось говорить несколько нравоучительным, менторским тоном. И Долинский слушал его терпеливо, подобно Телемаку — сыну Одиссея, и лишь изредка позволял себе вставить короткую фразу или задать вежливый вопрос. — Я специализировался на древнерусском искусстве. — Сковородников смежил ресницы. После паузы, длившейся около минуты, продолжил: — Из современников мне ближе всех... Духовно ближе... И видимо, по каким-то еще чисто вкусовым ощущениям, прошу прощения за несколько гастрономический речевой оборот... Мне близок Михаил Александрович Врубель. — Замечательный художник. — Я, простите меня, Валерий Казимирович, не выношу эпитетов в искусстве. Замечательный, превосходный — это разговорная манера салонных дам. Истые ценители обходятся без словесной мишуры. Вы не обиделись? — Мне по сердцу ваша прямота. — Ну и добро... Увлечение Врубелем дошло до того, что я отложил в сторону трактаты об иконах. И вот рукопись, которую вы видите на моем письменном столе, — будущая книга о Врубеле. Я постараюсь ее окончить. Говорю, постараюсь, потому что в моем возрасте жизнь меряют не на года, а в лучшем случае на часы, если не на минуты. — Так говорить нельзя. Будем надеяться, что у вас еще впереди годы жизни. Однако торопиться действительно нужно. По другой причине, профессор. Красные имеют тактический успех на побережье. И однажды могут оказаться в Лазаревском. — Белый и красный цвет интересны мне только на полотне. Я равнодушен к политике. Политикой нужно заниматься профессионально или не заниматься совсем. Я презираю дилетантизм. — Позволю, однако, заметить: вы уехали от красных из Москвы. — Я уехал из Москвы не потому, что там изменился цвет власти. Двадцать три года я имею дачу в поселке Лазаревском. И приезжаю сюда, когда сочту нужным. Здесь мне пишется. — Простите. Я отвлек вас неуместным замечанием. — Полноте, батенька. Вошла супруга Сковородникова — Агафена Егоровна. Женщина солидная, немолодая. В цветастом сарафане, в платочке. Похожая на большую добродушную матрешку. Принесла мужчинам чай на серебряном подносе. Сказала: — Милости прошу. — И деликатно удалилась. Чай был ароматный, хороших сортов. Прихлебывая из чашечки, Сковородников говорил: — Я не разделяю общепринятую точку зрения, что Врубель был послушным учеником Чистякова. Там, где речь идет об изучении природы, влияние Чистякова неоспоримо. Однако Михаил Александрович серьезно увлекался виртуозностью кисти и красками испанца Фортуни, совет Репина «искать себя» попал на благодатную почву. Такая работа, как «Натурщица в обстановке Ренессанса», показала, что у Врубеля определился собственный характер, что у него есть способность углубленно разрабатывать мотив, есть тонкий и сложный взгляд на природу. Наконец, есть своя палитра и хороший рисунок. Ведь когда в тысяча восемьсот восемьдесят четвертом году потребовался художник для работ в церкви Киево-Кирилловского монастыря, мы назвали единственного кандидата. Врубеля! И не ошиблись... В библейских акварелях Иванова, в византийских и итальянских религиозных композициях Врубель открыл новый источник красоты и вдохновения. Возьмите эскиз «Воскресение Христово». Духовное родство с Ивановым. Открытое родство! В «Надгробном плаче» мы находим своеобразное воскрешение византийского искусства. А вдохновенные «Богоматерь», «Святой Кирилл», «Святой Афанасий» доносят до меня отзвуки мозаик венецианцев пятнадцатого века. — Скажите, у него есть последователи? — Нет. Последователи — это и хорошо и плохо! Последователи — это значит школа. Направление в искусстве. Но Врубель слишком ценил индивидуальность. Он был вне направлений. Замыкался в себе. Шел своей собственной дорогой. Непоследовательно. Странно. Временами терпел неудачи. Он обособлен и слишком своеобразен, чтобы иметь школу и последователей. Изящная ложечка из почерненного серебра позвякивала о края чашки мелодично, словно колокольчик, потому что Долинский уже выпил почти весь чай, и тонкие фарфоровые края чашки резонировали превосходно. Облик и поза Валерия Казимировича по-прежнему выражали почтительное согласие со всем, что говорил Сковородников. А между тем мысли его были весьма далеки и от почтения, и от согласия... Он и сам не смог бы восстановить их в памяти последовательно и точно. Записать на бумаге так, чтобы потом разобраться, проанализировать. Они были какими-то мельтешащими и тревожными, как тени в глухую полночь. И еще они были неосознанными. Немного чужими. Вернее, просто чужими. Подсказанными графиней Анри в солнечный день на берегу моря. Тогда, чтобы успокоиться, обрести нормальное состояние духа, Долинский обратился к спасительному средству: мысленно начал складывать главу ненаписанного романа. «Его удручало течение беседы, в которой ему была уготовлена роль неоперившегося студента, тогда как прежде он надеялся увести разговор в выгодное для себя русло. Заставить проболтаться занудливого старика, где же он храпит свои изъеденные временем коллекции». «Да, — подумал Долинский. — Если я унесу ноги из чертова ада, я, наверное, стану писать книги. Наверное. Во всяком случае, это нужно иметь как запасной вариант». Поняв, что старик часами способен говорить о Врубеле, Валерий Казимирович воспользовался первой же паузой: — Мне рассказывали, вы увлекаетесь коллекционированием древнерусской живописи. — Этим я целиком обязан моему другу Павлу Михайловичу Третьякову. Павел Михайлович был, пожалуй, первым русским человеком, который взглянул на икону не только как на предмет религиозного культа, но и как на явление искусства. — И сколько стоит старая икона? — Долинский испугался собственного вопроса. Испуг отразился на его лице. И Сковородников заметил. И не разозлился. Только иронически произнес: — Я не знаю сейчас, сколько стоит кусок мыла. А кто способен определить цену иконы, приписываемой кисти легендарного Алимпия! Вы обратили внимание, я отступил от правила и употребил эпитет. — Нет правил без исключений. — Такая икона может стоить миллион, десять миллионов, а может, и все сто. — Золотом? — Вы неисправимы, мой дорогой! Не керенками, конечно... — Как же такое сокровище попало к вам? — Перст божий! Мне подарила икону старая, очень старая женщина в глухой владимирской деревушке. — Почитал бы за счастье взглянуть на икону хоть одним глазом. — Сейчас это невозможно. После моей смерти собранная мною коллекция займет место в картинной галерее. — Какой? — Не суть это важно. Главное, чтобы галерея была русская... — Вы убежденный националист? — Я патриот. Я всю жизнь служил России и ее народу. Вот все мои убеждения. У вас, разумеется, другой взгляд на эти вещи. — Россия больна. Увы, не с семнадцатого года. Она заболела раньше. И надолго... И кажется, ни барон Врангель, ни большевики не спасут ее. Âne paré ne laisse de braire*["3]. — Любопытная концепция. И какой же выход, батенька, предлагаете? — Я непригоден для роли вождя, — признался Долинский. И добавил: — Критиковать всегда легче. — Что верно, то верно, — согласился Сковородников. Кивнул: — Я очень благодарен графине Анри, что она рекомендовала мне вас в качестве своего друга. Долинский поднялся: — Мне хотелось что-нибудь сделать для вас, профессор. — Благодарствую, батенька... Коли сможете, достаньте хотя бы пачку «Кэпстэна»*["4]. — Буду счастлив... Но у меня есть разумное, перспективное предложение. Я предлагаю вам, Михаил Михайлович, вашей супруге Агафене Егоровне, не дожидаясь, пока большевики прижмут нас к границам меньшевистской Грузии, уйти вместе со мной в Константинополь. — Уйти? — На фелюге. — Увольте, Валерий Казимирович. Увольте... Чужеземные страны даже в молодости на меня навевали скуку... Если говорить откровенно: не вижу смысла в вашей затее. A navire brisé tous vents sont contraires.*["5] Долинский не то чтобы не посмел возразить, а просто не нашелся. Поклонившись, несколько церемонно сказал: — Я пришлю табак сегодня же вечером. — Благодарен вам буду, батенька... Трубка — моя слабость. На крыльце с почерневшими дубовыми перилами яркий солнечный свет резанул Долинского по глазам. И он на секунду зажмурился, а борода его вновь запылала, как факел. Ступеньки были только что вымыты, еще влажные, от них хорошо пахло пресной водой, а мокрая тряпка лежала в самом низу. И о нее следовало вытирать ноги тем, кто заходил в дом. Валерий Казимирович переступил через тряпку. На ухоженной дорожке, что тянулась от крыльца до калитки, он увидел Агафену Егоровну. Супруга профессора по-прежнему была в лубочном сарафане и яркой косынке. Казалось, она поджидала Долинского. С улыбкой, просительно Агафена Егоровна сказала: — Валерий Казимирович, мне бы только два слова. — Я готов слушать вас целый день, — любезно ответил Долинский, внезапно подумав, что в лице этой простой и, видимо, недалекой женщины он может обрести союзника. — Чем могу служить, Агафена Егоровна? — Валерий Казимирович, сударь мой, люди мы пожилые, немолодые. А времена нынче лихие... — Неспокойные времена, справедливо замечено. — Я об этом и говорю. На веку, как на долгой ниве, всего понасмотришься. Но вот такого беспорядка отродясь видать не приходилось. Слыхали, третьего дня господа офицеры пили — пили за победу русского оружия. Опосля дом подожгли, а сами в непотребном виде пошли купаться на море. — Вода-то еще холодная, — невпопад заметил Долинский. — Страсть холодная, — согласилась Агафена Егоровна. И безо всякого перехода сказала: — Я о чем хочу вас попросить... Прислали бы вы нам для охраны пару солдатиков. Если, конечно, можно. — Попробую. — Спасибо! Не за себя ратую и не за Михаила Михайловича... Коллекция при нас. Большой ценности. Пропадет если — беда. Утратил вес Долинский. Утратил от радости, от неожиданности. Кажется, оттолкнись он сейчас ногами — и, словно пушинка одуванчика, полетит над этим цветущим садом, над береговой галькой, блестящей от наката, над морем, раскинувшимся и вправо, и влево, и до самого горизонта. — Хранится коллекция в надежном месте? — Бог ее знает. Михаил Михайлович не сказывает. — Я что-нибудь сделаю для вас, Агафена Егоровна. Можете положиться на меня.8. Туапсе (продолжение записок Кравца)
Поезд, вздрагивая на стыках, медленно и лениво втягивался на запасный путь. Землистые от грязи, с облущенной краской, вагоны других эшелонов стояли в несколько рядов, загромождая все видимое пространство. Они стояли без паровозов, наверное, давно. И солдаты, и офицеры готовили на кострах варево, лазили под вагонами. Играли в карты, спорили... Я понял, что товарищ Каиров поступил правильно, нарядив меня в офицерскую форму. Мне будет нетрудно затеряться в этой безликой солдатской массе. Когда поезд остановился, я прыгнул из тамбура. Пролез под соседним вагоном. И неожиданно оказался перед группой офицеров. К счастью, они вели громкий разговор и не обратили на меня внимания. Полный, обрюзгший полковник, задыхаясь, выкрикивал: — Батеньки! Посмотрите по сторонам. Нас погубили вот эти эшелоны. Огурцы, сукно, пшеница. Хватай, бери! Довольствие местными средствами превратилось в грабеж! Боже мой! Тылы обслуживает огромное число чинов, утративших элементарное представление о солдатской и офицерской чести. Да-да, господа! Я опять нырнул под вагон... Наконец, когда железнодорожные пути и бесчисленные эшелоны оказались за моей спиной, я увидел перед собой маленький город, окруженный горами. Сады и деревянные домики на склонах точно гнезда. Навстречу мне шла пожилая дама, лицо под черной вуалью. — Извините, сударыня, вы не подскажете, где здесь улица Святославская? — Это на Пауке. — Как? — не понял я. — Приморская часть города, сударь, называется в Туапсе Пауком. — Мне следует идти к морю? — Вам лучше подняться на Майкопскую дорогу. Это сюда. — Дама указала рукой на изломанную, уходящую в гору тропинку. — Потом выйдите на Абазинский проспект. У типографии Гаджибекова сверните направо. И пройдите по Полтавской улице. А еще лучше вам добраться до набережной. Там по Ольшевской мимо больницы акционерного общества вы пройдете на Паук. — Премного благодарен. Земля крошилась под сапогами, шурша, сползала вниз. Короткая трава по краям тропинки утратила свежесть, окрасилась в пепельно-бурый цвет, так непохожий на яркую зелень, буйствующую на склоне горы. Майкопская дорога отличалась непривлекательностью и засохшей грязью, точно невымытые галоши. Сверху на нее наседали дворы. Дружные кавказские дожди размывали их. Тащили на дорогу землю и камни. Если земля, подхваченная ручьями, большей частью уносилась дальше вниз, к железнодорожным путям, то камни оседали на дороге, нагромождаясь один на другой, портили и без того сносившееся покрытие. Нижний чин вел солдат. Они шли вразброд, без лихости строевой выправки. На меня не обратили внимания, словно я был в шапке-невидимке. С дисциплинкой у них нелады. Это показалось мне хорошим предзнаменованием. Я спокойно пошел дальше. Люди попадались редко. И у меня сложилось впечатление, что Туапсе совсем безлюдный городишко. Однако я ошибся... По дороге я пришел в центр города на Абазинский проспект, где вдоль засаженного кленами бульвара теснились лавки, кабаки, магазины, просто деревянные домики без всяких вывесок. Бульвар был переполнен народом. Штатским, военным. В суете и гомоне, царящих вокруг, чувствовалась нервозность, обеспокоенность. Лица у людей были озабоченные, недовольные. — Поручик, будьте любезны! — Я не сразу понял, что обращаются ко мне. — Поручик! — Голос у женщины звучал властно и капризно. Она была совсем еще молода. Может, лет двадцати двух. Может, годом старше. И очень красива. Лицо нежное, холеное. Взгляд барский. И одета со вкусом. Голубое платье из дорогой материи. На плечах белый шарф. Черная шляпка, черные перчатки. И туфли тоже черные. Возле нее стояли две громадные плетеные корзины, в которых что-то лежало, завернутое в плотную бумагу. — Поручик, — она улыбнулась только губами, а во взгляде вдруг появилась пытливость и хитринка, точно у цыганки, — сделайте милость, найдите мне извозчика. Я оглянулся. И совсем неинтеллигентно, что свидетельствовало, прежде всего, о моей профессиональной неподготовленности, ответил: — Здесь проще найти слона или верблюда. Она засмеялась, кажется, искренне: — В таком случае помогите донести эти корзины. Мой дом недалеко. Корзины словно приклеены к земле. С трудом поднял их. Сказал: — Здесь, конечно, золото? — Посуда. Из саксонского фарфора. Теперь в Туапсе можно купить все, даже саксонский фарфор. — Вы местная? — Я родилась в Туапсе. В этом городе прошло мое детство. Но потом... я жила в Ростове. Училась музыке. — Вы играете на гитаре? — не подумав, спросил я: вспомнилась наша санитарка Софа, которая тоже была из «бывших» и чудесно играла на гитаре. — На рояле. — Солидный инструмент. Вам будет трудно увезти его отсюда. — Куда? — В Турцию, во Францию... — Я русская. Мне хорошо и здесь. — А большевики? — Вы полагаете, что я капиталистка? — Сомневаюсь, удастся ли вам убедить красных в своем рабочем происхождении. — Увы! Ваша правда... Мой покойный папа имел в Туапсе баню. Теперь я единственная владелица бани и хорошего дома в пять комнат. Я смело смотрю в будущее по двум причинам. Первая — баню никак нельзя назвать эксплуататорским предприятием, тем более что мой покойный отец был не только хозяином, но и банщиком и мозолистом. Вторая причина — люди будут мыться в бане при любом политическом устройстве. — Да... Вы барышня образованная. — Я бы сказала, начитанная. А вы, как я понимаю, поручик, из пролетариев. — Заметно? — Заметно. Впрочем, вы не очень и стараетесь это скрыть. Человек, в котором есть порода, человек, чье детство прошло под бдительным оком гувернантки, не стал бы в такой вот ситуации нагонять на девушку политические страхи. Он предпочел бы шутки и легкий флирт. — Это верно, — согласился я. И, вспомнив, что, как офицеру связи генерала Юзедовича, мне следует как-то объяснить свою простоту, добавил: — Вы говорите очень верно и очень мило. К сожалению, мы огрубели за годы бойни. И теперь не только поручики из пролетариев, но и офицеры из баронов грубы, точно портовые грузчики. Корявые акации с белыми кистями стояли словно в кружевах. Они росли по правой стороне улицы, с другой стороны на них, как женихи, смотрели длинные тополя. Их вершины высоко уходили в небо. Оно по-прежнему было голубым и солнечным. Дом покойного владельца бани, как и большинство увиденных мною домов в Туапсе, был построен в саду за фруктовыми деревьями. Я втащил корзины на террасу, когда-то синюю, но давно не крашенную. Половые доски с темными щелями скрипели под ногами. В доме, видимо, никого не было. Потому что барышня открыла дверь ключом. И мы вошли в просторную неприбранную комнату, в правом углу которой стоял чуть припыленный рояль. Два окна бросали на него по желтому солнечному квадрату. И пыль от этого была еще приметней. Слева, у глухой стены, громоздился диван. На нем в беспорядке валялись какие-то тряпки. На круглом столе с полированными гнутыми ножками теснились тарелки. На них — остатки еды. Барышня равнодушно пояснила: — У меня постоялец — врач. А дом построен глупо. Остальные комнаты смежные. Мне пришлось перебраться сюда, потому что не могу без рояля. — Как вас зовут? — спросил я. — Клавдия Ивановна. Вы тоже не представились. — Никодим Григорьевич Корягин, — выпалил я. — Офицер связи пятого кавалерийского корпуса генерала Юзедовича. — Разве пятый кавалерийский корпус прибыл в Туапсе? — деловито спросила Клавдия Ивановна. — Нет. Я откомандирован в распоряжение штаба Кубанской армии. — Простите, поручик. Я оторвала вас от важного дела. — Я рад был помочь вам. — И я... Я благодарю случай, познакомивший нас. На ее лице была улыбка, но как мне показалось, не очень искренняя. — Приятные минуты всегда коротки. Мне пора... Вы не подскажете, как пройти на улицу Святославскую? Она не сумела скрыть удивления: — Святославскую?! Вам какой дом? — Четырнадцать, — соврал я. — Там нет такого дома, — сказала она. — Это очень короткая улица. Последний дом номер восемь. — Значит, я что-то путаю. — Похоже. Вам лучше всего идти через центр. Выйдите к морю. И направо по дороге, вдоль берега. — Спасибо вам. Прощайте. — Одну минутку, поручик. Во-первых, не прощайте, а до свидания. Во-вторых, мне хотелось отблагодарить вас. Вы, конечно, курите. — Угадали. Клавдия Ивановна подошла к дивану, из-под цветастого покрывала достала черный ридикюль. Раскрыла его! — Вот смотрите. В руке ее блестел никелированный квадратик. Она нажала кнопку. И над квадратиком поднялось крохотное желто-голубое пламя. — Это зажигалка, — пояснила опа. — Я дарю ее вам. Сколько папирос выкуриваете за день? — Штук пятнадцать. — Великолепно. Ежедневно пятнадцать раз вы будете вспоминать обо мне. — Я не могу принять ваш подарок. Это. очень дорогая вещь. — Вы меня обижаете, поручик. — Извините. Спасибо. — На здоровье, — насмешливо ответила Клавдия Ивановна. — Если у вас будет время и вы пожелаете послушать музыку, приходите. Вечерами я редко расстаюсь с роялем... — Спасибо. — Теперь последняя просьба: отнесите корзины за рояль. Как вы догадываетесь, им не место в центре комнаты. Я поднял корзины. Понес их к роялю. Но там, в углу, проявил неосторожность. Одна из корзин, правая, зацепилась за выступ подоконника. Ручка с хрустом оторвалась. Корзина перевернулась. Послышался треск битого стекла — и... десятка два ручных гранат, градом застучав об пол, раскатились в разные стороны. Позднее я часто задумывался над тем, что же испытал в то мгновение: страх, удивление, недоумение? Кажется, ни того, ни другого, ни третьего. Случившееся было некоторое время выше моего понимания. И меня захлестнуло изумление, какое бывает вызвано ловким карточным фокусом. Рука Клавдии Ивановны, нежная, белая рука с тренированными пальцами, скользнула в глубину ридикюля. А потом я увидел короткий никелированный пистолет. — Вы будете в меня стрелять? — спросил я. Она ответила очень уверенно: — Да. Если вы попытаетесь отсюда выйти. — Это смешно. Какое мне дело до ваших штучек! — Возможно, вы и правы. Но ничего другого я не могу придумать. — Думайте быстрее. — Не получается. Я на это не рассчитывала. Вы такой ловкий и сильный... И вдруг такая неосторожность. — Я должен идти. Она отрицательно покачала головой. Взгляд ее не выражал ничего, точно большие серые глаза были стеклянными. — Вы когда-нибудь убивали человека? — спросил я. — Не приходилось. — Думаете, это легко? — Я привыкла к трудностям. — Слышите, я не спрашиваю, кто вы. И вы не спрашивайте меня. Но я не враг вам. — Вы знаете мою тайну. — Гранаты. Может, вам подсунули их вместо фарфора. — А если я коллекционирую взрывоопасные предметы? — У каждого свои чудачества. — На все есть ответ. — И выход из любого положения есть. Если подумать. — Однако вы мешаете мне думать. Мешаете своими разговорами. — Обычно я не страдал разговорчивостью. Это нервы. — Может быть... — У вас есть закурить? Она могла бы сказать, что не курит или что у нее нет папирос. Просто отказать. Но я спросил, как говорится, без всякой задней мысли. Вопрос получился естественным. Клавдия Ивановна вновь раскрыла ридикюль... И в этот момент я ударил ее крышкой от корзины.Ну... Я вновь на том самом, кишащем людьми бульваре, где минут тридцать назад встретился с Клавдией Ивановной. Я понимаю, что тогда мне следовало всерьез задуматься над тем, кто же эта молодая женщина или барышня, обожающая рояль и гранаты. Ручные, солдатские гранаты, с убойной силой на пять метров. Что за доктор поселился в ее неудобно построенном доме? Но времени не было... Солнце начало клониться к западу. Часы на площади, крутобокие, словно бочонок, показывают ровно три. Нужно пробираться на Паук. Странное название. Будто из сказки о Кащее Бессмертном. Хочется пить. Это от быстрого бега. Когда я выпрыгнул в окно, то подумал, что Клавдия Ивановна начнет палить мне в спину.Но она не стала стрелять. Не захотела привлекать внимания. Пить, пить... И толстая тетка прямо из окна выходящей на тротуар квартиры бойко торгует петровским квасом. Увы, мои карманы пусты. В них — ни копейки. Хотя товарищ Каиров снабдил меня приличной суммой, приведшей в изумление командира партизанского отряда. А это что за очередь? Чем здесь торгуют? Керосином. В блестящем клеенчатом фартуке, в кепке с обгрызенным козырьком, керосинщик ловко наполняет латунную меру. Керосин, фиолетово-желтый, льется из широкого крана и немного пенится, точно квас. Кто-то берет меня за плечо. Я поворачиваю голову — и глазам своим не верю. Чистое наваждение. Да это же партизан. Тонкогубый, что предлагал меня и Сорокина у самолета «шлепнуть». — Рад вас видеть, господин поручик, — говорит. Я спрашиваю: — А как вы сюда попали? Но тонкогубый не отвечает на мой вопрос. Повелительно говорит: — Берите его. Двое солдат хватают меня за руки. Но злость придает мне силы. Я раскидываю солдат, словно они тряпичные. Бросаюсь вперед. На моем пути внезапно вырастает старик с бутылью керосина, которую он держит на груди, точно малого ребенка. Падает дед, падаю я. Падает и бутыль. Разбивается о мостовую. Солдаты бросаются за мной. Толпа шарахается, опрокидывает бочку с керосином. Я лежу в луже керосина. А керосинщик матерится на все Туапсе. Да, он потерпел убыток. Стучат о тротуар сапоги. Тротуар старый, словно ему сто лет. Перекошенный, истоптанный, трещины вдоль и поперек. Люди расступаются, давая дорогу мне и моим конвоирам. На лицах я не вижу испуга или презрения, но и сочувствия не вижу тоже. Нас сопровождает шепот, скороговорка, ясные, членораздельные реплики. Из них узнаю, что я торговал опиумом, изнасиловал двенадцатилетнюю, украл золотой брегет у командира полка... Тонкогубый возглавляет процессию. Он идет шага на три впереди меня. А конвоиры на полшага сзади. Бежать бессмысленно. Пристрелят. А если и пожалеют пулю, все равно догонят. Я вижу рябое от солнечных бликов море. Причал. Плосковатый, черный сухогруз, ошвартованный в дальнем конце причала. Дым, точно гребень, над его тощей трубой. Но меня ведут не на корабль. Мы поворачиваем вправо. И деревянные неприветливые дома заслоняют море. И делается немного грустно и тоскливо. Мы останавливаемся возле старых ступенек, которые поднимаются та широкую террасу. У порога переминается с ноги на ногу часовой. Молодой, розовощекий. Нос пуговкой, глаза мелкие. Тонкогубый говорит: — Мы к капитану Долинскому. Часовой ничего не отвечает. Равнодушно поводит подбородком, точно лошадь, сторонящаяся мух. Дескать, проходите. Миновав террасу, оказываемся в тесной полутемной прихожей. Запахи — табака и перегара — как в трактире. Даже керосин перешибают. Три двери. Тонкогубый стучит в среднюю, приоткрывает: — Разрешите, господин капитан? В комнате возле стола, заваленного папками, рыжебородый мужчина в штатском. Ему уже, конечно, за сорок. Волосы наполовину седые. Лицо бледное. Голова перевязана бинтом. Нос заостренный. Он смотрит на меня не пристально, а напряженно, словно между нами туман. Может, голова у него трещит. А может, вообще такая подлая манера смотреть на людей. — Это он, — коротко выдыхает тонкогубый. Капитан Долинский молчит. Потом опускает глаза, перебирает папки. Кажется, бесцельно. — Позвольте сделать заявление, господин капитан, — говорю громко я. — Человек, который задержал меня, — большевистский агент. Я видел его сегодня в партизанском отряде. — Кто вы? — Долинский вновь смотрит на меня, на этот раз, кажется, тумана между нами нет. — Поручик Корягин. Офицер связи кавалерийского корпуса генерала Юзедовича. — Документы? — Я бежал из партизанской тюрьмы. Документы у меня отобрали партизаны. — Он говорил, что послан в разведку штабом девятой армии красных, — сказал тонкогубый. — Это правда? — спросил капитан. — А что другое я мог сказать? Долинский поморщился, потер пальцами виски: — Заприте поручика в чулан. Я допрошу его позже. Приказание выполнено. Я сижу в квадратном четырехметровом чулане, двери которого выходят на террасу. По маленькая отдушина выглядывает прямо в коридор. Одновременно она служит и окном. Слабый мерцающий свет проникает сквозь нее. А мои глаза уже привыкли к темноте. И я хорошо различаю пустые полки, табурет. На отдушине, разумеется, нет стекла и решетки тоже нет. Но она крохотная. Даже голова моя сквозь нее не пролезает. Часового у чулана не поставили. Часовой ходит перед террасой. Но дверь крепкая. Ее без шума не сломаешь. Духота. А керосином прет от шинели — до тошноты. Я стаскиваю ее, бросаю на пол. Но запах керосина не исчезает. Наоборот, усиливается. И вот тогда у меня возникает желание распрощаться с шинелью окончательно. Я с надеждой смотрю на отдушину... За стеной в коридоре тишина. Может, офицерье дрыхнет после обеда... Дрыхнет, похрапывая и причмокивая. Скатав шинель в этакую длинную и гибкую колбасу, я подвинул к стене табурет. Забрался на него. И начал не спеша просовывать шинель сквозь отдушину. Сейчас все зависит от случая: пройдет или не пройдет кто-нибудь из белогвардейцев по коридору. А пока была тишина. Когда шинель почти полностью скрылась за стеной и в отдушине торчал лишь край ее подола, похожий на огромный фитиль, я чиркнул зажигалкой. И поднес к шинели желтый ноготок пламени. Керосин вначале вспыхнул рыже и ярко, потом закурчавился копотью. Я спрыгнул на пол, поднял табуретку. И ее ножкой окончательно вытолкнул шинель за стену. Оставалось ждать. При падении огонь мог угаснуть, но мог разгореться еще сильнее. Вскоре клубы дыма повалили в отдушину. Хорошо. Все идет хорошо! Еще немного... А вот уже кто-то кричит: — Горим! Захлопали двери, зазвенели стекла. Понятно. Горел ведь коридор. И господам, чтобы выбраться из дома, пришлось пользоваться окнами. Плечом наваливаюсь на дверь. Крепко стоит, проклятая! Толчок. Еще раз... Трещит наличник. Дверь распахивается... Толстомордый фельдфебель с ведром кричит мне: — Посторонись, ваше благородие! Во дворе толпа зевак из гражданских. Я сбегаю с террасы, ору во все горло: — Песок! Давай песок! Не то рванет, мать твою!.. Народ шарахается. Мне легко удается затеряться в толпе.
9. Сгорихата (продолжение записок Кравца)
Синь, заволакивающая город, ступает на цыпочках. Она крадется по веткам, улицам, крышам. Жмется к заборам. Густеет под ними. И улицы сужаются. Худеют. Прежде я никогда не замечал, как наступает вечер. Не было времени присматриваться к красотам природы. Даже не подозревал, как неохотно земля со светом расстается. Норовит промедлить, словно влюбленная. А мне это на руку. Я сижу между бочками (здесь какой-то склад бочкотары) и при робком закатном свете вижу улицу Святославскую. Она и в самом деле короткая. Четыре дома — по одну сторону, четыре — по другую. И под горой вот этот полузаброшенный, неохраняемый склад. Дом восемь — напротив склада, чуть левее. Мне думается, что Микола Сгорихата не повторит моих ошибок и не пойдет через центр города. На аэродроме товарищ Каиров говорил, что Микола уже как-то бывал в Туапсе. Значит, скорее всего, он будет пробираться на Святославскую тихими горными улочками. Подальше от контрразведки и комендантских патрулей. Он должен прийти сегодня вечером. Если, конечно, ничего не случится... Вот и вечер. Хорошо, что лунный. Полная луна, яркая. Важничает над горой, словно выкрикнуть хочет: «Смотрите! Любуйтесь!» Дом номер восемь выглядит при лунном свете многозначительно и таинственно, как замок. Он двухэтажный, с остроконечной крышей, не прячется в глубине сада, подобно большинству других домов. Он стоит совсем близко, у забора из редкого, невысокого штакетника. В сторону улицы выходит четыре окна. Все темные. Кроме одного на втором этаже. Там мерцает огонек. Но окно завешено плотной шторой. Возле соседнего дома на скамейке сидят трое мужчин. И еще женщина, закутанная в платок. Один из мужчин играет на гармошке. С большим мастерством и душевно. Прохожие появляются на улице очень редко. Ничего удивительного. Святославская улица что ни на есть самая окраина. Роса охлаждает пустые бочки, сухую землю и мою непокрытую голову. Продираясь сквозь толпу, я потерял фуражку. Не беда. На дворе весна. И Черное море рядом. Хотя, честно говоря, вечера все-таки здесь прохладные. У меня пересохло в горле. Давно хочется пить. А колодец метрах в сорока. В конце улицы. Но я не могу больше рисковать, добравшись с такими трудностями до цели. А может, никакого риска в этом нет. Не знаю. Не имею опыта работы в тылу врага. И делаю одну ошибку за другой. Хватит ошибок! Люди сутками, случается, не пьют и не умирают. Терпение — лучший друг разведчика. Это мое собственное открытие, не вычитанное, не услышанное. Правильно оно или нет? «Правильно» — от слова «право». Имел ли я право бежать один, подвергая Сергея Сорокина смертельной опасности? Если рассуждать по-простому, то мы обязаны стоять друг за друга, как на кулачной схватке. Сам погибай, а товарища выручай. Бежать — так вместе, под. пули идти — тоже вместе. Это и есть братство. Это и есть плечом к плечу. Но а с другой стороны... Я теперь не я. Не Димка Кравец — красноармеец второго отделения первого взвода третьей роты. А разведчик. И взял меня товарищ Каиров к себе не за красивые глаза, а по партийной рекомендации. И я обязан оправдать доверие. А война — она жестокая. Она без жертв, без риска, без мужества не бывает. И тут уж как кому повезет. Успокаиваю я себя такими размышлениями... Вдруг вижу, возле колодца человек покачивается. Похоже, под хмельком. А мне воды хочется. Трудно передать как. И слежу я за этим человеком, точно в цирке за клоуном. И замечаю... Нет, быть не может! Микола Сгорихата в разведке — и вдруг пьяный! А если он прикидывается. Пьяный наверняка не вызовет подозрений у военного патруля и у контрразведки. А возможно, мне мерещится? Внушил себе. И вот в каком-то забулдыге чудится Сгорихата. Бочка за моей спиной покачнулась. Значит, налег на нее с силой. А пьяный поворачивается. И луна ему в лицо. Эх, была не была! Засидел я ноги. Покалывает в икрах, когда иду к колодцу. Но теперь уже не сомневаюсь, что передо мной Сгорихата. В стеганом ватнике. Мятой кепке. — Ты меня узнаешь, Микола? Это я, Кравец! — С поручиком Кравцом не знаком. — Нализался, чертяка! Голову тебе оторвать мало. Я себе все жилы вымотал, чтобы встретить тебя здесь. — Говори спокойно, — просит Сгорихата и тихо стонет. — Я от товарища Каирова. Он послал предупредить тебя, что явка на Святославской, восемь, провалена. Ею пользоваться нельзя. Но твое задание остается в силе. Уходим скорее отсюда. Обнимаю его за плечи. На этот раз он стонет громко: — Ранили меня, Кравец. Прострелили плечо левое. Кажется, ключица перебита. — Дела... — растерянно произношу я. Неторопливо идем к моему убежищу. Я поддерживаю Миколу за здоровый локоть. Но все равно при каждом шаге лицо его искажается от боли. — За бочками, в безопасности, и обмозгуем, что делать. Я здесь уже часов шесть отсиживаюсь. Помогаю Миколе опуститься на покрытую росой землю. Он прислоняется здоровым, правым плечом к бочке. Говорит: — Попробуй стащить с меня ватник. Нужно бы хоть чем перевязать... А то я приляпал на рану шмоток рубашки. Расстегиваю ватник. Осторожно тяну за рукав. Микола корчится от боли. Голова у него горячая. И сам словно прогретый солнцем. — Слушай, — говорю, — кажется, не с того бока. Давай сначала с правой стороны потащим. — Погоди! — вертит головой Микола. — Лучше о деле. А то, чего доброго, я еще отключусь. — Что ты! — успокаиваю я. — Если сразу не убили, если на своих двоих топаешь, значит, рана несмертельная. — Все верно. Да, кажись, крови много утекло. Ощупываю ватник — липкий, набухший. Относительно крови Сгорихата не ошибается. Тихо, едва слышно произносит: — При штабе Кубанской армии есть офицер контрразведки. Капитан Долинский. — Знаю такого, — спокойно говорю я. — Откуда? — встрепенулся Микола. — В гостях у него был. Чай не пил, но в чулане, где раньше варенье хранилось, сидел. — Ты проще мне объясняй. Не улавливаю я, когда шутки шуткуешь, а когда дело толкуешь. — Задержали меня белые. Да я сбежал. — Молодец, — прохрипел Сгорихата. Помолчал, верно собираясь с мыслями. Потом сказал: — Его люди как собаки в меня вцепились. Едва ушел в перестрелке... — Понятное дело. — Вдруг со мной что случится... За все отвечаешь ты. — Сказав это, Микола точно избавился от тяжелой ноши. Вздохнул глубоко. И опять прислонился к бочке правым плечом: — Есть еще один пароль. Про него Каиров ничего не говорил? — Нет. Говорил лишь, что на Святославской явка недействительна. Луна голубила бочки. И лицо Сгорихаты. И оно казалось неестественным, застывшим, как у покойника. — Микола, ты чего... Не засыпай, Микола. Мы сейчас ватник стащим. И я перевяжу тебя... — Огонька не найдется, мужики? — уловил я голос за своей спиной. Их стояло трое. Мужчин. Двое поплотнее, солиднее. Третий молодой, с гармошкой под мышкой. Луна была за спинами пришельцев. И лица не были освещены настолько, чтобы по их выражению можно было определить, добрые или дурные намерения у этих людей. — Есть, — ответил я. И вынул из кармана зажигалку. Я говорил спокойно... Если они из деникинской контрразведки, нам с Миколой все равно не отбиться. Если же это просто люди, то, значит, у них есть сердца. И тогда... Можно разжиться горячей водой, чтобы промыть Миколе рану, попросить бинтов, а на худой конец чистых тряпок. Седоволосый мужчина с коротким поперечным шрамом на лбу наклонился к огоньку, сжимая в губах толстую самокрутку. Выпустив струю дыма, он сказал, имея в виду зажигалку: — Хорошая машинка. Подари. — Дареное не дарят, — ответил я. Чуть повернув голову, седоволосый сказал в темноту: — Клава. Из-за бочек неслышно, точно скользя над землей, появилась закутанная в платок Клавдия Ивановна. Одета она была гораздо проще, скромнее, чем днем. Теперь я понял, что перед нами те самые люди, которые весь вечер сидели возле забора, слушая голосистую гармошку. Посмотрев на меня, Клавдия Ивановна кивнула седоволосому, не сказав ни слова. Через секунду она опять исчезла. А во мне заметалась мысль: может, я сплю и все это только кажется? — Почему на вас форма? — спросил седоволосый. — Не ходить же мне голому! — Вы не офицер. — А вы? Вы кто такие? — Дотошность седоволосого взвинтила меня, и теперь я говорил пренебрежительным, ленивым голосом, который может считаться уместным лишь за полминуты до начала драки. — Мы местные жители, — сказал седоволосый. — Исчерпывающий ответ, — заметил я. — Помоги мне подняться, — неожиданно попросил Микола. Его желание было очень некстати, потому что, пока я наклонялся, они могли сбить меня с ног. И легко повязать нас. Но они не сделали этого. Микола стоял нетвердо, по-прежнему чуть пошатываясь. Но глаза его были зрячими. Смотрели испытующе. — Мне сказали, — с трудом выговаривая слова, начал Сгорихата, — что у вас можно одолжить бот под названием «Петр Великий». Я решил, что Микола бредит. Однако седоволосый, переглянувшись со спутниками, четко сказал: — Бот требует ремонта. Имеется лодка под названием «Катюша». — Товарищи... — произнес Микола. И рухнул на землю. Одновременно седоволосый со шрамом на лбу и я подались к Миколе. — Что с ним? — Ранен в плечо. — Вас преследовали? — Мы шли порознь. Он не успел рассказать мне подробности. — Принесите воды. Ушел тот, что без гармошки. Вернулся быстро. Вода капала из фуражки, желтая, с искорками. И пальцы у мужчины были мокрыми. Значит, колодец был неглубоким, и, черпая фуражкой воду, он замочил руки. Седоволосый плеснул прямо в лицо Сгорихаты. И Микола очнулся. Он дышал тяжело, хрипло. Но сделал попытку встать. И мы подхватили его за поясницу. Поставили на ноги. — Товарищи, — сказал Сгорихата. — Друзья... Он умолк, словно забыл следующее слово. — Вас успели предупредить, что явка на Святославской недействительна? — спросил седоволосый. — Все же кто вы? — вопросом на вопрос ответил я. — Странно... Откуда же вы знаете пароль? — Я не знаю никакого пароля. — Он говорит правду, — подтвердил Микола. — Пароль знаю я. Кравец был послан за мной вдогонку, чтобы предупредить о проваленной явке. — Мы вторые сутки держим Святославскую под наблюдением с этой же целью, — сказал седоволосый. — Если не ошибаюсь, вы товарищ Матвей? — Сгорихата сейчас дышал спокойнее. — Каиров мне рассказывал, как вы бастовали на Путиловском. И про шрам... Матвей усмехнулся: — Этим шрамом царская охранка меня на всю жизнь пометила. Слушая их разговор, я изумлялся. Причем изумление мое не было вызвано приливом восторга. Наоборот, я не очень доверял этому Матвею. И боялся, что из-за потери крови Сгорихата утратил бдительность. И теперь выбалтывает военные тайны первым встречным, быть может подосланным тем самым капитаном Долинским, которому мы должны устроить неприятности в жизни и помешать отбыть к турецким берегам. — Нужно поскорее уходить отсюда, — сказал Матвей. — Правильно, — согласился я. — Но прежде я должен поговорить с Миколой с глазу на глаз. — Говори. Здесь все свои хлопцы. — Нет! — заупрямился я. — Хочу напрямик. — Хорошо, — сказал Матвей. — Только побыстрее. Они ушли. Далеко ли? Угадать трудно. Потому что кругом пустые бочки. — Слушай, Микола! — начал я. — Смотри на мой палец. Он у тебя в глазах не двоится? А меня ты хорошо видишь? Бороды, усов на моем лице нет? — Я тебя хорошо вижу. И лицо твое бритое, и палец не двоится. — Тогда какого ты черта раскрываешься перед первым же встречным-поперечным! — Они знают пароль... — Но ведь явка... — Я говорил, Каиров дал мне два пароля. Первый — явочный. Второй — для связи с подпольной партийной организацией. Он показывал мне фотографии товарища Матвея. Рассказывал о приметах. — А если Матвей переметнулся? — Говори, да не заговаривайся. Они с Каировым друзья. Большевики-путиловцы. А здесь, в Туапсе, Матвей — член городского подпольного комитета. — Между прочим, — сказал я, — эта женщина, которая появилась перед нами и исчезла, словно видение, сегодня в полдень целилась в меня из пистолета. Рукавом ватника Сгорихата вытер пот с лица. Было ясно, что силы Миколы иссякают. — Товарищи! — позвал я. Когда нас опять стало пятеро, Микола сказал: — Вы правы. Нужно убираться отсюда. — Но вначале надо сделать Миколе перевязку, — заметил я. Нет, во мне еще не было полной уверенности, что мы действительно повстречали друзей. Но если это враги, то, значит, мы влипли крепко. И здесь уж, кажется, ничего не поделаешь.Стук в дверь... Есть в нем что-то похожее на кошку — такой же настырный и вкрадчивый. Крыша тенью окутывает маленькое крыльцо, и, хотя двор и улица брызжутся лунным светом, мы плохо видим Матвея, стоявшего перед дверью. Собаки не лают. Вернее, лают, но где-то далеко на горе, а может быть, и за горою. На этой улице тихо, вот только стук в дверь. Он беспокоит меня. Настораживает. Я сжался, точно для прыжка. Что ждет нас за дверью? Обстановка такая: Матвей на крыльце, мы все на улице, за забором, двое поддерживают Сгорихату, а я стою у них за спинами, шагах в трех. Если в доме засада, я, возможно, сумел, бы убежать. Но не бросать же в беде Сгорихату! Кто-то отворил дверь. И Матвей с кем-то шепчется. О чем? Я еще не рассказал, почему мы здесь. Когда за бочками они перевязывали Сгорихату, то, увидев, сколько крови он потерял, решили, что его надо обязательно показать врачу. Пустыми переулками, дворами мы пробрались к его дому. Клавдия Ивановна смотрит на меня с улыбкой. У нее очень добрый, располагающий взгляд. И я бы, конечно, верил ей, если бы у меня отшибло память и я забыл бы, как она держала в руке пистолет и в глазах ее не было ничего, кроме холода. Спускается с крыльца Матвей. Товарищ ли он? Луна оделила голову его серебром, и он сейчас не очень похож на старого путиловского рабочего. — Они мобилизовали всех городских врачей, — говорит Матвей. — Мой постоялец — доктор, — говорит Клавдия Ивановна. — Он дома? — Думаю, что да. — Идем, — решает Матвей. — А можно ему довериться? — спрашиваю я. — Не выдаст? — Не позволим, — отвечает Матвей и достает из кармана револьвер. — Кстати, у вас есть оружие? — Нет, — признаюсь я. — Возьмите. Пригодится. Сжав рукоятку увесистого револьвера, я не просто почувствовал себя увереннее — меня покинуло, если можно так сказать, чувство неполного доверия к этим повстречавшим нас людям. — Предстоит миновать опасный район. Будем следовать так: мы четверо впереди, Клава и Кравец сзади. Идите медленно, под ручку. Воркуйте о чем-нибудь. В случае опасности Семен заиграет на гармошке... Мы почти одного роста? Нет. Это прическа у нее высокая. А плечами она пониже меня. И духов, чувствую, не пожалела. — Кравец, согните руку в локте. Я сама возьму вас. Так будет удобнее. Я сгибаю руку, но, оказывается, не ту. Нужно левую, а я согнул правую. Нежные у нее пальцы. Интересно, у всех женщин вот такие нежные, теплые руки?! — Так дело не пойдет, Кравец! — капризно произносит она и добавляет назидательно: — Можно подумать, что вы никогда не гуляли с девушкой. — Милая Клавдия Ивановна, это было так давно, что я уже все позабыл. Неожиданно впереди грохнул выстрел. Кто-то страшно и громко закричал: «Держи!» По улице навстречу нам, догоняя свои тени, бежали люди. Торопливо заиграла гармошка. Я видел, наши ребята подались влево, уступая кому-то дорогу. Клавдия Ивановна увлекла меня к забору. И, обняв за плечи, прижалась щека к щеке. Требовательно прошептала: — Не стойте как истукан. Обнимите меня. Это было сказано кстати. Мимо нас пробежал казак с узлом за спиной. Его преследовали два офицера-пехотинца. Один из них был капитаном, погоны другого я не разглядел. Офицеры на ходу стреляли из пистолетов. Возле нас капитан остановился, прицелился. И казак рухнул на землю... Тот, второй, подобрал узел, выстрелил в лежащего... Потом он подошел к капитану, кивком указал в нашу сторону. Капитан был пьян. От него разило водкой. Приблизившись к забору, он уставился на нас. Клавдия Ивановна по-прежнему обнимала меня. Я опустил руку в карман, где лежал револьвер. Но мне еще нужно было достать оружие, а мой противник держал его в руке. Наконец тщательно и с усилием произнося слова, как это делают изрядно выпившие люди, капитан спросил: — Вы сейчас что-нибудь видели, поручик? — Никак нет. Не видел ничего. — А где ваша фуражка? — Я потерял ее, господин капитан. — Возьмите мою, — с щедростью пьяного предложил он. — Не могу позволить такую вольность. — «Вольность»! — передразнил капитан. — Лучше не увлекайтесь, поручик, в этом заштатном городе свирепствует триппер! — Он слащаво хихикнул и нетвердо повернулся кругом. Ушли. Мы вздохнули свободно. Теперь незачем было обнимать друг друга за плечи. И Клавдия Ивановна отстранилась от меня. — Бежим, — предложил я. — Страшно? — спросила она. — Жутковато. — Мне тоже. Но бежать нельзя. Пойдем быстрым шагом. Она мыслила спокойно и последовательно, эта загадочная девушка, которую я несколько часов назад не жалеючи огрел крышкой от корзины. Не сильно ли? Я спросил об этом. Она ответила: — Нет. И ваше счастье, что я опешила. — Смешно. Я счастливый. Сейчас, когда мы шли быстро, ей неудобно было держать меня под руку. И мы просто ступали рядом. И я вдруг понял, что стесняюсь этой девушки. Волнуюсь в ее присутствии... Фигуры наших друзей маячили впереди. Ребята шли в обнимку, покачиваясь. И конечно, их легко было принять за подвыпившую компанию. Клавдия Ивановна вздохнула: — Господи, хоть бы мой доктор оказался дома. Не думаю, что там, на небесах, услышали ее просьбу, но еще с улицы мы увидели освещенное окно. Хлопнув в ладоши, Клавдия Ивановна радостно, словно маленькая девочка, воскликнула: — Нам повезло! Я не сомневался, что мы вновь пришли к тому самому дому, куда днем я принес на себе гранаты, прикрытые фарфором. Но сада я не узнавал. Это был лунный сад. Казалось, на деревьях вместо обычных яблок и груш здесь растут маленькие луны. Семен, тот, с гармошкой, остался возле калитки: — Вы проходите. А мне Матвей велел доглядывать за улицей. Клавдия Ивановна опередила всех. У нее ключи. Скрипнули доски. А шаги стали глуше — в прихожей половик. Пятно света плюхнулось перед крыльцом, будто кто выбросил охапку желтой соломы: вытирайте ноги. Застонал Сгорихата. Видать, не по силам ему подняться на ступеньки. Взяли Миколу мы втроем — под колени, за пояс, я голову поддерживал — да и внесли в дом. Перво-наперво — в ту самую комнату, где рояль. Положили на диван. Под потолком люстра хрусталем поблескивает. Рояль, аристократ, в углу затаился, смотрит в нашу сторону исподлобья. А Сгорихата подмял под себя покрывало, тяжело дышит. Надо, значит, за доктором поспешить. Выбегаю я на террасу. А дверь в соседнюю комнату, как есть, на половину стеклянная. Свет в комнате ярко горит. И вижу там... капитана Долинского.
10. Разрушение и созидание
Долинского не очень расстроил, не очень напугал пожар в собственной резиденции. Безответственность и расхлябанность многих нижних, а порой и высокопоставленных чинов нередко приводили и к более пагубным последствиям, чем кратковременная паника и восемь метров сгоревших обоев. Причиной подобных зол было, разумеется, не чрезмерное увлечение самогоном и местными кавказскими винами, не леность и пренебрежение к элементарным правилам человеческого общежития, а катастрофически очевидное падение воинского духа. Воинский дух и его магическое влияние на боеспособность армии издревле являлись предметом разговоров больших умов и специалистов в области военного искусства. Не только из личного любопытства, но и в силу служебной необходимости капитану Долинскому пришлось прочитать немало трудов на эту тему. Но, увы, никакое чтение статей и трактатов, никакие самые горячие дискуссии не в состоянии оказались заменить непосредственный контакт с реальной жизнью. Вопреки многочисленным утверждениям, падение воинского духа начиналось не с боязни смерти, не с нежелания сражаться, что было бы сразу очевидно, а потому и пресекаемо. Нет, падение воинского духа начиналось незаметно, исподволь, со страшной внутренней опустошенности, с потери элементарных человеческих качеств, на первый взгляд весьма далеких от способности вести военные действия. Угасающий костер покидают тепло и свет. Люди в шинелях тоже походили на такие костры. Их покидали теплота отцовских, родительских чувств, свет любви к матери и женщине. Они были способны только к разрушению. Но борьба во имя этого не имеет смысла. Это было понятно, это было очевидно. Но очевидно было и другое: жизнь на земле возможна лишь в том случае, если в борьбе категорий разрушения и созидания верх одержит последняя. Капитан Долинский даже под пыткой не стал бы утверждать, что штыки красных несут России созидание, но и любому своему начальнику, пусть самому высокому, он не побоялся бы сказать: весной двадцатого года белые армии олицетворяли исключительно силы разрушения, силы тьмы, но не света. Капитан работал в контрразведке. И знал очень много... Долинский не был религиозным человеком. Он и верил и не верил в бога. Но глубоко верил в судьбу, в предначертание свыше. Ничто не взялось из пустоты, ничто не возникло само по себе. На все есть веление: на жизнь и смерть, на блаженство и муки. Горит дом, погибает младенец, обогащается подлец — таково веление. Разумеется, в Долинском философия эта до поры до времени не была столь обнажена, препарирована. Ее заслоняла довольно-таки прочная стена каждодневных забот, требующих отдачи нервной и физической, сопряженных порой с опасностью для жизни. Лишь циничная прямота графини Анри заставила Долинского взглянуть на себя как бы со стороны. Спросить: есть ли бог в тебе самом, Валерий Казимирович? Подумав так, он усмехнулся. Ответ рождался из строк все того же ненаписанного романа. Строк высокопарных и, кажется, несерьезных: «Бога в нем не было. Был страх перед временем. Кто знает, может, время и есть тот самый бог, которого веками безуспешно ищут люди. Время отказывало в будущем. Оно требовало борьбы и крови...» «Пророка из меня не выйдет», — понял Долинский. И горько усмехнулся... Вернувшись к себе, он не застал дома свою молодую хозяйку. Долго лежал на кушетке, слушая воркованье голубей. Потом незаметно уснул. Проснулся он, когда уже было темно. Правда, за окном светила невидимая из комнаты луна. И сад белый-белый, казалось, заполнял собой всю землю. Некоторое время Долинский любовался им. Потом включил электричество. И решил побриться. Теплой воды, разумеется, не было. Капитан зажег спиртовку. Пламя над ней было фиолетовое, почти прозрачное. Долинский любовался им, как цветком. Послышались шаги. Валерий Казимирович понял, что хозяйка вернулась не одна. Правда, он не слышал ее голоса и не видел ее. Но шаги были уверенные, хотя, может быть, несколько суетливые. Долинский решил не выходить, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, тем более что вода в колбе уже закипала... — Валерий Казимирович! — молодая хозяйка совершенно неслышно отворила дверь. Говорила улыбаясь, открыто строила глазки. — Вы работаете в госпитале. У вас большие связи. Помогите мне эвакуироваться. — Вам очень одиноко, Клавдия Ивановна? — Да. — А ваши гости? — Они ушли. — Они приходили по делу? — Он рассматривал ее цепко и пристально. — Да. — Она смущенно потупила взгляд. Сказала грустно: — Для того чтобы жить, мне приходится продавать вещи, доставшиеся в наследство. — Это всегда очень печально, — согласился он. И вдруг предложил: — А не распить ли нам бутылочку коньяку?! Мне французы подарили бутылку самого настоящего «Камю». — Никогда не слышала о таком, — созналась Клавдия Ивановна. — Все познается со временем, — широко улыбнулся Долинский, жестом приглашая хозяйку сесть на диван.11. Всерьез и надолго
— Профессионал не ломал бы себе голову над этим, — вздохнул Каиров. — Многим ли мы рискуем? — спросил Уборевич. — Перепелку я никогда не видел в лицо. Я очень верю рекомендации Матвея. Но он ни черта не смыслит в разведке. — Он опытный подпольщик, — возразил Уборевич. — Разве подполье — не школа? — В какой-то мере... — развел руками Каиров. — Но ведь для девчонки достаточно одной ошибки. И они... Да что объяснять, Иероним Петрович, сам знаешь, как работает контрразведка белых! — Ошибки может и не случиться. В этом деле чем проще, тем лучше, Мирзо Иванович. А затея с почтовыми голубями в силу своей наивности обеспечивает почти легальную связь. — Внедрится ли она? — Почему сомнения? — Все по той же причине. Никогда не видел человека. — Фотография перед тобой. — Красотка. Но ведь больше ничего не скажешь. А факты — против нее. Три недели жила с Долинским под одной крышей и думала, что он врач. Связного моего, Кравца, едва не застрелила. — Фактов можно набрать на каждого. В том числе и на тебя, Мирзо Иванович... Ты поглубже смотри. Есть ли сомнения в ее верности нашему делу, в ее партийной убежденности? — Нет! — твердо сказал Каиров. — По этому вопросу я глубоко Матвею верю. — Разговор о кандидатуре Перепелки исчерпан. Что еще заботит? — Имею несколько запасных вариантов на тот случай, если Долинский попытается уклониться от содействия Перепелке. — Оставьте про запас вариант, предусматривающий немедленную его ликвидацию. — Понял. Была глубокая ночь. Плотные бежевые шторы заслоняли окна в кабинете командарма. Карта с большим синим пятном Черного моря висела на деревянных рейках, приколоченных к стене, оклеенной серебристо-розовыми обоями. Уборевич поднялся из-за стола, минуты две молча и медленно ходил по комнате. Потом остановился и сказал: — Понимаешь, Мирзо Иванович, что бы ни случилось, а мы обязаны проводить такие операции. Мы должны внедрять своих людей в стан врага. Внедрять и с ближним и с дальним прицелом... Война еще не окончена. И никто не знает, через сколько лет господа откажутся от попытки вернуть утерянное. И скольких еще наших ребят покосят белогвардейские пули. Пусть мы только армейская разведка. И у нас свои локальные задачи. Но ведь их тоже нужно решать. А относительно профессионализма — прав ты, Мирзо Иванович. Только не одного тебя эта проблема мучит. Сейчас многим партийцам приходится новые профессии приобретать всерьез и надолго.12. Кенар
Гора, крутобокая, взъерошенная, опоясанная у подножия кустами орешника, седловиной прогибалась вдоль берега. И дом сидел на ней, точно всадник, уверенно и лихо. Широкие стекла веранды без всякого любопытства смотрели в сторону моря, где плавно перекатывались пологие просветленные волны, рождающие шум — устойчивый и мерный, словно тиканье часов. Хотя справедливости ради нужно отметить, что единственные в доме часы не тикали уже больше недели, потому что голландская пружина, пережившая за долгий век многих хозяев, вдруг лопнула в прошлую среду. И фарфоровый пастушок в салатовой блузе и голубых панталонах не выскакивал больше из уютного шалаша, не играл на золоченой свирели. А в большой, отделанной дубом гостиной, с высокой наряженной в цветную керамику печкой, стало тихо, как при покойнике. Михаил Михайлович Сковородников мучился бессонницей. Он был стар, немощен. И по давней привычке встречал рассвет на излюбленном месте — веранде. Его длинное, худое тело утопало в кресле-качалке, и оранжевый, с синими разводами, плед, прикрывающий ноги, касался некрашеного, но хорошо вымытого пола, еще не высвеченного солнцем, но чуть прихваченного несмелой розоватостью, что случается на рассвете близ моря, предвещая отменный, погожий день. Клетки с канарейками висели на выбеленной мелом стене. И маленький, цвета яичного желтка, кенар выводил трель в четыре колена, но непременно срывался на пятом. Старик в кресле морщился от неудовольствия и с прищуром, презрительно поглядывал на птицу. Он не любил бездарностей вообще. — Все готово, профессор. — Грек Андриадис говорил по-русски совсем чисто. — Было что-то серьезное? — Не очень, профессор. Механизм заржавел. Пришлось сменить пружину. — А в часах ты не сможешь сменить пружину? — У вас есть запасная? — Нет. — Всегда нужно иметь запас. — У меня нет запаса, Костя. — Часы старой работы, профессор. Такой пружины в Лазаревском не найдешь. — А не в Лазаревском? — В Сочи? — Или дальше. — Дальше я теперь не хожу. — Раньше ходил? — В молодости... В Турцию ходил, в Болгарию ходил... — Ты много видел. — Да, профессор. — Я думаю, что ты все-таки контрабандист, — Как вам угодно, профессор. — Ты не обижаешься? — Андриадис не может обижаться на профессора. Андриадис хорошо помнит, чем вам обязан. — Ладно, — Сковородников потер пальцами виски, — приступай. Только без шума. Полагаю, тебя излишне предупреждать, что никто, кроме нас двоих, не должен знать об этом. — Я могу дать клятву! — Золотая коронка огоньком сверкнула во рту грека. — Я верю тебе на слово. — Спасибо, профессор. — Ты со всеми так вежлив? — Нет, профессор. — Почему? — Люди меня боятся. — И справедливо? — Не знаю. — Ты носишь с собой нож? — Только для самозащиты. — Ну, с богом... Андриадис понимающе кивнул. Направился к дверям из веранды в гостиную. Однако Сковородников остановил его: — Там не сыро? — Там сухо, профессор. — Почему заржавел механизм? — Железо. С ним всегда такая катавасия. — Ты меня не убедил. Грек пожал плечами: — Я не умею убеждать. Я говорю, что думаю. Сковородников перевел взгляд с грека на кенара, который опять залился трелью и наконец вывел пятое колено. — Не забудь завернуть ящики в рогожу. — Я все помню, профессор.13. В штабе 9-й армии
Уборевич сухо кивнул адъютанту. Развернул настольную лампу, отделанную розовым мрамором. И начал читать директиву, которую только что принесли из аппаратной.«№ 1341/п 4 апреля 1920 г. 34-я дивизия передается во всех отношениях в подчинение командарма-9, которому приказываю немедленно установить с ней связь, если первое время не удастся прямую, то через штарм 10. Левому флангу 9-й армии ставлю задачу стремительным наступлением овладеть районом Туапсе и не позже 12 апреля очистить от противника все Черноморское побережье от Джубской до Гагры включительно. Командарму-9 выслать в Джубскую передовой оперпункт для обеспечения надежной связи со своим левым флангом. О получении и отданных распоряжениях донести.Вызвав адъютанта, Уборевич сказал: — Попросите Мирзо Ивановича. У Каирова было совершенно землистое лицо. Глаза, воспаленные от бессонницы. — Передислокация частей девятой дивизии на Таманский полуостров, по нашим данным, завершена. Рыбаки настроены революционно, охотно предоставляют транспортные средства для десанта на Керченский полуостров. — Обстановка в Туапсе? — спросил Уборевич. — Осуществляется эвакуация войск морским транспортом... — В сторону Крыма? — Да. — Этого как раз нельзя допустить. — Нами организованы несколько диверсионных актов в порту. Мы располагаем точными цифрами о личном составе и технике. На большее сейчас трудно рассчитывать. — Надо брать Туапсе! — решительно сказал Уборевич. За окном сыпал дождь с градом. И небо было темным, словно поздним вечером. Гремел далекий перекатистый гром. Ветер хлопал форточкой, колыхал штору. — Получена голубеграмма Перепелки. Внедрение осуществлено. Туапсинский гарнизон частично передислоцируется в поселок Лазаревский. — Кто будет поддерживать с ней связь? — Кравец. Тот человек, которого я послал спасти коллекцию. — Коллекция — это хорошо, — почему-то грустно сказал Уборевич.Командкавказ Тухачевский. Наштафронта Пугачев».
14. Дорога на Лазаревский
У въезда в Макопсе, маленькое, жалкое поселение, над обрывом прилепился дом, сработанный из неоструганных зазелененных сыростью досок. Над входом был нарисован усатый джигит в башлыке и грязно светлело пятибуквенное слово: «Духан». К удивлению Кравца, в духане торговали. Аппетитный запах жареной баранины и пригорелого лука стоял вокруг дома, точно туман на болоте. В неуютном, прокисшем зале с низким, обшитым струганым грабом потолком вытянулись, зияя щелями, два небрежно сколоченных стола, вокруг которых замерли тяжелые табуретки. Стойка лоснилась клеенкой, розовой от вина. Бочонки за спиной духанщика распирало самодовольство. Казалось, оно перешло к ним от лица хозяина — мужчины дородного, гладко выбритого, с красными прожилками на щеках и шее. Трое черкесов ели брынзу, запивая ее вином из узкогорлых глиняных кувшинов. За вторым столом перед тарелкой с шашлыком одиноко сидел человек в офицерском френче без погон. Он жевал баранину с каким-то редкостным безразличием, словно делал нудную, нелюбимую работу. Традиционной любезностью осветился взгляд духанщика. Словно для объятий, приподнял он руки и воскликнул, растягивая слова: — Вай! Вай! Проходи, дорогой! Шашлык на углях танцует... — Спасибо, уважаемый! — вежливо ответил Кравец. — Покушаю с великим удовольствием. — Еда без вина — что свадьба без музыки! Смотри, дорогой, «изабелла», «гурджиани»... К сожалению, Кравец совершенно не разбирался в винах. Это, наверное, был недостаток в его профессиональной подготовке. Позднее, набравшись опыта, Каиров станет более разносторонне готовить своих людей. Но тогда... Кравец только и мог сказать: — Налей стакан, любезный. — Какого? — хлопнул в ладоши духанщик. — На свой вкус. Цокнул языком духанщик от восторга: — Иди за стол! Все как в сказке будет! Снял котомку со спины Кравец. Положил на пол возле табурета. Мужчина в офицерском френче оторвал взгляд от шампура с бараниной, посмотрел на Кравца. В равнодушных глазах его вдруг прорезалась тоска, неожиданно и скупо, как солнечный луч прорезается сквозь тучи в хмурый осенний день. Кравец присел на табурет. И, встретившись с незнакомцем взглядом, на всякий случай робко сказал: — Здравствуйте. Незнакомец кивнул в знак приветствия. Но не сказал ни слова. И взгляд его стал загасать, словно под пеплом. Духанщик поставил перед Кравцом дымящийся шашлык, приправленный молодым луком, графин с вином, стеклянный, пузатый. — Гм! — смутился Кравец. — Я просил стакан. — Вай! Вай! — укоризненно покачал головой духанщик. — Зачем стакан, когда есть графин! Пальцы духанщика, волосатые, короткие, оплыли жиром. При виде их у Кравца как-то сразу пропал аппетит. Он поспешно сказал: — Спасибо, любезный. Спасибо. Вино было в меру кислым и холодным. Темно-красное на цвет, оно пахло осенью, душистой и конечно же приваленной, как опавший лист. Позавтракав, Кравец расплатился с духанщиком. И продолжал путь. Как ни трудно идти по бездорожью, но он решил избегать Сочинское шоссе. Был уже полдень. Кравец шел вдоль берега, но не по самой гальке, пропеченной солнцем, а поодаль, между кустами и низкорослыми деревьями, которые качались у берега. Похоже, осенние штормы из года в год накрывали их, обламывали верхушки. И деревьям, чтобы выжить, приходилось раздаваться в ширину, загораживаться кустами ожины, шиповника. Тропинки попадались часто. Но они были короткими, протоптанными местными жителями для своих нужд. И как правило, вели отберега в горы. Иногда Кравцу приходилось огибать кусты, иногда продираться сквозь них. Так что он терял в скорости. Но этот путь казался ему безопаснее. Хотя... Нарвись он на пост или засаду белых, чем бы все кончилось? Все же посреди открытой дороги легче поверить в то, что ревнивый сапожник из Армавира разыскивает свою беглую жену... Кравец старался не думать об опасности. И это получалось, в общем-то, легко. Ибо все его мысли были с Клавдией Ивановной. У них не оказалось времени поговорить по душам. Да он, в сущности, и не знал, как можно говорить по душам с женщиной. К ухающим стонам волн вокруг присоединился просторный звенящий шум. Кравец замер. Он догадался, что впереди долбят землю. Кирками, ломами. Он лег и осторожно пополз вперед. Грунт был колкий, щетинистый. Царапал ладони, цеплялся за обшлага рукавов. Короткая, как червь, змея медянка выглянула из-за камня, вильнула своим красновато-лиловым телом. И скрылась в траве... Кравец раздвинул кусты. Впереди, вдоль лощины, больше сотни солдат, оголенных по пояс, рыли окопы. Они расположились цепочкой. И линия обороны, тянувшаяся от самого берега, вырисовывалась ясно. Некоторое время он шел назад. Потом пересек шоссе, поднялся в гору. Перевалил вершину. И оказался возле реки. Полоска жгучей, как плеть, воды. А потом камни, камни... Подобно печи, они пышут жаром. Круглые, продолговатые, плоские, широкие камни тесно прижаты друг к другу. Шагать по ним неудобно. Тем более быстро... Однако у Кравца нет никакой возможности медлить. Он и так вышел из графика. При такой черепашьей скорости ему не прийти с рассветом в Лазаревский. Это только беспредельные оптимисты верят в то, что тише едешь — дальше будешь... Горные речки часто меняют русло. Поэтому вокруг столько камней. Вода тащит их с гор, трет камень о камень. И они становятся гладкими, правильными, без углов и задиринок. И нет в них больше природной чистоты и дикости — точь-в-точь как у зверей в зоопарке. На противоположном берегу его встретили кусты, выше человеческого роста, и склон горы — необрывистый, но очень крутой, на котором деревья и те держались через силу, распластав, точно щупальца, могучие серые корневища. Земля оседала под ногами, ветки кустов трещали, точно предупреждали о ненадежности. Вдобавок местами склон столь лихо загибал вверх, что нечего было и пытаться одолеть его. И Кравец выискивал обходы. Выбиваясь из сил, карабкался к вершине. Наконец-то... Оглядевшись, Кравец оценил выгодность позиции. Один смельчак с пулеметом может задержать здесь целый полк. Потому что вся долина просматривается отсюда, как карта. Сектор обстрела — лучше не сыскать! Нужно быть осторожнее. Вполне возможно, что белые тоже оценили выгоду этой позиции. И разместили поблизости солдат. Рысь — кисточки на ушах торчком — прыгнула с дерева. Счастье Кравца, что секундой раньше он обернулся. И увидел палевую лоснящуюся спину зверя. Он не успел поднять руку для защиты. Но и рысь не смогла вцепиться ему в затылок. Она как-то нескладно ударилась о его плечо, шаркнула лапой о котомку и соскользнула вниз, к ногам, упав при этом на спину. Она была величиной со среднюю собаку. Кравец пнул носком сапога ее рыжеватое брюхо. Она перевернулась. Стремительно — пыль и камни полетели из-под широких лап — скрылась в густом кустарнике. Он слышал, что рыси нападают на людей крайне редко. Но возможно, это была какая-нибудь ненормальная, изголодавшаяся рысь. Во всяком случае, встреча с ней заставила Кравца вынуть револьвер из кармана. Так, от дерева к дереву, прислушиваясь и оглядываясь, он шел около часа. Он не мог определить, на сколько километров продвинулся вперед. Потому что шел вначале к морю, увидев дорогу, повернул в горы, поднимался и спускался по склонам — спасибо, более пологим, чем у реки.15. Человек, которым интересуется контрразведка
Грек Андриадис, которого весь Лазаревский знал исключительно по имени Костя, вышел к морю. В ореховой роще, что тянулась вдоль берега, лагерем стояли казаки. Еще вчера вечером договорился Костя встретиться с их интендантом. Он мог достать казакам овец, но не хотел брать за это бумажные деньги. Ибо не было в ту пору ничего ненадежнее, чем хрустящие русские кредитки. Костя понимал, что интендант не даст золота. Может, еще и есть оно у казаков. Но маловероятно, чтобы они вот так просто расстались с ним из-за отощавших за зиму овец. Глаза у интенданта были красными, как вареные раки. «Пьет много», — подумал Костя. — Золота ты у нас не получишь, — сказал интендант. Он вообще отнял бы овец у грека, но хитрый грек прятал их где-то в горах. — Я приму фунты, доллары. — Вот. — Интендант свернул кукиш и сунул греку в лицо. В другое время Костя бы зарезал обидчика. Но сейчас он сделал вид, что понял веселую, остроумную шутку казацкого начальника, оскалил в улыбке зубы с золотыми коронками. — Согласен на сукно, — сказал Костя. — Об этом можно погутарить, — ответил интендант, у которого горел с перепоя рот и раскалывались виски. — Пять метров за голову, — сказал Костя. — Нехристь! Четыре метра — край... Иначе ничего не получишь. Овец конфискуем, а тебя к стенке. Грек опять улыбнулся, но белки от гнева у него стали белее белого. — Решено? — неуверенно спросил интендант. — Пять метров, — ответил Костя. Он понял, что казак уступит. А скоро, по всем признакам, нагрянет фен — теплый и сухой ветер, дующий с гребня горного хребта вниз по склону. И тогда спадет влажность. Легче станет дышать. И жить станет легче... Спокойно и мудро переговаривались волны. На зеленых размашистых плечах они несли солнце. Оно путалось в их белых гривах, играя точками и линиями из яркого-яркого света. Этот свет потом отдыхал на гальке. И запах нагретого камня был очень силен на берегу. Прямой и высокий, Костя как-то очень легко и даже грациозно повернулся и пошел прочь от моря. Рыжебородый мужчина в шляпе канотье и сером, в клетку, костюме, сидевший на скамейке возле забора, встал и оказался на пути грека. — Господин Андриадис? — спросил он негромко, но достаточно властно. — Да! — гордо ответил Костя, не останавливаясь и не укорачивая шага. — Я сотрудник контрразведки, — сказал рыжебородый и пошел с ним рядом. — Мне это безразлично, — сказал Костя. — Я не занимаюсь политикой. — Вы занимаетесь контрабандой, — шепотом пояснил мужчина и улыбнулся. — Это нужно доказать. — Мне приходилось доказывать менее очевидные вещи. — И вас до сих пор не убили? — Костя остановился, в упор посмотрел на рыжебородого. — Странно. — Меня много раз пробовали убить... И всегда неудачно. — Не расстраивайтесь. В Лазаревском более везучий народ. Костя пошел дальше. Но рыжебородый последовал за ним, сказав при этом: — Не оставляйте меня одного. — Что вам нужно? — Когда вы ждете фелюгу брата? Они шли улицей, ничем не вымощенной, со следами желтой засохшей глины. Зелень густо свисала над забором. Три кипариса росли в саду напротив. Костя любил эти деревья за красоту и гордость. Лишь тополя соперничали с ними, немного простоватые, но такие же высокие и жадные до солнца. — Брат тоже не занимается политикой. Контрабанду вы ему не прилепите. Он подданный Греции. Ведет торговлю согласно обычаям своей страны. — Не все обычаи законны, господин Андриадис. — Это пустой разговор, господин, как вас там,.. — Вы не очень вежливы. — Только с жандармами. — Даже если они платят деньги? — Что сейчас стоят деньги! Бумажки! — Существует и твердая валюта. — Твердая валюта? Вы говорите пока загадками. — Костя хитро улыбнулся. — Мы скоро выйдем к рынку. Я не хочу, чтобы нас видели вместе. Давайте постоим здесь... Кусты ожины карабкались на ветки дерева, образуя над землей угол, прикрытый тенью. — Укромное местечко, — сказал рыжебородый. — Для свиданий с девушками. — И для деловых встреч... — Деловые встречи хороши за стаканом вина. — Я думаю, господин Андриадис, что ни у меня, ни у вас нет на это времени. — Верно, — согласился Костя. — Вы упоминали о твердой валюте. — Но вначале о фелюге брата... — Если вы думаете, что я продам брата, то оскорбляете меня. — Я меньше всего намерен оскорбить вас. Наоборот, домогаюсь вашей дружбы. И как деловому человеку хочу предложить выгодную сделку. — Я не в детском возрасте и не очень верю в добряков, которые навязывают выгодные сделки. — Согласен с вами... Обстоятельства. Увы, иногда они бывают выше накопленного нами опыта. — Я не знаю, кто вы такой. — Моя фамилия Долинский. Мне нужно знать, когда прибудет фелюга вашего брата. — Скоро. — Как скоро? — Я могу повторить то, что уже сказал. — Но от срока прибытия зависит мое предложение. — Когда вам нужно, чтобы фелюга была здесь? — Во всяком случае, в течение ближайших трех дней. — Это осуществимо. Дальше? — Я хочу зафрахтовать судно. — Полностью? — Да. — Это будет очень дорого стоить. — Сколько? — Договоритесь с братом. Но дорого... Курс? — Я скажу потом. — Брат в Крым не пойдет. — Почему? — Он не симпатизирует врангелевской таможне. — Мы поплывем не в Крым. — Хорошо. Я передам ваше предложение. Где мне искать вас? — Я приду к вам сам.16. «Есть хорошая возможность, профессор»
Солнце уже ушло за море. И небо осталось синим, очень ярким, и оно напоминало Михаилу Михайловичу Сковородникову плащ второго ангела рублевской «Троицы». Может, именно вот в такой теплый весенний вечер восхитился Рублев чистым небом и рискнул положить в самой середине иконы пятно из ляпис-лазури. Как бы реагировал Феофан Грек, если бы мог увидеть вольность своего ученика? Порадовался, удивился, огорчился? Вглядываясь в далекое небо, Сковородников попытался представить себе Русь XV века, еще не воспрянувшую после долгого татарского ига. Ветряки на горизонте, кладбища по обочинам дорог... Деревни из рубленого леса. Каков он был, этот инок из Андроникова монастыря? Все ли он сделал, что мог, что хотел, о чем думал? И о чем думают в «Троице» его неземные юноши? Большая загадка кроется в этом... Во дворе было свежо. В дом возвращаться не хотелось. Агафена Егоровна принесла шерстяную куртку и набросила мужу на плечи. Он сидел на скамейке, с лицом взволнованным, отрешенным. Она знала — в такие минуты Михаила Михайловича отвлекать нельзя. Он злился. И говорил: — Ты вторглась в мой творческий процесс! Между тем грек Костя уже около часа томился на кухне, терпеливо ожидая возможности переговорить с профессором. Наконец Сковородников спросил жену: — Чего вздыхаешь? — Тревожно, — призналась Агафена Егоровна. — Я все больше убеждаюсь в том, что в жизни человеку всего отпущено поровну. И если он живет долгую жизнь, то непременно познает и славу, и радость, и позор, и горе. Так и хочется пойти и записать: счастливые, удачливые люди, не забывайте умереть вовремя. Агафена Егоровна возразила робко, но убежденно: — Не согласна я. Жизнь, она хоть и печальная, а все жизнь. Смерть что? Сам же ты говоришь, что того света нет. — Было бы слишком большой удачей для всех живущих на земле, если бы я ошибался. — На земле все живут по-разному. Вон эскимосы из шкур не вылазят, тогда как африканцы снега не видывали. — Так-то оно так. И все же живут одинаково. — По тону его слов Агафена Егоровна поняла, что муж подвел черту и продолжать разговор непозволительно. Она решилась сказать о греке: — Михаил Михайлович, этот Костя настоятельно хочет тебя видеть. — Зови. Способность ходить неслышно едва ли была у Андриадиса врожденной. Возможно, он усвоил ее в ранней юности, когда стал помогать отцу и братьям — контрабандистам по призванию и по рождению. Потом, поселившись в Лазаревском, Костя вел «дела» самостоятельно. Но восемь лет назад в перестрелке с порубежной охраной он получил пулю в грудь. Истекающего кровью грека подобрал профессор Сковородников, который ехал в экипаже из Туапсе. Узнав, что власти разыскивают раненого контрабандиста, Сковородников не выдал Костю. Наоборот, пригласил знакомого хирурга. Тот извлек из грека пулю. После чего Андриадис все три летние месяца пролежал в доме профессора... С тех пор он стал другом семьи Сковородниковых. — В чем дело, Костя? — спросил Михаил Михайлович. — Есть хорошая возможность, профессор. — Хорошая? — И не просто хорошая. Сковородников поднял взгляд на Костю. Грек молчал. — Какая же еще? — Последняя возможность, профессор! Ровно через сутки, завтра после обеда, мой тесть поедет с лошадьми в аул. Я договорился. Он возьмет вас с собой. Я думаю, на несколько дней вам лучше уйти в горы. — Почему я должен уходить в горы, Костя? — Скоро сюда придут красные. — Ты боишься красных? — Дело не во мне... Скорее всего, красные справедливые люди. Иначе бы простой народ не пошел с ними. Но вы, профессор, не простой народ. Хотя человек и хороший... А у войны глаз нет. Будут стрелять пушки, гореть дома. А от этого вашего дома может ничего не уцелеть. И от дорогих вам людей и вещей тоже... В горах будет спокойнее. И вам, и вашей коллекции. Костя Андриадис хотел, чтобы остаток ваших дней был бы солнечным. — Спасибо. Ты прямой человек, Костя. Это нравится мне. И может, ты прав... Но я слишком стар. И болен. А самое главное, Костя, я не цепляюсь за жизнь.17. На рынке
Рынок начинал работать рано. Сразу после шести. Однако Кравец появился на нем только без четверти девять. Потому что «окно» для связи открывалось с девяти до десяти часов. Нужно сказать, время было выбрано не очень удачное. Хозяйки закупали продукты сразу по открытии. А ко времени прихода Кравца базар начал редеть. В основном казаки и солдаты слонялись между прилавками, шумливо толпились возле ларька, где молодой грузин, с не по возрасту пышными усами, наливал стаканы доверху так, что вино плескалось на покрытый клеенкой прилавок и расползалось по нему веселыми красными лужами. Хорошо одетый мужчина средних лет вкрадчиво спрашивал женщину: — В транспорте не нуждаетесь, мадам? Она не поняла: — В каком транспорте? — Автомобиль-с... До города Сочи. — Нет. Мужчина нырнул в толпу, растворился в ней, точно в мутной воде. Немного погодя Кравец опять увидел того, хорошо одетого, мужчину. Он в чем-то убеждал молодую городского типа женщину, видимо беженку, а она растерянно, почти умоляюще смотрела на его чисто выбритое потасканное лицо. Как и надлежало, Кравец устроился возле овощных рядов. Поставил у боковой стены ларька раскладной табурет, достал из котомки лапку, молоток, баночку с мелкими гвоздями. На стене прикрепил картонку: «Ремонт, починка, растяжка. Работа — экстра!» Первой клиенткой оказалась старуха с мальчишкой-подростком, у которого прохудился ботинок. Старуха была болтливая, а работа нетрудная. И у Кравца пропало ощущение скованности, охватившее его вначале на рынке. Он понимал, что ему нужно быть очень осторожным, но осторожность эта должна являться незаметной, скрытой где-то в глубине, ибо подозрительно настороженный человек обязательно привлечет чье-то внимание. А рынок — это как раз то место, где наверняка агентов контрразведки — как медуз в море. Здесь надо вести себя очень ловко и очень умело. Кравец сразу решил, что старуха не может быть человеком Каирова, разговаривал с ней свободно, не ждал услышать пароля. Потом он чинил полуботинки матросу. Видимо, анархисту. Матрос сидел прямо на земле, вытянув разутые ноги в драных, несвежих носках, и неуважительно отзывался о всех государственных системах, вспоминая при этом господа бога, богородицу... и многое другое. Денег у матроса не оказалось. И он подарил Кравцу большой мундштук из чистого благородного янтаря. «Матвей предупредил, что Долинский появляется в Лазаревском, — думал Кравец. — Только маловероятно, чтобы он узнал меня в таком обличье». Без двадцати десять к Кравцу подошла моложавая женщина, о которой никак нельзя было сказать, что у нее открытое лицо и прямой взгляд. На ней было яркое шелковое платье, ноги в черных чулках, туфли, явно не требующие ремонта. Она выжидательно, словно изучая, посмотрела на Кравца. Потом, выбрав момент, когда поблизости никого не оказалось, наклонилась к нему. «Связная», — решил Кравец. — Кожу не купишь? — шепотом спросила женщина. Кравец онемел от удивления. — Кожа нужна? — повторила женщина. — Какая? — Свиная. — Нет. Только крокодиловая. Женщина обозвала его непечатно и скрылась за прилавками. Солнце ползло вверх. Жара усиливалась. Кравец сходил к молодому грузину и выпил два стакана вина подряд. Когда он вернулся, у его скамейки стоял грек Костя. — Это ты сапожник? — спросил недоверчиво Андриадис. — Ну я, — неохотно ответил Кравец. — Сможешь починить модельные туфли французской работы? Кравец заметно напрягся, услышав слова пароля. Опустил взгляд, сказал чужим голосом: — Я чиню все, кроме лаптей. — Приходи на Александровскую, семнадцать. Хорошо заплачу, — пообещал грек.18. Перепелка
Минут через сорок езды машина с Долинским и Клавдией Ивановной свернула с Сочинского шоссе в сторону моря. Вначале они ехали по узкой дороге. Ветки акаций смыкались над ней так густо, что делали ее похожей на туннель. Потом, подгоняемая неброским вечерним светом, выплыла кипарисовая роща и голубая дача близ моря. Смеркалось. Но море еще не растратило солнечного тепла и света. Оно было зелено-розовым, с искринками... Судя по всему, владелец виллы — купец Сизов — был влюблен в голубой цвет. Стены большого двухэтажного дома отливали голубизной, павильоны и скамейки в парке, раскинувшемся до самого моря, тоже были голубыми. Даже ступени, ведущие на длинную каменную террасу, казались сделанными из застывшей морской воды. На террасе, возле вазы с кустом сирени, стоял мужчина в штатском. Он вытянулся в струнку, увидев Долинского. Даже прищелкнул каблуками. — Все готово? — спросил Долинский. — Так точно, ваше благородие. Долинский потянул на себя дверь. Массивную, дубовую, с надраенным медным кольцом вместо ручки. Пропустил вперед Клавдию Ивановну. Она вошла смело. Солдат-шофер нес за ней чемодан с одеждой и клетку с голубями. Четыре больших окна, освещенные закатом, висели, словно розовые шторы. Свет, проникающий сквозь них, неверный и мягкий, ложился широкими полосами на огромный голубой ковер, распластавшийся посреди гостиной. В световых пятнах угадывался тонкий, причудливый орнамент, желтой паутиной оплетающий голубое поле. Клава подумала, что при нормальном, хорошем освещении ковер имеет цвет морской волны. Слева в углу на подставке из темно-бордового мрамора стоял бюст Петра I. Клава узнала копию скульптуры Растрелли. Деспотически гордый и суровый Петр был изображен в пышном одеянии, при всех регалиях. Он недовольно и вопрошающе глядел на вошедших, словно спрашивал: как вы осмелились ступить на этот пышный ковер? кто вам позволил? — Бронза? — спросила Клава. Долинский подошел к скульптуре, щелкнул Петра по лбу: — Гипс. Повел рукой, приглашая Клавдию Ивановну ступить на лестницу, которая серым ковром сползала к гостиной. — Романтическая дача, — сказала Клава. — Мы будем здесь работать?.. — К сожалению, только четыре дня. — Значит, вы калиф на час? — В наши дни других калифов не бывает. ...Наверху Долинский распахнул одну из многочисленных дверей. И они оказались в комнате, небольшой, обшитой розовым шелком. На тахте лежал ковер. Блестел паркет. — Здесь вы можете отдохнуть. Принять ванну. Тем временем я позабочусь об ужине. После мне придется уехать в Лазаревский. Совещание начнется завтра... Я не думаю, чтобы солдаты охраны могли позволить себе лишнее. Однако на ночь на всякий случай заприте дверь. Долинский ушел. Клавдия Ивановна осмотрелась. Туалетный столик совершенно пустой. Кресло. Где же выход в ванную комнату? Уж не это ли зеркало в стене? Она чуть нажимает на ореховую раму. Зеркало неподвижно. А если так... Правильно. Зеркало уходит в стену, как дверь в купе поезда. Полутемная ванная встречает ее сыростью. Узкое окно, точно в больнице, закрашено в белый цвет. Окно заделано наглухо. Открывается лишь небольшая форточка у потолка. Чтобы дотянуться до нее, Клаве пришлось взобраться на подоконник... Она оставила в ванной голубей. Подумала, что отсюда, через форточку, можно выпустить птицу с голубеграммой. Вспомнился разговор с Матвеем на явочной квартире. Долгий разговор, обстоятельный... Матвей пил чай с сухой малиной. И хрипло кашлял. Потому говорил он с мучительными паузами. И у Клавдии Ивановны было время подумать над его словами. — Задание тебе такое... Уйти с белыми. И уйти надо, разумеется, до прихода красных. Поэтому я с тобой беседую, но получаешь ты задание не только по партийной линии... — В этом месте он закашлялся, да так сильно, что даже слезы выступили на его обветренном, изуродованном шрамом лице. — Но задание это прежде всего от разведотдела девятой армии. Однако, поскольку мой друг Каиров не может побеседовать с тобой лично, это дело он передоверил мне. Матвей посмотрел на нее, словно спрашивал взглядом, понимает ли она сказанное. И она кивнула послушно, точно маленькая девочка. — Ты не будешь взрывать склады, поджигать казармы. И вообще заниматься какой-либо диверсионной деятельностью... На тебя другая надежда. Догадываешься? — Нет, — призналась она. — Ты должна стать надежным, хорошо законспирированным источником информации. У тебя будут связные... Через них ты станешь получать задания от нас и передавать сведения нам... — А что я смогу передать? — спросила Клавдия Ивановна. — Беженцами запружено все побережье... Что я увижу? В сторону фронта проехало пять телег, крытых рогожей. Протопал взвод солдат... Много ли стоит такая информация. — Может, все-таки попьешь чайку? — спросил Матвей. — Мне и так жарко. — Жарко или нет, но не горячись. Продумана и та сторона дела, которая тебя волнует... Мы рассчитываем использовать твое умение печатать на пишущей машинке... Долинский... — Вы... — Не перебивай! — рассердился Матвей. Стукнул ребром ладони по столу. И чай плеснулся в широкое васильковое блюдце. — Ты меня с мысли сбиваешь хуже, чем температура... Долинского мы потом ликвидируем. Маленько позднее, когда надобность в нем отпадет... Комната, в которой они сидели, была большой, в ней пахло уютом и сдобным тестом. Несколько пар детской обуви стояло в уголке возле двери. На комоде сидела кукла с голубым бантиком. Клавдия Ивановна любила в детстве играть с куклами. У нее их было десятки. И тряпичных, и гуттаперчевых. — Хорошо, — сказала Клавдия Ивановна. — Я все поняла. — Ты не поняла ничего, — возразил Матвей. — Долинский может устроить тебя только в военную организацию. Других организаций здесь просто нет... Освобождение Черноморского побережья Северного Кавказа командование Красной Армии считает вопросом нескольких недель. Часть белых, видимо, подастся в меньшевистскую Грузию, кто-то сбежит в Турцию, кто-то уйдет в Крым к Врангелю. Ты должна попасть в Крым. Мы дадим тебе явки — в Севастополе и в Ялте... В этом твоя основная задача... — Вот вы говорите, Долинский... А думаете, мне легко? — Шибко пристает? — поморщился Матвей. — Пора самим догадаться... — Ну и что?! — твердо ответил Матвей. — Ты порядочная девушка. А за порядочными вначале принято ухаживать. Предложить руку и сердце... Потом уж это самое... — То когда было! — со вздохом возразила Клавдия Ивановна. — Теперь все наоборот. — Мы на тебя надеемся, — как-то вяло, а может, просто смущенно сказал Матвей. — Буду стараться, — пообещала она.Вечером 7 апреля 1920 года над дачей купца Сизова поднялся почтовый голубь. В порт-депешнике лежала записка:
«8 апреля на Голубой даче начинаются четырехдневные сборы диверсантов-подрывников под кодовым названием «Семинар». Судя по продовольственным аттестатам, на сборы прибывает 42 человека. По окончании сборов диверсанты будут засланы в тылы Красной Армии на территорию Кубани и Северного Кавказа. Особое значение придается дезорганизации работ в Трудовой армии*["6]. На связь в Лазаревский выйти пока не имею возможности.Перепелка».
19. Обыск
«К сожалению, перемены в характере человека, в его взглядах на жизнь, на понятие добра и зла происходят не только в лучшую сторону. Это давно известно. И едва ли следовало вспоминать о столь прискорбном явлении, если бы оно не сопровождалось воистину трудолюбивым поводырем, имя которому — заблуждение. Издревле под этим словом понимали действие ошибочное, принимаемое, однако, за верное, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Враг истины — заблуждение далеко не всегда бывает врагом того или иного человека, позволяя в известный момент смягчить, оправдать поступки и деяния неприличные, а порой и мерзкие». Откинувшись на мягкую спинку автомобильного сиденья и закрыв глаза, Долинский по привычке складывал строки мысленного романа. В штабе ему попалось агентурное донесение из тыла красных:«Объявляется постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов от 8 сего апреля о награждении командующего 9-й армией тов. Уборевича-Губаревича Иеронима Петровича Почетным Золотым Оружием за отличие, выразившееся в следующем: тов. Уборевич-Губаревич Иероним Петрович, будучи назначен командующим 9-й армией, создал из нее мощную и грозную силу, способную наносить врагу сокрушительные удары. В дальнейшем, следуя с частями вверенной ему армии и перенося все трудности походной жизни, тов. Уборевич лично руководил боями армии, которая благодаря этому сыграла решающую роль в преследовании деникинских армий...»Наградили Золотым Оружием... Он помнил этого литовца еще по Петербургскому политехническому институту. Там все началось с невинных чтений Войнич и Чернышевского, а окончилось подпольным кружком. Самое печальное и самое смешное, что и Долинский входил в этот кружок. И вначале просто так, по собственному убеждению. Это потом он стал работать на охранку. И не без его помощи Иероним Уборевич предстал перед ковенским губернским судом... Однако судьба благоволила к литовцу. Окончив Константиновское артиллерийское училище, он стал подпоручиком, а три года спустя (разве это срок!) — командующим армией. Такой карьере мог бы позавидовать любой военачальник. Долинский понимал, что в Европе, в мире, куда он теперь стремился, было бы смешно рассчитывать на подобный успех. Тому имелось много причин. Но главным являлись деньги. Они были если не всесильны, то во всяком случае котировались выше многих человеческих добродетелей. Графиня Анри оказалась реалисткой. Грех не воспользоваться ее советом. И не только грех, но и глупость... Пусть его действия выглядят гадко. Не очень благородно. В конце концов, разве реквизиция хуже, чем донос. — Михаил Михайлович, — сказал Долинский профессору. — Меня привел к вам долг. Тяжкий, как и вся наша проклятая жизнь... В контрразведку поступили сведения, что у вас находятся живописные произведения, составляющие государственную ценность. Мне поручено просить вас передать картины и иконы на сохранение военным частям ввиду надвигающейся большевистской опасности. — Картины — моя собственность. А как известно, белая гвардия сражается именно за нее. — Совершенно верно... Вы прекрасно разбираетесь в политике, хотя еще недавно отрицали это. — Тогда о чем разговор? — Все о том же... Картины могут попасть в руки большевиков, которые попросту надругаются над ними. — Этого не случится. Я не отдам своих картин никому. — Я понимаю вас, Михаил Михайлович. И в душе горячо поддерживаю. Но поймите и вы меня. Я человек казенный... — Продолжайте, Валерий Казимирович. — Мне придется произвести обыск. — У вас есть ордер? — Не будьте наивны, профессор. До формальностей ли сейчас... Сковородников едва заметно усмехнулся: — Ищите. Впрочем, не уверен, что предприятие сие окончится успешно. Коллекции в доме нет. — Я был бы счастлив, если бы это оказалось правдой. — Долинский повернулся к сопровождающим его казакам и сказал: — Приступайте! Внимание Долинского привлекли прежде всего часы. Они стояли в большой комнате, громадные. Очень старинные. И не шли. Долинский подумал, что тут есть какой-то секрет. Маловероятно, чтобы такую махину использовали как украшение. Он повертел стрелки, качнул маятник, потом приказал казакам отодвинуть часы, но никакого тайника за ними не обнаружилось. Усердствовавшие казаки, которым он еще до начала операции поднес по стакану самогона, перешерстили чердак, подвал, простучали стены. Долинский сам заглянул в топку большой, выложенной темно-синей керамикой печи, выдвинул заслонку. Ничего! Немного поколебавшись, он приказал рвать полы. Доски скрипели, трещали. Гвозди выходили ржавые, скрюченные... И скоро стало очевидно, что затея эта зряшная. Полы были настланы лет десять, а то и пятнадцать назад; с тех пор никто не трогал их и ничего под ними не прятал. С окаменевшим, не выражающим ни страха, ни печали лицом, профессор Сковородников сидел в своем кресле на террасе. События, происходившие в доме, казалось, не волновали его. Разгоряченные, вспотевшие, все в пыли, казаки не выбирали слов, адресуя их друг другу, и господу богу, и хозяину, застывшему в своем кресле, точно в гробу. Между тем в доме не оставалось места не прощупанного, не простуканного, не обысканного. Выйдя на террасу, Долинский в упор спросил: — Где? Брови профессора чуть подались вверх, но лицо не ожило и по-прежнему походило на маску, и печать удивления не отметила его. — Зачем вам иконы? Вы же дилетант в живописи. Прежде чем ответить, Долинский мысленно сложил такой абзац: «Он не считал больше нужным лгать и притворяться. И ему хорошо было говорить правду. Он омывал ею душу, испоганенную, постылую, точно бесполезная, тяжелая ноша. И ему хотелось покряхтывать от радости и немножко приплясывать». Облегченно вздохнув, капитан улыбнулся, как ребенок, сказал откровенно: — Я продам их и получу большие деньги. — Деньги в России потеряли сейчас цену. — Я продам иконы за границей. Куплю отель на Средиземноморском побережье. — Полагаете, вам хватит средств? — Вы же сами говорили, иконы дорогие. — Нужно найти ценителя, способного оплатить их подлинную стоимость. — У меня есть покупатель. — Вот как! А коллекция? — Только глупость беспредельна, профессор. Всякое же упрямство имеет предел. — Сентенции, подобные этим, легко произносить. Хотел бы я видеть, как вы попытаетесь их реализовать. — Очень просто. Я спалю дом вместе с вами и вашей коллекцией. — Подойдите ближе, — сказал Сковородников. — Я посмотрю в ваши глаза. Долинский знал, что если смотреть напарнику в переносицу, то можно выдержать любой встречный взгляд, сколь бы долгим и эмоционально заполненным он ни был. — Вы жуткий человек, способный на любую мерзость, — вывел Сковородников. — К сожалению, совершенно верно, профессор. Жизнь сделала меня таким. Но еще я и душевный человек. И очень жалостливый. Мне будет горько, очень горько, что бесценные памятники старины погибнут в огне только потому, что два интеллигентных человека не нашли общего языка... Подарите мне иконы, и я назову свой отель вашим именем. Отель «Святой Михаил». Звучит! — Назовите свой отель лучше именем дьявола. — Нет-нет! Я благородный человек. Я все помню. И не бросаю слов на ветер. Ну!!! Где коллекция? Тяжело вздохнув и сморщившись, профессор поднялся с кресла, тихо сказал: — Коллекция в печи. Отодвиньте заслонку. И нажмите третью плитку. Вверху справа... Печь, покрытая синей керамикой, поехала в сторону безо всяких посторонних усилий. Пружину грек Костя совсем недавно поставил новую, а болты хорошо смазал маслом...
20. Как быть? (продолжение записок Кравца)
Связь, связь, связь... В разведке — она как воздух. Боишься сделать лишнее: вдруг подведешь кого-то, сорвешь чей-то замысел... Грек Костя долгое время имел связь цепочкой. Я смутно представлял, что это такое. Видимо, один человек приходит по определенному адресу, передает сообщение. И так далее... Но вот 9 апреля наши взяли Туапсе. Линия фронта сместилась южнее города. И что-то нарушилось в цепочке. И мы остались без связи. Последнее сообщение, которое Каиров передал Косте, было о моем предполагаемом прибытии. Костя заверил меня, что коллекция в надежном месте, что эвакуироваться профессор Сковородников не собирается. Вот почему я был спокоен за эту часть задания. Ежедневно появлялся на рынке на тот случай, если кто-то придет от Каирова. Падение Лазаревского можно было ожидать со дня на день. И я полагал, задание мое завершится безо всяких осложнений. Просто и буднично. Как это случается чаще всего. Однако 10 апреля произошли два события, озаботившие нас, поставившие под угрозу выполнение задания. Рано утром ко мне на Александровскую, 17, пришел Костя, злой, взволнованный. — Сковородникова ограбили, — сказал он. — Кто? — Мне показалось, что я ослышался. — Долинский. Вчера вечером он вывез всю коллекцию. — Куда? Костя пожал плечами. — Надо узнать, — сказал я. — Он не мог это сделать один. — С ним были казаки, — хмуро ответил Костя. Поскреб ногтем небритый подбородок: — Боюсь, коллекции уже нет в Лазаревском. Он мог отправить ее в Сочи. В раскрытую дверь врывался запах сирени. И сама она, белая, у порога играла солнцем радостно и хорошо. — Он интересовался фелюгой вашего брата. Значит, коллекция еще здесь. — Можно думать и так, — нехотя согласился Костя. Но тут же возразил: — А можно и по-другому... С фелюгой многое еще не ясно. Я не давал твердой гарантии. А фронт приближается... В Сочи порт. И там больше возможности договориться с капитанами. Если же сюда заглянет фелюга моего брата Захария, то она может зайти и в Сочи. — Возможно, вы и правы... Тогда нужно ехать в Сочи. А если коллекция все-таки здесь?.. Постарайтесь узнать наверное... По выражению лица Андриадиса было ясно, что он не очень уверен, удастся ли ему это сделать. Однако Костя не стал больше возражать. Он просто сказал: — Я приду на рынок. — И ушел. ...Работы на рынке хватало. Людей в поселке не уменьшилось. Потому что с транспортом было худо. Обыкновенная телега до Сочи стоила баснословные деньги. Я часа два не расправлял плеч, согнувшись над лапкой, как вдруг услышал знакомый женский голос: — Вы сможете починить модельные туфли французской работы? Ответ произнес как-то механически: — Я чиню все, кроме лаптей. Передо мной стояла Клавдия Ивановна. В светло-зеленом платье, в модной шляпке, замшевых ботинках, она, честное слово, точно сошла с раскрашенной картинки! — Куда их можно принести? — спросила она капризно. — На Александровскую, семнадцать. Вам срочно? — Чем скорее, тем лучше, — ответила она высокомерно. Повернулась и ушла, не удостоив меня даже кивком. ...Через час она сидела в моей комнате. В той самой, надежной, которую подготовил для меня Костя. Море шумело рядом. Огород бугристыми грядками выходил к самому берегу. Грядки были взрыхленные. Две или три зеленели луком, петрушкой. — Есть что-нибудь для Перепелки? — спросила Клавдия Ивановна. — Перепелка — это ты? Она чуть заметно кивнула. — Мы четвертые сутки сидим без связи, — признался я. — Это плохо, — вздохнула она. И рассказала мне про сборы под кодовым названием «Семинар». Передала списки. Я сказал, что ценность списков относительная. Скорее всего, диверсанты будут заброшены под другими фамилиями, по фальшивым документам. Она ответила, что об этом ничего не знает. Я спросил, уезжал ли вчера капитан Долинский в Сочи. Она сказала твердо: — Нет. Мы условились встретиться завтра. Потому что у Перепелки была возможность завтра появиться в поселке. Она собиралась забрать свои вещи из интендантского склада, подлежащего эвакуации.21. Решение
Они сидели в лесу, километрах в трех от поселка. Склон горы был не очень крутой, правильно сказать, пологий склон. Деревьям на нем жилось вольготно. Они вымахали огромные-огромные. Их вершины позаботились о тени. Она устилала землю с отменной щедростью. Солнце проникало сквозь листву. И прогалины эти были как окна — яркими и светлыми. — Здесь есть змеи? — спросил Кравец. — Есть, — ответила Перепелка. — Боишься? — Терпеть не могу змей и пауков. Она засмеялась. — Чудно? — Он улыбнулся. — Почему? Многие девушки боятся пауков, мышей, змей. — Но я же не девушка, — заметил он. — Вот этого я не знаю. Он лег на спину, закрыл глаза. На лбу у него собрались морщинки, губы были крепко сжаты. Глядя на него искоса, она вдруг почувствовала прилив симпатии к этому непонятному, но, видимо, очень смелому парню. И сейчас, с густой неухоженной бородой, он казался ей более мужественным и естественным, чем там, в Туапсе. И она, неожиданно не только для него, но и для себя, нагнулась и поцеловала его в губы. Он вскочил, точно подброшенный. Нет. Не вскочил на ноги, а резко поднялся, опираясь на руки. И теперь не лежал, а сидел. И смотрел на нее. И глаза его были такие по-детски растерянные, что у нее стало вдруг светло-светло на душе, будто там поселилось солнце... Он наклонился, протянул к ней руки. Она погрозила пальцем. И сказала: — Но-но... Не двигаться... Он сразу сник. И опустил голову. Потом, словно набравшись сил, спросил напрямик: — Ты рада, что на связь пришел я? — Нет. Он вздрогнул от ее ответа. И взгляд его стал отчужденным. Злым. — Глупый! — как-то совсем по-матерински сказала она. — Я волнуюсь... Долинский видел тебя однажды. И твое пребывание здесь опасно... — У меня есть приказ — убрать Долинского, если он больше не нужен тебе. — Он мне не нужен... — устало ответила она. — Он даже опасен. Обратил внимание, что в клетке осталось только два голубя. — Но теперь ты голубей передала мне. Вдруг он спросит, где они? — Скажу, что продала на рынке... — Он поверит? — Какая разница! За круглыми зелеными кустами держидерева, между стволами старого дуба, пахнущими трухой и сыростью, показалось пегое тело лошади, навьюченной двумя корзинами. Грек Костя шел слева, держа в руке уздечку. Шея его была обмотана пестрой, в синюю и красную клетку, косынкой. Лошадь цокала копытами. Шмель кружился над ней, норовя сесть на спину. — Полный порядок. — Костя придержал лошадь. — Ты уверена, что вещи твои не станут проверять? — спросил Кравец. — Уверена, — ответила она тихо и спокойно. Посмотрела на корзины оценивающе. Спросила: — Не мало? — Динамита столько, что от дачи Сизова не останется камня на камне, — заверил Костя. — Главное — уйти вовремя. — Он вынул из кармана плоскую металлическую коробочку, по виду напоминающую портсигар. Пояснил: — Взрыватель химический. Нажмешь кнопку, и взрыв произойдет через сорок — шестьдесят минут. Сорок гарантированы. За это время нужно уйти из дачи. И как можно дальше. — Я буду ждать тебя у оврага. Как договорились, — напомнил Кравец. Клавдия Ивановна кивнула. Костя открыл замки и поднял крышку громадного чемодана из коричневой кожи, стоящего за деревом. — За свои вещи не волнуйся, — сказал он Клавдии. — Вещи я сохраню. — Постарайся. — Слово — закон... Костя аккуратно начал вынимать из чемодана кофты, платья, туфли, платки... — Долинский не появлялся? — спросил Кравец. — Коллекция здесь, — усмехнулся Костя. — Ему по-прежнему нужна фелюга. — Это хорошо, — сказала Клава. Внизу, за обрывом, круто изгибалась дорога, скатывающаяся к неширокому, усыпанному галькой берегу. По дороге ползли телеги, шли пешие, ехали конные солдаты... Над дорогой клубилась пыль, гудел людской говор, слышалась матерщина. Кубанская армия дружно отступала...22. Западня
Южная стена дачи была окутана хмелем и глицинией, прижившимися возле бетонного фундамента, за которым сразу начиналась клумба с лилиями и нарциссами, махровой гвоздикой и высокими лиловыми цветами, похожими на гребни и, быть может, потому называемыми петушками. Черные в полуденном свете кипарисы ровными, густыми полосами тянулись через клумбу, натыкаясь на фундамент, поворачивали вверх, коротко, как согнутые пальцы. Вверху над крышей и дальше, у берега, с ошалелым криком носились чайки, тени от них скользили нечеткие, размытые, словно акварель голубовато-серого цвета. Акварельными казались и дорожки, пересекающие парк в разных направлениях, погруженные в зелень, в солнце, в голубизну, вздрагивающие узкими крыльями стрекоз да легким тополиным пухом. Грек Костя остановил лошадь возле арки, которую перегораживали чугунные ворота, нехитрые узором, но высокие и надежные. Тени от них падали внутрь двора, на посыпанную песком площадку, на солдата-часового, вышагивающего перед воротами. Покряхтывая, безо всякого энтузиазма Костя снял с лошади два чемодана. До неприличия громко торговался с Клавдией Ивановной из-за червонца, то хлопая ладонью лошадь, то свою волосатую грудь. Рубашка на греке была расстегнута, рукава засучены. Плюнув себе под ноги, он сказал Клавдии Ивановне: — Запомни, дамочка, на мне не разбогатеешь. — Сверкнув зло глазами, вскочил на неоседланную лошадь и ускакал. — Эй! — крикнул часовой. И вскинул винтовку. — Оставьте его, — попросила Клавдия Ивановна. — Помогите лучше с чемоданами. Наездник уже скрылся за крутым поворотом дороги, обозначенным высоким обрывом горы — в трещинах и уступах, — однако стук копыт о грунтовку был слышен хорошо, как и голос волн со стороныбесконечно длинного берега. Солдат суетливо распахнул ворота. Внес за ограду чемоданы. Оглянулся, позвал другого караульного. Тот оказался совсем тощим. И когда первый сказал: «Пособи барыне», Клавдия Ивановна подумала, что два чемодана ему будут не под силу. Но ничего, солдат выдюжил. Набрал в грудь побольше воздуха. Схватил чемоданы за ручки. Шустро и даже торопливо, словно опаздывая, поспешил к даче. В холле была необычная тишина, да и вся дача казалась совершенно пустой. — А люди где? — спросила Клавдия Ивановна. — Уехали, — тяжело дыша, ответил солдат. — Как?! Совсем уехали? — В голосе Клавдии Ивановны почувствовалась растерянность. Поднимаясь по лестнице так грузно, что звуки шагов были слышны даже сквозь ковер, солдат пояснил: — На занятия повезли. Кажись, по минному делу. Попросив поставить чемоданы в шкаф, Клавдия Ивановна дала солдату золотой. Тот счастливо сказал: — Рад стараться. — И ушел, оставив ее одну. Кинув взгляд на стол, она поняла, что в ее отсутствие приходил Долинский. Рядом с пишущей машинкой лежала его папка из зеленой кожи. Долинский не руководил сборами, не обеспечивал их охрану. Он пребывал здесь как представитель контрразведки. В его задачу входило изучение личных дел слушателей, проверка их благонадежности, родственных и деловых связей, психологического состояния и других подобных сведений, очень важных для контрразведки. Ибо от письменных характеристик, которые Долинский был обязан представить в штаб армии к концу сборов, зависела судьба агентов, возможность их дальнейшего использования. Клавдия Ивановна находилась при Долинском как личная секретарь-машинистка. Их комнаты были рядом. Окно, прикрытое наполовину шторой, гасило уличный свет и яркую зелень сада, воспринимавшуюся сквозь стекло как театральная декорация. Скалистая стена горы проглядывала между ветвями акаций ржавыми пятнами — большими, широкими и узкими. В комнате стоял запах перегретых обоев и застарелой мебели. Клавдия Ивановна подняла шпингалет, распахнула раму. Движение воздуха не почувствовалось, но запахи у окна стали свежеть, ощущаться белыми, лиловыми кустами сирени, готовыми взлететь вдруг, как связка детских шаров. Щелкнул никелированный замок ридикюля — два опрокинутых, никогда не звеневших колокольчика. Клавдия Ивановна вынула взрыватель, похожий на портсигар. Взвесила на ладони. Ничего особенного. Даже легкий. Рычание подъехавшего автомобиля вывело Клавдию Ивановну из задумчивости. Она сделала шаг к окну. Перегнулась через подоконник, опершись локтем о пыльный наличник, белая краска на котором потрескалась и шелушилась. Площадка между кипарисами, где обычно стояли машины, пустовала. Цемент на ней тускнел, старый, в ржавых потеках дождя и глины. От подъезда к фонтану, растопырив циркулем ноги, ступал шофер в желтых крагах. Долинский вошел в комнату без стука. Но она знала эту особенность его характера или поведения — как уж тут точнее сказать! — и приготовилась к встрече, убрав подальше ридикюль, тщательно захлопнув створки шкафа. — Завтра нам надо обвенчаться, — сказал он, целуя ее по привычке в лоб. — Нужна ли такая спешка? — строго спросила она. — Безусловно! — Он быстро оглядел комнату: — Вещи целы? Клавдия Ивановна кивнула. — Ты проверяла? — спросил он недоверчиво. — Разумеется. Он сел на диван рядом. С облегчением снял шляпу, точно была она не из соломы, а из железа. — Зачем венчание? — усмехнулась Клавдия Ивановна. — Этим мы никого не обманем. Ты же все равно не веришь в бога. — Кто не верит в аллаха, и его ангелов, и его писания, и его посланников, и в последний день, тот заблудился далеким заблуждением. — Долинский притворно закатил глаза к потолку, на котором сидели мухи. Потом потер ладонью лицо. И, уже не поймешь, серьезно ли, шутя, сказал: — Если мне удастся вырваться отсюда живым, мы поселимся на Востоке и примем магометанство. Во имя аллаха милостивого, милосердного! — Похоже, ты давно подумывал о гареме. Едва ли мысль о принятии магометанства пришла тебе сейчас в этой суматохе. — Я давно подумывал о тишине, спокойствии, изначальной мудрости. Лицо Долинского — скулы, лоб, переносицу — покрывала болезненная серость. И только борода по-прежнему рыжела вызывающе ярко, точно парик. — Не может быть такого дела, из-за которого стоило бы торопиться, — вспомнила Клавдия Ивановна. — Только на Востоке могут сказать так хорошо, — вяло кивнул Долинский. И вдруг резко, почти рывком, поднялся с дивана. Быстрыми мелкими шагами начал семенить по комнате, которая была очень маленькая, чтобы ходить по ней широкими шагами. — Завтра сборы заканчиваются. И мы должны уехать. Уехать, уехать... Характеристики к утру следует перепечатать все, если даже для этого придется работать всю ночь. Ты поняла меня? — Представь! — Она сузила глаза, недовольная то ли перспективой утомительной работы, то ли глупым вопросом. — Твои чемоданы я заберу сейчас! — решительно сказал он. — Сегодня у меня есть машина. А что будет завтра, гадать трудно. Транспорт в наших условиях — надежда на жизнь. — Есть еще ноги, — возразила она. — Что ноги? — не понял Долинский. — Ноги — тоже надежда, поскольку они в какой-то мере и транспорт. | — Обстановка такова, что, ей-богу, не до шуток. — Почему же, Валерий Казимирович? Чувство юмора, наверное, тоже надежда. — Эта мысль только кажется бесспорной... — Нет. Я твердо верю в нее... — Клавдия Ивановна сказала это почти с вызовом. И улыбнулась, чуть сощурив глаза. Долинский равнодушно кивнул. Впрочем, может, не столько равнодушно, сколько устало. Попросил: — Приготовь чемоданы. Ушел в свою комнату, гремел там сейфом. Вернулся с широким увесистым портфелем. Неновым, но солидным. Из кожи. С двумя огромными позолоченными замками. Чемоданы стояли у порога. Четыре. И все большие. — Один я оставила, — пояснила Клавдия Ивановна. — Нужно будет переодеваться. И потом... Всего не увезешь. Да и стоит ли это делать? Женская одежда быстро выходит из моды. Он сказал: — Я пришлю за ними солдат. Ужинай без меня. Вернусь поздно. — К этому я уже привыкла, — сухо ответила она, обиженно оттопырив губы. — Надеюсь, ты не ревнуешь? — Надейся... — Она теперь улыбалась безмятежно и даже чуточку наивно. Сумерки запаздывали. Небо у моря простиралось безоблачное. И солнце висело над четкой линией горизонта, как вырезанный из бумаги круг, раскрашенный лиловой акварелью. Лиловые блики дрожали на воде, гнездились среди листьев, даже серая скала, что стояла близ дачи за поворотом дороги, была выкрашена сейчас в густо-лиловый цвет. Белые буквы на черных клавишах пишущей машинки казались покрытыми тонкой сиреневой пленкой. Почему? От усталости или из-за призрачного, неестественного света, падающего в раскрытое окно. Клавдия Ивановна закрыла глаза ладонями. Откинулась на спинку стула. Почему-то вспомнила ясный вечер очень далекой осени 1912 года. Старая шаланда возле пристани со свернутыми парусами. Такой же лиловый закат. И гимназист из выпускного класса, пытающийся обнять ее, совсем еще юную-юную... Удочки как струны уходят в море. Поют чайки. Мечутся и поют... Загорелая женщина в зеленой юбке до самых пят прямо на пристани продает молодую кукурузу. Желтоватые початки лежат в круглой корзине из ивовых прутьев, дышат серебристым паром. Пар виден лишь по краю, овальному, прикрытому льняным полотенцем, расшитым яркими крестиками. А выше, за корзиной, седые от соли доски тянутся до берега, к бетонным опорам, на которые приналег причал». Она не помнит, как звали того гимназиста. Кажется, Вова или Витя. А может, Вася... Они целовались потом под тополями. И тополя что-то шептали им......За окном, перед дачей, был развод караула. Громко подавались команды. Солдаты топали сильно, но недружно. Звуки не ложились, а сыпались, как град по стеклу. Поправив прическу, Клавдия Ивановна спустилась в столовую. «Семинаристы» уже поужинали. Запах табака плыл из бильярдной, оттуда слышались голоса. Солдат, исполнявший должность официанта, поставил перед ней тарелку с жареной рыбой и стакан чаю. Сказал вежливо: — На здоровьице... Он был стар, некрасив. Белый фартук на нем казался нелепым... В половине десятого, когда стемнело уже плотно, Клавдия Ивановна при свете свечи вставила в мину взрыватель. Мина в чемодане лежала среди брусков динамита, прикрытых старым плащом. Клавдия Ивановна подумала, что теперь, после того как Долинский увез все ее вещи, плащ, хотя и старый, может пригодиться. Она вынула его из чемодана, перекинула через спинку стула. В комнате запахло нафталином. Это напомнило дом. Клавдия Ивановна не знала свою мать, умершую при родах. Но отец, суеверно боявшийся моли, все вещи в доме пересыпал нафталином... Она не имела понятия об устройстве мин и взрывателей и не без страха нажала кнопку, как учил грек Костя, опасаясь, что в ту же секунду сверкнет пламя и раздастся взрыв. Пламя действительно сверкнуло, но не в чемодане, а за окном... Перекат грома послышался вскоре. И Клавдия Ивановна поняла: гроза начнется с минуты на минуту. «Сорок минут! — вспомнила она слова грека. — Сорок минут у тебя есть». Без торопливости надела плащ. Вынула из папки документы, свернула в трубочку. И спрятала во внутренний карман плаща. На буфете стояла нераскупоренная бутылка шампанского. Клавдия Ивановна выстрелила ею в потолок. Шампанское было теплым, пенилось бурно. Мелкие пузырьки ложились на хрустале. А на стеклах распахнутой рамы уже ложились капли дождя. Часы в золотом медальоне отец подарил ей в день окончания гимназии. Клавдия Ивановна никогда не носила их на цепочке, тонкой и витой, потому что не любила украшений. Она считала — украшения придают ей несколько вульгарный вид. И очень хорошо обходилась без них. А часы спокойно тикали на дне ридикюля, рядом с расческой, помадой, носовым платком... Красные стрелки, казалось замершие над циферблатом, показывали без двадцати десять. Десять минут проскочили как одна. Клавдия Ивановна дунула на свечу. Рыжий уголек, над которым, чадя, вилась узкая струйка копоти, изогнулся, вытянулся на мгновение. Загас... В коридоре дремал полумрак. Керосиновая лампа, прикрепленная возле лестницы на обшитых деревом панелях, светила вполсилы. На первом этаже в холле горели три лампы. В бильярдной была тишина. У входной двери на кресле сидел казак. Длинные ноги его, обутые в тщательно начищенные сапоги, были вытянуты. Он равнодушно смотрел на приближавшуюся женщину, не меняя позы. Клавдия Ивановна остановилась у порога. Требовательно посмотрела на казака. — Не можно, — сказал тот. — Что «не можно»? — не поняла Клавдия Ивановна. — На улицу никого пущать не велено, — пояснил казак. — Вы знаете, кто я такая? — спросила она высоко и резко. Удивляясь звукам собственного голоса, которые слышала будто со стороны. — Це мне без надобности. — Встань, скотина! — выкрикнула Клавдия Ивановна. И сжала кулачки. Затрясла ими бессильно... Казак удивился. Но встал с кресла. Вытянулся. — Пошел вон от двери! — Клавдия Ивановна говорила теперь глухо и грозно. — Не можно, барышня... Не можно. — Казак с испугом смотрел на ее покрывающееся красными пятнами лицо. — В чем дело, мадам? — Начальник караула подошел неслышно. — Я хочу выйти, поручик. — Клавдия Ивановна искоса взглянула на офицера. — У меня есть приказ, мадам, после двадцати одного часа никого не выпускать из здания. — Офицер говорил четко, даже красиво. И пожалуй, любовался звуками собственного голоса. — Это что-то новое... — Совершенно верно, мадам... Сегодня в перестрелке уничтожена разведгруппа красных. Обнаруженный у них топографический план местности свидетельствует, что они шли именно сюда, на Голубую дачу. Поэтому поступил приказ усилить караулы. А внутренний распорядок сборов перевести на особый режим. — Мне необходимо срочно увидеться с капитаном Долинским! — Ничего другого она не смогла придумать. Офицер взял под козырек: — Я приложу все усилия, чтобы связаться с капитаном по телефону... Мадам, прошу вас пройти в свою комнату... Она вновь зажгла свечу. Шампанское еще пузырилось в раскупоренной бутылке, отливало голубой зеленью. Молния полыхала за окном, бело прыгала над морем, над горами. Дождь валил, как толпа. Было страшно. Было беспомощно. Она не имела понятия, можно ли извлечь взрыватель обратно. Но хорошо помнила о другом. Он все равно взорвется. Даже извлеченный. Сам по себе. Поскольку химический. Что, он щелкнет, как пугач? Или разнесет комнату? Грек Костя не говорил об этом. Костя сказал, что динамита много. Динамита хватит на корабль, не то что на дачу. А про силу взрывателя Костя не сказал ничего. Часы показывали без пяти минут десять. Пятнадцать минут надежды. «Надо думать, — сказала она себе. — Надо думать. Успокоиться и думать. Как обычно. И тогда все будет хорошо». Ночь с дождями и молниями уже однажды была в ее жизни... — Меня ищут жандармы, — сказал незнакомый парень с мокрыми волосами, которые, словно тина, свисали поперек его лба. Это было в Ростове. Клава снимала комнату в маленьком доме в районе Нахичеваня. Хозяйка — добрая упитанная старушка — страдала глухотой. И Клава могла играть на пианино даже ночами. Видимо, на вальс Шопена и постучался этот парень, мокрый с ног до головы. Ей, молодой девушке, казалось просто невероятным, что в такое осеннее ненастье кто-то может ходить по улицам. Парень часто дышал, но испуг не коснулся его лица, а глаза были умные и спокойные. Он сказал: — Я нырну под вашу кровать. И она не возразила, а согласно кивнула в ответ. Ей нравились вот такие отчаянные ребята. Жандармский офицер появился в дверях всего лишь минуты три спустя. — Вы одна? Вас никто не беспокоил, барышня? — Кроме вас, никто. — Барышня не очень любезна. — Вы мешаете. У меня завтра экзамен. Топая, жандармы удалились. Их голоса еще слышались с улицы — стражи престола прочесывали весь район. Клава вернулась к пианино. Играла долго и с настроением. — Вы молодец, — сказал парень, выбравшись из-под кровати. Потом он вынул из-за пазухи пачку листовок. Удовлетворенно заметил: — Не промокли. — И с горечью: — Жаль, котелок с клеем я потерял. — Есть клей, — сказала Клава. — В комнате был ремонт. И осталось почти полбанки хорошего клея. — Вы совсем молодец, — обрадовался парень. — Это страшно, клеить листовки? — В такую погоду холодно. — Можно, я помогу вам? — Еще секунду назад Клава не думала об этом, и эта просьба или предложение вырвались у нее непроизвольно, как вздох. Парень посмотрел на нее пристально. Спросил: — А экзамены? — Я способная, — похвалилась Клава беззаботно, весело. Накинув пальто, она загасила свечи. И вышла вслед за парнем. Шепотом спросила в саду: — Вы анархист? — Я большевик.
...В дверь постучали. На пороге стоял начальник караула. Тень от двери, точно вуаль, прикрывала его лицо. — Мадам! — почти торжественно сказал он. — Капитан Долинский у телефона. Она торопливо прошла за поручиком полутемным коридором, лестницей с мягкими дорожками. В комнате, отведенной для дежурного офицера, висела аляповатая картина, изображающая обнаженную женщину, выходящую из морской волны. Едва ли Афродита появлялась из моря так непристойно. Телефон исказил голос Долинского до такой степени, что вначале Клавдия Ивановна даже сомневалась: с капитаном ли она разговаривает? Она сказала: — Меня не выпускают. Прикажите, чтобы меня выпустили. — Это опасно, — ответил он. — И потом, такая погода... — Но мне срочно нужно в Лазаревский, — Зачем? — Я не могу сказать этого по телефону. — Хорошо. Я приеду минут через тридцать. Ей не оставалось ничего, как передать трубку поручику. Она опять поднялась в свою комнату. Посмотрела на часы. Три минуты одиннадцатого. За семь минут Долинский никак не может успеть сюда, тем более что и обещал он быть только через полчаса. Впрочем, какое это имеет значение? Даже будь у нее в запасе эти тридцать минут, тридцать пять, сорок... Что она скажет Долинскому? Как объяснит необходимость срочно покинуть дачу? Долинский и прост, и не прост. И знает она капитана совсем плохо. Вчера он вдруг сказал: — Возьми чистый лист бумаги. Я начну диктовать роман. Она решила: он шутит. Но, увидев бледное лицо и глаза, почти безумные, а еще больше — тоскливые, она послушно, вставила в каретку чистый лист бумаги. — «Ночью стали слышны раскаты орудийной канонады, — начал Долинский. — День все же сильно был заполнен звуками — канонаде не хватало тишины, как порой не хватает света картине, чтобы ее могли рассмотреть хорошо, пристально... Красные приближались к городу. Могли взять его в самое ближайшее время. Под покровом темноты из порта спешно уходили суда и влекомые буксирами баржи. Они держали курс на юг. К берегам Турции...» Их прервали. Пришел кто-то из офицеров. И потом уже Долинский не возвращался к разговору о романе. Однако листок с началом Клавдия Ивановна положила в папку. Она знала, что капитан вспомнит о нем, потому что не забывает ничего... ...А на часах — восемь минут одиннадцатого. Сто двадцать секунд, чтобы спасти жизнь. Клавдия Ивановна распахнула крышку чемодана. Допустим, ей удастся извлечь взрыватель. Предотвратить взрыв динамита. Сам-то взрыватель рванет все равно. Пусть она на время спасет себе жизнь. Но подготовка диверсии будет раскрыта. А это значит допросы, пытки, расстрел...
Капли воска слезами катились вниз. Фитиль оголился. Пламя прыгнуло, распушив над собой щедрый хвост копоти. Комната захлебнулась в желтом подрагивающем свете. И мокрые стекла заморгали ярким светом, как море в ясный солнечный день. Клавдия Ивановна решительно загасила свечу. За окном все еще лил дождь, но не такой жестокий, как прежде. Нащупав лозу глицинии, Клавдия Ивановна поднялась на подоконник. Села. Торопливо разулась. Крепко схватила руками лозу. И повисла над окном. Как ей помнилось, карниз находился сантиметрах в шестидесяти под окном. Нога коснулась его. Клавдия Ивановна осторожно двинулась по карнизу, держась за глицинию. Добравшись до колонны, обхватила ее, холодную, мокрую, и, вспомнив детство, когда она, как кошка, могла лазить по деревьям, спустилась вниз. Она давно отвыкла ходить босиком и, когда, миновав мягкую клумбу, вышла на залитую водой дорожку, почувствовала, как остры камни. И пожалела, что не спрятала туфли род плащ. Забор вокруг дачи был плотным и высоким. Клавдия Ивановна подумала, что надо идти к берегу, как договорились они с Кравцом. Разумеется, берег охранялся. Но взрыв дачи, который должен произойти с минуты на минуту, непременно отвлек бы часовых. Это позволило бы ей добраться до оврага, где ее ожидает Кравец с конями. Она не пошла мимо парадного входа, а обогнула дачу с северо-восточной стороны. И никто не остановил ее. Она оказалась на аллее, упирающейся в берег. Выйдя на аллею, Клавдия Ивановна почувствовала, что надо бежать, что только метров за сто от дачи можно считать себя в безопасности. А за сто метров было уже море, совершенно невидимое из-за дождя и темноты. Клавдия Ивановна побежала. Аллея была асфальтированная, и бежать босиком по ней уже можно было быстро. Вода бурлила, скатываясь к берегу. И Клавдия Ивановна, поднимая брызги, бежала, точно по ручью. Если, конечно, здесь, вдоль аллеи, и стояли часовые, то в такую погоду ничего услышать, ничего увидеть они не могли... Вокруг все озарилось белым светом. До жути коротким, неживым. «Все! — мелькнула мысль. — Взрыв!» Но тишина, последовавшая за вспышкой, объяснила: молния. Только молния! — Стой! — закричал кто-то рядом. Закричал истошно, перепуганно. — Стой! Значит, ее увидели при вспышке, — Стой! Она не остановилась. Она поняла: в нее стреляют. Вобрав голову в плечи, она побежала быстрее. А пули сжигали темноту. И дождь. И кипарисы. Потом вновь была вспышка. Но не такая желтая, как молния. Наоборот, она была кирпичного цвета. И грохот при ней казался неотделимым, как берег от моря. Перепелка остановилась. Дача на ее глазах поднималась в небо. Теплая волна взрыва катилась по аллее, разгоняя дождь. «Надо упасть, — подумала Перепелка. — Надо упасть». Но не успела этого сделать. Что-то толкнуло ее в грудь. Вначале тупо и не больно, будто палкой. Однако палка оказалась горячей, не палка, а раскаленный прут. Перепелка приложила ладонь к тому месту на груди, где жгло. Догадалась... Догадалась. Кровь... Было удивительно. Почему она не падает? Почему не кружится голова? Она повернулась и побежала вперед. А море тоже бежало ей навстречу. Бежало, бежало... Синее и яркое, точно днем...
23. На берегу
Фелюга появилась на закате. Ее паруса целовало солнце. И они казались позолоченными. Голубые разводы неба были под цвет воды, тоже голубой в середине моря, а возле берега вода густела зеленью. У горизонта переливалась малиновыми разводами. Костя посмотрел на море. И сказал Кравцу: — Этой мой брат, Захарий. Фелюга легко скользила по зеленоватой морской воде. Волна не била, а лишь шлепала ее левый фальшборт. И трисель на гафеле*["7] — косой четырехугольный парус — выгибался от дружного попутного ветра и был похож на большого белого лебедя. Снасти стоячего такелажа, которым крепились мачты, фокс-стеньги, грот-стеньги*["8], косыми, пересекающимися тенями ложились на палубу и на воду. — Захарий ждет сигнала, — пояснил Костя. За рекой сразу начинался лес. Он рос на полосе между берегом и горой, которая была относительно ровной и широкой. Матерые деревья каштанов и ореха теснились здесь вперемежку со стволами дуба, ясеня, клена, акации... Когда вошли в лес, Костя сказал Кравцу: — Я пойду вперед. — Думаешь, так лучше? Загорелое лицо грека вдруг стало непроницаемым. Морщинки собрались над переносицей да так и застыли. Глядя прямо перед собой на темные изломанные стволы деревьев, Костя твердо сказал: — В меня он стрелять не станет. — Хорошо. Я приду потом. — Ты приди минут через десять. — Хорошо, — согласился Кравец, — я так и сделаю. Грек ушел по тропинке, которая пролегала между жестким коротким кустарником. Кравец замедлил шаг. Вынул пистолет... Ветер не продувал лес. И запахи коры, листьев были тут крепкими, постоянными. Кравцу казалось, что они пахнут лекарствами, и особенно йодом, как комната грека Кости, где лежала теперь раненая Перепелка. Вчера вечером Кравец терпеливо ожидал ее в овраге, узкое дно которого оказалось захваченным холодным стремительным потоком. Вода гудела, ворочала камни. Кони вздрагивали, ржали испуганно... Ему посчастливилось услышать выстрелы. Вернее, увидеть. Это после он догадался, что тонущие в реве моря и шуме дождя звуки, похожие на треск сухой палки, есть не что иное, как выстрелы. Он вывел коней из оврага. Привязал их к ясеню, который приметил раньше, накануне. Вынув пистолет, пошел вдоль берега к даче. Именно тогда и раздался взрыв. Крыша дачи вдруг высветилась. Поднялась чуть-чуть, точно крышка над закипающей кастрюлей. Потом стремительно стала расширяться огнем, копотью, балками, железом, досками. Стены осели. И рухнули... Вот тогда метрах в тридцати от себя, на аллее, Кравец увидел согнутую женскую фигуру. И понял, что это Перепелка. Налетев на старую рыбацкую сеть, провисшую на покосившемся сушиле, он запутался в ней. Выбирался, чертыхаясь. Судя по времени, Перепелка должна была уже выйти на это место. Но никто не пробегал берегом, совершенно точно. Овраг, в котором назначили встречу, находился слева от дачи. И Перепелка должна была бежать берегом сюда, в сторону Лазаревского. Никаких видимых причин, мешавших ей двигаться влево, Кравец не находил. За исключением... За исключением того, что в Перепелку стреляли. Пригнувшись как можно ниже, Кравец широкими прыжками бросился в глухую ночь, туда, где темнела аллея. Прибрежная галька, крупная и мелкая, блестела жалко, тускло, неслышно проваливаясь под сапогами. Зато море горланило вовсю. Волны шли высокие, частые, с длинными пенистыми гребнями. Гребни эти белели, как клочки тумана, то пропадая, то появляясь вновь. Сверкнула молния. Сверкнула на долю секунды. Но и этой доли было достаточно, чтобы Кравец увидел Перепелку, лежащую поперек аллеи... Спасибо, кони были рядом. Кравец понимал, что Перепелка еще жива, что она ранена, но ничем помочь ей в данный момент не мог. Он положил ее поперек седла и медленно двинулся к берегу моря... Фелюга приближалась. Кравец сразу увидел ее, как только вышел из леса. Еще он увидел Долинского и грека Костю у самой кромки воды, поигрывающей редкими, веселыми волнами. — Кто это? — повернувшись на звуки шагов, спросил Долинский. — Мой человек, — равнодушно пояснил Костя. Но скорее всего, ответ грека не удовлетворил Долинского, у него была профессиональная память на лица. Потому что взгляд контрразведчика цепко задержался на Кравце. И Кравец понял, что он узнан. Кравцу удалось раньше выхватить пистолет. Однако резким движением Долинский схватил Костю за шиворот рубахи и прикрылся им, как щитом. Грек рванулся, оставив в руке рыжебородого большую часть рубахи. Упал. Галька зашуршала под его телом. И Долинский направил ствол пистолета на Костю, хотя это было тактически неграмотно и диктовалось лишь злостью. Кравцу нужно было пробежать еще метров пятнадцать, чтобы достигнуть Долинского и защитить Костю. Он понял, что не успеет. И выстрелил... Долинский опрокинулся на спину. Волны теперь лизали его лицо и бороду, которая, смоченная водой, утратила пышность и стала жидковатой, похожей на водоросли. Над морем летали чайки. Они были белыми, легкими. Выстрел не вспугнул птиц, и они по-прежнему свободно парили в воздухе, и стремительно падали, и взмывали вверх. Волны глядели на птиц, и вздохи их были полны зависти. Стряхивая с одежды мокрую мелкую гальку, Костя произнес: — Отвоевался. Ящики с коллекцией лежали чуть в стороне, прикрытые сломанными ветками. Долинский, видимо, торопился. Крышка на одном не была заколочена плотно. Держалась только на двух гвоздях. Приподняв ее, Костя сразу узнал завернутые в рогожу иконы и картины, которые еще совсем недавно он прятал в печь профессора Сковородникова. — Все здесь? — спросил Кравец. — Похоже, что все, — наклонившись, сказал Костя. — Точно ответить может только профессор.24. Подарок
— Этот человек, профессор, — сказал Костя, кивнув на Кравца, — покарал Долинского. Он вернул вам иконы. Профессор Сковородников чуть приподнялся в кресле, будто попытался заглянуть в ящики сквозь крышки, потом вдруг обмяк и откинулся назад. — Вам плохо? — спросил Кравец. — Воды бы... Однако Михаил Михайлович сделал знак рукой, что все хорошо, что ему ничего не нужно. — Иконы опять спрятать в печь? Терраса теперь не была идеально чистой, как обычно. Следы грязи и беспорядка — результат обыска — виднелись повсюду. — Иконы не надо прятать в печь, Костя, — сказал профессор. Потом он посмотрел на Кравца и спросил: — Кто вы такой, молодой человек? — Кравец. — Уж не красный ли вы? — Угадали. — Разве красные пришли в Лазаревский? — Скоро придут. — Вы авангард? — Я разведчик... — Вот как... — Старик пошамкал губами: — У меня к вам просьба, господин разведчик... — Товарищ, — поправил Костя. — Виноват... Товарищ разведчик. Какое у вас образование? — Я учитель земской школы, не преподававший в школе ни одного дня. — Ваши родители пролетарии? — Мой отец — переплетный мастер. — Иконы, которые вы спасли, — произведения древнерусского искусства... Сохраните их. А потом передайте в дар народу. — Через день-другой вы сможете это сделать сами. — Сегодня в два часа пополудни скончалась моя жена Агафена Егоровна. У меня нет уверенности, что я намного переживу ее. — Это пройдет, — сказал Кравец. — Вы человек мужественный. Сковородников горестно усмехнулся. Его сухое невыбритое лицо вдруг напряглось. И синие прожилки набухли у висков и на щеках. Подняв высоко подбородок, он сказал: — Нет, товарищ молодой большевик. Мужество не абстрактное понятие. Оно весьма и весьма конкретно... Я никогда не мог быть до конца мужественным, потому что считал жизнь неотрежиссированным спектаклем, предпочитая оставаться пассивным зрителем. Увы, сегодня я об этом сожалею, но я мог и не дожить до сегодняшнего дня. И тогда бы умер, находясь в плену собственных заблуждений. Вы меня поняли? — Да, — ответил Кравец. — Повторяю свою просьбу. — Сковородников говорил хрипло, кажется выбиваясь из последних сил: — Передайте мою коллекцию в дар народу России. — Я сделаю это, профессор.Вместо эпилога
Голубеграмма:«Кравец — Перепелке Многоуважаемая Клавдия Ивановна! Сегодня наши войска освободили Сочи. В этот радостный день очень сожалею, что рядом нет Вас, славного боевого друга. Вы такая смелая, чистая и красивая! Я всегда думаю о Вас. Это правда. Желаю скорейшего выздоровления. Верю, этот голубь прилетит к Вам. 29 апреля 1920 года.Голубеграмма:К р а в е ц».
«Перепелка — Кравцу Милый Кравец! А Вы, оказывается, лирик... Голубь нашел меня. И я была очень тронута Вашей запиской. Тронута не оттого, что Вы так щедры на комплименты, а из-за этой выдумки с голубем, которая прежде всего показывает, что я не поняла Вас, не угадала Ваших лучших качеств. Я всегда была черствой по натуре. И не отвечала тем хорошим эпитетам, которыми Вы меня наделили. Товарищи рассказывали, что своим спасением я обязана Вам. Сердечное спасибо, дорогой мой. Верю, что в Вашей жизни еще будет много хорошего. Будет и славная девушка, достойная Вас. 5 мая 1920 года.П е р е п е л к а».
«Разведотдел 9-й армии, тов. Каирову М. И. Р а п о р т Считаю своим партийным долгом доложить следующее. Посланная в тыл к белым с целью внедрения и последующей эвакуации в Крым, я, Карасева Клавдия Ивановна, не проявила смекалки, находчивости, не смогла установить связь с армией. В результате чего не использовала возможности, которые предоставляло мне положение подруги капитана контрразведки. Я никак не заслуживаю благодарности, объявленной мне приказом по армии. Прошу разобрать сообщенный мною факт. И принять решение. И еще прошу Вас сегодня, когда в стране объявлено военное положение с мобилизацией коммунистов, ходатайствовать о направлении меня на борьбу с белополяками. Обещаю оправдать доверие Революции. 12 мая 1920 года. Туапсе.К. К а р а с е в а».
«Уважаемая Клавдия Ивановна! Приказ по армии, объявляющий Вам благодарность, отменять не считаю нужным. Операция по уничтожению диверсионно-террористической группы в составе 42 человек, осуществленная Вами совместно с товарищами, является, безусловно, героическим поступком. И должна быть достойно оценена. Да, действительно, отправляя Вас в тыл к белым, мы имели в виду далеко идущие цели. К сожалению, не все задумки сбываются полностью. Так было всегда. Так, наверное, и будет... Но сколько бы мал ни был личный успех каждого в борьбе за дело Революции, он кирпичиком ложится в общее здание нашей победы. Здание большое и прочное. Мы приперли белых к границам меньшевистской Грузии. Это хорошо, это здорово. Поправляйтесь быстрее. И уверяю, у Вас еще будет возможность отличиться во имя нашей славной Родины! 13 мая 1920 года.М. К а и р о в».
«Разведотдел 9-й армии, тов. Каирову М. И. Р а п о р т Посланный Вами в тыл белых, я проявил слабость духа и влюбился в свою напарницу К. И. Карасеву (по кличке Перепелка). Прошу Вас больше никогда не посылать меня на важные задания с женщинами. И прошу направить на фронт бить белополяков. 14 мая 1920 г. г. Сочи.Из служебной записки командарму-9.Д. К р а в е ц».
«...Считаю целесообразным направить в распоряжение разведотдела 14-й армии Юго-Западного фронта тт. Кравца Д. П. и Карасеву К. И. для дальнейшего прохождения службы. 14 мая 1920 года.М. К а и р о в».
ДАНТИСТ ЖИВЕТ ЭТАЖОМ ВЫШЕ

ДОНУГРО Красноармейская ул., 39, тел. 50
1
Из допроса И. Н. Строкина, арестованного Донским уголовным розыском за бандитизм в городе Ростове-на-Дону 14 августа 1926 года.В о п р о с: Гражданин Строкин, при обыске в вашей квартире обнаружен золотой потир, украшенный драгоценными камнями. По мнению специалистов, он изготовлен в пятнадцатом веке и принадлежит к предметам произведений искусств, похищенных из Зимнего дворца. Объясните, каким образом потир оказался у вас? Только не говорите, пожалуйста, что вы нашли его. О т в е т: Я действительно нашел его, гражданин следователь. С августа по ноябрь месяц семнадцатого года я служил в караульной роте Петроградского гарнизона. Несколько раз мне приходилось нести караульную службу в Зимнем дворце. Однажды вечером помощник начальника караула поручик Шавло привел нас, двух солдат, в Малахитовый зал. Там мы взяли ящик и вынесли к машине. Было уже темно. Когда машина уехала, я увидел: на брусчатке что-то блестит. Поднял. По весу понял — это золото. Незаметно спрятал в урну. Потом забрал. В о п р о с: Вы можете вспомнить число? О т в е т: Нет. Точно нет. Это было начало месяца. Четвертого, пятого или шестого. Скорее всего, так. В о п р о с: Что собой представлял ящик? О т в е т: Деревянный, некрашеный. Примерно метровой длины. Без замков. Три сургучных печати. В о п р о с: Вас не удивил характер поручения? О т в е т: Нет. Еще в сентябре из Зимнего вывозили какие-то ценности в Москву. Это все знали. Поручик тогда и сказал, что ценности отправляются в первопрестольную. В о п р о с: Ящик был опечатан. Каким образом потир мог выпасть? О т в е т: Не знаю. В машине находились какие-то сумки. Возможно, он выпал из сумки. В о п р о с: Скажите, вы не можете вспомнить марку машины? О т в е т: Могу. Я всегда интересовался машинами. По профессии я механик. Это был «роллс-ройс», светло-серого цвета. В о п р о с: Было же темно?! О т в е т: Светло-серое можно отличить и от черного, и от красного, и от синего. В о п р о с: Что за люди были в машине? И сколько? О т в е т: Двое. Один сидел в машине. Культурный. В пенсне, с усиками, козлиной бородкой. Голос тонкий. Другой — шофер. Высокий. Открывал дверцу. Говорил, как ставить ящик. Слова произносил с сильным кавказским акцентом. В о п р о с: О чем они говорили? О т в е т: Точно не помню. Тот, который в пенсне, что-то сказал поручику Шавло... Кажется, про дом на Фонтанке, где его ждут... Я не прислушивался. В о п р о с: Вам, случайно, неизвестна дальнейшая судьба поручика Шавло? О т в е т: Дальнейшей судьбы не оказалось. Его убили. В о п р о с: Когда? О т в е т: Вскоре. Буквально дня через два после того случая. Точно. Через два дня. Мы вернулись из караула, а в казарме уже были разговоры, что Шавло прихлопнули. В о п р о с: Убийцу нашли? О т в е т: Что вы, гражданин следователь, время-то какое было!
2
«В Краевое административное управление от учительницы Лосевой Веры Васильевны Дорогие товарищи! Второй год я работаю в начальной школе станицы Камышинской. Приехала сюда из Ростова-на-Дону. Снимаю комнату у крестьянки Хлоповой Антонины Ивановны. С ее слов узнала, что в 1919 году у нее в доме квартировали белый есаул Кратов и его денщик Василий, убитые при неясных обстоятельствах. После них остался сундучок с вещами. Вещи до настоящего времени не сохранились. Однако среди немногих уцелевших бумаг, которыми Антонина Ивановна иногда пользовалась для растопки печи, я нашла письма жены Кратова, письмо денщика Василия брату Петру и клочок листка с описью предметов. Письма жены — чисто личного характера. Однако письмо денщика Василия и клочок с описью посылаю вам. Возможно, они окажутся интересными. А если нет, то простите за беспокойство.В левом верхнем углу письма: «Донугро. Боровицкому. 24 мая 1927 г.». Подпись неразборчива.В. Л о с е в а.20 мая 1927 г.»
3
Письмо денщика Василия брату Петру:«Уважаемый брат Петр, добрый день или вечер! Пишет тебе единокровный брат Василий из станицы Камышинской, что на берегу реки Дон. Оказался я тут по надобности воинской, в час гораздо недобрый. Господин мой и благодетель есаул Кратов Валентин Еремеевич вчера преставился, смертельно раненный в грудь, убиенный по тайной причине. Перед смертью, придя в сознание, Валентин Еремеевич поручил мне забрать его вещи, которые он оставил в городе Северокавказске, в гостинице «Гусак» или «Индюк». С перепугу не помню, все в голове перепуталось. Я поклялся на кресте, что найду его вещи. Они спрятаны в подвале гостиницы, за лестницей. Вещи в деревянном ящике с тремя сургучными печатями. Ценности громадной, даже нельзя сказать какой. Про них знал полковник Ованесов, но он мертвый уже как месяц. Знал еще Дантист. Очень опасный человек. Кратов сказал мне, что Дантист убил его и Ованесова из-за этого ящика... Есаул Кратов велел мне взять ящик незаметно. Половину вещей он подарил мне. Половину — жене своей. Она живет в Петрограде, на улице Фонтанка. Адрес у меня есть. Брат Петр, я поклялся на кресте, что опережу Дантиста... Но как это сделать — я не знаю, служба суровая. И за дезертирство стреляют. Ты должен поехать в Северокавказск. Если не сможешь увезти ящик, перепрячь в свое место. Отыскать ящик легко. Стена под лестницей кирпичная. А на стене гвоздем нацарапано матерное слово...»
4
Уцелевший клочок описи:35. Кадило золотое. 36. Ковш серебряный. XVI в. 37. Братина золотая, с камнями. 38. Ендова серебряная, с позолотой. XVII в. 39. Блюдо кутейное, серебряное. 40. Кубок золотой, с аистом. 41. Табакерка с бриллиантом. 42. Табакерка с эмалью.
Глава первая
1
Штора не была задернута, свисала тяжело, касаясь скупо блестевшего паркета. За окном серебряно отсвечивала вершина горы, острая, чуть склоненная набок. Она словно всматривалась в ночь или прислушивалась к чему-то. А звуков трепетало много, обыкновенных земных звуков, из которых складывалось то, что принято называть тишиной ночи. Шумела горная мелкая речка — катила воду и камни; подавали сигналы цикады; кричали птицы; на железнодорожной станции маневрировали паровозы — шипели паром, захлебывались гудками, лязгали вагонными буферами. Луна в небе гуляла полная, круглая, большая и неестественно красивая. Город и горы вокруг него, словно дождем, были омыты мягким и теплым светом. Дежурный администратор гостиницы «Эльбрус» Ксения Александровна Липова вышла из-за конторки, пересекла гостиничный холл и остановилась на пороге, подперев плечом распахнутую входную дверь. Дверь была высокая, старая. Не сбитая, а собранная из черных досок, маленьких и больших, аккуратно подогнанных друг к другу. Дверная ручка в форме шеи и головы гуся, отлитая из бронзы, мерцала на темном фоне, словно свеча. Ксения Александровна много раз видела такую летнюю ночь, с запахами гор, реки, мимозы, лесопилки, паровозного депо. Она работала в этой гостинице пятнадцать лет, с тысяча девятьсот двенадцатого года, когда гостиница «Эльбрус» была известна горожанам под прозаическим названием «Гусачок». Летними ночами Ксения Александровна обычно запирала входную дверь после двух, если, конечно, не было грозы и непогоды, а светила луна и можно было спокойно любоваться горами, их простотой и величием. Прежде чем повернуть ключ в замке — ключ был тоже бронзовый, как и дверная ручка, — Ксения Александровна посмотрела вниз, в долину, где белел домами и улицами город, почувствовала тоску по сыну, в который раз подумала: «Пора найти нормальную работу, дневную, без ночных дежурств». Дверь не скрипнула, пошла легко. Завхоз Попов наконец смазал петли. Поклялся, что масло особенное. Смазка будет держаться до осени и даже до зимы. Ксения Александровна не уважала Попова. Не за то, что он пьет. Считала, всякий мужик пьет, если деньги и здоровье позволяют. Она не уважала Попова за трепливость. Укоряла его: — Зотикович, самое последнее дело — пообещать и не выполнить. — Ты права, Ксеня. Ты права, — деловито сдвигал брови Попов. — Я сам этого не уважаю. Вот скажи, я тебя хоть однажды подвел?! — Уходи с глаз моих, — просила в таких случаях Ксения Александровна. — Непременно! Непременно! — Попов рассекал ребром ладони воздух и незамедлительно выполнял просьбу. Ксения Александровна повернула ключ. Услышала шаги на лестнице. Осенью и зимой лестницу покрывали ковровые дорожки. Весной, когда начинала одолевать грязь, дорожки снимали. Чистили. И до осени Попов хранил их в своей кладовке, которая была на первом этаже под лестницей. — Вы уже заперли дверь? — Я могу открыть. Она узнала постояльца с третьего этажа из тридцать шестого номера, молодого мужчину с короткими усиками и золотой фиксой, которую можно было видеть слева в верхнем ряду зубов, когда он говорил или улыбался. Ксения Александровна окрестила его про себя Фиксатый. — Ничего, — сказал он. — Просто хотел подышать свежим воздухом, проветриться... Да ладно... Пойду спать. Он жил в гостинице четвертый день. Часто уходил. Однако, как правило, быстро возвращался.Керосиновая лампа светила за его спиной на стене, возле лестничной площадки. Тень Фиксатого перегибалась, сбегая по ступенькам в холл, где лежала ровно и длинно, касаясь ног Ксении Александровны. Пожав плечами, Ксения Александровна наступила на тень. Доброжелательно сказала: — Спокойной ночи. — Спасибо, — ответил он не двигаясь. Потом нерешительно спросил: — Вы не сможете разбудить меня в шесть? — Пожалуйста, — кивнула Ксения Александровна, спокойно направляясь к конторке. Фиксатый как-то странно смотрел на нее. Внезапно, будто от боли, сжав губы, мотнул головой. Негромко, точно себе, сказал: — Нет-нет... Будить не надо. Я сам проснусь. Я сам!.. — и побежал по ступенькам вверх. Бронзовые стержни для поддержки дорожек звякали, как мелочь в кармане. Взяв с конторки свечу (электричество в городе через день отключалось в двенадцать часов везде, кроме железнодорожного вокзала и ремонтных мастерских, которые в городе называли одним словом — депо), Ксения Александровна пошла за лестницу, чтобы проверить, заперт ли черный ход. Она поступала так всегда. Коридор тянулся узкий, невысокий, пропитанный запахами столярного клея и струганых досок. Рядом с кладовкой Попова находилась мастерская столяра, сухонького, щупленького старичка, который не спеша и добротно ремонтировал гостиничную мебель. Пламя свечи колебалось. Тени двигались по стенам, словно дул ветер. Ксения Александровна подняла свечу выше. Растопленный воск скользил по свече прозрачной, чистой слезой. Завхоза Попова она узнала сразу. Он лежал поперек коридора, в клетчатых брюках, в парусиновых туфлях бежевого цвета. Лежал на животе, уткнув лицо в согнутую правую руку. «Господи! — подумала Ксения Александровна. — Это надо же упиться до такой степени». Она присела на корточки, продолжая держать свечу высоко. Коснулась спины завхоза, вернее, постучала в нее пальцами, как в дверь. Сказала громко: — Вадим Зотикович! Поза, в которой лежал завхоз, напоминала позу пьяного человека. Но что-то насторожило женщину. Насторожило уже тогда, когда она только присела. Прошла секунда, другая, третья... И Ксению Александровну словно пронзило: завхоз не дышит. Она протянула руку к его голове. Тронула волосы. И почувствовала липкость на пальцах. Свет, теплившийся вокруг свечи, не отличался большой яркостью. Но его оказалось достаточно, чтобы поняты на пальцах густела кровь. — Зотикович, — на этот раз шепотом, почти неслышно выдавила из себя Ксения Александровна, разумеется не надеясь услышать ответ. Мышцы ее онемели, будто она много часов сидела или лежала в неудобной позе. Страх заколотился в груди, дрожью вошел в руку. Она подумала, что может уронить свечу и остаться в кромешной тьме здесь, в этом страшном узком коридоре, с дверью, которая не заперта и ведет в захламленный двор, упирающийся в крутую гору, где, кроме камней и кустарников, нет ничего. Теперь она хорошо видела, что дверь черного хода только прикрыта. Тяжелая задвижка, на которую завхоз, уходя домой, вешал замок, была выдвинута. Замок лежал в метре от Попова, ровно на половине расстояния до двери. Ключа в замке не было. Он смотрел скважиной вверх, темнеющей остро, как зрачок. Ксения Александровна пощупала лицо завхоза Попова. Оно пугало холодом, не таким, какой чувствуешь при прикосновении к холодному стеклу или металлу. Это был холод смерти.2
Обрывисто уходил в небо берег. Лодка не покачивалась. Якорный канат, исчезавший в мутной, желтоватой воде, был натянут струной. С криком летали птицы, похожие на чаек. Но Каиров знал, что это не чайки, а, скорее всего, нырки. Впрочем, возможно, он ошибался. На дне лодки между почерневшими досками уныло блестела вода — неглубокая, сантиметра два, в которой, выпучив глаза, тяжело шевелил жабрами лещ, очень даже большой. Боровицкий обмотал голову майкой. Сидел сутуло, лопатки выпирали заметно, как у ребенка. Каиров подумал, что начальник, наверное, в первый раз за лето выбрался на рыбалку. — Мирзо Иванович! — говорил Каирову Боровицкий. — Я тебя на леща зимой свожу. Это сказка! Лунки рубятся ночью, часа за два, за три до рассвета, потом опускается прикорм из мелких мотылей или рубленых червей. Запорашивают лунки чистым снегом или ледяной крошкой... А как рассвет — тут уж снасть на дно... — Не любитель я, — признался Каиров. — Не любитель, потому что ни разу не был... Вот съездишь со мной, проситься будешь... — Я цветы люблю. — Кто же их не любит? — Нет, Володя, ты меня неправильно понял. Я, как решил, в сорок лет женюсь. Домом обзаведусь. Цветы разводить стану. Понимаешь, разные... — Вот и хорошо. Два года еще в запасе... За это время я из тебя не просто рыбака, а мастера сделаю. — Упрямый я человек, Володя. В отличие от Боровицкого Каиров не разделся. Сидел на корме в розовой клетчатой рубашке с закатанными рукавами. Черные, с проседью, волосы ничем не покрыты. Лицо загорелое. Нос с горбинкой как из меди. Развернул газету. Краевую — «Молот». На третьей полосе, внизу, бросились крупно и жирно набранные слова:Шлепая мокрыми колесами, по фарватеру полз низенький белый пароход с высокой, похожей на шпиль трубой. Борт широко и сочно украшало название: «Красный маяк». Волны потянулись к берегу рядочками, один выше другого. Лодка качнулась... Боровицкий пробудился от оцепенения, сказал: — Раз на раз не приходится. Шумновато тут, неспокойно. Лещ тишину любит, покой... — Тишину и покой не только лещ любит, — заметил Каиров, сворачивая газету. Боровицкий посмотрел на Каирова, иронически улыбнулся: — Сколько мы с тобой, Мирзо Иванович, не виделись? Семь лет... А ты нисколько не изменился. — Меняются девочки. Вначале — когда женщинами становятся, потом — матерями. Мужчины не меняются. Они мужают. Разумеется, настоящие... — Все верно, — согласился Боровицкий. Тряхнул головой, скинув со лба густые; цвета пшеницы, волосы, сползающие на глаза. Закрепил удилище поперек лодки. Повернулся к Каирову, спросил: — Материалы прочитал? Каиров равнодушно зевнул, потянулся, лишь потом ответил: — Их журналистам передать нужно. — Журналистам? — удивился Боровицкий. — Пусть пофантазируют, придумают историю о похищенных сокровищах из самого Зимнего дворца. Интересная штука получиться может... Боровицкий загорелся взглядом, подхватил мысль Каирова: — Алчные хищники похищают, а смелые работники Донского уголовного розыска находят... — Все верно, Володя. Как тебе известно, я в семнадцатом находился в Питере. После взятия Зимний дворец был открыт на несколько дней для свободного посещения публики. Ну а публика, она бывает разная, в том числе и сволочная... Таскали из дворца постельное белье, зеркала, фарфор... В связи с этим было даже опубликовано обращение об охране музеев... Случай же, о котором рассказывает налетчик Строкин, произошел еще при Временном правительстве. Я слышал, что действительно какая-то часть сокровищ была вывезена из Зимнего дворца в Москву. Боровицкий кивнул: — Я тоже слышал... Именно в этот период и могли быть провернуты авантюры. Скорее всего, об одной из них и рассказывает Строкин. — Вполне возможно, — покладисто согласился Каиров. Тряхнул головой Боровицкий. И лодка качнулась в такт. Хлюпнула о борт вода: «хлюп-хлюп». — Эх, Мирзо, Мирзо! — в сердцах сказал Боровицкий. — Совсем позабыл ты меня за семь лет. Неужели я после столь долгой разлуки подсунул бы своему заместителю в первую неделю работы квелое, дохлое дело?! — У меня, между прочим, — напомнил Каиров, — еще десять дней от отпуска осталось. — Тем более почему бы тебе не съездить в Северокавказск?! Там чудодейственная водолечебница. — Вот как?! — удивился Каиров. — Кончай говорить загадками. Выкладывай. Боровицкий сморщился. Скорее всего, от солнца, резанувшего по глазам: — Двадцать восьмого мая в Северокавказске, в гостинице «Эльбрус», которая до революции называлась «Гусачок», был убит завхоз Попов. Убит за лестницей, возле кирпичной кладки. Словом, у того самого места, которое описано в письме денщика Василия. И матерное слово нацарапано... — Ты думаешь, ящик там? — Я не думаю, а знаю. Я ездил в Северокавказск. С местным угро мы аккуратно, не привлекая внимания сотрудников гостиницы, вскрыли через кладовку стену. За кирпичной кладкой, которой отгорожен угол, обнаружили ящик с тремя сургучными печатями. — Как в сказке. — Каиров произнес слова без иронии, совершенно серьезно, подав корпус вперед. — По всем приметам, ящик простоял в тайнике лет семь-восемь. Тайник не вскрывался, это я гарантирую. Но... — поплавок качнулся, его резко повело в сторону. Боровицкий поспешно схватил удилище. Подсек. И тут же разочарованно признался: — Сорвалось. — Он опять повернулся к Каирову. Щурясь от яркого солнца, сказал: — К сожалению, сказка оборвалась наполовине. — Ящик оказался пустым? — Нет, Мирзо, он не был пустым. Но и никаких ценностей в нем не лежало. Он был набит домашним хламом. Утюгами, сковородками. Порожними бутылками. Даже кочерга оказалась в ящике, завернутая в Бюллетень Ростово-Нахичеванского единого потребительства... Все остальные предметы изготовлены в Северокавказске. Что ты на это скажешь? — Надо подумать. — У стены, — продолжал Боровицкий, — мы обнаружили крошки кладки. Кто-то царапал цемент между третьим и четвертым кирпичами снизу. При внимательном осмотре заметили вмазанный в цемент пятак... Моя рабочая версия такова: завхоз Попов был убит потому, что помешал кому-то проверить тайник. Пятак служил приметой: вскрывали — не вскрывали. Значит, убийца приехал в город за ящиком. Именно приехал. Если бы он жил там всегда, то не стал бы ждать столько лет. — Кто же подменил содержимое ящика? — спросил Каиров. И тут же ответил: — Только не Дантист и не есаул Кратов. Это мог сделать Ованесов. — Мог и еще кто-то другой, неизвестный. Ясно одно: маловероятно, чтобы из Малахитового зала был вынесен в семнадцатом году ящик, набитый кухонной утварью. — Верно. — Я считаю, мы должны расследовать причину убийства. И сейчас, Мирзо, я скажу, почему я просил бы тебя подключиться к этому делу. На мой взгляд, убийство это случайное. Незнакомый человек убивает незнакомого. На месте завхоза мог оказаться кто угодно. Местный угро проверяет и другие версии. Но я убежден, что убийца знал о тайнике и не имел понятия о том, что содержимое ящика подменено. Попов же случайно застал его, когда тот обследовал кладку. В мою схему укладывается Дантист. Каиров грустно усмехнулся: — Все может быть и проще... Учительница, которая обнаружила письма, наверняка рассказала кому-нибудь в Камышинской про денщика Василия и все остальное... Может, кто-то из азартных людей и решил проверить: правда или нет. Все-таки спрятанные сокровища — это всегда заманчиво. Боровицкий развел руками, сказал: — Не спорю. Просто напоминаю: в нашем крае убили человека. Местное угро с делом не справляется. Мы должны им помочь. Продумай план работы, Мирзо. Срок сутки.РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ!
Не тратьте дорогого рабочего времени, не совершайте прогулов на производстве, отрываясь за наведением необходимых вам справок в то или другое учреждение. Необходимую справку по интересующему вас вопросу из любого города можно получить через почту на СПЕЦИАЛЬНЫХ КАРТОЧКАХ для справок. Срочные справки можно получить по ТЕЛЕГРАФУ.К р а е в о е с п р а в о ч н о е б ю р о.
3
Огонь в керосинке чуть теплился. Она стояла на длинном, покрытом ржавой клеенкой столе среди других керосинок, в узком прокопченном коридоре, куда выходило пять дверей, не считая дверей в туалет и на лестничную площадку. Каиров поднял чайник, взвесил его в руке. Скептически покачав головой, слил половину воды в раковину. Раковина оказалась засоренной. Муть вдруг пошла широкими кругами. Соседка, неопределенного возраста женщина, в белой, завязанной на подбородке косынке, сказала, словно ни к кому не обращаясь: — Вот так в грязи и утопнем, как в болоте. — Она сжала губы и заморгала часто-часто, точно грязь попала ей сразу в оба глаза. — Постараемся, чтобы этого не случилось, — как можно приветливее ответил Каиров и поставил чайник на керосинку. Спросил: — Где в этом доме можно достать кусок проволоки? — На чердаке. На чердаке, — быстро ответила соседка. — Там усё достать можно. Усё! — Проверим, — сказал Каиров. Вернувшись в комнату, достаточно просторную для зеленой односпальной кровати, стола и стула, Каиров взял с подоконника фонарик. Попробовал — светит. Через минуту он уже поднимался по пыльной лестнице к черневшему вверху распахнутому люку, из которого тянуло сыростью, будто из подвала. Выставив вперед фонарик, Каиров нажал кнопку. Желтый круг света сразу же запутался в паутине между балками. В темноте что-то грохнуло, кто-то быстро побежал. Потом раздался протяжный кошачий вой... Каиров подтянулся. Ладони его стали пыльными. И наверно, не только ладони. Он подумал, что конечно же нужно было переодеться, прежде чем лезть сюда. Но, как говорится, дело уже было сделано. Он стоял согнувшись, потому что балка шла в полутора метрах над люком, старая, побитая шашелем. Толстая скоба торчала, как поручень трамвая. Каиров обратил внимание: на скобе не было пыли. Скобою пользовались. Свет фонарика распространялся метров на пять. И все это пространство было захламлено самыми различными предметами. Дырявыми рукомойниками, безногими стульями, рваными чемоданами, бездонными ящиками, поломанными кроватями и всякими другими предметами домашнего обихода, пришедшими в негодность. Нашлась здесь и проволока. Ею была перетянута сетка кровати. Проволока оказалась толстой, пружинистой. Размотать ее было не просто, но именно такая и требовалась Каирову. Соседка встретила его с победоносным видом. Еще бы, слова ее подтвердились! — Там усё есть, — сказала она снова. — И золото? — весело спросил Каиров. Соседка посмотрела на него подозрительно. Гмыкнула: — Золото... Золото на чердаке только дурни хранят. Каиров старательно, не спеша прочищал раковину. Чай не закипал долго... Каиров вымыл руки, умылся. С удовольствием, смакуя, пил душистый чай, закусывая мятными пряниками... Потом сидел молча, рисуя на листке бумаги хвостатых чертиков. В половине одиннадцатого надел пиджак и пошел на улицу разыскивать исправный телефон-автомат, чтобы позвонить Боровицкому. За эти вечерние часы он пришел к выводу, что там, в Северокавказске, не должны ждать человека из Донугро. Наоборот, они немедля обязаны начать расследование убийства завхоза Попова самым обычным путем, не связывая его с тайником в гостинице. Надо допросить круг людей, с которыми он общался, родственников, знакомых. Изучить его образ жизни, привычки, симпатии, антипатии. Все это надо делать тщательно и точно, по крайней мере, по двум причинам. Если убийство действительно связано с тайником, то расследование в ложном направлении успокоит убийцу, стимулирует его дальнейшую активность. Если же убийство завхоза Попова никак не связано с наличием тайника, то такое обычное расследование необходимо тем более. Об этом Каиров и сообщил Боровицкому поздно вечером по телефону-автомату.4
Мужчина болезненной худобы, с длинной шеей и большим кадыком, в серой тройке, при галстуке, лоснившемся у подбородка, сидел за письменным столом размером с полкомнаты. На столе молчал старый телефон с сильно потертой ручкой и лежала тощая канцелярская папка, вверху которой химическим карандашом было выведено: «Попов В. З.» За вырубленным в стене окном, схваченным монастырскими чугунными решетками, выгибалась зеленая улица, погруженная в солнечное утро. Где-то рядом — скорее всего, в доме напротив — кто-то старательно играл на пианино. До, ре, ми, фа, соль... Фа, ми, ре, до... Мужчина некоторое время прислушивался к звукам, повернув голову к окну. Это был Салтыков. В городе Северокавказске он возглавлял уголовный розыск. Кабинет Салтыкова — маленький, бывшая келья с низким, давящим потолком, толстой внешней стеной, рассеченной по центру узким полукруглым окном. Дверь из грубых некрашеных досок, соединенных темными чугунными болтами, приоткрылась, заглянул милиционер: — Товарищ Салтыков, здесь к вам гражданин Попов просится. При фамилии Попов начальник угро вздрогнул. Посмотрел на папку. Сказал торопливо и недовольно: — Да-да, пропустите! Костюм из белого полотна на Попове был конечно же из магазина портного Макарова — лучшее мужское платье, готовое и на заказ. Попову уже исполнилось сорок. Был он коренастым, немного сутулым. Но возможно, так-казалось из-за короткой шеи. Волосы с сединой. Войдя, остановился у порога. Сдержанно кивнул: — Я — Попов Андрей Зотикович. Брат Вадима. Салтыков показал рукой на стул: — Прошу. — Я приехал сегодня утренним поездом. Узнал о беде с Вадимом. — От кого узнали? — строго спросил Салтыков. — Соседка сказала. — Фамилия соседки? — Тетя Айша. Фамилия, кажется, Такмозян. Точно, Такмозян. — Куда вы ездили? — Салтыкова скрутила изжога. Он не смотрел на посетителя, а лицо из землистого стало чуть ли не зеленым. — В Ростов. — С какой целью? Попов с недоумением глядел на Салтыкова. Ответил почти обиженно: — По делам... У меня фотоателье в городе. Я ездил к контрагенту за химикалиями. Их нужно было получить срочно, потому что истекал срок... Салтыков повернулся к тумбочке, налил в стакан воды из графина, спросил Попова: — Скажите, пожалуйста, Вадим знал о вашей поездке? — Да. — Когда вы видели его в последний раз? — В день отъезда. 28 мая. В субботу, что-то около одиннадцати дня. Я пришел к нему в гостиницу. Взял у него деньги. — Большую сумму? — поинтересовался Салтыков. — Нет. Он должен был пятьдесят рублей. А тут мне потребовались деньги. Фотоматериалы сейчас — чистое разорение... Я находился у него, может, минуты две. Потом мы вместе, вышли. Он направлялся в магазин с намерением купить электролампочки. Только сейчас Салтыков вспомнил — художественная фотография Андрея Попова. Исполнение фотопортретов: черных, сеткой и красками. Производственные снимки — специальными объективами. — У вашего брата были враги, как вы думаете? — спросил Салтыков. — Относительно врагов я ничего не знаю. А вот относительно женщин он был весьма неразборчив. Я несколько раз предупреждал, что добром это не кончится... Сегодня утром ко мне пришла Таня Шелепнева. Она в гостинице буфетчицей или горничной работает. Не знаю... Она попросила у меня разрешения зайти в комнату Вадима, чтобы найти там свой письма к нему. Во-первых, у меня не было ключей от комнаты брата. Но их можно было взять у тети Айши, которая убирает у нас. Однако я сказал Шелепневой, что не могу этого сделать без разрешения милиции. Она расстроилась. Боится, что о письмах станет известно мужу. Я попытался убедить ее, что милиция умеет хранить чужие тайны... По-моему, она не успокоилась... В этот момент на столе Салтыкова задребезжал телефон. Начальник угро снял трубку с такой тоской в глазах, что казалось, в следующую секунду он расплачется. — Да. Салтыков. Ну чего тебе? — Приналег на стол, вернее, на руку, которая прикрывала край стола. — До восьми вечера дежурит. Ладно... Пригласи ее на полдевятого. Положил трубку. Выпрямился. — Шелепнева... — Салтыков не мог сразу найти нужного слова, — его любовь... его увлечение... прошлого времени или последнего? Попов смутился, даже покраснел: — Не знаю... К нему домой она давно не ходила. Но они вместе работали. Встречались почти ежедневно.5
Весь день небо хмурилось, облака плыли низко, над самыми крышами. Плыли, как корабли, друг за другом. Порой они огибали солнце, порой заслоняли его. Жару сменял дождь. Духоту — ветер. В домах хлопали окна. Звенело стекло... Наступал вечер... — Таким образом, — говорил Боровицкий, — мы определили три этапа революционного движения на Кавказе... Он проводил политбеседу с сотрудниками Донугро и горугро, со всеми теми, кто в этот вечер оказался на Красноармейской, 39. За окном ударил гром. Рама качнулась. Каиров взял мраморное пресс-папье, просунул его между рамой и подоконником. Дождь вдруг полил с необыкновенной силой, но вода не заливала в окно. Ветер сносил ее к тротуару. Она изгибалась заметно, как полотнище паруса, закипала на асфальте белыми частыми пузырями. В окнах начал вспыхивать свет, размытый, оранжевый, похожий на отблески костров. Приоткрылась дверь, из окна потянули ветром, точно из трубы. На пороге стоял сотрудник в новой милицейской форме, с красной повязкой на левом рукаве. — Дежурные оперативники по горугро, на выход! — крикнул он звонким мальчишеским голосом. Трое оперативников поднялись, сняли со спинок стула пиджаки, направились к выходу. — Что случилось? — спросил Боровицкий. — Убийство на Александро-Невском кладбище! — молодо и бодро доложил милиционер. — Гражданина нашли с финкой в груди. И записку: «Во всем виновата она». — Может, и виновата, — негромко заметил кто-то. — Ладно, не будем отвлекаться! — строго сказал Боровицкий. — Продолжим занятия... После занятий Боровицкий попросил Каирова к себе в кабинет. Прежде чем начать разговор, Боровицкий включил свет, задернул шторы. Только после этого распахнул одну раму. Дождя не было. Слышался цокот лошадиных копыт о каменку, реже — шуршание автомобильных шин. Где-то в темноте, на Дону, басовито гудел пассажирский пароход. Боровицкий прошел к столу, отодвинул настольную лампу, сделанную в форме пузатого ангелочка, устремившего взор в голубой, как ясное небо, абажур. На письменном столе лежало стекло, а под ним — различные бумажки, в том числе календарь и один любопытный документ.— Так, — сказал Боровицкий. — Сегодня суббота, одиннадцатое июня. Мирзо Иванович, поедешь завтра... В Северокавказске будешь тринадцатого. В духов день. Может, это и лучше, что он нерабочий. Улицы окажутся людные. Потребляемость вина увеличится. — Это хорошо, — сказал Каиров. — Я тоже так думаю, — согласился Боровицкий. — Значит, в Северокавказске ты ни разу не был. Что о нем тебе сказать? Город красивый, сам увидишь. Населения шестьдесят тысяч. Минеральные источники. Поэтому людей там сейчас, конечно, больше, чем числится официально. Город многонациональный. Пятьдесят восемь процентов русских, тринадцать процентов осетин, одиннадцать процентов армян. Живут там грузины, персы, греки, евреи, поляки, украинцы, татары, немцы, ингуши... Вот так... Что еще? Коммунальные предприятия: кирпично-черепичный завод, водопровод, механические мастерские, электростанция, которая работает из рук вон плохо, спирто-водочный завод Госспирта. Работает отменно. Ремонтные мастерские Северо-Кавказской железной дороги. Типография. В аренде у частных лиц: гильзовая фабрика, консервный завод, пивоваренный завод и одна мельница. Скучно? — Нет. Почему же? — спокойно ответил Каиров. — Действительно, почему же? — Боровицкий сел за стол. Кивнул в сторону кресла: — Садись, Мирзо... Говори. Я — весь внимание. Кресло стояло между окнами, пухлое в подлокотниках, в спинке, однако само сиденье было дряблое и обвислое, как старый проколотый мяч. — План мой прост, — сказал Каиров уже из кресла. — Но прежде я выскажу сопутствующие соображения... На этом месте его прервал телефонный звонок. Боровицкий снял трубку. Крикнул: — Да! — и сразу обрадовался: — Где взяли? На Сенном базаре? Да... Без шума? Молодцы! Хвалю! Приступайте к допросу, через полчаса подойду. — Боровицкий положил трубку. Сказал Каирову: — Сову взяли. Он и пушку вынуть не успел. Каиров не имел понятия, кто такой Сова. Потому промолчал. Боровицкий понял иначе: дескать, обиделся. Сказал: — Извини, что прервал тебя. Выкладывай сопутствующие соображения... Все-таки Боровицкий выглядел молодо. Едва тянул на тридцать. Но Каиров-то знал, что они ровесники. — Первое, — начал Каиров, — необходимо связаться с учительницей Лосевой и получить от нее письма жены есаула Кратова. В письмах могут быть какие-то фамилии, адреса, наводящие обстоятельства. Обязательно нужно уточнить, кому и когда рассказывала учительница о письме денщика Василия, с кем она советовалась, прежде чем обратиться к вам. Второе: в Краевое административное управление письмо пришло обычной почтой. На всякий случай необходимо поинтересоваться: как там у них приходит обычная почта. Достаточно ли надежные люди вскрывают письма. Не могло ли быть утечки оттуда? Третье: при допросе Строкина следователь не придал особого значения золотому потиру, поскольку Строкин шел за бандитизм, которого даже не отрицал... — Он не мог отрицать. Он был пойман с поличным... — Ясно! — отмахнулся Каиров. — Следователь заинтересовался потиром, как далекой загадочной историей, которая к данному делу не относится. А между тем в показаниях Строкина по этому моменту есть весьма сомнительные ответы. Он утверждает, что увидел потир, когда уехала машина. Тогда возникает вопрос: почему золото увидел только Строкин, а другой солдат и поручик не увидели? Предположим, повезло. Но как он смог сохранить его, будучи солдатом? Да и потом — на строительстве шахтерского поселка, когда жил в бараке. Наконец, с двадцать первого года по двадцать третий он находился в заключении за продажу казенного тулупа. Где все эти годы Строкин хранил потир? Куда спокойнее было бы продать его, пропить, проиграть в карты. Короче говоря, есть серьезные основания полагать, что потир попал к Строкину после двадцать третьего года. А принимай во внимание характер его жизни, скорее всего, незадолго до последнего ареста, то есть летом двадцать шестого. — Никто о пропаже потира заявления не делал, — заметил Боровицкий. — Неудивительно, — ответил Каиров. — Надо уточнить, кому из специалистов показывали потир. Если он действительно пятнадцатого века, то вполне мог состоять в той описи, обрывок которой прислала учительница... — Тогда это ниточка... — Да-да-да!.. Ниточка, которая может вывести к месту, где надо искать содержимое ящика с тремя сургучными печатями. Я смотрел дело Строкина. Он служил в Петрограде в караульной роте. И мог грузить на машины ящики с ценным имуществом. Что касается потира, то следователь своей неопытностью сам натолкнул на ответ. Следователь прямо выложил, что, по мнению специалистов, потир принадлежит к произведениям искусства, похищенным из Зимнего дворца... Мне кажется, в интересах дела нужно показать потир не только специалистам-историкам, но и торговцам-ювелирам. Вот на улице Энгельса, семьдесят четыре, «Часовой и ювелирный магазин Л. Перельман», а на противоположной стороне улицы — «Часы, золото, серебро М. Добина»... Интересно, что они скажут. — Мысль стоящая, — согласился Боровицкий. — Но где потир? В Москве? В Ленинграде? Кто нам его вернет? — А жаль, — вздохнул Каиров. — В деле есть фотографии. Показать хотя бы их. — Можно попробовать, — без особой уверенности ответил Боровицкий. — Теперь о моей поездке. Вначале я считаю нужным проверить твою версию: убийца завхоза Попова прибыл в Северокавказск с целью вскрыть тайник. Вполне возможно, что так оно и есть... — Как это осуществить? — Очень просто. Я приеду в Северокавказск с той же целью, что и он. Вскрыть тайник и вывезти его содержимое. Если убийца, назовем его условно Дантист, соответствует нашей модели, то трех — пяти дней ему будет достаточно, чтобы обнаружить меня. И попытаться принять меры. Так он себя выдаст...«ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Северо-Кавказского Краевого отдела труда
22 января 1927 г. № 2 гор. Ростов н/Д. 1. На основании ст. III Кодекса Законов о труде, производство работ в 1927 г. воспрещается в следующие праздничные дни: 1 января — Новый год. 22 января — День 9 января 1905 г. и День памяти В. И. Ленина. 12 марта — День низвержения самодержавия. 18 марта — День Парижской коммуны. 1 мая — День Интернационала. 7 ноября — День пролетарской революции. Примечание. День принятия Конституции Союза ССР празднуется в первое воскресенье июля месяца, то есть в 1927 г. — 3 июля.
2. Помимо указанных выше праздничных дней на основании ст. 112 Кодекса Законов о труде на 1927 календарный год устанавливается по краю 8 следующих дополнительных дней отпуска: 23 апреля — страстная суббота. 25 апреля — 2-й день пасхи. 2 июня — вознесение. 13 июня — духов день. 6 августа — преображение. 15 августа — успение. 25 — 26 декабря — рождество...»
6
Шляпу Каиров купил в Армавире. Поезд стоял здесь долго. Пассажиры, разморенные духотой, дорогой, торопливо выпрыгивали на перрон, низкий, старый, грязный. На перроне оказалось более душно, чем в купе. Каиров уже хотел вернуться в вагон, как вдруг возле камеры хранения увидел грузина со стопкой желтых соломенных шляп. Шляпы были с очень широкими полями. И больше походили на женские. Но покупали их исключительно мужчины. Солнце ли тому виной или святое чувство мужской солидарности, но Каиров стал в конец очереди из трех человек. Грузин выкрикивал: — Сапсем задаром! Сапсем задаром! Один полтинник! «Сапсем задаром» было, конечно, рекламным трюком. Потому что в июне 1927 года полтинник весил ровно столько, сколько три года назад пятьдесят полнокровных рублей. Каиров вынул из кармана новенькую сверкающую серебряную монету, где с аверса*["9] гордо смотрел государственный герб и лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», положил его в ладонь грузина кверху реверсом*["10] — уж больно хорош молотобоец, изображенный на этой стороне. Шляпа была в самый раз. Каиров забыл о широких полях и полумужском ее фасоне. Тем более рядом с вокзалом, под пыльной акацией, растопырилась фанерная будка, на широкой стене которой ярко и броско было написано: «Государственный пивоваренный трест «Украинская Новая Бавария». Продажа столового и пльзенского пива высшего качества в любых количествах». Усатый дядька — рубашка на груди вышита крестом — наполнял высокие кружки пивом. Оно пенилось восхитительно. Каиров попросил две кружки. Возле акации, на пятачке тени, стояли трое ребят, остриженных «под горшок». Один, в синей рубашке, самый маленький, играл на гитаре и пел:...Поезд прибыл в Северокавказск почти по расписанию, в тринадцать часов, опоздав всего на несколько минут. Широкие сосны по склонам гор озарялись розовым светом, прыгающим с ветки на ветку. Ветки вздрагивали под его прыжками. А может, виной тому был легкий ветер, дующий из ущелья, за которым в дрожащем мареве сиренево проступали лобастые очертания укутанных снегом вершин. Широкоплечие носильщики стремились в вагоны с такой самоотверженностью, словно встречали не случайных пассажиров, мающихся с багажом, а любимых родственников. Чемодан Каирова был невелик и легок. Мирзо Иванович отказался от услуг молодого, на вид цыганистого, носильщика, равно как отказался и от услуг чистильщика ботинок, который почему-то преследовал его до самого турникета у выхода в город. У вокзала росли розы. На большой клумбе. И вдоль тротуара, между кипарисами. Пахло розами, кипарисами... лошадьми. Телегами и тарантасами была запружена вся привокзальная площадь. Лишь возле аптеки, аккуратного каменного домика, на широком фасаде которого была нарисована обвивающая чашу змея, стоял длинный «роллс-ройс» светло-серого цвета. Модель примерно десятилетней давности. Молодая женщина в бриджах, с распущенными, каштанового цвета, волосами, спадающими на спортивного покроя оранжевую куртку, и седой мужчина в строгом черном костюме (в правой руке черный баул) подошли к машине. Женщина распахнула переднюю дверцу. Мужчина поставил баул на заднее сиденье, обернулся к вокзалу, сверкнув стеклами пенсне. — Дорогой мой, куда надо? — спросил с козел фаэтона бородатый кучер в белой лохматой шапке. — Да-а-а-став-лю как на орлиных крыльях. — Гостиница «Эльбрус». Кучер закатил глаза, зацокал отчаянно, словно Каиров просил отвезти его в Турцию. Потребовал рубль. Сторговались на тридцати копейках. Трамвай в Ростове стоил шесть копеек. Правда, с девяти вечера цена за проезд подскакивала до десяти копеек, а на первом номере трамвая, который ходил от вокзала до Нахичеванского депо, — даже до шестнадцати копеек, но это уже считалось загородным движением. Когда под Каировым скрипнули пружины фаэтона, «роллс-ройс» огибал привокзальную площадь. Женщина с каштановыми волосами сидела за рулем. — Чья это машина? — спросил Каиров. Кучер вновь зацокал языком. Сказал: — Балшого человека. Адвоката. — Впереди жена его? — Нет... Вдовец он. Дочка его... Балшая женщина. Вопреки посулам кучера фаэтон ехал медленно. Может, потому, что выложенная камнем улица заметно взбиралась в гору, может, и потому, что кучер регулировал скорость движения в соответствии с оплатой. Во всяком случае, Каиров имел возможность спокойно дышать свежим воздухом и рассматривать этот одноэтажный городок, утопающий в зеленых садах, огороженных стенами из белого камня. Встречались здесь и двухэтажные дома, и даже трехэтажные. Но они оставались левее, ближе к центру, фаэтон же двигался в сторону окраины. — Совэтую посэтить! — Кучер указал кнутовищем на дом, выходящий окнами на небольшую площадь, от которой вниз убегало сразу четыре улицы. На доме висела длинная фанерная вывеска:
Недалеко, за Верхне-Осетинской слободкой, расположился кирпично-черепичный завод Максима Павловича Джанаева и единственная в городе паровая химическая красильня В. С. Пупкова.«ШАШЛЫЧНАЯ «ПЕРЕПУТЬЕ»
ВИНА, ХОЛОДНЫЕ КАВКАЗСКИЕ И ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАКУСКИ
З. И. ЛАИДЗЕ»
Глава вторая
1
Дорога от гостиницы уходила вниз вдоль мелкой горной речки, облизывающей камни, крутые и белые, покрытые местами сероватым мхом. На противоположном обрывистом берегу реки, зеленом от густых кустов ажины и кизила, виднелся двор, огороженный новым некрашеным штакетником. За забором стоял дом с разобранной крышей. На крыше сидел человек с молотком. Из окна были видны горы. Высвеченные ранним солнцем, они дышали туманом и синевой, прохладой, глубокой, подступающей из ущелья. Дантист опустил занавеску. Медленно прошелся по номеру из угла в угол. Сел на неубранную постель. Вынул из бумажника календарь-открытку. Перечеркнул в июне 13-е число. На оборотной стороне календаря был нарисован рабочий в фартуке и красным по белому шла надпись: «Новый 10% выигрышный заем. По облигациям займа начисляется 10% годовых». У большого зеркала в деревянной раме, отделанной резными цветочками, Дантист освежил лицо одеколоном из пульверизатора, вытер губы платком. Потом он вышел из номера, запер за собой дверь. И пошел по коридору к лестничной площадке. Ни в коридоре, ни на лестнице ему никто не встретился. Вестибюль гостиницы был пуст. Дежурный администратор — невзрачная маленькая женщина наливала в кружку кипяток из закопченного чайника с помятым боком. Из середины вестибюля дверь под лестницу была не видна. Дантист решил задать какой-нибудь вопрос дежурной. Тогда, уходя из конторки, он мог бы невзначай повернуть голову и увидеть, по-прежнему ли опломбирована дверь или нет. Однако внимание его привлекло большое объявление на стене, которого вчера еще не было. Он смело пересек холл, впрочем не посмев скосить глаза направо. Объявление извещало:Дантист достал авторучку, блокнот. Сделал какую-то запись. Потом вернулся. И вот тогда взглянул за конторку, под лестницу. Пломбы на двери больше не было. Дверь стояла даже немного приоткрытой... Он вышел из гостиницы. Кругом растекалась необычная, почти недневная тишина. Мелодично журчала река. Розовые пятна, как листья, плыли по ее стальной воде. Высокие облака отражались в воде. Толстоватые чинары держали над собой роскошные кроны блестящих листьев — темно-зеленых, лиловых, золотых. Тополя, наоборот, были стройны, глядели в густеющее небо, где парила какая-то черная птица, возможно даже орел. Было свежо, словно осенью. Во дворе напротив, что уползал в гору фруктовым садом, дымила глиняная печь. Возле печи был навес из ржавого железа, видимо защищающий от дождя. Смуглая женщина подкладывала в огонь рубленые ветки. Маленький мальчик держал на руках кошку. Женщина что-то сказала. Мальчик выпустил кошку и побежал в дом... Дантист пересек город пешком до самого вокзала. На вокзале он взял из камеры хранения чемодан. Потом позвонил по автомату. — Викторию Германовну можно? — спросил он в трубку.«КНИЖНЫЙ И ПИСЧЕБУМАЖНЫЙ МАГАЗИН
Северокавказского о-ва «Долой неграмотность»
Книжный отдел снабжен учебниками и учебной литературой. Своевременно получаются все новинки по беллетристике и политике. Школам и учреждениям скидка и долгосрочный кредит. Канцелярский отдел. Цены вне конкуренции. Чернила, ручки, пеналы, циркули, счеты, перочинные ножи и т. д. получаются непосредственно от лучшего производителя-кустаря. Большой выбор заграничных канцелярских товаров: клетчатка, калька, рулетки, перья, карандаши, готовальни, ленты для пишущих машинок, копировальная бумага, кнопки и т. д.
п о с а м ы м д е ш е в ы м ц е н а м».
2
Сода в стакане поднялась, когда Салтыков начал мешать ложкой. — Извините, — сказал он Шелепневой. — Вы присаживайтесь. Шелепнева осторожно, будто в потемках, села на стул, не сводя красивых испуганных глаз с начальника уголовного розыска. Салтыков выпил воду. Сморщился. Поставил стакан на тумбочку. Вынул из ящика стола чистый лист бумаги. Положил перед собой. — Шелепнева Татьяна Павловна. — Да. — Год рождения? — 1904-й. — Место рождения... — Город Батайск. — Семейное положение? Шелепнева потускнела глазами. С напускной кокетливостью передернула плечиками: — Не расписаны мы... — Кто это «мы»? — спросил Салтыков, пододвигая к себе чернильницу. — Ну... Федор и я. Салтыков теперь изучающе смотрел на Шелепневу. Нет, ее нельзя было отнести к числу женщин, наделенных яркой красотой. Однако она была милая, с хитроватыми черными глазами, с хорошей фигурой. Само собой разумеется, ее могли любить мужчины. И ревновать тоже. В этом сомнений у Салтыкова не было. — Место работы и должность. — Гостиница «Эльбрус», горничная. — А этот ваш... муж Федор... Пожалуйста, отчество, фамилия. Чем он занимается? — Федор Максимович Глотов... Работает инспектором в Компоме. — Где? — не понял Салтыков. — В Комитете по оказанию помощи демобилизованным инвалидам и их семьям. — Так... Хорошо, — записал Салтыков. Потом спросил: — Вы знали Попова Вадима Зотиковича? — Знала, — тихо ответила Шелепнева. — Он работал у нас завхозом. — Какие были у вас отношения? — Мы дружили. Конечно, до моего замужества, — поспешно пояснила Шелепнева. — А ваши письма к нему? Трудно поверить, что, живя в одном городе, вы переписывались. — У нас с Федором была ссора. Вернее, разрыв... И я уезжала к родителям в Батайск... Вот тогда и возникла переписка с Поповым. Он хотел на мне жениться, по-настоящему... — Она умолкла. Но взгляд не опускала, смотрела напряженно, выжидательно. На ее загорелой длинной шее пульсировала жилка. — Вы не согласились? — спросил Салтыков, — Федор помешал. Он приехал в Батайск. И стоял на коленях... Я простила. — Он знал о Попове? — Ну и что? — запальчиво ответила Шелепнева. — Я не спрашивала, что у него с кем было. И не собиралась перед ним отчитываться... Салтыков неодобрительно усмехнулся. И даже покачал головой: — Отчитываться вам перед Глотовым или нет — это дело ваше. Личное... Мы же, работники уголовного розыска, должны помнить, что бывает, когда, казалось бы, сугубо личные дела приобретают общественную окраску. Особенно на почве ревности... И если вдруг Федор Максимович Глотов ревновал вас к Вадиму Зотиковичу Попову, то... Могло случиться то, что случилось... — Нет! — Шелепнева испуганно повела рукой, словно отстраняясь от этой страшной мысли. — Глотов проживает с вами на одной площади? — Да, — сказала она едва слышно. — Я выпишу ему повестку.3
Каирова поселили в двадцать первом номере на втором этаже. Комната узкая. Возле лестницы. Кровать, стол, зеркало, рукомойник. Окно высокое. За окном — синие горы, зеленое ущелье. И река... Шляпа, купленная в Армавире, хороша. Даже вчера, на духов день, когда центр города кишел народом, Каиров не увидел второй такой шляпы. Ужинал в шашлычной «Перепутье». Наверное, по случаю нерабочего дня там было полно посетителей. Однако владелец ее, Зураб Илларионович Лаидзе, услышав, что дядя Шалва шлет ему привет из Баку, обнял и расцеловал Каирова, на всякий случай пустил радостную слезу, чтобы никто не сомневался в его горячих чувствах к родному дяде и к друзьям родного дяди. Он отвел гостя в маленький кабинет, вход в который, прикрытый тяжелой портьерой, находился прямо за чучелом медведя. Там, в кабинете, Зураб деловито спросил: — Как устроились? — Хорошо, — Салтыков звонил, интересовался, приехали вы или нет. Что ему передать? — Во сколько вы открываете шашлычную? — В двенадцать. — Встретимся здесь в половине первого. — Все понял. Как Володя Боровицкий? — Живой. — Мы с ним в двадцать первом году в Белоруссии за бандой Прудникова гонялись. Ее из Польши перебросил контрреволюционный комитет «Народного союза защиты родины и свободы». Володя мне тогда жизнь спас. Братьямимы стали. — Он рассказывал. Зураб улыбнулся, спросил: — Что будешь ужинать? — Самое лучшее, — ответил Каиров. — Все ясно без дальнейших объяснений.На другой день, 14 июня, Каиров, как и было условлено, встретился в шашлычной «Перепутье» с начальником горугро Салтыковым. — Боровицкий просил подготовить для вас список жильцов, которые были в гостинице в день убийства Попова, 28 мая, и живут по настоящее время. Таких жильцов осталось трое. — Салтыков передал Каирову лист бумаги. На листе были напечатаны следующие фамилии:
1. Нахапетов Рафаил Оскарович, 1899 года рождения, прибыл из г. Майкопа. Заготовитель Агентства Всероссийского кожевенного синдиката. Комната 31. 2. Сменин Гавриил Алексеевич, 1880 года рождения, прибыл из г. Сочи. Врач — частная практика. Комната 33. 3. Кузнецов Александр Яковлевич, 1890 года рождения, прибыл из г. Москвы. Место работы: Совкино. Комната 38.Салтыков сказал: — Следует обратить внимание, что дежурный администратор Липова видела Нахапетова ночью на лестнице в гостинице за несколько минут до того, как обнаружила труп завхоза Попова. В понедельник 30 мая Нахапетов выехал из гостиницы и в субботу 4 июня поселился вновь. Мы запросили Сочи, Майкоп, Москву подтвердить данные на этих людей. Ответ пришел пока только из Сочи. Врач, занимающийся частной практикой, по фамилии Сменин, не зарегистрирован. — Хорошо, — сказал Каиров, возвращая листок бумаги Салтыкову. — Вы не возьмете?! — удивился тот. — Я все запомнил... Просьба такая к вам: выясните, кому принадлежит светло-серый «роллс-ройс» и как он попал к владельцу. — Отвечу сразу. В городе всего две частные машины. «Роллс-ройс» принадлежит Шатровой Виктории Германовне. Попал он к ней совершенно законным путем. Она купила машину у вдовы красного командира, который в свое время был награжден этой машиной за доблесть и мужество в борьбе с белогвардейцами. По профессии Шатрова художница. На паях владеет здесь художественной мастерской. Оформляет интерьеры, рекламу. Исправно платит налог с каждой силы самодвижущегося экипажа — 6 рублей за одну лошадиную силу, дважды в год. — Сколько же в машине сил? — поинтересовался Каиров. Салтыков ответил: — Больше двадцати. Не знаю точно. — При деньгах дама. — Безусловно, — кивнул Салтыков. — Отец ее адвокат. Ведет гражданские дела нэпманов. Живут они вдвоем...
4
Кто-то вскрикнул. Пронзительно, отчаянно. Каиров вскочил, будто подброшенный. Пружины кровати надсадно скрипнули. Слабый свет угасающего дня вливался в комнату через незашторенное окно, густым лиловым цветом играл на стекле. Где-то звенел колокольчик, мелодично, перекатисто. Каиров распахнул дверь в коридор. Девушка с длинными темными волосами перевела на него испуганный взгляд, открывая рот беззвучно, точно рыба. — Что случилось? — хриплым, совершенно неузнаваемым голосом спросил Каиров. — Там, там... — Девушка показывала пальцем на лестничную площадку. — Что там? — на этот раз спокойнее спросил Каиров. — Крыса. Электричество в коридоре еще не было включено. Однако на лестничной площадке во всю стену поднималось окно, светлое и голубое, с темной изломанной линией гор понизу. — Там нет крысы, — присмотревшись, сказал Каиров. — Но она была, — убежденно ответила девушка. — Значит, она испугалась! — весело пояснил Каиров. — Услышала ваш крик и убежала. — А вдруг она прячется за дверью! — Девушка не двигалась, смотрела на Каирова почти умоляюще. — Вам нужно пройти? Она кивнула. — Пойдемте. — Он протянул ей руку. Она подала свою. Пальцы у нее были холодные. Когда пересекли лестничную площадку, Каиров хотел остановиться, но девушка не выпустила его руки, посмотрела ласково. — Меня зовут Валя, — сказала она. Он тоже представился: — Мирзо. — Интересное имя, — сказала Валя, спускаясь по ступенькам. — Вы знаете, какой человек носил его? — Нет, — призналась она. — Мой дедушка. Из холла на них смотрел молодой мужчина с короткими усиками, одетый в темный костюм и белую рубашку, воротник которой подпирал галстук бабочка. Взгляд у мужчины был не злой, но и не добрый, скорее, холодный был взгляд и острый, как лезвие ножа. — Рафик! — возбужденно сказала Валя, по-прежнему не выпуская руки Каирова. — Познакомься, это Мирзо. Он выручил меня из беды. Рафик вздрогнул, досадливо поморщился. Громко спросил: — Беды? Какой беды? — На меня напала крыса! — Валя наконец отпустила Руку Каирова. — Крыса? — Рафик вначале не уловил связи между бедой и крысой. Но когда понял суть дела, улыбнулся, стряхнул с глаз блеск металла. Сказал: — Моя сестра Роза тоже боится крыс. — Каиров. Рафик пожал протянутую руку: — Нахапетов... Спасибо вам. Вы сегодня приехали? — Вчера. — Тогда у нас еще будет время распить бутылку натурального кахетинского вина фирмы «Иверия». — Натуральное вино — это то, ради чего стоит жить. — Вы торгуете винами? — спросил Рафик. — Не только винами. Нахапетов уважительно кивнул. — Спасибо вам еще раз, — сказала Валя. И они ушли. Глядя им вслед, Каиров вспомнил: «Нахапетов Рафаил Оскарович, 1899 года рождения, прибыл из города Майкопа. Заготовитель Агентства Всероссийского кожевенного синдиката. Комната 31». В холле у окна на кресле лежал полосатый, похожий на матрац мешок, набитый вещами. Женщина, окруженная тремя детьми дошкольного возраста, громко договаривалась о номере с рябым администратором. Она хотела поселиться непременно на первом этаже, то и дело указывая рукой в сторону древнего старичка, который сидел возле мешка на камышовой циновке и, закрыв глаза, твердил: — Аллах экпер! Аллах экпер! Аллах, видимо, на самом деле был велик. Потому что рябой администратор бросил женщине ключи. И зажал уши руками. Подождав, когда женщина, а за ней — и дети, ушла от конторки, Каиров спросил администратора: — У вас в городе где-то есть художественная мастерская? Оформление интерьеров, реклама. — На улице Кооперации, — быстро и угодливо ответил администратор. — Как раз напротив водопровода.5
Улица встретила его прохладой. Первыми звездами. И запахами шашлыков. Где-то играла музыка, скорее всего на какой-нибудь открытой террасе, обвитой дикими розами, глициниями, плющом. Скрипели рессорами тарантасы, щелкали кнуты кучеров: — Но-о! Мила-а-ая! Каиров вначале увидел не водопроводную колонку, а «роллс-ройс». И решительно направился к мастерской. Для осуществления намеченного им плана необходим был транспорт. Каиров не собирался тащить ящик на себе. Конечно, проще договориться с извозчиком. Но разве «самодвижущийся экипаж» хуже телеги? Нет. А уж хозяйка экипажа, само собой разумеется, симпатичнее любого здешнего владельца конного транспорта. ...На двери висела табличка: «Открыто». Каиров легко толкнул дверь. Она пошла вовнутрь, распахиваясь светлой комнатой, обшитой деревом, с верстаком вдоль стены и мольбертом у окна, слева от входа. В центре комнаты стояла Виктория Шатрова в бриджах и оранжевой куртке спортивного покроя. Руки на бедрах, ноги на ширине плеч. Не обращая внимания на Каирова, она продолжала делать гимнастику, энергично поворачивая туловище то в одну, то в другую сторону. — Мой покойный приятель полковник Ованесов говорил, что человек — это прежде всего система мышц. И что жизнь — это не карты и даже не женщины, а прежде всего — движение. Каиров просто так, вспомнив совет Боровицкого, упомянул фамилию Ованесова. В конце концов, это очень распространенная фамилия. — Что же помешало вашему приятелю дожить до ста лет? Виктория прекратила делать гимнастику. Дышала она глубоко, но ровно. Лицо ее было свежим, розовым. — Встреча, — ответил Каиров. И улыбнулся так, как обязан был улыбнуться мужчина кавказского происхождения женщине, которая ему нравится. «Наверно, я переигрываю, — подумал он. — Так ли должен держать себя владелец чайной из города Баку. Может, наоборот, надо бы побольше занудливости и чванства. Все-таки ей предстоит на мне заработать. Я ей буду платить...» Однако Виктория смотрела на него не как на заказчика. Это было ясно. И Каиров пояснил: — Он встретился с кинжалом. — Романтичная... но неприятная встреча, — иронически ответила она. Добавила: — Убереги нас, судьба, от этого. — Убереги, — согласился он. Она провела ладонью по волосам, изогнув при этом руку как-то особо женственно, словно это было движение из танца, продолжала смотреть на Каирова изучающе. И ему почему-то показалось, что ей доставляет удовольствие видеть его. Он даже засомневался, нужно ли выдумывать заказ для несуществующей чайной. Или просто сказать: я увидел вас и вот пришел. — Чем могу быть полезна? — Это была обычная, заученная фраза. Но в голосе дрожали смешинки, позванивали колокольчики. Он приподнял руку и вздохнул при этом, как бы выражая растерянность. Сказал: — Можно мне прийти в другой раз? — Почему же? — Вообще-то, я приезжий. — Это очевидно, — улыбнулась она. Улыбка обнадежила Каирова. Свято веря в каждое слово, он говорил: — Я, конечно, по делу. Но не только по одному делу... — По двум, — подсказала Виктория. Она села на край стола и закинула нога за ногу. — Вы правильно меня поняли... Я из Баку. У меня там чайная. И вместе с родственниками мы открываем ресторан. Я увидел, какие в вашем городе красивые рекламы... И увидел, какая красивая вы... Виктория, продолжая улыбаться, покачала головой: — Два дела нельзя делать одновременно. Давайте начнем с основного. Какую вы хотите рекламу? — Основное как раз наоборот... — Спасибо за комплимент. — Сейчас она говорила уже без улыбки. Он понял, что нельзя зарываться. Сознательно изобразил на лице грусть и даже маленькую обиду. Подошел к стене и, обозначив рукой размеры будущей рекламы, сказал: — Я хотел бы примерно так... «Шашлыки из карачаевского молочного барашка, сациви, сацебели и другие туземные и европейские кушанья и закуски, а также вина лучших фирм! Имеются обставленные уютные кабинеты. Играет симфонический оркестр. Все это можно получить во вновь открытом ресторане-погребе «Булонский лес». — «Булонский лес»! — скептически усмехнулась Виктория. — В Баку? Может, лучше что-нибудь восточное. — Восточное? — обиделся Каиров. «Булонский лес» казалось ему самым изысканным названием в мире. — Конечно, — не уловила обиды Виктория. — Допустим, можно ваш ресторан назвать «Лампа Алладина». Заказать специальные лампы. Я сделаю эскиз. Понимаете, в ресторане-погребе — одни лампы. И никакого электричества. — А как же симфонический оркестр? — спросил Каиров. — Оркестр? — задумалась Виктория. — Оркестр... Свечи не пойдут... Можно разработать маленькие лампы с голубым стеклом. Подвесить их к потолку. И они будут над оркестром, как звезды... Я набросаю эскиз интерьера. Но для этого мне придется поехать с вами в Баку. — Ради вашей поездки я готов отказаться от названия «Булонский лес». — Вы молодец, — сказала Виктория. — Я поняла это сразу... Вы где остановились? — В гостинице «Эльбрус». При слове «Эльбрус» Виктория Шатрова, кажется, вздрогнула. А может, это всего лишь показалось Каирову...Глава третья
1
Пар над ванной поднимался заметно, с запахом резким и тяжелым. Занавески на никелированных прутьях, разделявшие ванны в зале водолечебницы, светились зеленовато, потому что с улицы в оконные стекла, матовые и большие, било яркое солнце и стены, выложенные белым кафелем, отражали его. Санитарка, некрасивая, с космами нерасчесанных волос, вылезающих из-под косынки, сказала Каирову: — Смотри на песочные часы. Он кивнул. Санитарка задернула небрежно занавеску. И ушла. В щель Каиров видел угол подоконника, край батареи парового отопления. Песок, цвета натурального кофе, сыпался беззвучно тонкой, похожей на иголку струйкой. Каиров погрузился в воду по шею, расслабился. Вспомнились подробности сегодняшнего завтрака в буфете. Буфет при гостинице «Эльбрус» был более чем скромным. Стойка и два столика — оба приставленные к стене. Так что за каждым из них могло поместиться только три человека. Буфетчица, вежливая старушка с лицом профессиональной гувернантки, чинно и спокойно подавала кефир, чай, бутерброды. Сумму подсчитывала в уме. Не бросала на прилавок мелочь, а клала ее в тарелку с желтыми цветочками, чуть выщербленную по краю, клала аккуратно и даже несколько церемонно. Когда Каиров расплатился, взял свой кофе и яйцо всмятку, он увидел, что за столиком, ближе к двери, сидит вчерашний старик, бормотавший «аллах экпер», шумная женщина, его родственница, и трое ребятишек: двое на одном стуле, а самый маленький — у женщины на коленях. За другим столиком допивал чай седоволосый мужчина, который, видимо, когда-то, надо полагать, был светским львом и сохранил отпечаток этого в чертах своего большого величавого лица. Каиров спросил: — Можно? Седоволосый важно кивнул. И басом сказал: — Прошу. — Он поднес к губам чашку, с наслаждением отхлебнул чай, прикрыв при этом глаза. В это время в буфет вошел сухопарый мужчина. На нем были коричневый берет, коричневые брюки и оранжевая рубашка с закатанными рукавами. Через плечо переброшен ремень, на котором висела незачехленная кинокамера. — Гавриил Алексеевич, пролетарский привет! — крикнул он с порога, обратив на себя внимание всех присутствующих в буфете, за исключением старика, продолжавшего невозмутимо смотреть в лепной потолок. Седоволосый медленно и трудно повернул голову, словно шея у него была гипсовая, сказал: — Доброе утро, Александр Яковлевич. «Кузнецов Александр Яковлевич, — восстановил в памяти Каиров, — 1890 года рождения, прибыл из Москвы. Место работы: Совкино. Комната 38. Так, значит, с кинокамерой Кузнецов. Для своих лет мужчина основательно потасканный... Надо полагать, что «светский лев» — Сменин Гавриил Алексеевич, 1880 года рождения, прибыл из Сочи. Комната 33. Сочинской милицией частная практика не подтверждена». — Есть ли у вас успехи, Александр Яковлевич? — спросил Сменин, когда Кузнецов поставил на стол свой завтрак и сел рядом. — Жду пленку, — без особой горечи, даже с оттенком беззаботности, сказал Кузнецов, размазывая ножом масло по мягкой булке. — Еще двадцать шестого мая дал из Ростова телеграмму в Совкино. И как в бездну... А погода прекрасная... — Здесь всегда прекрасная погода, — тоном, не допускающим возражений, заявил Сменин. — У меня другая беда. С бешеными трудностями выпросил у Донснабторга на десять дней машину для съемок, а пленки все нет... Сменин усмехнулся: — Что Донснабторг? Организация... Здесь в городе есть одна очаровательная дама со своим собственным «роллс-ройсом». Прямо как в сказке. Могу познакомить. Встрепенулся, заблестел глазами Кузнецов: — Буду премного благодарен, Гавриил Алексеевич. Видел ее. Дважды видел. Проезжала она на своей машине, как амазонка на коне. — Вот, вот... — удовлетворенно пробурчал Сменин. Каиров сказал: — Извините меня, пожалуйста. Но из ваших разговоров я понял, что вы живете здесь давно... Как мне лучше добраться до водолечебницы? — Лучше всего на извозчике, — внимательно посмотрел на него Сменин, может быть, даже недовольный тем, что Каиров прервал разговор. — Это на противоположном конце города, — добродушно пояснил Кузнецов. — Спасибо, — ответил Каиров и встал из-за стола. Выйдя из буфета, он некоторое время постоял у входной двери. Потом, увидев, что Кузнецов и Сменин покидают буфет, пересек холл и решительно направился под лестницу в коридор к черному ходу. — Гражданин, вы куда? — почти с испугом спросила дежурный администратор Ксения Александровна Липова. После несчастья с Поповым она внимательно следила за этим коридором. — Гражданин... — В чем дело? — спросил Каиров. — Туда нельзя. — Почему? — Это служебный коридор, — пояснила Липова. Очень недовольное лицо сделал Каиров: — Мне сказали, что здесь можно погладить брюки. — Вас ввели в заблуждение... Брюки можно погладить у портного Зальцмана. Это за углом, пятьдесят метров отсюда. — Ну и гостиница! — возмутился Каиров. — У нас в Баку таких гостиниц не бывает... — У нас хорошая гостиница, — возразила Липова. — Мы от треста «Кавотель» благодарность имеем... — Благодарность! — пренебрежительно махнул рукой Каиров. — Денег нет у вашего треста удобства организовать... — Как нет денег?! — обиделась Липова. — Наш основной капитал двести семьдесят тысяч рублей. У нас еще две гостиницы кроме «Эльбруса»... «Гранд-отель» и «Европа». — «Европа», — скривился Каиров и повернул назад. В холле громкий разговор с Липовой привлек внимание постояльцев. Кузнецов и Сменин находились среди них...Песок продолжал струиться точно и беззвучно. В верхней половине часов его оставалось со спичечную головку. «Итак, я знаю всех троих, — рассуждал Каиров. — Нахапетов, Сменин, Кузнецов. Но вся штука в том, что, вполне возможно, никто из них не имеет никакого отношения к убийству Попова. Дантист, если он существует, не обязательно должен жить в гостинице. Он может работать в коммунальном тресте, иметь доступ в любую из трех гостиниц. В тресте работает сорок шесть человек. Надо будет сказать Салтыкову, чтобы он занялся трестом. Убийство на почве ревности тоже исключать нельзя».
2
— О! Это вы! — Виктория чуть откинула голову назад и поправила волосы таким же грациозным жестом, что и вчера вечером. Рабочий в фартуке — скорее всего, осетин — склонился над верстаком, остругивая доску. Стружки падали на пол неслышно, потому что рубанок, бегающий туда-сюда, повизгивал громко и тягуче. — Я всю ночь думал о наших лампах, — сказал Каиров, протягивая Виктории розы. Их было три. И все белые. — Спасибо, — ответила Виктория, принимая розы. — Это очень мило с вашей стороны. Каиров засмущался. Виктория поднялась из-за стола. И ушла в другую комнату, вход в которую прикрывала черно-красная портьера. Рабочий продолжал стругать, не обращая на Каирова никакого внимания. Каирову ничего не оставалось делать, как повернуться к нему спиной. Смотреть в окно на светлую немощеную улицу, на чугунную водопроводную колонку, лужу вокруг нее и похожее на барак одноэтажное здание с вывеской: «Консервное производство, солка огурцов и разных маринадов. Г. К. Алоджава». Виктория вернулась. Мокрыми пальцами она держала глиняный кувшин, в котором стояли розы. — Сколько музыкантов будет в вашем симфоническом оркестре? Ее вопрос застал Каирова врасплох. — Человек шесть, — сказал он. Она засмеялась: — Какой же это оркестр? — Живой. И даже очень хороший. — Вы представляете, сколько музыкантов должно быть в настоящем симфоническом оркестре? — Она поставила цветы на стол. — Много. — Верно, — сказала Виктория. И осталась стоять рядом, на расстоянии протянутой руки. «Ей, конечно, уже тридцать, — подумал Каиров. — Или около того. Смотрит она уверенно. Понимает, что неглупа и красива. Улыбка капризная. Впрочем, почему бы ей не позволять себе капризов». — Дорогая Виктория, — сказал Каиров. — Вы знаете, как меня зовут?! — удивилась она. — Эту тайну знает весь город... Дорогая Виктория, я открою свой маленький секрет. Симфонический оркестр — это такая же реклама, как и карачаевский молочный барашек. — О! Торговцы... После этого ходи к вам на шашлыки! — Именно ужин в шашлычной я хотел предложить на сегодняшний вечер. Мы могли бы уточнить форму ламп и состав симфонического оркестра. — Как вас зовут? — Мирзо Иванович. Можно просто Мирзо... — Мирзо Иванович лучше. — Она смотрела на него с улыбкой. Но улыбка эта еще не означала согласия на ужин. И Каиров понимал, она оценивает его внимательно и придирчиво, как могла бы оценивать шубу в магазине женской одежды. Вздохнув, она тихо сказала, чуть сощурив глаза: — Не очень вы похожи на владельца чайной и ресторана-погреба «Булонский лес». Но это даже интересно... Каиров помимо воли бросил взгляд в сторону рабочего, стругавшего доску. Виктория заметила: — Он не понимает по-русски. — На кого же я похож? — Теперь он тоже смотрел на нее пристально и говорил тихо. — У нас будет время это выяснить... — заверила она. — В восемь вечера приезжайте за мной на Луначарскую улицу, шесть. Возьмите кучера. После шашлычной за руль я не сажусь... И последнее, не надевайте эту дурацкую шляпу. Офицерскую выправку шляпой не скроешь. — Я и не скрываю, — обиделся Каиров. — За свое антипролетарское прошлое я отсидел срок от звонка до звонка. И сегодня перед новой властью чист. Она будто не слышала его слов. В мастерскую вошли две женщины, очень похожие друг на друга. Вполне возможно, сестры. Виктория раскрыла объятия: — Руфина! Сарочка! — До свидания, — сказал Каиров. — До встречи, — подчеркнула Виктория.3
Уголовное дело, возбужденное городским прокурором по поводу убийства завхоза гостиницы «Эльбрус» Попова Вадима Зотиковича, висело на Салтыкове тяжелым грузом. Прокурор, интеллигентный и старый, поучал его сегодня: — Вторая стадия уголовного процесса — предварительное расследование — должна представлять мини-энциклопедию преступления. От «а» до «я». Все фактические обстоятельства, все необходимые доказательства, которые неизбежно потребуются при судебном разбирательстве, должны быть выявлены именно во второй стадии. — Я об этом догадываюсь, — хмуро сказал Салтыков. — Этого мало, уважаемый товарищ. О мастерстве в конечном счете говорит результат. — Вы же знаете, одновременно этим делом занимается и Донугро. — Не нам учить, как говорится, товарищей из края... Но мне помнится, еще до их приезда вы высказывали интересную версию... — Убийство на почве ревности. — Вот, вот... Скептическое отношение к первой версии в наших сферах стало чуть ли ни хорошим тоном... А между прочим, в истории криминалистики ой сколько примеров, когда первая версия являлась и единственно правильной... В здешних же краях народ темпераментный, горячий. Когда же речь идет о вопросах чести, тем более женской чести... Тут и кулак, и нож могут пойти в ход в самый неожиданный момент... — Судя по всему, Попов был убит кастетом. — Экспертам виднее... Во всяком случае, если бы это было запланированное убийство, тело бы пришлось искать долго и, возможно, безрезультатно... — Может быть, и так, — мрачно согласился Салтыков. — Ищите женщину. — Прокурор сделал жест рукой, точно приглашая к танцу. ...Вернувшись от прокурора, Салтыков по заданию Каирова позвонил в Ростов и попросил выяснить: отправлялась ли 26 мая телеграмма в Совкино гражданином Кузнецовым? Потом он пригласил к себе ожидавшего в коридоре Глотова Федора Максимовича. Лицо у Глотова было треугольным. Широкое во лбу, оно точкой сходилось на подбородке. Нижняя губа чуть отвисла, придавая лицу выражение удивления и легкого испуга. Однако глаза из-под мохнатых бровей смотрели нагловато, недоверчиво. Задавая первые традиционные вопросы, Салтыков обратил внимание, что Глотов моложе Шелепневой. Она была с 1904 года рождения, он — с 1906-го. Салтыкову показалось это верхом безнравственности. Его начал раздражать даже голос допрашиваемого. — Вы были знакомы с Поповым Вадимом Зотиковичем? — спросил Салтыков в упор. Глотов, разумеется, ожидал этого вопроса. Ответил не задумываясь: — Да-да... Я был знаком с ним. Не любил его. В ночь под Новый год поставил ему фонарь под глазом. — По какой причине? — Он, пьяный как свинья, приперся поздравлять мою жену. — Татьяну Шелепневу? — Татьяну, — кивнул Глотов. На лице его блестели бусинки пота. — Почему вы с ней не расписаны? — Это был необязательный вопрос. Но Салтыкова — в душе основательного семьянина — раздражала неряшливая манера открытого сожительства, называемого гражданским браком. — Мы распишемся, — смущенно пообещал Глотов. И Салтыков поверил ему. Даже больше того, он поверил в то, что Глотов не убивал Попова. Чутье подсказывало. — Федор Максимович, — Салтыков произносил слова спокойно, беспристрастно, — вы когда в последний раз видели Попова? — Двадцать восьмого. В день убийства... — Расскажите об этой встрече подробнее. — Подробнее?! — удивился Глотов. — Да-да... — подтвердил кивком Салтыков. Глотов заволновался: — Я был у него всего три минуты. В обед зашел. — Время? — Минут пять второго... Я сказал ему, чтобы он оставил Татьяну в покое, или рожу набью. — Сразу так и сказали? — опустил в чернильницу перо Салтыков. — Нет. Там у него жилец какой-то был... Ну а когда он ушел, я и сказал. — Что за жилец? — Не знаю. В годах. Мордатый такой. И волосы на голове седой гривой. Он что-то в номере заменить хотел. А Попов сказал, что про это знает. Мол, администратор уже докладывала. А я сказал и ушел. Пальцем его не трогал. — Где вы с ним разговаривали? — спросил Салтыков. Глотов раздраженно ответил: — В его кладовке под лестницей. — Пожалуйста, вспомните, чем вы занимались вечером двадцать восьмого мая. — До четырех дня я был в Компоме. Потом ездил на мельницу. Она инвалидов обслуживает. На мельнице пробыл часа полтора. На обратном пути взял билеты в кино «Гигант». На девятичасовой сеанс. Пришел домой. Мы с Татьяной поужинали. Потом пошли в кино. Вернулись в одиннадцать. Легли спать. — Какой фильм смотрели? — «Луч смерти». — Кто может подтвердить, что, вернувшись из кино, вы никуда не уходили? — Татьяна. — А еще кто? — Не знаю. Наверное, соседки. От них ничего не скроешь.4
Сменин шел через зал тяжело, подав плечи вперед, и казалось, ресторанные столики сами собой раздвигаются на его пути, как вода перед кораблем. Убранные медью светильники скалились со стен индейскими масками, а на эстраде, за музыкантами, высвеченный красным и зеленым светом, гордо опирался на копье вождь племени с перьями вокруг головы и стеклянными серьгами в ушах. — Вождя мы сделали из гипса. Владелец пожелал назвать ресторан «Эльдорадо», — рассказывала Виктория Каирову. — Мне пришлось читать книги о конкистадорах. Я узнала, что в 1526 году Писсаро, Альмагро и Луке заключили договор во имя бога-отца, бога-сына и святого духа и девы Марии... Они заключили так называемый договор трех конкистадоров об открытии и завоевании Перу... Сменин не вертел головой, не искал никого глазами. Он вообще смотрел куда-то вверх, шагал раздольно, словно степью. Следовавший за ним Кузнецов, хотя и был тоньше, гибче, вне всякого сомнения, физически ощущал тесноту зала, хаотическую разбросанность столов, жесткость спинок стульев. Он двигался полубоком, подчеркнуто стараясь никого не задеть, не потревожить. — Сохранилась легенда о том, как на берегу озера Тикикака однажды появились мужчина и женщина. Они были прекрасны и не очень похожи на диких, невежественных людей, обитавших тогда в Перу. Он был сыном Солнца. Она — дочерью Луны. Его звали Манко Капак, ее — Мама Ойльо. Каиров не сомневался, что Сменин и Кузнецов подойдут к их столу. Виктория сидела спиной к залу. Она видела террасу за распахнутой зеркальной дверью и кусок ночи, темной и звездной, обтягивающей дверной проем, как картина подрамник. — Манко Капак и Мама Ойльо были братом и сестрой. Но не только... Они были еще и мужем и женой. — Разве такое бывает? — спросил Каиров и отхлебнул вина на бокала. — Я верю в легенды. — Правильно, Виктория Германовна... Легенды, в сущности, неписаная история. И может, более правдивая, чем та, которую пишут! — Сменин возвышался над столом, выдвигал стул уверенно, точно в собственном доме. У Каирова создалось впечатление, что Кузнецов прятался за спиной Сменина. Нельзя сказать, что вид у кинооператора был смущенный или боязливый, однако бесцеремонность товарища, скорее всего, озадачивала его. Каиров решил, что ему тоже не следует радоваться незваной паре, сдвинул в удивлении брови, колюче посмотрел на Викторию. Только сев на стул, Сменин соизволил заметить Каирова: — Приятная встреча... Мы же знакомы. — Нет, — холодно возразил Каиров. — Мы лишь завтракали за одним столом. — А теперь поужинаем... Если вы не возражаете?! Не задумываясь Каиров хотел ответить, что возражает. Однако Виктория опередила его: — Ужин носит деловой характер. Хозяйка за столом я. Прошу вас. — Последние слова относились к Кузнецову. Он церемонно поклонился. Прежде чем сесть, посмотрел на рассерженного Каирова и незаметно мигнул Сменину. — Можете ничего не говорить. — Виктория повернулась к Кузнецову. — Машину оформим как взятую напрокат. Вам придется оплачивать стоимость бензина. И кроме того, три рубля в час. Сюда входит амортизация транспорта и оплата моего труда как водителя. — Между прочим, Александр Яковлевич, по официальным данным, — сказал Сменин, — средняя месячная зарплата рабочего Севкавжирмасло — 62 рубля 63 копейки, а в Севкавспирте — 37 рублей 91 копейка. — Совкино — богатая организация, — беспечно улыбнулся Кузнецов. — Я согласен. — Столь точные цифровые данные странно слышать из уст врача. — Виктория коротко, с прищуром, взглянула на Сменина. Потом обратилась к Каирову: — Надеюсь, Мирзо, вы будете джентльменом. Каиров послушно кивнул и принялся наливать вино в бокалы. — Этой весной моим пациентом оказался бухгалтер Краевого статуправления, — пояснил равнодушно Сменин. — Он был влюблен в цифры, как в женщину. Из общения с ним я, например, узнал, что в прошлом году добыча лесного материала по краю равнялась 120 тысячам кубических саженей, а нефти — 137 миллионов пудов, или 32% всей общереспубликанской добычи... — Такие знакомства обогащают, — сказала Виктория, но сама, видимо, была уверена в обратном. Она вдруг потеряла к присутствующим интерес и смотрела в сторону кухни, где стенка как бы расступилась, образуя проход, похожий на щель. Каиров тоже посмотрел туда. В проходе скрылся официант с подносом, на котором громоздилась посуда. Замаячил белым колпаком повар, несколько раз затянулся папиросой, выпустил дым в зал. Виктория с сожалением сказала: — Никогда не наблюдала проход в кухню с этой стороны. Можно сказать, местные «Ворота солнца»... — Лучше ворота в рай, — пошутил Кузнецов. Кухня была напротив него, и ему не требовалось поворачиваться, чтобы видеть, куда смотрят Виктория и Каиров. — Нет! — возразила Виктория. — «Ворота солнца» — это памятник культуры древних перуанцев тиауанаку. Судя по описаниям, он гигантский, монолитный... Но ведь это «Эльдорадо» — только стилизация. Сменин неподвижно смотрел на опустевшую бутылку, казалось, не замечая бокалов, наполненных вином. Виктория повернулась к столу, сказала: — Давайте выпьем. — Надо заказать еще, — предложил Сменин Кузнецову. — Кто наш официант? — с готовностью спросил оператор. — Все уже заказано, — успокоила Виктория. И подняла гордо подбородок, словно предоставила возможность полюбоваться своей шеей и ниткой жемчуга на ней. Кузнецов великодушно заявил: — Расходы оплачивает Совкино. — Браво! — вкрадчиво сказала Виктория. — Если мужчина с размахом, это всегда приятно. Она взяла бокал, пила вино с удовольствием. А когда выпила половину, подняла глаза на Каирова: — Мирзо, почему бы вам не пригласить меня на танец? Играли фокстрот. Площадка перед эстрадой была мала. И теснота свирепствовала такая, что, несмотря на быстрый темп, люди не танцевали, а только шевелились. — Здесь хорошо зимой. Зал почти пуст. И возникает настроение и какой-то интерес... К жизни, к счастью. Виктория прижималась к Каирову. Он чувствовал теплоту ее и запах волос. — Вы недовольны, Мирзо? — Зачем здесь эти люди? — спросил он почти ревниво. — Это они должны задать подобный вопрос. — Почему? — А потому, что с Гавриилом Алексеевичем я договорилась об ужине раньше, чем с вами. — Кто он такой? — Хороший человек. Безнадежно влюбленный в меня вот уже два года. — Он не здешний. — Разумеется. Он, кажется, из Крыма. Второй раз приезжает сюда на воды... У него что-то с почками. — Почки вином не лечат. — Не будьте таким педантом, Мирзо... Иванович. Он завтра уезжает. — Теперь понятно, для чего я здесь, — сказал Каиров со вздохом. — И очень хорошо, что понятно. Вы — моя симпатия, мое увлечение, мой мужчина... Вас не устраивает такая роль? — Роль? — Не придирайтесь к словам. В конце концов, все зависит от вас. «Я никогда не понимал женщин, — думал Каиров. — Впрочем, может, это непонимание как раз и есть их самое-самое понимание... Что собой представляет Виктория Шатрова? О внешности вопросов нет. Легко догадаться, какой она была в восемнадцать — двадцать лет и сколько молодых людей сходили по ней с ума! Надо полагать, ее отец уже тогда был адвокатом. Значит, она училась в гимназии, общалась с определенным кругом людей, которые, подобно мне, не чистили ботинки на улицах Баку. Судя по ее разговору, она много читает... Несомненно, человек увлекающийся. И вместе с тем практичный, расчетливый. Как она четко определила отношения с Кузнецовым! Прокат, бензин, амортизация... И мне отвела роль: хочешь радуйся, хочешь обижайся... Другое дело Сменин... Почему-то не верится, что он влюблен в нее. Утром в буфете он сам предлагал Кузнецову знакомство с очаровательной дамой — владелицей «роллс-ройса». Любимых не предлагают...» — Вы думаете обо мне? — спросила Виктория. — О вас, — признался он. — И что вы обо мне думаете? — Хорошее... — Нет, — укоризненно посмотрела она, чуть отстранившись, чтобы видеть его глаза, и повторила: — Нет, вы как будто что-то считали. Когда человек думает о хорошем, у него совсем другие линии шеи и подбородка. Они мягкие, как нежный взгляд. А вы... Вы в напряжении. Но прячете его под ревностью к моим гостям. — Я вообще ревнивый, — признался Каиров. — И отец мой был ревнивый, и дед... Но о вас я действительно думал хорошо... И мне приятна ваша наблюдательность. Правда, я размышлял... Зарезать мне Кузнецова или только сломать ему два-три ребра. — Почему Кузнецова? — не без испуга спросила Виктория, отстраняясь от Каирова. — Но ведь Сменин завтра уезжает. Она засмеялась, шаловливо сказала: — Когда я была гимназисткой, мне ужасно хотелось, чтобы из-за меня кого-нибудь зарезали. Однако мальчишки ограничивались разбитыми носами да синяками. — Жаль, — заметил Каиров. — Немножко... Зато я рано вышла замуж. В семнадцать лет. Подружки охнули от зависти. Они бы не завидовали, если бы знали, что в двадцать два года я стану вдовой. Танец кончился. Толпа густо поползла, растекаясь в направлении столиков, увлекая Викторию, отделяя ее от Каирова. Между ними оказались женщина и мужчина. А Виктория не оборачивалась. Говорила какие-то слова, надеясь, что Каиров идет следом. Он попытался приблизиться к ней. Протиснулся было вперед, задев плечом усатого высокого мужчину. Тот сердито посмотрел на Каирова: — Осторожней надо! — Прости, дорогой. Хочу пробиться к даме. — Пожалуйста, пожалуйста, — отодвинулся мужчина, пропуская Каирова. Однако ворчливо пожелал: — Будь терпеливым, кацо. Виктория наконец заметила, что Каиров отстал, посторонилась, ожидая его. Он взял ее за руку, сказал: — Извините. — Извиняю. Они были одного роста. Губы их оказались рядом. И поцелуй получился, как прикосновение. Когда они шли к столу, Каиров спросил: — Сменин хороший врач? — Не знаю... У меня здоровые зубы. Бутылок на столе прибавилось. Время от времени прикладываясь к высокому стакану с местным красным вином, Сменин говорил: — Слабость дедуктивного метода видится мне прежде всего в том, что в поступках и действиях людей нередко встречается парадокс. Не случайно в науке под парадоксом понимают неожиданное явление, не соответствующее обычным представлениям. — Честно говоря, Гавриил Алексеевич, — Кузнецов выпустил дым изо рта, положил папиросу на край пепельницы, керамической, по цвету и форме похожей на солнце, — я о дедукции читал только у Конан-Дойля. Но мне кажется, что дедуктивный метод столь широко популярен и известен лишь потому, что он предполагает глубинное, а не поверхностное изучение явлений... — Глубинное изучение! — недовольно сказал Сменин. — Все слова... Я могу доказать, что, отхлебывая это вино, произвожу глубинное изучение напитка. Сев за стол, Виктория пояснила: — Не обращайте внимания, Мирзо... После третьего бокала Гавриил Алексеевич обычно ощущает потребность в пространных рассуждениях на самые общие темы. Сменин согласился: — Как чуткая натура, Виктория Германовна уже давно заметила эту мою слабость. А у кого нет слабостей? Вопрос остался без ответа. Возможно, присутствующие не захотели признаваться в слабостях. Возможно, помешала музыка. Кузнецов поднялся, сказал Виктории: — Разрешите? Она разрешила. — Нам остается только выпить, — глубокомысленно изрек Сменин. — Ваше здоровье, Мирзо. Каиров поднял бокал: — Спасибо. Сменин выпил, поморщился: — Виктория прервала наш разговор... — Ваш, — поправил Каиров. — Не имеет значения... — Очевидно, Сменину было все равно, перед кем высказывать свои мысли. — Я никогда не соглашусь с теми, кто называет тривиальной фразу: «Жизнь — лучший учитель». Она не тривиальна. Она бесспорна и бессмертна... Но жизнь не только учитель. Она и фантазер. Не знаю, известно ли вам, но, прежде чем в 1810 году основать Сюртэ — французскую криминальную полицию, — Эжен Франсуа Видок был арестантом. — Обыкновенным арестантом?! — искренне удивился Каиров. — В молодости он был артистом, солдатом, матросом, кукольником. Несколько раз бежал из тюрем. А потом пришел к властям и сказал, что с преступным миром может бороться только бывший преступник. Другими словами, тот, кто знает обычаи, нравы, законы этого мира. То, что мы с вами понимаем под словом «специфика». — Но может, у него было не только знание предмета. Но и талант сыщика. Пестрая жизнь его была всего-навсего поиском истинного призвания. — Пожалуй, Мирзо, вы правы. Истинное призвание способно делать чудеса. Шеф полиции Лондона Джон Филдинг, брат писателя Генри Филдинга, был слепым. И если верить современникам, мог различать три тысячи преступников по голосам. Немолодой официант с раскосыми глазами принес серебряное ведерко со льдом. И в нем бутылку шампанского. Сменин и Каиров обменялись удивленными взглядами. Официант понял. Обратился к Каирову: — Вам прислали шампанское вон из-за того стола. Каиров посмотрел туда, куда указывал официант. За столом улыбался Нахапетов и рядом с ним Валя. — Я не знаю, как у вас в Баку... «Откуда ему известно, что я из Баку? — подумал Каиров. — Могла сказать Виктория... Конечно, могла». — А у нас в Сочи за курортный сезон случаются два-три серьезных преступления. Как-то: применение холодного оружия в состоянии аффекта и алкогольного опьянения; нападения на граждан с целью изъятия ценностей... — Вы из уголовного розыска? — в упор спросил Каиров. — Упаси боже! — Сменин даже вздрогнул. Вернулись Виктория и Кузнецов. Виктория сказала: — Может, это и невежливо, но я должна вас покинуть. Прошу, Мирзо, проводить меня. — А шампанское? — с обидой в голосе спросил Сменин. — Шампанское? Это очень мило! — улыбнулась Виктория, наверное полагая, что Сменин заказал серебряное ведерко и бутылку в ее честь. — Шампанское на посошок.5
Свет луны длинными косыми срезами белел в пролете улицы, изогнутой по краю обрыва. За цементным бордюром высотой до колена, испещренным старыми трещинами, уходили вниз, к каменному руслу реки, густые заросли самшита и держидерева, оплетенные гибким плющом, как паутиной. Еще ниже начинались сады: айва, персики, слива. У самой реки на высоких фундаментах стояли домики. От домиков к улице и в сады пролегали не тропинки, а ступеньки. Каждая из них — дубовая дощечка и два крепких дубовых колышка. У дома Виктории Каиров отпустил кучера. Виктория сказала, что им нужно либо расстаться, либо пройти в дом, хотя бы на террасу, потому что она уже вышла из возраста, когда можно обниматься возле калитки. — У калитки хорошо обниматься в любом возрасте, — заметил Каиров. Однако они прошли в сад и поднялись на террасу. С реки тянуло запахом холодной воды и тины. Вспыхнул свет. Мошки закружились вокруг лампочки. Старческий голос спросил за дверью: — Кто там? — Это я, папа, погаси, пожалуйста, свет. Терраса захлестнулась темнотой, в первые секунды плотной, почти непроницаемой. Потом серебряно выступила река, обозначилась изгибом дорога. Виктория села на перила, обхватила руками подпирающий крышу столб, прислонилась к нему головой. Тихо потребовала: — Ну... Рассказывайте о себе всю правду. — Так сразу!.. Зачем она вам? — Пока не знаю. — Это хорошо, что вы не знаете. — Странный вывод, — с сомнением заметила она. — Наверное, мне потребуется автомобиль, — сказал он, выделяя каждое слово, — Условия проката вам известны, — ответила она равнодушно. — Что вы еще хотите сказать? — Что я холост. И это правда. — Вполне возможно. — Она произнесла слова сухо, как бы подчеркивая, что семейное положение Каирова ей безразлично. — Вы мне нравитесь. — Мирзо, я нравлюсь многим мужчинам! — Теперь она говорила с откровенным раздражением. Он ответил обиженно: — Вы хотели слышать правду, я ее говорю. — Извините. — Она отстранилась от столба, соскользнула с перил. — Нравиться можно по-разному. — Я вам нравлюсь сильно? — Сильно, — кивнул он. — Вы мне верите? — Допустим... — Это плохой ответ. — Это честный ответ. — Спасибо. — Каиров взял ее за плечи. — Я тоже с вами правдив и честен... У меня нетресторана в Баку. Это был лишь предлог для знакомства с вами. — Представьте, я догадывалась. — Не обижайтесь... Но я приехал сюда совсем по другому делу. — Вам нужна моя помощь? — спросила она. — Нет... У меня мужское дело. — В таком случае вы зря отпустили тарантас. По ночам здесь улицы темны и пустынны. А до «Эльбруса» далеко. — Ничего. Говорят же, влюбленным и пьяным помогает судьба.6
Из окна был виден задний двор, разделенный тенью от угла гостиницы до сарая, в котором хранилась мебель, большей частью старая, требующая ремонта. Сразу за сараем начиналась гора — кустами и мелкими деревьями, осыпью грунта, вспухшей бело, круто. По двору, в затененной его части, шел человек. Шел не крадучись, но осторожно, и шаги были — как сдерживаемое дыхание. Дантист смотрел из-за шторы. Человек, вне всякого сомнения, направлялся к двери черного хода. Полночь дышала свежо. Ветер несильный, но заметный, касался листьев. В небе появились облака. Они плыли быстро, словно куда-то торопились. Там, внизу, человек остановился у дверей и, кажется, дернул ручку. С минуту он не двигался. Возможно, прислушивался. Потом решительно пошел к углу здания. Когда человек оказался в полосе света, Дантист узнал Каирова. Где-то вдалеке, на дороге, звенели колокольчики и пели цыгане...7
— Мирзо, поехали в горы! Каиров теперь не сомневался: за дверью находился владелец шашлычной «Перепутье» Лаидзе. — Зураб, это ты? — на всякий случай спросил Каиров. — И не один. Открывай быстрее и посмотри, кто со мной! От Зураба пахло вином, и глаза поблескивали с хмельным лукавством — рядом в коридоре стояли три молодые цыганки и цыган с гитарой, в лиловой рубахе навыпуск, перехваченной ремнем с бахромой. Каиров поспешно прикрыл дверь. Сказал в щель: — Извините. Мне надо одеться. — Извиняем. И ждем тебя у подъезда. На лестничной площадке Зураб сказал цыганам: — Сей секунд... Догоню. Вернулся. Прошел в номер Каирова. Тот, надевая пиджак, спросил: — Что стряслось? — Салтыков передал срочное сообщение из Ростова, — абсолютно трезвым голосом ответил Зураб, положил на стол перегнутый пополам конверт. — Я пошел. Мы ждем тебя внизу. — Может, мне не обязательно ехать с вами? — Обязательно. Во-первых, мы все равно разбудили всю гостиницу. Во-вторых, обидятся мои друзья, а поют они чу́дно... Оставшись один, Каиров вскрыл конверт.Телефонограмма из Донугро:
«С р о ч н о К а и р о в у В дополнение к имеющимся сведениям сообщаю, что из затребованных писем жены есаула Кратова Валентина Еремеевича стала известна ее фамилия: Шатрова Виктория Германовна. Уроженка города Северокавказска. Год рождения 1898. Социальное происхождение — из дворян. Возможная фамилия Дантиста Разумовский. В письме от 16 июля 1917 года имеется фраза: «Вечером Филарет играл на рояле Шопена. Однако из него такой же музыкант, как из Разумовского дантист». Считаю целесообразным выяснить, не проживает ли Шатрова или кто-нибудь из ее родственников в Северокавказске. Проверить граждан с фамилией Разумовский. О ходе операции прошу сообщать каждые сутки.Еще в конверте Каиров нашел записку от Салтыкова:Б о р о в и ц к и й».
«Москва подтвердила личность Кузнецова Александра Яковлевича, сотрудника Совкино, командированного в Северо-Кавказский край для изучения возможности киносъемок. Ростов подтверждает отправление телеграммы в Совкино 26 мая».Каиров запер за собой дверь номера. По лестнице с третьего этажа спускался Нахапетов. Увидев Каирова, приподнял руку в приветствии: — Вы еще не спите, Мирзо Иванович? — Друзья не разрешают. — Хорошие друзья. — Нахапетов остановился, неожиданно странно посмотрел на Каирова, блеснул фиксой: — Мирзо Иванович, я хотел посоветоваться с вами... По одному делу. — Сейчас? — удивился Каиров. — Нет-нет... Время терпит. — Тогда давайте днем. — Ближе к вечеру, — подсказал Нахапетов. — Можно к вечеру, — согласился Каиров, вспомнив, что на запрос относительно личности Нахапетова Майкоп не дал никакого ответа.
Глава четвертая
1
Тридцать восемь — сама по себе, конечно, небольшая цифра. Но если к ней прибавить слово «лет», тогда наверняка получится половина жизни, а может быть, и больше. Это уж как повезет! Каиров верил в свое везение. Верил спокойно, рассудительно, с достоинством смелого, опытного человека, повидавшего на своем веку всякого — и хорошего, и плохого, — знающего цену риску, уверенности, бесстрашию. В его биографии не было ничего исключительного. Скорее, наоборот, она была характерной для многих людей того поколения. 1899 год — ученик сапожника в городе Баку, 1903 год — юнга на шхуне «Вознесение», 1917 год — большевик-красногвардеец, 1920 год — служба в разведотделе 9-й армии, 1921 год — старший следователь военного трибунала Туркестанского фронта... Была и другая работа. В Донугро он приехал после специальных юридических курсов. На курсах лекции читали серьезные специалисты, приезжали руководители кабинетов судебной экспертизы из Харькова, Киева, Одессы. Практические занятия, преподанные самой жизнью, оснащались теорией, как шхуна парусами, крепкими, надежными, потому что плавание могло оказаться штормовым и дальним. Безусловно, знания, полученные на лекциях, были важными и ценными. Оставалось лишь правильно применять их на практике. Тогда в Ростове они с Боровицким решили, что Каиров поедет в Северокавказск под своей фамилией. Биографическая легенда такова: в прошлом белый офицер, служил в Добровольческой армии; воевал против красных; после гражданской войны отбывал наказание; сейчас живет в Баку, вместе с родственниками держит чайную. Сюда приехал лечиться. Принимать минеральные ванны, дышать горным воздухом. В административном отделе, тем более в местном угро не должен появляться. Связь держать через шашлычную «Перепутье». Каиров сказал: — Мне нужно дней пять. Если за эти дни убийца на меня не выйдет, пусть эти дни пойдут в счет моего отпуска.2
Известие о том, что Виктория является вдовой есаула Кратова, не внесло в дело ничего обнадеживающего. По сведениям Салтыкова, она вернулась в Северокавказск в двадцать втором году. Чистой наивностью было предполагать, что, знай о тайнике, она бы пять лет выбирала момент для завладения им. Можно предположить другое: Виктория была знакома с Дантистом. Твердой уверенности в этом нет. Но предположить можно. И вдруг Дантист появляется здесь, в городе. «Роллс-ройс» в городе один. Дантист вполне может увидеть и узнать Викторию. Однако это совсем не означает, что она тоже может увидеть Дантиста, если он этого не захочет. В курортный сезон здесь больше ста тысяч жителей. Итак, если Дантист не подделает встречи с Викторией, то в его силах это осуществить. Однако следует продумать и другой вариант. Дантист встречает Викторию. Они узнают друг друга. Как поведет себя Дантист? Откроет ей цель приезда? Или, наоборот, попытается выведать: известно ли Виктории что-нибудь о тайнике? Если не откроет истинной цели, то Виктория опять в стороне. Но... Допустим, откроет. Для чего? Ему нужна ее помощь? В чем? В транспорте? Но чемодан очень просто положить в коляску, не открываясь кучеру. Есть и еще один вариант. Дантист — чистая условность. Тот, настоящий Дантист (предположительно Разумовский), мог по какой-либо причине поведать кому-нибудь тайну старой кладовки, как это сделал есаул Кратов. Тогда нынешний Дантист и Виктория могут не знать друг друга и потому не вступить в контакт. Нет, естественно, возможен случайный контакт мужчины и женщины. Впрочем, стоп! Разумовский мог открыть тайну не обязательно мужчине. Забавно, Дантист может оказаться женщиной. Боровицкий в Ростове говорил: — Задержание убийцы завхоза в данном случае не только факт справедливости, возмездия... Здесь есть еще один любопытный момент. В похищении участвовали офицеры: поручик Шавло, есаул Кратов, полковник Ованесов... Возможно, за ними стояла или стоит организация... Сам знаешь, сколько их было!.. И «Союз возрождения», и «Национальный центр», и «Союз защиты родины и свободы»... Мы должны сделать все, чтобы с этим разобраться. Похитить такие ценности в одиночку, без серьезной поддержки невозможно. — Тогда почему об этом забыли? — спросил Каиров. — Я не Шерлок Холмс... Но одно предположение у меня есть. Ящик с ценностями мог составлять неприкосновенный фонд какой-то офицерской организации. Поскольку единства в белом движении не было, такая секретная организация могла существовать уже тогда. В Северокавказске я узнал, что в девятнадцатом году примерно около двух недель в гостинице «Эльбрус», бывшем «Гусачке», располагался штаб казачьей дивизии. Видимо, тогда и был устроен тайник. Естественно, вся организация об этом знать не могла. И вот один из знавших, скорее всего, Дантист, стал убирать остальных, посвященных в тайну. Он ликвидировал Ованесова, Кратова, денщика Василия, может, еще кого-то... Но Дантист не знал, что содержимое ящика подменено... Конечно, в предположениях Боровицкого не было ничего фантастического. Но и твердого, проверенного тоже ничего не было. ...В магазине около рынка Каиров купил большой чемодан, а в скобяной лавке — тяжелый лом. Положил лом в чемодан. И принес в гостиницу. Невдалеке от гостиницы повстречал Сменина и Кузнецова. Сказал им: — Здравствуйте. Они ответили. С удивлением посмотрели на огромный некрасивый чемодан.3
Салтыков был обескуражен. Смотрел на Андрея Зотиковича Попова немигающими глазами без обычной цепкости, растерянно, облизывая пересохшие губы. Перед ним на столе лежали бронзовый кастет и листок из школьной тетрадки в косую линейку, исписанный крупно, торопливо. Андрей Зотикович Попов сидел красный, вспотевший. Дышал часто. Наверное, от быстрой ходьбы. Взгляд его был помечен испугом и даже мольбой о защите и помощи. — Вы-то чего так боитесь? — спросил наконец Салтыков. — Я — нет... — неуверенно запротестовал Андрей Зотикович. — Лично я не боюсь. Но все это неприятно. И, я бы даже сказал, жутко. — Жутко, — согласился Салтыков. Попросил: — Повторите, пожалуйста, где вы все это нашли. Где и когда? — Я же говорил... Полчаса назад, — он вынул из нагрудного кармана золотые часы, — на крыльце перед собственной дверью. Открываю дверь. Смотрю: лежит газета, а в нее что-то завернуто. Мне газету «Северокавказская правда» всегда в почтовый ящик кладут. А тут она на полу, под ногами. Я взял. Чувствую — тяжесть. Развернул, А там, как сами видите, кастет и письмо. — Вы кому-нибудь показывали свою находку? — Что вы?! Я прямо бегом к вам. Даже извозчика искать не стал. Сразу к вам... — Правильно поступили, — сказал Салтыков. — Я вас попрошу об этом случае пока никому ничего не рассказывать. — Я понимаю. — Андрей Зотикович вытер платком вспотевший лоб: — Вы его поймаете? — Не сомневайтесь.После ухода Попова Салтыков позвонил в Компом и попросил к телефону Глотова Федора Максимовича. Ответили, что его нет на работе. На вопрос: «И давно?», поколебавшись, объяснили: «Второй день». Тогда Салтыков выяснил номер телефона начальника отдела кадров и договорился о встрече. Через двадцать минут он был в Компоме. Смотрел личное дело Глотова. В час дня встретился с Каировым в шашлычной Лаидзе. Каиров подбросил на ладони кастет, потом внимательно прочитал письмо.
«Андрей Зотикович! Я знаю, что вы не очень любили своего брата Вадима. Тем не менее родная кровь — всегда родная кровь. Поэтому, прежде чем исчезнуть, я хочу признаться вам, что убил вашего брата Вадима по причине ревности, из-за любви к Татьяне Шелепневой, с которой ваш брат имел связь долгое время. Убил вот этим самым кастетом, что будет приложен к письму. Меня уже вызывали в уголовный розыск. Второго вызова я ждать не намерен. Поэтому покидаю Северокавказск и края эти навсегда. Россия, она большая.— Почерк его? — спросил Каиров. — Похож, — сказал Салтыков, протягивая Каирову лист бумаги. — Я изъял из личного дела Глотова автобиографию. Каиров присвистнул, прочитав документ: — На экспертизу! У Глотова начальное образование. В автобиографии семь ошибок. В письме — ни одной. — Здесь слова простые, — заметил Салтыков. — А слог? Тем не менее... Я хочу признаться... Имел связь. После начальной школы так не пишут. — Идентификацию почерка можно сделать только в Ростове. На это уйдет не меньше недели. — Я позвоню Боровицкому. Попрошу ускорить... Вызовите Шелепневу. Поговорите с ней тщательно. Если Глотов убил из-за нее человека, он не мог бы расстаться с ней просто так. Исчезнуть... Это надо сделать сегодня. По крайней мере завтра... Там, в протоколе, фигурирует старушка, которая убирала в доме братьев. — Такмазян? — Да, Такмазян. Побеседуйте с ней. Старые люди, они наблюдательные.Ф е д о р Г л о т о в».
4
Старушка двигалась и говорила с бойкостью подростка. Махала руками, вскакивала со стула. Салтыкову уже несколько раз приходилось просить ее сесть и говорить тише. Это была та самая Такмазян, о которой напомнил Салтыкову Каиров. Она жила рядом с домом убитого завхоза. Имела ключи от дома, потому что по понедельникам и четвергам производила в комнатах уборку, за что получала десять рублей в месяц. — Зотикович называл меня тетя Айша. Тетя Айша, на тебе конфет! На тебе ключи!.. Тетя Айша, вот билет в кино. А зачем мне кино, я его боюсь... Хороший был человек Вадим Зотикович... А вот брат его Андрей — свинья. Грязный, все тряпки в проявителе... Доброго слова не скажет. Нос кверху... Плохой человек! — Айша Давыдовна! — Старушка обтирала губы платком, и Салтыкову наконец удалось задать вопрос: — Какие отношения были между братьями? — Отношения? Были отношения. Один брат, второй брат... — Я спрашиваю, какие были отношения? Хорошие, плохие? — Плохие, плохие! — зачастила старушка. — Совсем плохие. Ругались братья. Убить грозили. — Кто грозил? — насторожился Салтыков. — Вадим Зотикович грозил. И Андрей грозил. Убью, зарежу. Голову оторву. — Часто такое случалось? — Вечером случалось. Вечером... — Каждый вечер? — Каждый вечер, каждый вечер, — убежденно говорила старушка. — И утром тоже случалось, и днем случалось... Всегда случалось. Со стол ростом были, уже дрались. — Понятно. Спасибо. — Что «спасибо»? У меня три внука. Только ходить научились, уже дерутся. — Да-да! — улыбнулся Салтыков. — Айша Давыдовна, еще один вопрос. — Спрашивай сколько хочешь. На все отвечу, — заверила старушка, моргая черными мохнатыми ресницами. — Последнее время перед убийством не встречались вам в доме Попова какие-нибудь незнакомые люди? — Был, был, был... Зотиковича, значит, в субботу убили... А перед этим, в четверг, пришла я убираться и слышала из комнаты Андрея, как Зотикович у себя с мужчиной разговаривает. А потом они вышли. Я на террасе была. Оба вышли. Мужчина нестарый. Может, черкес, может, осетин. Худой. С золотым зубом. — Где зуб? — поспешно спросил Салтыков. — Во рту. Во рту... Салтыков поморщился: — Я не об этом. Вверху, внизу... Справа, слева. Старушка задумалась: — Не помню. — О чем разговор был? — Я не прислушивалась... Подметала я. Кажется, мужчина о чем-то просил. А Зотикович громко ответил, что это дорого будет стоить. Большие деньги потребуются... — На террасе они ничего не говорили? — Нет. Худой сказал мне: «Здравствуйте». А Зотикович: «Тетя Айша, я пошел».5
Салтыков заболел. Его скрутило в рабочем кабинете. Врач со «скорой помощи», хорошо знавшая начальника уголовного розыска, определила диагноз — обострение язвенной болезни — и сказала, что непременно нужна госпитализация. Салтыков, конечно, отказался ложиться в больницу. Смотрел мутно, упрямо повторял: — Все пройдет... Я знаю лучше. Врач была седая. С сухими длинными пальцами. Говорила старательно, щелкая вставными зубами, как ножницами: — Так нельзя, товарищ Сал-тыков. Вы человек госу-дар-ственный. — Сам знаю, какой я! — не очень вежливо отвечал Салтыков. — Мне полежать надо часок... Часок, и все! — Беречь здоровье на-до. Вы не мальчик. — Знаю, знаю, — морщился Салтыков. Недовольно повертев головой и пожав плечами, врач уступила. ...Салтыкова привезли домой на служебной машине. В тот же день его навестил Каиров. Начальник угро сидел на кровати, в черных сатиновых трусах и морской тельняшке, прикрыв ноги ватным лоскутным одеялом. Со спинки стула свешивались пиджак и брюки. Солнце, попадавшее в окно, блестело на маленькой бляхе ремня, сделанной в форме сердца. — Я утром буду как штык, Мирзо Иванович. Слово твердое. Я эту Шелепневу к девяти пятнадцати вызвал... Я к ней подход найду. Она от меня ничего не скроет. — Хорошо, хорошо, — сказал Каиров. — О Шелепневой сейчас не думай. Тебе, товарищ Салтыков, надо подлечиться. Основательно. А значит, подумать нужно о своем здоровье. Шелепневу в крайнем случае я возьму на себя. И вообще, в письмо Глотова не верю. Не написал ли его сам Андрей Зотикович Попов?! — Попов? Каиров развел руками: — Нет, я не утверждаю. Я думаю так... Допустим, Глотов убил Вадима Попова. Зачем ему признаваться в преступлении брату убитого? Зачем оставлять серьезную улику? Проще уехать скрытно. Ищи ветер в поле. — Нужно ждать заключение специалистов-графологов, — подтянув одеяло, сказал Салтыков. — Вдруг Глотов псих. От психа можно ожидать любых поступков. — Кстати, нужно выяснить, не состоит ли он на учете у психиатров, — напомнил Каиров. После паузы сказал: — Если письмо поддельное, то и ребенку ясно, только убийца заинтересован в том, чтобы подставить следствию Глотова. — Верно, — кивнул Салтыков, однако тут же заметил: — С другой стороны, неужели убийца настолько глуп, что не способен рассуждать так же, как и мы. — Нет. Он не глуп. Он понимает, что,такая версия придет нам в голову. Но ведь версию надо проверять. А на проверку необходимо время. Значит, он хочет выиграть время. Сколько? Салтыков потер подбородок, на котором проступала рыжая щетина, подался вперед так, что панцирная сетка под ним скрипнула. Сказал: — Надо усилить наблюдение в гостинице. — С этим тоже надо быть крайне осторожными. А вдруг он почувствует, что наблюдение есть. Как быть тогда?6
Фотография А. З. Попова находилась у входа на рынок. Это была фанерная будка, втиснутая между палаткой и приемным пунктом вторсырья, возле которого запряженный в повозку ослик равнодушно жевал сено. Слабый ветер лениво раскачивал картонный щит, свисавший с дерева. На картоне в несколько рядов были наклеены фотокарточки, некоторые из них приковывали внимание голубым небом и зелеными деревьями, небрежно раскрашенными кисточкой. Фотограф Попов, в бурой фланелевой рубашке с засученными рукавами, сидел у входа на табурете, разбирал длинный деревянный штатив с потемневшими латунными зажимами. — День добрый, — сказал Каиров. Попов поднял глаза, посмотрел на Каирова оценивающе, сказал: — Портрет, документ? Шесть на девять, девять на двенадцать? Или прикажете три на четыре? — Когда будут готовы? — спросил Каиров. — Через два часа. — Попов поднялся, прислонил штатив к стене. Вынул из кармана золотые часы на толстой золотой цепочке. Уточнил: — Можно через полтора. — Нет, — ответил Каиров. — Через полтора мне не нужно. Я приду за карточками завтра утром. — Как прикажете. Можно и завтра утром. — Квитанция будет? Попов изумленно развел руками: — Предписание финорганов — для нас закон. — В таком случае надо сфотографироваться. Попов распахнул перед ним дверь: — Рекомендую формат девять на двенадцать. Английская бумага «бромпортрет». — Ладно, — согласился Каиров, — пусть будет английская. Кутить так кутить. ...После процедуры фотографирования Попов выписал Каирову квитанцию. Мирзо Иванович внимательно прочитал ее и спрятал в карман. На следующее утро Каиров зря ожидал, когда откроется фотография Попова. Если верить объявлению о часах работы, она должна была открыться в восемь. Однако и в девять часов, и в десять на дверях висел замок. В половине одиннадцатого выяснилось, что Андрей Зотикович Попов повесился у себя дома в платяном шкафу, не оставив ни письма, ни записки... Часом раньше уборщица, подметавшая в гостинице «Эльбрус» за лестницей возле черного хода, обратила внимание на остатки мусора в виде сухой глины и ржавчины, словно нарочно высыпанных возле стены. Будучи женщиной сварливой и раздражительной, она в грубой форме выразила свое неудовольствие дежурному администратору Липовой. Сотрудник уголовного розыска, присутствующий в холле гостиницы, слышал этот разговор. Он немедленно позвонил Салтыкову. Однако начальника угро на месте не оказалось. Телефонный разговор с Салтыковым состоялся только в три часа дня. Салтыков спросил, цела ли кладка. Кладка была цела. Ответ сотрудника успокоил Салтыкова. И он не придал факту должного значения.7
Конный экипаж остановился возле шашлычной «Перепутье». Каиров легко спрыгнул на мостовую. Бросил взгляд на двух молодых парней в одинаковых клетчатых костюмах и двух хихикающих девиц, на мороженщика, катившего перед собой фиолетовую повозку. Посмотрел на далекий пик горы, чуть размытый в угасающем небе, и вошел в шашлычную. Зураб Лаидзе встретил гостя улыбкой, с которой встречал всех дорогих гостей. Провел в отдельный кабинет за чучелом медведя. Громко сказал: — Дорогой Мирзо, вот меню! Выбирай что хочешь. Все экстра-класс. В меню была вложена запись сегодняшнего разговора Салтыкова с Шелепневой. На первой странице красным карандашом был отчеркнут следующий текст:«О т в е т: Нет, мы с Федором не ссорились. Он никуда не собирался уезжать. Ему нравился этот город. Накануне мы отнесли в пошивочную мастерскую пальто Федора, чтобы перелицевать. Утром, как обычно, вместе пошли на работу. Он просил сделать на ужин вареников с вишнями. Больше я его не видела».На третьей странице были выделены такие строчки:
«О т в е т: Я, конечно, не знаю о всех знакомствах Федора. На работе он мог встречаться с разными людьми. К нам же в дом никто не приходил. Правда, был один случай. Федор вернулся домой обеспокоенный: к нему возле почты подошел какой-то человек, пожаловался на близорукость и попросил подписать адрес на конверте. Федор зашел с ним на почту. Что-то насторожило его в этом человеке. А что — не знаю. В о п р о с: Когда это было? О т в е т: Дня три или четыре назад. Точно не помню. В о п р о с: По какому адресу направлялось письмо? О т в е т: В Ростов. Про адрес Федор не говорил. В о п р о с: Как выглядел этот человек? О т в е т: Интеллигентно».
8
МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о смерти Попова Андрея Зотиковича
Смерть наступила в результате удушения между двумя и тремя часами ночи 21 июня 1927 года. Следы прижизненного происхождения, имеющиеся в районе грудной клетки и голени ног, свидетельствуют о том, что А. З. Попов был привязан веревкой к кровати и подвергнут пыткам путем введения иголок под ногти правой и левой кистей, прижиганием правой и левой пяток. Удушение, видимо, подушкой или другим мягким предметом произведено, когда А. З. Попов находился в горизонтальном положении. Изучение расположения и характер трупных пятен, нарушение трупного окоченения позволяют сделать вывод, что труп был перемещен и подвешен. В организме обнаружено наличие алкоголя, достаточное для средней степени опьянения.
9
— Ну, механики, думайте, — сказал Каиров. Была глубокая ночь, тишина. Сотрудники уголовного, розыска стояли под лестницей со свечами в руках. Желтый неяркий свет покачивался, как на воде. По краю кирпичной кладки, оштукатуренной несколько лет назад, сверху вниз чернела трещина, прямая и узкая, будто разрезанная ножом. — Теперь ясно, за что убили завхоза Попова. — Каиров повернулся к Салтыкову: — Стенка раздвижная. И Попов знал секрет. Один из сотрудников с черными стриженными «под бокс» волосами, сказал: — Механизм поворота может быть вмонтирован только в лестницу. Больше его нигде не спрячешь. Он поднял свечу, свободной рукой коснулся едва выглядывающего из бетонного пролета болта. Осторожно потянул на себя. Болт не двигался. — Попробуй развернуть, — посоветовал Салтыков. Совет оказался дельным. Болт легко подался в правую сторону, потом вниз. И, по мере того как болт выходил из бетона, кирпичная кладка разворачивалась, поскуливая, точно щенок. На лице Каирова появилось выражение грустной иронии, когда он увидел ящик со сдвинутой набок крышкой, обрывки бумаги и ржавый утюг. Даже при свете свечей легко было догадаться, что стена разбиралась со стороны столярной мастерской и недавно была заделана. — Прошляпили, — уныло признался Салтыков. — Надо поискать отпечатки пальцев, — напомнил Каиров и пошел в холл. Администратор Липова находилась за конторкой, где стояли телефон и керосиновая лампа. Каиров спросил: — Скажите, а столяр ваш до сих пор болен? — Да. Но поправляется. Из больницы выписали. — Как его фамилия? — Пантелеев. — В последние дни никто не интересовался его адресом? Липова вздрогнула: — Сегодня спрашивали. Что-то около двенадцати дня. — Кто? — По телефону. Голос мужской. — Вы дали адрес? Липова кивнула: — Улица Станичная, шесть. Зазвонил телефон. Липова сняла трубку: — Гостиница. Одну минутку. — Она опустила трубку. Сказала почему-то шепотом: — Товарища Салтыкова. Салтыков пришел быстро. Дежурный по городскому управлению милиции прочитал ему телефонограмму из Ростова. Речь шла об идентификации почерка Глотова:«Результаты анализа частных признаков почерка автобиографии и письма, а также анализ индивидуальной совокупности признаков позволили прийти к конкретному выводу, что автобиография и письмо написаны разными людьми. Совпадение некоторых признаков почерка в письме и автобиографии может быть отнесено за счет умышленной вариационности почерка или обусловлено случайным сходством».— Этого и следовало ожидать, — негромко сказал Каиров. — Пошли человека на Станичную, шесть. Нужно проверить, жив ли столяр Пантелеев. И понаблюдать за его домом. — Прямо сейчас? — кисло спросил Салтыков. — Да, — кивнул Каиров. — Не исключено, что мы уже опоздали.
10
Было тепло, но дождь лил холодный. Кисти рук хотелось спрятать в карманы, уткнуться лицом во что-нибудь сухое, мягкое. Мутный ручей, извиваясь и пенясь, бежал вниз по левой стороне улицы, лизал край тротуара. Каиров увидел слово «Кассы» и только потом название кинотеатра по верху вытянутого, похожего на сарай здания: «Совкино№ 2». Где-то должна была находиться афиша. Однако дожди лил такой частый, что дальний край кинотеатра расплывался, как в тумане. Помещение перед кассами, достаточно просторное, оказалось заполненным людьми, нашедшими здесь, подобно Каирову, убежище от дождя. Люди разговаривали, многие курили. За открытой дверью серо пузырилась дождем улица. Раскатисто ухал гром. Иногда проезжали извозчики. К сожалению, с пассажирами. Свободного — ни одного. Дождь застал Каирова на улице Кооперации, возле художественной мастерской, что напротив водопроводной колонки. Еще издалека, только выйдя на эту улицу, Каиров увидел, что «роллс-ройса» у мастерской нет. Он, конечно, понял: Виктория отсутствует. Но, возможно, в мастерской есть кто-то другой, кто сможет ответить, когда вернется Шатрова или где можно ее найти. Нет. В окне мастерской белела табличка с надписью: «Закрыто». Каиров несколько раз дернул ручку двери. Безрезультатно. Дверь не поддавалась. Вот тут-то и полил дождь. Наотмашь. Как ударил... «Та-та-та-та...» Грохот грома — будто перекаты канонады. Эхо между горами долгое-долгое. — Я горы люблю. Кавказ люблю, — сказал сегодня Нахапетов. — Мне без Кавказа будет трудно.Салтыков утром сообщил, что Майкоп наконец подтвердил личность Нахапетова. 28 лет. Заготовитель Агентства Всероссийского кожевенного синдиката. Проживает в городе Майкопе, по улице Ленина... Все сходится. У Нахапетова свои проблемы. Много планов. Валя — девушка, с которой он здесь, — чья-то невеста. С трудом она убежала от жениха. Нахапетов несколько дней ожидал ее. Потом уезжал в Майкоп, чтобы поддержать девушку, убедить... По суровым горным обычаям, у них могут возникнуть серьезные неприятности. Очень серьезные... Нельзя им в Майкоп возвращаться. Вначале Нахапетов хотел в Северокавказске остаться. Мастерскую модельной обуви открыть. Завхоз Попов, который все ходы и выходы знал, обещал помочь ему. Но говорил, что это будет дорого стоить. Нахапетову деньги обещал дядя. Однако гораздо меньше, чем нужно было для мастерской... Несчастье с Поповым помешало довести дело до конца. К тому же дядя сказал, что Северокавказск очень близко от Майкопа. И тогда Нахапетов подумал о Баку. Каиров спросил: — Откуда вы узнали, что я из Баку? — От ваших друзей. — Каких? — Тех, с которыми вы были в ресторане «Эльдорадо». — Понятно, — сказал Каиров. И посоветовал: — Рафаил Оскарович, Баку тоже близко. На вашем месте я бы уехал куда-нибудь в Донбасс или на Волгу... Или в Москву. Вот тогда Нахапетов и сказал о своей любви к горам. Каиров покачал головой: — Я думаю, что Валю вы любите больше, чем горы. Это тот случай, когда выбирать не приходится. — Вы правы, Мирзо Иванович, — сказал Нахапетов. — Я последую вашему совету. Как только я увидел вас, сразу поверил, что встреча с вами принесет мне удачу. — Я буду рад... Каиров произносил эти слова, а сам думал о плотнике Пантелееве, которого вновь увезли в больницу и Дантист не успел навестить его. В доме столяра оставили сотрудника. По версии, выстроенной Каировым, Дантист непременно должен прийти на Станичную, шесть. Версия проста. Дантист не собирается долго задерживаться в городе. Для изъятия ящика или его содержимого ему необходимо несколько дней. Четыре-пять. Но твердых, надежных. Для этой цели он убирает Глотова и подбрасывает фальшивое письмо фотографу Попову. Дантист не сомневается, что фотограф сообщит о письме в угрозыск и расследование дела на какой-то срок пойдет по ложному пути. Однако, вскрыв тайник, он видит перед собой ящик, набитый хламом, испытывает чувство растерянности. Он замечает, что тайник вскрывали со стороны столярной мастерской. Кто это мог сделать? Первый ответ — завхоз Попов, который много лет работал здесь, занимался ремонтом здания. Но завхоз мертв. Однако у него есть родной брат. У братьев могло не быть секретов. Тем более у фотографа Попова золотые карманные часы явно старинной работы. Не из ящика ли они? Вот почему фотографа Попова, прежде чем задушить, пытали. «Кто еще мог вскрыть?» — думает Дантист. И второй ответ напрашивается сам собой: столяр Пантелеев. Значит, Дантист будет ожидать, когда Пантелеев вернется домой, потому что пытать человека в городской больнице невозможно.
11
Через час дождь утих. Небо по-прежнему было обложено тучами. Все тонуло в сумраке, наметанном серо, густо. Пахло мокрой глиной, корой, печными трубами, потому что печи стояли чуть ли не в каждом дворе под навесами, мазанные и выбеленные, с кастрюлями и сковородками на конфорках. То тут, то там слышался стук топора, треск поленьев, собачий лай, людской говор. Лишь, двор Шатровых поражал воображение мрачной тишиной: и темным домом с закрытыми ставнями. Дом смотрелся неприветливо и заброшенно, словно в нем уже давно не жили. Каиров подошел к калитке. Она оказалась запертой на внутренний замок. Мокрые доски давили толщиной, массивностью. В левом верхнем углу калитки чернела прорезь и просматривалось облезшее слово «почта». Дождь теперь падал редкими одинокими каплями. Каиров вынул блокнот. Написал: «Виктория Германовна! Мне нужно срочно поговорить с вами по очень важному делу. Весь вечер я буду ожидать вас у себя в гостинице. Мирзо». Он просунул записку в прорезь. Посмотрел по сторонам. Улица была пустынна. Однако у Каирова возникло ощущение, что кто-то наблюдает за ним. Дорога, как и вчера вечером, изгибалась по краю обрыва круто, длинно. Там за выступающей вперед, похожей на полуостров горой, начиналась другая улица, одна из центральных. И до нее был еще один путь, более короткий, понизу. Для этого узким проулком следовало спуститься к реке. Нижняя дорога была прямой, почти как линейка. Это хорошо было видно с того места, где стоял Каиров. Дождь мог вновь хлынуть каждую минуту. Поразмыслив, Каиров решил сократить путь. Проулок, весь в камнях и булыжниках, был похож на широкую трубу, зажатую с двух сторон кустарниками и деревьями, верхушки которых часто смыкались, заслоняли небо. Вода бежала вниз узким мутным ручейком, и Каиров постоянно смотрел под ноги, опасаясь поскользнуться. И все-таки ботинок скользнул по серому булыжнику, видом и размерами позволявшему рассчитывать на его устойчивость. Каиров потерял равновесие и, падая, ухватился за ветку орешника. В этот момент что-то просвистело над его головой. Лежа на боку, он увидел, как из ствола кряжистого дуба, росшего метрах в двух ниже по проулку, торчит нож, вздрагивая, словно железнодорожный рельс, по которому только что прошел поезд. Каиров резко повернулся. Увидел вверху на дороге темный силуэт человека, мелькнувший с быстротой вспышки. Поднявшись, Каиров вынул из дерева нож, предварительно обмотав его ручку носовым платком. Ручка была из старой кости. С каждой стороны по четыре медных клепки ромбовидной формы. Каиров посмотрел на часы. Стрелки показывали 6 часов 11 минут. Вверху проулка появились две женщины. Первая несла пустую плетеную корзинку. Когда они поравнялись с ним, Каиров спросил, не видели ли они мужчину в темном. Они отрицательно покачали головой. Каиров пошел вверх. Улица по-прежнему была пустынной. Но в глубине двора напротив играли дети. Они играли в прятки. Тонкий, немного плаксивый голос мальчишки выкрикивал!: «Раз, два, три, четыре, пять! Я иду искать!» Каиров вернулся к калитке дома Шатровых. Как и несколько минут назад, она была запертой. Приподнявшись на носки, Каиров перекинул руку через калитку, нащупал крышку почтового ящика. Открыл ее. Обшарил ящик пальцами. Записки там не было. ...Дождь вновь хлынул с лавинной силой. Но Каиров уже успел добраться до шашлычной «Перепутье». Там он выпил стакан вина, носившего звучное название «Сан-Ремо». Переговорил о чем-то с хозяином. Тот нашел ему извозчика. И Каиров уехал в гостиницу. Когда он проходил через холл, повстречал возле лестницы Сменина. В руках у того были чемодан и портфель. Сменин многозначительно сказал: — Прощайте. Да пусть не покинет вас удача. — Спасибо, — поблагодарил Каиров. Он пришел в свою комнату. Включил электричество, понял, что в его отсутствие кто-то здесь побывал. Уборщица? Едва ли. Она приходила утром, когда Каиров завтракал в буфете.Глава пятая
1
Машина гудела ровно. Виктория без напряжения держала темный, давно утративший блеск руль. Иногда оборачивалась на два-три мгновения в сторону Каирова, неопределенно улыбалась. Сырой рассвет клочкастым туманом поднимался из ущелий, заслоняясь от дороги кустами и ветками, еще глянцево черными, без полутонов, которыми были щедро помечены облака, выгнанные на сине-голубое пастбище. Неторопливо и равнодушно они пощипывали вершину горы, светлую и чуть позолоченную, похожую на спелую разломанную дыню. Между ущельем и дорогой по склону, окутанному в мягкую тень, высокими фундаментами ступали вверх домики под острыми драночными крышами, призывно заливался пастуший рожок, мычали волы. — Иногда мне хочется бросить все, — сказала Виктория, — уйти в горы. Стать женой пастуха. И жить до ста двадцати лет. — Не много ли? — В горах живут долго. — Что же мешает осуществить эту голубую мечту? — Разное. — Виктория прикрыла ресницы, притормаживая, потому что из-за каштана, росшего на крутом повороте скатывающейся вниз дороги, показалась телега с дровами, которую медленно тянули две лошади. — В том числе и такие товарищи, как ты. — Странный ответ... Виктория кивнула. Без грусти, без улыбки. Совершенно спокойно признавала странность ответа.Она вломилась в номер, чуть забрезжил рассвет. Энергичная, деловая. Глядела на заспанное лицо Каирова и не могла скрыть улыбки. — Извини, Мирзо, но твою записку я нашла только утром. Отец положил ее на мой письменный стол. А я вернулась вчера усталая как черт. И сразу завалилась в постель... Одевайся, я обожду тебя в холле. Поехали. — Понимаю, понимаю, — нудновато повторял он, несколько ошарашенный напором и стремительностью. Все-таки догадался спросить: — Куда поехали? — Какая разница! — беспечно ответила она. — Потом узнаешь. ...Дорога взбиралась на гору частыми петлями, очень красивыми издалека. Скалистая стена, что долго тянулась справа, вдруг начала уменьшаться. — Смотри внимательно, — сказала Виктория. — Мы въезжаем на перевал. Через минуту, Мирзо, увидишь море. Оно прыгнуло снизу. Зависло, как воздушный шар. Огромный. Серо-зеленоватый. Казалось, его можно достать, протянув руку. Линия берега не просматривалась. Ее прикрывали пологие вершины гор, бурой лесенкой спускающиеся к морю. Белые черточки кораблей были разбросаны, как блики. Над тремя из них вились неширокие черные дымки. — Останови машину, — попросил Каиров. Она выполнила его просьбу, повернулась, прислонившись плечом к желтой коже сиденья. Он взял ладонями ее лицо и крепко поцеловал в губы. — Сумасшедший! — тихо удивилась она. Он кивнул. Она сказала: — Я прощаю тебя. Похоже, ты никогда раньше не видел моря. — С такой высоты — да. — Тогда все понятно. — Она убрала тормоз. Дорога медленно поползла навстречу. Плохая, никогда не знавшая асфальта дорога.
2
Она дала сигналы: два коротких и один длинный. Железные ворота, непроницаемые, как сундук, распахнулись перед машиной. Неторопливо. Вначале правая половина, затем левая. Дорожка от ворот, на которую они выехали, не была выложена камнями. Редкая, невысокая трава росла между неглубокими колеями, заметными в сухой глине. Старик, отворивший ворота, был совершенно лыс, пышные седоватые усы казались приклеенными к его сухому маленькому лицу. Сощурившись, он стоял почти по стойке «смирно», неподвижно глядя на Викторию, всем своим видом выражая почтительный испуг. Огромные платаны, росшие по саду, бросали вокруг себя плотную тень. И Каиров почувствовал, что воздух здесь, конечно, более влажный, чем на дороге. Где-то рядом журчала вода. Впереди за деревьями белела глухая стена каменного дома. — Ну! — Виктория уже вышла из машины и стояла перед стариком, чуть расставив ноги, руки на бедрах, как однажды у себя в мастерской. — С благополучным прибытием, — очень четко, по-военному приветствовал старик. — Готовь завтрак. И поплотнее! — Виктория кивнула Каирову, дескать, можно выходить. Когда он вышел, старик перестал жмуриться. Смотрел острыми, холодными глазами. — Это мой друг, — сказала Виктория. — Зовут его Мирзо. Он большой начальник. — Здравствуйте, товарищ начальник, — приосанился старик. — Здравствуй, дорогой, — ответил Каиров. И пошел вслед за Викторией. Она шла широко, по-хозяйски оглядывая сад. Остановилась возле бассейна, выложенного камнем и похожего на серп молодой луны. Присела, попробовала рукой воду. Вода катилась по керамическому желобу. От ключа, который был тут же в саду, но немного выше. — Хороша, — сказала Виктория, тряхнув мокрыми пальцами. — Холодная? — В самый раз. Я умываюсь здесь, когда бывает очень жарко. За бассейном была площадка. На площадку спускалась деревянная лестница, старая, ведущая на широкую террасу, увитую мелкими дикими розами, ярко-красными и белыми. — Куда мы попали? — спросил Каиров. — На мою дачу. — А старик? — Он ухаживает за садом. Впрочем, больше бездельничает, чем ухаживает. Он живет здесь на первом этаже, рядом с кухней. Он и его старуха. В прошлом это был дом моего деда. Они всегда служили у деда. — Почему ты назвала меня большим начальником? Она посмотрела на Каирова с вызовом. Смешливые глаза ее сузились и удлинились, а лицо на секунду застыло, словно не лицо, а маска. Потом она тряхнула головой, повела плечами. Оранжевая блузка натянулась, обозначив выпуклость груди. Дрогнула жилка на длинной шее. Виктория сказала: — Хафизу девяносто лет. Жизнь была к нему строгой. И он твердо уверовал — хорошим человеком может быть только начальник... Нам нужно подняться по лестнице. Она держалась рукой за перила, нетерпеливо постукивала крашеным ногтем о старое, вымытое дождями дерево. Каиров пошел. Ступеньки под ним не скрипели, а вздыхали. Когда поднялся на террасу, посмотрел назад. Думал, что Виктория так и осталась внизу. Нет. Она стояла рядом. Значит, у нее был неслышный, мягкий шаг. Немного театрально она показала рукой на дверь. Сказала: — Милости прошу. Каиров прошел в дом. Темноватая прихожая, просторная и пустая, встретила его запахами лака и краски. Двустворчатая дверь, в верхней половине своей застекленная, была распахнута, утро голубело на толстых ромбовидных стеклах, оправленных позеленевшей медью. За прихожей открывалась длинная комната с тремя широкими незанавешенными окнами. На противоположной стене и в простенках между окнами висели картины. Это были полотна, расписанные маслом, натянутые на подрамники. Видимо, они принадлежали кисти одного автора, и автор этот был пейзажистом. Каиров увидел перевал и дорогу, по которой они толькочто ехали, ишака и арбу возле дома, глубокое ущелье, тонущее в облаках вершины гор... — Это работы моего покойного дедушки. Есть решение местных властей организовать здесь Дом-музей... — Виктория задумалась, потом сказала: — Тогда я распрощаюсь со своей мастерской. И стану смотрителем. Буду выписывать из Ростова книги по искусству, ждать почтальона, комнаты в доме станут называться залами, и я буду водить по дому экскурсантов. Рассказывать им о прекрасном, вечном. — Она тряхнула головой, словно избавляясь от наваждения: — Нет-нет... Это случится позже. Не сегодня... Она мягко повернулась на каблуках, пошла в другой конец комнаты, где за портьерой оказалась узкая дверь. «О чем все-таки она думает сейчас? — размышлял Каиров, следуя за Викторией. — Не для того же она везла меня в такую даль, чтобы показать картины своего дедушки. Она что-то знает, или догадывается, или просто демонстрирует женский характер. Может, умнее было бы с моей стороны прикинуться больным и отказаться от поездки... Такие вещи трудно предусмотреть заранее». Виктория обернулась, губы ее чуть вздрогнули, она смотрела так, словно просила прощения. Браунинг лежал в заднем кармане брюк. Каиров отодвинул полу пиджака. Виктория угадала жест. — Нет-нет! — Глаза ее затуманились, как холодные ущелья. — Здесь ты в безопасности. Каиров почувствовал, что у него пересохло во рту, а язык стал шершавым, неспособным произносить слова. Она протянула ему руку и нырнула между портьерами. Плюш коснулся его лица, обдал застарелой пылью. Дверь взвизгнула сипло, голосом прокуренным, недовольным. «Простоват я для такой работы», — подумал Каиров, ступая в яркий свет...3
Салтыков уснул поздно. Проспал часа три. Проснулся с ощущением, будто что-то разбудило его. За окнами, неплотно прикрытыми занавесками, угадывался ранний рассвет. Стекла блестели темно, серо, словно смоченный водой асфальт. В комнате было тихо и душно. Салтыков встал с кровати и пошел к окну, чтобы распахнуть раму или форточку. Ковер на полу лежал мягкий, пушистый. Награжден им был Салтыков к празднику Первого мая, как было сказано в приказе: «За хорошую работу и успешные результаты по ликвидации преступного мира». Будучи холостяком, Салтыков не стал вешать ковер на стену, чтобы не увязнуть в болоте мещанства, а бросил на пол. И с удовольствием ходил по нему босиком. Не дойдя до окна двух-трех метров, Салтыков услышал скрип половиц под чьими-то осторожными шагами. Салтыков мгновенно обернулся... Нет. Скрип проникал в комнату из-за окна. Не прикасаясь к занавеске и стараясь оказаться на таком расстоянии от стекла, чтобы его не увидели с улицы, он вгляделся в окно. Просматривалась часть двора, одичалые кусты самшита, дорожка между ними, угол дома, за которым тянулись сараи с покосившимися дверями, крыльцо с тремя прогнившими ступенями. На крыльце, переминаясь с ноги на ногу, курил владелец шашлычной «Перепутье» Лаидзе. Салтыков подошел к столу, где рядом с тарелками стоял телефон. Снял трубку. Вздохнул. Все ясно: телефон не работал. Повернув ключ в замке, Салтыков распахнул дверь. Сказал: — Привет, Зураб! Чего сторожишь меня? Жулье не станет брать комнату начугро. В городе дома и побогаче есть. — Про ковер забыл, — бодро ответил Зураб, затянулся папиросой, бросил на тропинку. — Что случилось? — спросил Салтыков, закрывая за ним дверь. — Телефон у тебя не работает. — Я им сегодня скандал устрою! — пообещал горячо Салтыков. Зураб махнул рукой: — Им не скандал нужен, ты аппаратуру им новую устрой. — Для этого другие люди есть! — недовольно возразил Салтыков. — Что у тебя? — Увела она его прямо из-под самого моего носа. Посадила в машину и покатила в сторону перевала. — Скорее всего, в дом своего деда. Она часто туда ездит. Надо бы дозвониться в местное отделение. — Пробуют ребята... Но это не все. В час ночи неизвестный гражданин позвонил дежурному и предупредил, что в гостинице «Эльбрус» проживает член тайной монархической организации офицеров Мирзо Иванович Каиров, прибывший в город с террористической целью. Салтыков взял кружку, нацедил из чайника воды. Отхлебнул и только после этого сказал: — Ясно. Каиров мешает Дантисту. Вчерашняя попытка убийства оказалась неудачной. Тогда Дантист решил сдать Каирова нам. Отсюда вывод — сегодняшняя поездка на перевал не угрожает жизни Каирова. Тогда бы не было звонка. Зураб возразил: — Звонок может быть обыкновенной страховкой. Если не ухлопают его по дороге, тогда пусть берут власти...4
Глядя пристально и твердо, Каиров процитировал: — Вечером Филарет играл на рояле Шопена. Однако из него такой же музыкант, как из Разумовского дантист. Виктория не сразу вспомнила строки своего письма. Нет, текст был ей знаком. Но то, что именно эти слова она писала в письме к Валентину, сразу не пришло ей в голову. Она подняла на Каирова синие глаза, сказала как бы из вежливости: — Продолжайте. — Я запомнил только это. Писем было много. Целая пачка. — Продолжайте, — повторила она теперь уже дрогнувшим голосом. — Почему Разумовский получил кличку Дантист? — Ах вот что, — сказала она почти равнодушно, посмотрела в свою тарелку, взяла стебелек кинзы, вертела его между пальцами. Каиров понимал: равнодушие дается ей нелегко, и сейчас она стремительно размышляет, что отвечать и как вести себя дальше. — Разумовский, будучи юношей, провел несколько лет с родителями в Индии. — Виктория говорила медленно, отделяя слово от слова короткими, но подчеркнутыми паузами. Так учительница читает в школе диктант. — В Петербурге Разумовский утверждал, что один индус, бродячий лекарь, научил его удалять зубы пальцами, причем без боли и без крови. Однажды на пикнике у одного из членов нашей компании обломился зуб, и Разумовскому представилась возможность продемонстрировать свое умение. Однако он оплошал. С тех пор за ним утвердилось шутливое прозвище Дантист. — Расскажите мне о нем подробнее. — Нет! — Виктория вновь подняла глаза на Каирова, взгляд ее был усталым, опустошенным. — Я мало его знала. Одно время перед войной он часто приходил к нам на Фонтанку. Но Валентину это не нравилось. Он ревновал меня к Разумовскому. Он вообще был ревнивым... Какое-то время они служили вместе. Потом Разумовский бежал вместе с Врангелем... Остальное вам известно лучше, чем мне. «Странно, — думал Каиров. — Значит, она полагает, что я бежал вместе с Врангелем. Как же я оказался здесь? С какой целью? С целью следить за Разумовским? Она считает, что нас послали сюда одни и те же люди...» Виктория сказала: — Вы знали моего мужа? Как он погиб? Каиров вынул из бумажника письмо денщика Василия, передал Виктории.«...Я поклялся на кресте, что найду его вещи. Они спрятаны в подвале гостиницы, за лестницей. Вещи в деревянном ящике с тремя сургучными печатями. Ценности громадной, даже нельзя сказать какой. Про них знал полковник Ованесов, но он мертвый уже как месяц. Знал еще Дантист. Очень опасный человек. Кратов сказал мне, что Дантист убил его и Ованесова из-за этого ящика...»По мере того как Виктория читала письмо, лицо ее белело. Застекленная веранда выгнулась вокруг них подковообразным фонарем. Несколько створок было распахнуто, и прохладный, пахнущий каштанами воздух врывался из сада, подталкиваемый ветром. — Письмо не окончено, — глухо сказала Виктория. — Дантист убил денщика Василия. — Он убьет и вас. — Если вы мне поможете, этого не произойдет. Виктория закурила. Вспомнила: — Ованесов был веселым человеком. Зачем вы сразу выложили мне, что дружили с ним? — Хотел довести этот почетный факт до вашего сведения. — Я так и поняла... — Она вздохнула тяжело, закрыла лицо ладонью, может, не хотела, чтобы он видел ее слезы. Он не увидел. Когда Виктория отняла ладонь, лицо ее было сухим и суровым. — Я помогу вам, — сказала опа. Еще четверть часа назад они были на «ты». — Спасибо. Она поморщилась: — Пустое. Наша поездка предпринята с этой целью. После того как отец попросил меня показать вас, я поняла, что вам грозит опасность. — Зачем я вашему отцу? — удивился Каиров. — Нет. Ему вы но нужны. Об этом просил Дантист. Его интересовало, не встречал ли вас отец в девятнадцатом году, когда в гостинице стоял штаб дивизии... Помните, вы провожали меня из «Эльдорадо»? Мы поднялись на террасу. И вспыхнул свет. Я сказала: «Это я, папа. Погаси, пожалуйста, свет». — Помню, — ответил Каиров. — Отец тогда рассмотрел вас. Он сказал Дантисту, что никогда не встречался с вами прежде. — Интересно. Откуда же мне грозит опасность? — Боже! До чего же ты глупый! — Виктория с отчаянием посмотрела на Каирова: — Разумовский уверен, что тебя прислали следить за ним. Он боится тебя. Боится! — Ему не следовало убивать завхоза. — Это он? — испуганно спросила она. — Я так и догадывалась. Но молчала. — Убийство завхоза осложнило проведение операции. Совершенно ясно, что ведется расследование. — Да, ведется. Отец рассказывал. Милиция склонна верить, что убийство совершено на почве ревности. — «Склонна верить»... Это еще не доказательство. — Конечно, — согласилась она. — Я не знаю планов Дантиста. Но думаю, что если денщик пишет правду и в ящике ценности, а не секретные списки организации, то с ценностями Дантист не расстанется. Кровь будет пролита. — Он говорит о списках? — Да. Но отец не верит. Документы такого характера в случае острой нужды сжигают. «Безусловно, — размышлял Каиров, — она считает, что мне известна фамилия Дантиста, под которой он находится в Северокавказске. Сменин или Кузнецов? Скорее всего, кто-то из них двоих... Вот же черт! Напрямую спрашивать опасно. Вдруг замкнется, насторожится». — Мирзо, ты прости меня! Я думала, мы поживем здесь в тишине два-три дня, а потом я отвезу тебя на разъезд. И ты уедешь... куда глаза глядят... Захочешь найти меня, напишешь. Я такая дура, что готова поехать за тобой на край света. — Почему же дура? — Не будем! — Она тряхнула головой, не желая слушать никаких возражений. — Понимаешь, я хотела переждать... Уйти в сторону. Но... после всего того, что я узнала из письма денщика, планы мои переменились. Я отвезу тебя на разъезд сегодня же, сейчас, а сама вернусь в Северокавказск. Дантист должен расплатиться за все. — Он и так расплатится! — заверил Каиров. — У него паршивые документы. — Да, — согласилась она. Досадливо сказала: — Это надо же быть таким идиотом, чтобы выдавать себя за кинооператора, не умея держать в руках даже фотоаппарата.
5
Похоже, в конце улицы справляли свадьбу. Молодые парни — черкесы — танцевали, образовав круг от забора до забора. А баянист, свесив чуб на потный загорелый лоб, играл весело и быстро-быстро... Переспелые ягоды черной шелковицы падали, разбивались о землю, оставляя следы, похожие на чернильные кляксы. Небо над деревьями уже синело. Приближался вечер. Каиров шел в угро к Салтыкову. Открыто, не таясь. Потому что дело было сделано. Личность Дантиста установлена. Остальное — все, что предстояло, — относилось к категории ловкости и профессионального умения. Безусловно, преступника следовало взять, не привлекая общественного внимания. Виктория умоляла его ехать к разъезду. Каиров не открылся ей. Он лишь сказал, что чувство долга повелевает ему вернуться в Северокавказск. Она посмотрела на него пристально-пристально. И сделала вывод, что он настоящий мужчина. Тогда он подумал и поделился опасением: — За мной ведь тоже могут следить. Кто такой Сменин? Она успокоила: — Не волнуйся, я знаю его много лет. Он спекулирует медикаментами. Рано или поздно его посадят. Он согласен, что заслуживает наказания. И даже уверяет, что однажды придет в прокуратуру с повинной... Дежурный милиционер, увидев на удостоверении слово Донугро, уважительно взял под козырек. На лице Салтыкова Каиров не обнаружил удивления. Оно было настолько озабоченно, что Каиров на какой-то момент решил: начальник угро не узнает его. — Товарищ Салтыков, я чувствую, что у вас опять изжога. И все равно приглашаю в шашлычную «Перепутье», чтобы отметить мой отъезд. И нашу общую удачу... — Удачу? — спросил Салтыков тоскливо. — Совершенно верно, — ответил Каиров. — Ты не ослышался... Давай пару человек. И через час в этих стенах ты увидишь Дантиста. — Кто он? — Кинооператор Кузнецов. — Да? — виновато заморгал Салтыков. — Так я и думал. — Салтыков приподнялся на носках. Достал патрон лампочки и повернул на нем белую головку выключателя. Лампочка загорелась. Салтыков хмуро сказал: — Кузнецов убит. По мнению врача, убийство произошло вчера между семью и девятью часами вечера. Труп обнаружен сегодня в половине одиннадцатого дня около кладок, за мельницей.6
Виктория опознала труп. Морг был в подвале, с толстыми каменными стенами, на которых виднелись ржавые потеки и серые пятна плесени. Салтыков зажал в кулаке пузырек с нашатырным спиртом. Но спирт Виктории не потребовался. Она держалась сурово и спокойно. Взглянула на тело мельком, без сожаления. Сказала: — Я знала этого человека до революции под фамилией Разумовский. В настоящее время он носил фамилию Кузнецов. — Когда вы видели его в последний раз? — Вчера. Вечером он попросил довезти его до кустарной мельницы. Ну той, что около кладок. — Зачем? — У него там было деловое свидание. — С кем? — Я не спрашивала. — Виктория повернулась и пошла к выходу. — Одну минуточку, — сказал Салтыков. — А какие отношения были у вас с убитым? — Он за мной ухаживал, — ответила она, не останавливаясь. У дверей добавила: — Естественно, когда был живым.7
Телеграмма:«Д о н у г р о — К а и р о в у Фотографию потира опознал владелец ювелирного магазина Перельман. Около года назад подобный потир просил оценить неизвестный мужчина. Перельман сказал, что поскольку не торгует антиквариатом, то может оценить лишь стоимость золота и драгоценных камней. По предложенной цене одна тысяча двести рублей неизвестный продать потир отказался. Предъявленную фотографию И. Н. Строкина владелец магазина не опознал. Сообщаю приметы неизвестного. Возраст — на вид 60 лет. Тип лица европейский. Рост высокий. Телосложение атлетическое. Жестикуляция указательная. Осанка прямая, голова откинута назад. Волосы седые. Мимика развитая. При разговоре часто закусывает губу, поднимает брови. Голос — средний дискант, чистый. Особые приметы: короткие усы по форме кисточкой, узкая, клинообразная борода. Носит пенсне. Напоминаю, особые приметы совпадают с показаниями И. Н. Строкина от 14 августа 1926 г. (с. 11). Нельзя исключать, что неизвестный подвергся бандитскому нападению со стороны И. Н. Строкина. Поскольку заявления об ограблении не поступало, можно предполагать два варианта: 1. Неизвестный ограблен и убит; 2. Неизвестный имеет основания не сообщать об ограблении. Прошу уделить особое внимание вдове есаула Кратова В. Г. Шатровой.Б о р о в и ц к и й».
8
В бурой темноте вздорно заголосил петух. Крик резанул ночь наискось, утонул в шуме реки. Молодая луна высвечивала булыжную мостовую и створки распахнутого окна. — Я никогда не надеялась, что беды будут обходить меня, — задумчиво произнесла Виктория. — Я самоуверенно полагала, что могу обойти их сама. — Об этом не стоит жалеть, — ответил Каиров. Виктория перехватила его взгляд, усмехнулась досадно: — Я не жалею... Я не понимаю. Наконец, я не верю в то, что человек беспомощен перед судьбой. — Человек не живот сам по себе. Ему не дают это делать другие, — с нарочитой бесшабашностью пояснил Каиров. — Потому что он слаб, — повернулась к нему Виктория. — Слабый человек, сильный человек — это, конечно, разные понятия. Но и тот и другой способен проявить себя лишь в определенных обстоятельствах. Обстоятельства же редко зависят от нас. Их рождают причины. А наше желание — всего лишь одна из причин. Промелькнула за окном пролетка. Белые кони несли ее галопом. Шуршание шин и стук копыт были такими громкими, что заглушали голос реки. Река затихла, будто прислушивалась. — Это все понятно, — сдавленным голосом ответила Виктория. Она злилась. — Это все плавает на поверхности, как дважды два — четыре. А если дважды два — пять? Ты понимаешь меня, Мирзо? Мирзо не понимал. — На тебе грузом лежит твое дворянское прошлое, — пояснил он. — Ты хочешь смотреть на жизнь со стороны, а не чувствовать себя в ее гуще. Она поглядела на него с любопытством. Отвернулась, ничего не сказав. Он также отвернулся, подставив лицо скупому свету настольной лампы. Закончил мысль, возможно убеждая самого себя: — Сколько два на два ни умножай, пять не получится. — Все может получиться, Мирзо! — упрямо ответила она. — Понимаешь, все-все... — Что ты говоришь?! — Каиров даже покраснел от возмущения. — Жизнь, она все-таки круглая, как мячик. Каиров прищурил глаза. Перечеркнул лицо соединившимися у переносицы черточками. — Это женская логика круглая, как мячик. А жизнь, она формы не имеет. Она от земли до земли. — Рок смерти! — вскочила Виктория. Прошла через комнату. Остановилась у зеркала. Поправила в мерцающей хрустальной вазе цветы, которые Каиров принес ей в подарок. Обернулась: — И мы ходим под ним по земле, точно приговоренные. — Я понимаю, — сказал устало Каиров, — это звучит пугающе. Но ведь поделать ничего нельзя. Она вернулась на диван. Взяла его ладонь в свои ладони. Смотрела мудро и нежно, будто он был маленький-маленький мальчик. — Говори, говори! — попросил он. — Если поделать ничего нельзя, тогда и ничего нельзя требовать. Ни порядочности, ни преданности, ни верности, ни милости. Тогда отца не за что судить. Какая разница, где лежали эти ценности — в Эрмитаже или в тумбе письменного стола? — Ценности — факт государственного хищения, — возразил Каиров. — Похищены они были не у Советского государства, а у проклятого, загнивающего... Что касается Разумовского... Этот профессиональный убийца заслуживал смерти при любом строе... — Но меня тоже хотели убить, — напомнил Каиров. — Вот сейчас мы подошли к главному! — обрадовалась она. — Случайно в тебя не попали, промахнулись. То есть прилагали силы, имели желание... Не получилось. А человек ты хороший. И хочешь жить. — Хочу, — сознался Каиров. — Тем более... Значит, ты предпринимал и будешь предпринимать определенные действия, чтобы сохранить свою жизнь. — Не только свою. — В силу профессии. То же самое делает врач. И ты, и он вмешиваетесь в рок, при этом иногда одерживая победы. Кстати, победы очевидные. Ликвидирована банда, ликвидирована холера... Но подумай, а разве дровосек не влияет на факт существования человека, обеспечивая его теплом, крестьянин хлебом, портной одеждой?.. И так далее. Поэтому если рок и есть, то ему с человеком тоже нелегко приходится... Ты прости меня за долгие и нудные рассуждения, но я уверена, что нас с тобой разделяет не стена, а стеночка. И через нее можно перешагнуть...9
Из служебной записки Каирова:«...23 июня, в четверг, в 19 часов 20 минут, нами был задержан гражданин Шатров Герман Петрович, чьи приметы совпадали с последней телефонограммой Донугро задержание произошло в шашлычной «Перепутье», куда он по нашей просьбе был приглашен своей дочерью гражданкой Шатровой В. Г. Узнав о способе убийства Разумовского — Кузнецова, гр. Шатрова опознала нож, которым он был убит, а также опознала нож, который 17 июня бросали в меня. Она сказала, что ее отец, гр. Шатров, уж много лет занимается метанием ножей, для чего в подвал дома по ул. Луначарского оборудован специальный тир. Обыск в доме гр. Шатрова подтвердил наличие тира ножей, но никаких других улик обнаружено не было. На вопрос, почему не было заявления об ограблении 1926 году, гр. Шатров ответил, что его никогда не грабили Тогда я сказал, что потир у нас и нам все известно о убийстве поручика Шавло. После этого гр. Шатров заволновался. Нам стало ясно, что мы на правильном пути. Высокую сознательность и гражданский долг, несмотря на свое буржуазное происхождение, проявила гр. Шатрова В. Г. Она предположила, что сокровища нужно искать на даче в тумбе письменного стола, ключ от которого постоянно хранится у гр. Шатрова Г. П. Предположение гр. Шатровой В. Г. оказалось правильным. В тумбе стола действительно обнаружили предмет художественной ценности. После чего гр. Шатров Г. П. дал показания. Он подтвердил, что ему удалось подменить содержимое ящика, когда его зять есаул Кратов вместе со своим друзьями, в числе которых был и Разумовский, квартировал у него несколько дней в июле 1919 года. Он утверждает, что не знает, была ли это группа заговорщиков или каких-либо других контрреволюционеров, но предполагает, что все эти люди составляли какую-то единую группу, люто ненавидящую рабоче-крестьянскую власть. Гр. Шатров Г. П. утверждает, что не знал, в каком месте впоследствии был спрятан ящик, но догадывался что это где-то в гостинице или возле нее. Он также утверждает, будто не знал поручика Шавло. А в Петрограде находился лишь несколько дней у дочери, возвращаясь из госпиталя. Гр. Шатров Г. П. подтверждает факт ограбления его в 1926 году, 11 июля, в г. Ростове-на-Дону, близ школы для взрослых им. Профинтерна. Во время ограбления у него был изъят золотой потир и 87 руб. денег. Гр. Шатров Г. П. утверждает, что со слов Разумовского знал: документы на имя Кузнецова Разумовский достал в Ростове и предупредил, что не может ими долго пользоваться. По мнению гр. Шатрова Г. П., завхоз гостиницы «Эльбрус» Попов убит Разумовским. В воскресенье 29 мая Разумовский пришел к Шатрову обеспокоенный. Он попросил в случае необходимости подтвердить его алиби в ночь на 29 мая. Больше ничего по этому вопросу гр. Шатров Г. П. сообщить не может. Поскольку при осмотре вещей Разумовского обнаружены золотые карманные часы, принадлежащие фотографу А. Попову, и конверт, подписанный Ф. Глотовым, можно, без сомнения, считать, что и А. Попов, и Ф. Глотов убиты Разумовским. Однако труп Ф. Глотова до сих пор обнаружить не удалось. Гр. Шатров признал за собой факт убийства Разумовского — Кузнецова и попытку покушения на меня. Вместе с тем он заявил, что считает Разумовского агентом иностранной разведки, каковым считал и меня. «В данном случае, опасаясь шантажа, я руководствовался политическими мотивами, по-своему защищая существующий строй, — сказал Шатров. — Больше ничего я вам говорить не намерен. Следствие по делам иностранных агентов, — заявил далее Шатров, — не входит в компетенцию уголовного розыска». Со своей стороны полагаю, что убийство Разумовского — Кузнецова гр. Шатров Г. П. совершил из опасения, что, обнаружив в ящике подмену, Разумовский заподозрит в этом его, со всеми вытекающими последствиями. Покушение на меня, по всей вероятности, было совершено потому, что и Разумовский — Кузнецов, и Шатров Г. П. считали, будто я прислан из-за рубежа контролировать действия Разумовского — Кузнецова».
10
Первым номером трамвая можно было за двенадцать копеек доехать от вокзала до Нахичеванского депо. Утро, сухое, душное, надвигалось на город. Звезды быстро блекли и таяли в светлеющем небе. Громко-громко в тишине еще спящих улиц кричали галки. «Донвескровать» крупными буквами заявляло о производстве весов и кроватей. Товарищество «Новый путь» приглашало всех желающих в парикмахерские. На тыльной стене кирпичного здания возле булочной Каиров увидел номер своего телефона. Первой строчкой сообщалось, что «скорая помощь» вызывается без номера, потом шли телефоны на случай пожара и обвала дома. Четвертая строка напоминала:«При налетах, убийствах, грабежах — тел. 50».
ПОСЛЕДНЯЯ ЗАСАДА

Земля лежала под инеем, тонким и чуточку сизым от хмурого рассветного неба, нависшего над горами. Дорога белесой лентой разматывалась вдоль склона, по которому вниз, к оврагу, сбегали каштаны с широкими безлистыми кронами, тоже прихваченные инеем, но не такие светлые, как дорога. Впереди на взгорке маячило подворье. И дым валил из трубы, пригибаемый ветром к длинной, одетой в железо крыше. Четверо бойцов красного кавалерийского эскадрона — Иван Поддувайло, Семен Лобачев, Борис Кнут, Иван Беспризорный — ехали на лошадях и вели негромкий разговор. — Это тот дом, — сказал Поддувайло. Он был старшим группы. — Здесь окрест километров на пятнадцать другого жилья нету. Нужно заслонить егерю путь к югу. Пужнуть его выстрелом в случае чего... — Верно, — согласился Кнут. — Если он смоется в заповедник, тогда амбец. Тогда можно разматывать портянки и сушить их на солнышке. — Почему? — пробурчал Лобачев. — Потому, что Северокавказский заповедник он знает лучше, чем ты свои грабли. — Некультурное сравнение, — вмешался Беспризорный. — Огрубел ты, Борис. Можно сказать, знает лучше, чем ты свои пять пальцев. — Это тебе для стихотворений культурные сравнения нужны. А жизнь на них плевать хотела. Она со всякими дружит — и с культурными, и с бескультурными. — Прекратите чепуху молоть! — строго сказал Поддувайло. — Слухайте приказание. Красноармейцы Лобачев и Кнут, ступайте в овраг и как можно швыдче выходите вон к тому карьеру. Ясно? Мы с Беспризорным пойдем прямо в хату... — Опасно, — заметил Лобачев. — Все равно вражину брать нужно. Прикрывайте. Борис Кнут и Семен Лобачев слезли с лошадей. Было раннее-раннее утро. Дул резкий ветер. Тучи, лохматые и седые, лениво надкусывали горы. И горы стояли без вершин, словно люди без шапок. И тишина была белой и немного сладкой от запаха прелых листьев. Опустив морду, лошади с большой осторожностью ступали по скользким листьям, под которыми дремал овраг. И голые прутья кустарников мокро хлестали их по ногам и по крупам. — Как ты думаешь, Семен, — спросил Боря Кнут, — у этого старого паршивца самогон есть? — Заботы у тебя несерьезные, — ответил Лобачев укоризненно. Боря Кнут не смутился. И не без хвастовства заявил: — Я и сам несерьезный. Таким меня папа с мамой сладили. — Среди людей живешь. — Люди разные встречаются... Человек, он, понимаешь, Семен, как арбуз. Его же насквозь не видно. Это только в бутылке все ясно и прозрачно. — Болтун ты, Борис... Уж лучше что-нибудь про любовь бы рассказал, про женское сердце... — У кого что болит, тот про то и говорит, — усмехнулся Боря Кнут. — Относительно Марии сомневаешься. А ты плюнь на сомнения. К сердцу прислушайся. Там и ответ найдешь. Тем более не спец я по женской части. Женщины любят красивых и серьезных. Овраг круто уходил вверх. Узкие камни лежали один на другом долгими желтыми пластами. — Нам здесь не выбраться с лошадьми, — сказал Боря Кнут. — Лошадей привяжем в овраге. Им тут спокойней будет и безопасней. Вдруг тот псих стрелять начнет. Он птица непростая. Связным в банде Козякова был... Семен Лобачев вздохнул: — Места, конечно, необжитые. И даже жуткие. — В том-то и заковырка. Как сказал бы Поддувайло: «Я тебе бачу, а ты мене ни». Может, старый черт нас давно на мушке держит. И наши молодые жизни от его фантазии зависят. ...Привязав лошадей, они выбрались наверх и, пригнувшись, пошли прямиком к карьеру. Дом егеря Воронина был отсюда на расстоянии полусотни метров. И они хорошо видели, как Иван Беспризорный, вскинув винтовку, присел за забором, а Поддувайло поднялся на крыльцо. Он недолго стучал в дверь. Ему открыла женщина в ярком сине-красном переднике. Он что-то сказал ей, а потом они скрылись в доме. Вскоре в дом пошел Иван Беспризорный. Было впечатление, что Поддувайло позвал его, выглянув в окно. Семен забеспокоился: — Может, нечисто там! И помощь наша требуется! — Не дети они. Знак дадут. Криком или выстрелом. — Знака нет — все спокойно. Так я понимаю? — Правильно понимаешь, Семен. Кажется, старый хрен без боя сдался. Или дурака валяет, овечкой прикидывается. — Закурим? — Не грех. Они не успели закурить. Из дома егеря Воронина вышел Поддувайло. Позвал их. — Взяли? — спросил Кнут. Поддувайло покачал головой: — Утек. Старуха, значит, жена евонная, бачила, что в ночь он подался. Собрал жратвы, ружье, патронташ... — Да, — подтвердила старуха, — собрался как для большого обхода. Только сказал: не жди, а поспешай к дочке в Курганную. Она произносила слова без страха, но как-то злобно, словно едва сдерживала себя. — Складно очень говоришь, мать, — прищурился Боря Кнут. — Точно молитву читаешь. А я скажу: обыскать прежде дом следует. Все закоулки, погреба, кладовки проверить. Лицо у старухи не дрогнуло и взгляд не потускнел. Она продолжала говорить быстро. И все так же — с ожесточением. Точно избавлялась от тяжести. — Воля ваша! Господь свидетель, правду сказываю! И утруждать себя обыском вам не нужно. Сама покажу. Склад тута есть. С оружием и припасами. На банду мой хозяин работал, чтоб ему, царица небесная, пути не было! Помогите мне горку сдвинуть. Горка с посудой стояла в первой большой комнате, которая могла считаться и прихожей, и гостиной, и столовой, и залой. Из этой комнаты вправо и влево вели по две двери. Таким образом, в доме имелось пять комнат. В одной из них, где нежно пахло хорошими духами, Кнут увидел на смятой постели иностранную книгу. И очень удивился, хотя и не понял, на каком языке она написана. — Чья? — спросил он. — Кто у вас в доме по-буржуазному читает? — Анастасия. — Родственница? — Сам-то велел называть ее племянницей. Только мы в родстве с полковником Козяковым не состоим. Дочкой она ему доводится, — ответила старуха. — Где же теперь прячется эта Анастасия? — Ушла. — Хозяйка посмотрела на Борю так, что у него мурашки на спине выступили. Боря винтовку крепче сжал. Семену Лобачеву шепнул: — Ты выдь, посиди возле дома. А то вдруг нас здесь, как котят, передавят. Сомневаюсь, что старый черт далеко смылся. А в это время Поддувайло и Беспризорный возились с горкой. Она была вделана в пол. Закреплена, видимо, на винтах. И хотя трещала, но не двигалась. — Под горкой лаз в погреб, — словно шипя, говорила старуха. — Он меня выгонял, как собаку, ежели туда спускался. Ну да окна в доме есть. — Секрет тут какой-то, — сказал Беспризорный. — Полки пробуйте. В полках хитрость, — подсказала хозяйка. Тогда Поддувайло обратил внимание, что ребро левой полки, второй снизу, залапано и что на полке ничего не стоит. Он двинул полку ладонью, и весь левый нижний отсек пополз в стену. Из черной пасти погреба дохнуло сыростью. Старуха зажгла керосиновую лампу. Подала ее Ивану Поддувайло, который уже стоял на лестнице, спустившись в погреб больше чем наполовину. Пламя, изогнувшись, лизало стекло, и копоть убегала вверх длинной, расширяющейся книзу дорожкой. Иван принял лампу. Держа ее над головой, спустился в погреб. Вначале он молчал. Наверно, осматривался. Потом громко сказал: — Хлопцы! Под нами целое богатство. Боря Кнут крикнул: — Иван, я к тебе! Через несколько секунд он стоял рядом с Поддувайло в низком, но широком и длинном погребе. И считал вслух: — Три пулемета. Винтовок... Раз, два... Семнадцать, восемнадцать... Двадцать четыре винтовки. А это, конечно, гранаты. И в ящиках гранаты. — В ящиках патроны, — ответил Поддувайло, который успел сорвать крышку с одного ящика. Патроны лежали по пятнадцать штук в небольших коробках из промасленного картона. Поддувайло разорвал коробку, и патроны заблестели у него на ладони. — Девять ящиков — это много, — сказал Боря Кнут. — Это тебе не хулиганство. А настоящая контра... Я вот одного, Иван, не пойму. Ведь сейчас не восемнадцатый год и не двадцатый... Тридцать третий, можно сказать, свое оттопал. И вдруг саботаж. И бандиты, как грибы после дождя, повылазили. Ты, Иван, коммунист. Ты и сведи мне концы с концами... Поддувайло нахмурился, крякнул, бросил патроны в ящик. Сказал Кнуту: — Подойди поближе. Глянь, на каком языке написано. А эти гарные винтовки? Что их, на Кубани или в России сработали? Догадываешься, как они сюда попали? — Ясно. — То-то и оно... — И Поддувайло показал рукой на темную, обшитую дубом стену. Затем, повернувшись лицом к Борису, продолжал: — Зерно в этом. Но брось ты зерно на каменный шлях, и оно погибнет. А урони в огороде — оно поросль даст. Вот Кубань и оказалась огородом. Кулачья здесь было — хоть пруд пруди. И пришлась им коллективизация ножом к горлу! Конечно, шпионы разные воспользовались... А народ бандитов не поддержал. Вот они и лютуют... Поддувайло резко повернулся и зашагал к лестнице. Сказал: — Возьми лампу. ...Минут десять они держали военный совет. Обсуждали создавшуюся ситуацию, которая не была предусмотрена приказом. Стало ясно, что приказ был отдан наспех, когда кавалерийский эскадрон вышел на преследование банды Козякова. Командир взвода, уже сидя в седле, подозвал к себе Поддувайло и велел взять трех бойцов и отправиться за несколько десятков километров, чтобы задержать егеря Воронина. О том, что егеря может не быть дома, никто не подумал. Обнаруженный склад боеприпасов и оружия еще больше усложнил ситуацию. На четырех лошадях они никак не могли увезти все. С другой стороны, вполне можно было предположить, что бандиты очень рассчитывают на склад. И придут сюда. Это может случиться и завтра, и послезавтра... Но может случиться и сегодня, через час, через два. Или даже через несколько минут. Было принято решение, показавшееся самым разумным. Лошадей укрыть в конюшне егеря. Семену Лобачеву отправиться в штаб эскадрона. Трое же — Иван Поддувайло, Борис Кнут, Иван Беспризорный — останутся в доме егеря — в засаде. Семен Лобачев вскочил в седло... Поддувайло и Кнут снимали смазку с «максима», который они вытащили из погреба. Иван Беспризорный, наблюдатель, сидел у окна. Старуха сказала: — Сынки, я вам картошки наварю. И мука у меня есть. Оладьи пожарить можно. — Спасибо, товарищ мамаша, — ответил Поддувайло и поинтересовался: — Скажите, как вас зовут? — Матрена Степановна. — Спасибо вам, Матрена Степановна. Мы про ваше хорошее участие командирам доложим. Боря Кнут улыбнулся. Озорно спросил: — Нескромный вопрос. Я понимаю. Но чего это вы на своего дражайшего муженька зуб имеете? — А это уже наше между ним дело... Матрена Степановна ушла к печи. Некоторое время никто ничего не говорил. И только было слышно, как позвякивали детали пулемета да гремела конфорками хозяйка. Потом Кнут подмигнул Поддувайло, кивком головы указал на Беспризорного: — Опять Иван стихи пишет. Беспризорный положил карандаш на подоконник. Ответил: — Первую строчку придумал. «Жестокое слово «засада»...» — Верно, — согласился Кнут. — Слово такое, что кровью от него пахнет, как... Ищу культурное сравнение. Как из ствола порохом. — Слово обыкновенное, — отозвался Иван Беспризорный. — Только очень старое. Придет время, и оно умрет. — А разве слова умирают? — Конечно. Только не так легко, как люди. — А я не верю, — возразил Кнут. — Что их, чахотка поедает? — Время хуже чахотки. Вот пример. Ямщик — мертвое слово. Потому что нет на Руси ямщиков. Последний, может, уже полвека в земле лежит. — Значит, когда-нибудь и последняя засада будет?.. — Выходит, так. Боря Кнут лицом посветлел, точно небо на рассвете: — Братцы, кто знает: вдруг наша засада и есть самая последняя. — Все может быть... Гадать не время, — ответил Беспризорный, всматриваясь в окно, и с тревогой добавил: — Лобачев вернулся. Они услышали цокот копыт во дворе. А вот уже и Лобачев вбегает в комнату: — Бандиты! — Много? — Десятка три. В километре от оврага. Двигаются в нашем направлении. Поддувайло выпрямился. Руки ниже пояса. Пальцы в смазке. — Лобачев, мигом прячь лошадей в конюшню. Пулемет на чердак. Занимаем круговую оборону. Кнут — север. Беспризорный — восток. Лобачев — юг. Они двигаются с запада. Я встречу их пулеметом. Раньше меня никто огонь не открывает. Подойдут близко, встречайте гранатами. К бою, товарищи! Кнут, помоги мне втащить пулемет. Возможно, осторожность и не родная сестра победы. Но все равно они в близком родстве. И это понимают бандиты. И без нужды не рискуют. Они сосредоточились в овраге. Вперед выслали только одного. И он не шел, а трусил мелко, как побитая собака, точно чувствовал, что всадят ему сегодня промеж костей несколько граммов свинца. И жизнь кончится, и страх тоже... Он был совсем молодой. Может, шестнадцати лет, может, семнадцати... Чей-то кулацкий сынок... И вот он двигался к дому егеря Воронина с обрезом наперевес. И конечно, очень боялся. Он не упал, а плюхнулся на землю, когда раскрылась дверь и вышла Матрена Степановна. А потом, увидев старую женщину, он сообразил, что ему, казаку, не к лицу лежать перед ней на пузе, поднялся, подтянул штаны и крикнул: — Тетка! Хозяин дома? — Шоб тебя, проклятый, лешак побрал вместе с моим хозяином. Парень осмелел: — Тетка! А ты одна? — Отвяжись, окаянный... Нешто в мои годы полюбовников приваживать? — Эй! — закричал парень, повернувшись лицом к оврагу, и замахал над головой рукой. Из оврага стали выбираться бандиты — и конные, и пешие. Гурьбой, наперегонки устремились к дому, силясь опередить друг друга, чтобы разжиться жратвой. Иван Поддувайло очень удивился этому. Он не знал, что кавалерийский эскадрон жестоко потрепал бандитов. И преследует их буквально по пятам, что полковник Козяков уже несколько часов лежит мертвый и что бандиты очень торопятся... Очередь вышла смачной. Бандиты падали, как в кино. Извивались, корчились, раскрывали рты в крике... Здорово! Ой как здорово! Еще десяток секунд, и все будет кончено. Им же, гадам, некуда деться. Они как оглашенные бегут к оврагу. Да только не успеют. Не успеют!.. И вдруг — тишина. Нет. Внизу стонали, и кричали, и топали. Но Иван ничего не слышал. Пулемет молчал. Заело ленту. Или что-то стряслось в механизме подачи... Иван стал на корточки. Откинул крышку затвора... Его увидели из оврага и убили. И если бы они тотчас вновь бросились в атаку, дом пал бы. Но бандиты не бросились. Они не знали, сколько людей засело в доме. И потому повели себя так, как вели осаждающие во все времена. Они окружили дом. И только потом поняли, что количество защитников невелико. Но бандиты очень торопились. Они даже кричали: — Эй, вы! Большевики! Отдайте нам три ящика патронов! И мы уйдем!.. Боря Кнут ответил на это предложение крепким словом. Беспризорный стрелял редко. Он видел, как выглянуло солнце, как схлынули тучи, обнажив золотистые вершины гор. И подумал, что еще очень рано, наверное, часов восемь утра. Он бросил гранату, когда увидел группу бегущих на него небритых людей. И еще он бросил вторую гранату. А третью не успел... В последнюю секунду он не думал о стихах. Но лицо выстрелившего в него бородатого человека показалось Ивану похожим на веник. Такой узкой была голова, а борода, наоборот, расходилась веером. Частил Семен Лобачев. Попадал редко. Но двое уже лежали возле конюшни. Неподвижно лежали. А остальные не смели подойти. Стреляли редко. Берегли, сволочи, патроны. Ему показалась подозрительной тишина. И он распахнул дверь в большую комнату. Увидел лежащего на спине Борю Кнута и кровь, вытекающую из него. Он шагнул к товарищу... Пуля встретила Семена Лобачева. А бандиты уже бежали прочь, бежали сломя голову. К дому егеря выходили цепи кавалерийского эскадрона... Матрена Степановна спустилась с чердака, обошла комнаты. Перекрестилась. Но вдруг увидела живое лицо лежащего на спине Бориса Кнута. Красноармеец пошевелил губами и тихо сказал: — Мать... Она решила, что он просит пить. Принесла ему ковш воды. Он припал губами к холодным краям. И вода текла по подбородку на гимнастерку и смешивалась с кровью. Отстранив ковш, Боря Кнут сказал: — Мать, у тебя нет, мать, самогончику? Хоть стакан или половину. Я тебе отдам. Честно. Мне один поп четверть должен. За библию. За такую красивую. Но тяжелую, как кирпич... Она побежала в чулан, где под скамейкой стояла бутыль в плетеном чехле. Но когда вернулась со стаканом, Кнут был мертв. — Царство тебе небесное, — сказала Матрена Степановна, перекрестившись торопливо. Во дворе красноармейцы обыскивали пленных бандитов... Так закончилась операция по уничтожению банды полковника Козякова. Но заключительная точка во всей это! истории еще не была поставлена. Давайте вернемся на три месяца назад и проследим за событиями, предшествовавшими последней засаде Ивана Поддувайло и его боевых друзей.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ «ПАРИЖСКИЙ САПОЖНИК»
1
Большие жилистые руки лежали поверх малинового одеяла. И пальцы были сжаты в кулаки со страшной силой, отчего линии сосудов проступали, словно татуировка. Перебинтованная голова вминала подушку, прислоненную к низенькой спинке голубой узкой кровати — единственной в палате, с большим, выходящим во двор окном. Над окном трепетали накрахмаленные занавески. И Каиров, войдя в палату, сразу обратил внимание на эти занавески. Вернее на то, что ветер колышет их. Значит, рамы открыты! Каиров подошел к окну, посмотрел вниз. Он увидев асфальтированную кромку возле стены, гаревую дорожку, а за ней рыжеватый подстриженный газон. Нетрудно было догадаться, что во все палаты первого этажа можно легко проникнуть с улицы через окно, ступив ногою на маленький карниз, возвышающийся в полуметре от земли, а затем подтянуться до подоконника. Проведя по подбородку ладонью, словно проверяя, не зарос ли, Каиров строго спросил: — Кто распорядился поместить раненого на первом этаже? — Я, — тихо ответил дежурный врач. — Сотрудники, доставившие его, потребовали отдельную палату. Эта была единственной. В больнице на втором этажеремонт. Каиров нахмурился, достал из кармана толстовки папиросу. Остановился возле кровати, глядя в затылок Челни — седенького милицейского доктора. Выпрямившись, поправив пенсне, Челни обернулся к дежурному врачу, напуганному происшествием, и спросил: — Где у вас умывальник, коллега? — Вторая дверь направо... Я вас провожу. — Одну минутку... Ваше слово, доктор Челни, — сказал Каиров. Челни вынул большой, в половину газеты, носовой платок и, вытирая руки, предложил: — Мирзо Иванович, вчера за визит я получил ведро картошки. Это же богатство! У меня есть вяленая ставридка. И немного чачи... Поехали ужинать. — Интеллигентный вы человек, Семен Семенович. Слишком интеллигентный для нашего сурового времени. — Каиров скептически улыбнулся. — Ну а теперь о деле... — Смерть наступила мгновенно. Четверть часа назад, в результате ножевого ранения в область сердца. — Челни снял пенсне, убрал его в футляр и сказал дежурному врачу: — Пойдемте, коллега. Каиров вышел вслед за ними. Стоявший у двери милиционер вытянулся. Каиров назвал его по фамилии и велел вызвать инструктора с собакой, чтобы тщательно обследовать газон и прилегающие к нему дорожки. Рывком распахнув дверку, Каиров втиснулся в машину. Через минуту пришел Челни. Положил на колени портфель. Сказал: — Как же насчет ужина, Мирзо Иванович? — Настойчивый вы мужчина, необыкновенно... — ответил Каиров. Он говорил с незначительным кавказским акцентом, и буква «е» через раз у него звучала, как «э». — Настойчивый... Представьте... Нет, не отмахивайтесь, а только представьте... Молодая кубанская картошка. Розовая. Одна в одну. Такую и за большие деньги не купишь. — У кого они есть, эти большие деньги? — Думаете, нет?.. Прикиньте, сколько здесь на побережье в восемнадцатом году золота осело! — Торгсин свое дело делает... — Товары не только в торгсине. Французское мыло предлагали моей жене не далее как вчера. Этакий ароматный желтый квадратик с выдавленной надписью: «Париж». — Где предлагали? — У скобяного магазина на улице Полетаева. — Кто? — Мужчина. — Какой он из себя? Приметы? — Женщина есть женщина. Даже если она и жена милицейского доктора. — Многие женщины очень наблюдательны. — Моя супруга не такая. Машина ехала медленно. Улицы были узкие, без тротуаров. И люди ходили по проезжей части. И не спешили! сторониться, услышав сигнал автомобиля. Они замедляли шаг. Провожали машину взглядом не злобным, а удивленным, как если бы смотрели на слона. — У меня прострел, — сказал Каиров. — Нагрейте соли... А еще лучше — подкладка из собачьей шерсти. Каиров недоверчиво покосился на доктора, но не возразил. Вскоре машина въехала во внутренний двор трехэтажного дома, сложенного из белого кирпича. Высокий кипарис, возле которого торчала водопроводная колонка, возвышался посреди двора, покачивая узкой вершиной. Было пять часов вечера. И небо уже отливало розовым светом. Как оно всегда отливало осенью в это время, если тучи не заволакивали солнце. Двор был не убран. На траве и около потемневшей от ветхости скамейки валялись обрывки газет. Сотрудники, разморенные за долгие часы работы в душных кабинетах, под вечер выходили подышать свежим воздухом, покурить, пожевать принесенный из дому бутерброд. В четвертом подъезде оперуполномоченный Волгин говорил утешительные слова заплаканной вдове Мироненко — машинистке из угрозыска. — Крепись, Нелли. Горю слезами не поможешь, — сказал Каиров. — Найдем убийцу. Верно я говорю, Волгин? — Точно, — подтвердил Волгин. — Пойдем. Ты мне нужен. Каиров тщательно прикрыл за собой дверь, прошел к столу, указал Волгину на диван: — Садись. Рассказывай, как Хмурого брали. — Ну вы знаете, что опознали его два дня назад. Привесили хвост. Но он ни с кем не встречался. Жил в гостинице. Вещей при нем не было. Только маленький баульчик с продуктами. Во вторник и в среду с половины двенадцатого до двенадцати прогуливался на центральном бульваре у афиши кино. Ровно в двенадцать становился спиной к афише и был неподвижен в течение минуты. — Вы не запомнили название фильма? — «Парижский сапожник»... — Что было дальше? — В ночь со среды на четверг, в третьем часу, он пришел на вокзал к поезду. Билет купил до Ростова. За десять минут до прибытия поезда Мироненко приказал брать Хмурого... В последний момент Хмурый понял, что попался. Бросился бежать по шпалам в сторону переезда. Оттуда и грохнул выстрел... Когда мы подбежали, Хмурый уже бредил. — А именно, что он говорил? — Повторял слово «нумизмат»... А может, это было какое-нибудь другое слово. Но мне показалось, что он раза три повторил именно это слово. — Больше он ничего не говорил? — Нет... Когда мы принесли его в медпункт вокзала, он потерял сознание. Я попросил медсестру остановить кровотечение и наложить повязку. Она сказала... Возможно, боялась... Но она хотела, чтобы я был рядом. В это время раздался еще один выстрел. А секунд десять спустя началась стрельба. Я знал, что Мироненко и два дежурных милиционера обследуют прилегающий к переезду участок. Оставив Хмурого на попечение медицинской сестры, я побежал к переезду... Мироненко был уже мертв. Милиционеры лежали возле него и палили в кусты ежевики. Буквально пять минут спустя мы оцепили пустырь со стороны шоссе и по склону Бирюковой горы... Но никого не обнаружили. Вероятно, неизвестный стрелял из револьвера. И гильзы остались в барабане. Мы не нашли ни одной. Трудно предположить, чтобы он собирал их в темноте. — Дежурный по переезду допрошен? — Да. Оказалось — женщина. Проверенный и надежный товарищ. Выстрелы она слышала. Но ни по путям, ни по шоссе мимо будки никто не проходил. Побывали мы и в поликлинике. Там тоже находились дежурные. А в лаборатории люди работают круглые сутки. И они слышали выстрелы, но выходить из помещения побоялись. Говорят, береженого и бог бережет. Лохматый, как пудель, Золотухин приоткрыл дверь и, просунув голову, спросил: — Мирзо Иванович, можно? — Входи! Золотухин шел плавно, словно скользил по паркету. — Мирзо Иванович, а мы кое-что нашли. — Неужели гильзы? — Сразу гильзы. Пуп земли — гильзы... Кое-что поинтереснее. — И он положил перед Каировым крошечный белый лоскуток величиной с автобусный билет: — На кустах ежевики висел. — Ну и что? — не скрывая разочарования, спроси, Каиров. — Я высчитал условную траекторию полета пули. Линия шла под углом в тридцать пять градусов к железнодорожному полотну. Зная убойную силу револьвера, мне нетрудно было определить место, где стоял убийца. Когда я был маленький, Мирзо Иванович, физика и тригонометрия были моими любимыми предметами. Я и сам не пойму, почему позднее решил стать милиционером. Убийца стрелял с тридцати метров. Не попади он в переносицу, мы могли бы навещать Мироненко в больнице. Каиров скептически улыбнулся: — Милый мой, даже точные науки подчиняются законам логики. Если ты задумаешь кого-нибудь убивать осенней ночью, ты не станешь надевать ни белую блузку, ни куртку, ни халат... Или еще черт знает какую одежду, в которой будешь виден за километр. — Однако факт налицо. Вы же первый, кто требует от нас фактов, и прежде всего фактов. — Ты отнимаешь у меня время, — сказал Каиров со свойственной ему прямотой. — Но раз в мои обязанности входит и воспитание кадров, садись, наматывай на ус... Каиров раздраженно поднял телефонную трубку. С усилившимся кавказским акцентом — первым признаком недовольства — сказал: — Девушка, соедините с поликлиникой. Заведующего... Товарищ Акопов, это Каиров. Проконсультируйте меня по одному вопросу. — Пожалуйста. Кажется, у Акопова был громкий голос, а может, это целиком заслуга телефона, но Золотухин и Волгин отлично слышали все, что говорил заведующий поликлиникой. — У вас в поликлинике кто-нибудь остается на ночь — Безусловно. Дежурный врач «скорой помощи». Медицинская сестра. Кучер. Сотрудник в лаборатории. — Скажите, они выходят ночью из здания поликлиники? — Безусловно. В случае вызова «скорой помощи». — И только? — Безусловно. То есть не совсем безусловно. У нас нет канализации. — Ясно. Людям приходится выходить ночью... — Да... Но в туалете, если это слово здесь применимо, отсутствует электричество. — Остается пустырь, — подсказал Каиров. — Вероятно, так. Мне никогда не приходилось бывать ночью в поликлинике. — Спасибо. Еще один вопрос. Ваши люди и ночью носят белые халаты? — Безусловно. — Как вы думаете, они снимают их, когда выходят э... на улицу? — Думаю, что не всегда. — Спасибо вам, товарищ Акопов. — Звякнула трубка. Каиров довольно посмотрел на Золотухина: — Вот так, милый сыщик... Надо бы помочь докторам. Послать к ним электрика. И у нас, глядишь, время зря бы не пропадало. Золотухин — большой артист. У него на лице одно, а про себя другое. Он сейчас не хочет раздражать начальника. И всем своим видом демонстрирует: сдаюсь, ваша взяла. А Каиров любит, чтоб брала именно его... Вот он вышел из-за стола, заложил руки за спину и не спеша начал ходить от двери до окна... В кабинете стоял густой сумрак, но Каиров не включал свет. Он не хотел зашторивать окна. Потому что в свои пятьдесят лет был полным человеком, страдал одышкой и предпочитал свежий воздух всем другим благам. — С личным делом Хмурого вы знакомы, — сказал Каиров. — Контрабанда. Валюта. Наркотики... Хмурый не убит на переезде, а час назад зарезан в больнице. Никто из его старых дружков на мокрое не пойдет... Все-таки появление Хмурого, которого месяц назад видели в Лабинске, и действия банды Козяка — это одна цепь... С бандой будет покончено в течение ближайших недель. Нас интересует другое... Очевидно наличие иностранной агентуры, которая руководит и помогает банде. Мы не знаем каналы связи, Но они существуют... Возможно, что Хмурый прибыл сюда как связной. Но где же тот, к кому он шел?.. Вот это нам и поручено выяснить. К выполнению операции приступаем сегодня же. Золотухин, устроишь побег Графу Бокалову. В десять вечера. Для приличия пусть дадут пару выстрелов вверх. С помощью Графа необходимо выявить всех, кто связан с контрабандой, валютой, торговлей наркотиками. Всю операцию знаю я. И начальник краевого отделения. Кодовое название операции... Где они встречались? У какой афиши? — «Парижский сапожник», — подсказал Золотухин. — Операцию назовем «Парижский сапожник», — решил Каиров. Он любил названия загадочные и необычные. Когда Золотухин ушел, Каиров положил руку на плечо Кости Волгина и сказал: — Тебе, Костя, предстоит выполнить самую трудную часть операции «Парижский сапожник».2
Густая изморось. Степь круглая, хмурая. Пирамидальные тополя оголенные, мокрые. Они, точно странники, появляются то справа, то слева. И дорога — кашица из черной грязи, по которой едва двигается телега. Пара усталых лошадей рыжей масти бредет медленно. Воздух холодный, и над крупами животных поднимается пар. Возница сидит на передке как-то полубоком. Искоса поглядывает на пассажиров. Он не очень им доверяет. Пассажиров трое. Один, Владимиром Антоновичем его называют, по возрасту, видать, самый старшин. В шляпе, в очках, в тонком пальто. Что пальто тонкое — это его собственное дело. Очки на Кубани многие носят, особенно кто в городе родичей имеет. А вот насчет шляпы товарищ маху дал. Не привыкшие тут до шляп жители. Раздражение такой убор вызвать может. Сомнение. Второй — может, цыган, может, татарин. Глаза черные, хитрые. Ростом маленький. Всю дорогу руки в карманах плаща держит. Это точно — пистолеты не выпускает. Третий — чистый жулик. В кожанке и с чубчиком. Ящики какие-то с ними, лопаты... — Так вы, значит, добрые люди, из Ростова будете? — заискивающе спрашивает возница. — Бери выше, отец, — говорит жуликоватый. — Из самой Москвы. Мы, батя, геологи. Полезные ископаемые ваших краях искать будем... — Окромя грязи, тута ничего нету, — заявил возница — А мы дальше поедем... — Дальше дальшего не бывает. Куда же это? — В хутор Соленый... Рожкао... Возница побелел. Повернулся к ним. Руки трясутся. — Люди добрые, не губите... Никакого впечатления. А коротышка рук из карманов не вынимает. Так и жди, всю обойму выпустит. — Сынки, если шо, забирайте коней и телегу тоже... Я ходом своим до Лабинской доберусь. Я, понимаете, пять душ детей имею... Жинка на прошлой неделе ногу подвернула.... В каких дворах золото есть, не знаю. В нашей семье его отродясь не было. — Что с вами, товарищ? — спросил тот, в очках и шляпе. — Пужливый я больно... — признался возница. — Зачем же нас пугаться? Мы ученые, приехали сюда проводить геологоразведочную работу. Я профессор Фаворский. А это мои коллеги. — Меня зовут Аполлон, — сказал жуликоватый. — А его Меружан... Возница опять побледнел: — Имена-то... странные... — Какие родители дали! — усмехнулся Аполлон. Меружан не улыбался, никак не реагировал, а сидел неподвижно, словно глухонемой. Не вынимал рук из карманов. И ткань плаща подозрительно оттопыривалась, точно в карманах и в самом деле торчали пистолеты. — Может, нам документы предъявить? — спросил профессор. — Для порядку бы, — сказал возница; никогда не ходивший в школу, он и расписывался-то крестиком. Вид бумаги с машинописным текстом и фиолетовой печатью подействовал на него успокаивающе. Возвращая ее профессору, повеселевший возница сказал: — Люди добры, да куда же вы едете? Вы знаете, шо здесь творится? А в тех краях особенно... Бандитов — как собак нерезаных. На прошлой неделе наши их сильно потрепали. Да вот жаль, начальника отделения в том бою убили... Добрый мужик был. С пониманием... И все кулачье проклятое!.. — На этих днях бандиты не показывались? — впервые за всю дорогу подал голос Меружан. — В горах, гады, отсиживаются... Если бы жинка ногу не подвернула, я бы с обрезом!.. Возница достал из-под тулупа большой промасленный обрез и положил в телегу. — Так-то лучше, отец, — сказал Меружан. — Я эту пушку давно заприметил... — Шо вы, добры люди... Бандюги же моего родного братана прикончили. Председателем сельсовета он был. И жинку его попоганили и зарезали. И дочку трехлетнюю не пожалели. Я их, гадов, многих в лицо знаю. Всю Малую Лабу излазаю, до Псебая дойду... Пусть только жинка ногой затопает... — Горы большие, — сказал Аполлон. — Искать бандитов будет не легче, чем иголку в стоге сена. — У меня ниточка есть... Старый княжеский холуй егерь Воронин. Чуется, что он не побрезгует и на бандитах заработать... Возница провел рукавом по мокрому лицу. Вскинул вожжи. Пахло землей, лошадиным потом. Надрывно повизгивали колеса. Одноэтажные домики станицы показались лишь в сумерках. Гостиница стояла в самом центре. И достаточно было войти в прихожую, оклеенную состарившимися обоями, чтобы сразу представить «блага», которые ожидают путника. Вонь, холод, клопы... Геологам отвели боковую комнату. В ней стояло шесть убранных кроватей. Наволочки на подушках свежие, но залатанные и заштопанные. Одеяла — солдатские, зеленоватого цвета. Профессор предупредил заведующего гостиницей, что они везут ценную аппаратуру, и просил посторонних в номер не поселять. Койки выбрали подальше от окна. Оно вытянулось чуть ли не во всю стену, с мутными пятнами на стеклах. Вторых рам не было. Шпингалеты держались на честном слове... Аполлон вышел в коридор и спросил у дежурной, что и где здесь можно купить из съестного. Плохо одетая женщина — и, может быть, прежде всего по этой причине непривлекательная — терпеливо разъяснила, что базар в станице бывает с шести до девяти утра. Там иногда предлагают продукты: лепешки, требуху, вареную кожу. Но больше на обмен. За деньги купить почти ничего невозможно. Пришлось терзать свои запасы... Поужинав, геологи потушили свет и легли. Несмотря на дальнюю дорогу, которую им пришлось сегодня преодолеть, сон не приходил. Аполлон сел, опустив на пол ноги, и без энтузиазма сказал: — Клопы предприняли психическую атаку. — Ты самый толстый, — сказал Меружан. — Клопы знают, что делают. — Не включай свет, — предупредил профессор. — Я не кошка, я в темноте не вижу. — Все равно не включай, — предупредил профессор. — Может, он не придет, — возразил Аполлон. — Не будем дискутировать, — сказал профессор. — Лежите и ждите... — Знаете, сколько времени человек тратит на ожидание? — спросил Меружан. — Двенадцать лет, или одну пятую всей своей жизни. — Сам подсчитал? — спросил Аполлон. Меружан промолчал. — Что молчишь? Стесняешься? — На глупые вопросы не отвечаю. — Все, — сказал профессор. — Молчок, коллеги... Тикали часы. На улице лаяли собаки. Тараканы шуршали под обоями, словно гонимые ветром обрывки газет. В окно трижды постучали. Профессор сбросил одеяло и оказался совершенно одетым. Мягко ступая в шерстяных носках по крашеному полу, он приблизился к окну и повернул шпингалет. Шпингалет звякнул громко, точно оброненные ключи. Скрипнув, разошлись рамы. — «Два», — сказал человек за окном. — «Восемь», — ответил профессор. — Владимир Антонович? — Да. — Вам записка и привет от Кравца.3
Светало. Вода чавкала под сапогами. Листья, и не успевшие облететь, и те, что уже несколько недель лежали на земле мягким желто-коричневым ковром, поблескивали капельками воды уныло и даже сумрачно. Потому что небо тоже было сумрачным — без низких свинцовых туч, похожих на глыбы, серое, обложное небо. Пахло прелыми листьями, и желудями, и разными травами, пожелтевшими и примятыми монотонным осенним дождем. День обещал быть слезливым. Это совсем не радовало егеря Воронина, путь его ожидал длинный и в такую погоду небезопасный. Вода размочила склоны, взбодрились ручьи. Они спешили вниз, пенясь и урча, узкие и холодные, как змеи. Егерь нес трех подстреленных на заре тетеревов. Так как считал, что с пустыми руками ему идти неудобно. Воронин же любил охотиться на боровую дичь. В пятьдесят лет у человека масса привычек, от которых поздно избавляться и которые стали характером, натурой, полноправной частью человека, как голова, ноги, борода, морщины. Давно. Очень давно. Сколько же лет? Сорок. Или тридцать девять. Да. Тридцать девять... Отцу тогда за пятый десяток перевалило. Они забрались в шалаш еще затемно. Свежие порубленные ветки отдавали тем запахом, который можно учуять, лишь ткнувшись лицом в скошенную траву, едва привяленную, зеленую, но удивительно пахучую, как молодое вино. Не рассвело. И в синем воздухе едва проглядывались темные деревья, когда отец схватил сына за плечо и они услышали бормотание тетерева. Вначале одного, затем двух, трех... Это было старое токовище. Отец помнил такие места. Он знал заповедник лучше, чем кто другой... Тетерева пели вначале на деревьях, потом на земле. Петухи дрались из-за тетерок как ненормальные. И Воронин-младший понял, что это глупая, похотливая птица. И у него не было к ней жалости. И нет. С того самого момента, когда он в первый раз нажал спусковой крючок и песня оборвалась... Радость тогда переполняла его. Она не шла ни в какое сравнение с другими радостями, которые были позднее. Отец сказал, что сын прирожденный охотник. И парнишке подумалось: вот такое чувствуют, когда любят. Но он ошибся... Любовь никогда не приносила ему удовлетворения, как охота. Он не задумываясь произносил слово «люблю». Говорил «люблю» Галине. Быстрой казачке. С черными глазами и косами. Говорил Марии даже после венчания... Говорил «люблю» фрейлине Вере, когда она, нагая, как создал ее господь бог, вбежала к нему в сарай, где он чистил ружье... Один шут ведает, что творили эти фрейлины. Великий князь Кирилл не случайно привозил их в личную вотчину. Челяди приезжало много. Летних дач не хватало. И тогда разбивали палатки, устраивали завесы. Князь понимал толк в удовольствиях. Охота без выпивки не обходилась. И дамы не уступали мужчинам... Воронин оступился и, упав на бок, покатился вниз по склону горы. Заросли шибляка придержали его. Егерь с трудом поднялся, присел на корточки и тупо смотрел на голые переплетенные ветви боярышника, грабинника, шиповника, держидерева. Смотрел, не думая ни о чем. Ожидал, когда пройдет боль. Терпеливо, как не однажды он ожидал секача, сидя в засаде на кабаньей тропе. Полегчало. Воронин нашел шапку, поднял с земли тетеревов. Закурил. И неторопливо, посматривая под ноги, двинулся в гору. Обогнув вершину, он оказался на широкой седловине, поросшей желтоватой травой. Десятка два коней бродили по поляне. Хмурый, обросший мужик, с карабином навскидку, выглянул из-за скалы. Узнав Воронина, сказал: — Оне там, — и кивнул головой влево. Шалаш был устроен под высоким грабом. Большой шалаш, похожий на опрокинутый кулек. Шипя и потрескивая, у входа горел костер. Перед костром стоял полковник Козяков в бурке и в отделанной каракулем кубанке. Лицо его было желтым, а под глазами лежали зеленоватые круги. Возможно, полковника трясла малярия. Воронин бросил дичь, не сказав «здравствуйте». Полковник повернулся, протянул руку. Воронин пожал руку и недовольно пробурчал: — Стар я почтарем по горам мотаться... — Он достал из кармана примятое письмо в самодельном конверте, отдал полковнику. Потом вынул из-за пазухи бутылку водки: — Едва не угробил. Ноги чужими стали. Ревматизма... Полковник взял бутылку. Удивился: — «Московская»? Воронин кивнул. — Откуда? — Постояльцы наделили. — Что за новости? Кто такие? Воронин неопределенно повел плечами. Закусил нижнюю губу. — Требухов! — позвал полковник. Юркий мужчина, с круглым, рассеченным вдоль правой щеки лицом, поспешил к костру. Полковник кивнул на дичь: — Займись! — Слушаюсь, господин полковник! — Осклабившись, Требухов посмотрел на Воронина, потом нагнулся и взял тетеревов. — Пошли, Сергей Иванович, — сказал Козяков. В шалаше на земле лежал ковер. И еще два ковра висели. Кроме постели, накрытой коричневым одеялом из верблюжьей шерсти, в шалаше был изящный столик на гнутых ножках и грубо сколоченный табурет. — Садись, Сергей Иванович. Егерь опустился на табурет. Полковник — на постель. Читал письмо, щуря глаза. И выдох был тяжелый, как у простуженного. Повертел конверт, перегнул пополам и спрятал под подушку. — Скучно ей, — сказал раздумчиво. — Ну да ладно! Теперь выкладывай, что за постояльцы. — Геологами называются... Камни ищут. — Красный конгломерат? — Мне не докладывали. — Много? — Трое. Один профессор. Два чином поменьше. — Анастасию видели? — Пока нет... Она из боковушки не выходит. Затем и шел, чтобы посоветоваться. Может, убрать их, да и концы в воду? — Не пойдет... Твой дом должен быть чист, как стакан, из которого пьют. Пусть девушка не прячется. Она твоя племянница, приехала из города старикам по хозяйству помогать. И смотри, Воронин, если с Анастасией что приключится! Запомни, я не господь бог. Я ничего не прощаю! Воронин недобро усмехнулся: — С барышней все будет в лучшем виде... О себе подумайте, господин полковник. В Курганную целый эшелон красных конников прибыл. — Пугаешь? — Предупреждаю... Знать, не грибы они собирать приехали. Козяков обхватил ладонью лоб и, не глядя на егеря, спросил: — На почту ходил? — В среду пойду. Не могу так часто... Я человек простой. Не люблю привлекать внимание. Положив локти на колени, Козяков согнулся, будто у него случились колики в животе. Потом резко выпрямился. Раскупорил бутылку. Крикнул: — Требухов! Стаканы! — Я не буду, — сказал Воронин. — Моя дорога дальняя. — Ты сделался слишком боязливым для своей профессии. — Моя профессия — егерь. — Знаю, что егерь... И все же... Красных конников ты боишься. На почту ходить боишься. Хлебнуть на дорогу водки боишься! — Лес к осторожности приучил. Водка заполнила стаканы на треть. Но запах сразу полез в нос. И Козяков морщился, когда пил, и Воронин морщился тоже... Похрустывая огурцом, полковник сказал: — Я шучу, Сергей Иванович. Шучу... Иначе в твоих местах одичать можно. — Зачем так? — А как? Места дивные... Но зимовать здесь в мои планы не входит. Я уверен, что на белом свете есть более теплая зима, нежели в предгорьях Северного Кавказа. Да и Настенька у меня на шее висит, хоть и ночует под твоей крышей. Слушай внимательно... В субботу пойдешь на почту... — Козяков опять взялся за бутылку, на какие-то секунды задержал ее в руке, потом поставил на стол. Раздумчиво сказал: — Меня беспокоит только одно: почему Бабляк не подал условленного сигнала? Теперь та же история повторяется с Хмурым... Если письма не будет, достань мне зимнее расписание поездов. Жду тебя в воскресенье. Понял?.. И не трусь. Со мной бедным не будешь. Я бумажками не расплачиваюсь. Бумажки в наше время только для одного дела годятся, если рядом лопуха нет. — Я вам верю, — сказал Воронин. — Вы дворянин. Человек чести. Вы за идею маетесь. А дружкам вашим я не верю. И вы не верьте. Ворюги они... — Тише! — оборвал его Козяков. — Прикончат. И я воскресить не сумею... Воронин промолчал. Собрался было уходить, но вдруг сказал: — Странный парень один из этих геологов... Козяков вопросительно сдвинул брови. — Вышел утром во двор. Озырился вокруг. Да и говорит мне: «Давно, дед, егерем служишь?» «Почитай, тридцать лет», — отвечаю. «Значит, и отца моего тут видел». «Красный командир?» — говорю. Геолог, Аполлоном его зовут, усмехнулся. Да и сказал тихо: «С князем Кириллом отец, царство ему небесное, в этих краях бывал. Смекаешь, дед?..» Я ответил, что с князем Кириллом много всякого люду бывало. Всех не упомнишь. — Фамилией не интересовался? — Спрашивал... Не сказывает. Смеется: «Называй хоть горшком, только в печь не ставь». — Занятно. — Козяков поднялся с постели: — Посмотреть бы на этих субчиков... — Можно устроить. — Следи за ними... Если что, дорогу знаешь... И про расписание не забудь... Когда Воронин ушел, полковник Козяков собрал банду, сказал: — Четверть часа назад я получил радостное известие из центра. В ближайшие дни англичане и французы высаживаются на Черноморском побережье. От нас нужно только одно: собрать в комок нервы и силы. И быть готовыми к решающей схватке. Я даю вам слово офицера... слово дворянина... что еще до первого снега Кубань будет свободной. А к рождеству, если это будет угодно богу, мы услышим звон московских колоколов... Козяков вернулся в шалаш, вылил в стакан остатки водки. «За ложь во спасение!» — произнес мысленно. На душе было жутковато, точно он смотрел в пропасть.4
Граф Бокалов узнал немногое... Конечно же, он не мог узнать о Хмуром больше, чем знал сам Хмурый. А точнее, чем Ноздря. Потому что именно Ноздря поделился с Графом сомнениями. А Ноздря был битый-перебитый. И уже год молчал, как собака на морозе. И его никто не мог схватить за руку — ни угро, ни Чека. Ноздря остерегался вынимать руки из карманов. Хотя, разумеется, мелкая контрабанда не обходила его стороной. Но только мелкая и верная. Без хвоста и подозрений. С того самого дня, когда пьяный матрос с новороссийского буксира врезал Ноздре разбитой бутылкой и лицо фарцовщика стало запоминающимся, как улыбка Моны Лизы, он предпочитал работать на дому. И у людей, знающих его поверхностно, могло сложиться обманчивое впечатление, что Ноздря исчез с «делового» горизонта, завязал. И пленился разведением парниковых огурцов. Или австралийских попугайчиков... Граф Бокалов имел на этот счет свое мнение. Потому-то «мальчики» Графа и не теряли Ноздрю из виду. Хотя Ноздря никогда так не опускался, чтобы скупать краденое, но он иногда не брезговал услугами карманников и форточников, то есть основных асов Графа. Графу Бокалову исполнилось девятнадцать лет. У него были доверчивые голубые глаза, широкие плечи. А за плечами — количество краж, вдвое превышавшее возраст. Кличку Граф ему преподнесла шпана, знавшая, что он щедр на синяки и шишки и раздает их с ловкостью фокусника. К чести Графа нужно отметить, что он почти не употреблял спиртных напитков, не курил. Каиров принес ему книжки Горького. Кто мог подумать, такой великий писатель, а босяками не брезговал!.. Граф не любил сантиментов. А к хорошему отношению просто не привык. И книги Горького, и беседы с Кадровым... Все это было ново, будто он в первый раз нырнул с открытыми глазами. — Имей я такого отца, как вы, — признался Граф Бокалов, — падла буду, никогда бы не оказался на этом месте! — Вовка, — назвал его по имени Каиров — ты не знаешь своего отца. А я знаю, кто был твой отец. Я все знаю, Вова, это моя специальность. Твой отец был красный командир. Его убили врангелевцы на Перекопе. Твой отец был большевик... Вова, все немножко виноваты, что ты стал тем, кем ты стал. Но ты молод. Ты еще можешь исправиться. И я буду твоим отцом, Вова. Они все обговорили с Каировым. Кто-кто, а Мирзо Иванович ясно представлял трудности и опасности, которые встанут перед Графом. Бокалов вышел из огольцов — мелких воришек, молодых по возрасту, — чья фантазия не поднималась выше карманов прохожих и вывешенного на просушку нижнего белья. Взрослые, опытные воры сторонились столь несерьезной публики, способной, к примеру, «на хапок» сорвать у женщины самые дешевые серьги. Вольные настроения, царившие среди огольцов, казались ворам верхом безответственности. Они взывали к осторожности. И не испытывали ни малейшего желания предстать перед судом по статье 35 УК РСФСР. Между тем Граф перерос своих сверстников. И наступил тот период, когда он должен был примкнуть к клану зрелых воров. Но в этом клане были свои неписаные законы. И если среди огольцов еще существовало понятие старшинства, то к началу тридцатых годов у воров со старшинством было покончено. Всякая попытка сколотить группу и возглавить ее объявлялась «магеронщиной», что было очень опасно. Ибо знаменитый бакинский вор-карманник Костя Магерон — последний оплот старой воровской традиции — был приговорен на «сходнике»*["11] к смерти. И зарезан своими же коллегами. Поэтому Каиров предупредил Бокалова: никакой инициативы, никаких атаманских замашек. Скромность, осторожность, внимательность. Когда зашла речь о том, где Графу осесть после побега, вспомнили о Ноздре. Собственно, вспомнил Граф. И даже не вспомнил, а сразу, еще в первый раз, когда Каиров заговорил о деле, Граф подумал, что Ноздря и есть то самое тихое болото, в котором могут водиться черти. Каиров дал Графу номер своего телефона. На крайний случай. Предупредил, что Граф Бокалов должен вести себя так, как если бы на самом деле сбежал из тюрьмы. Любой опрометчивый поступок может навлечь подо-зрение. И тогда его постигнет участь Хмурого. Пароль для связи: «Вы не подскажете, где мне найти сапожника?» — «Я могу чинить обувь, но у меня нет лапки». Две недели назад, в субботу, в девять часов вечера, Граф Бокалов совершил «побег». Два выстрела вспугнули летучих мышей, гнездившихся в развалинах за городской тюрьмой. Дежурный записал о происшествии в журнал. Почти сутки Граф отлеживался в заброшенной часовне. Мерцание крестов. Выкрики совы... От этих прелестей леденела кровь. К утру стало совсем холодно. Куртка на «молнии» не грела. Граф Бокалов подумывал о том, стоит ли торчать в этом мусорном ящике целый день. Не лучше ли сейчас же податься к Ноздре. Согреться чайком, Вздремнуть... Но слово есть слово. Дал. Нужно держать. Каиров не какой-нибудь трепач. Пижонов презирает. Требует точного исполнения плана. А план Граф помнит назубок. Дождаться вечера. И на морской вокзал... День прошел без приключений. С сумерками Граф вышел на набережную. Он был голоден, но это тоже входило в план. Каиров верил в актерские способности Бокалова, но рисковать не хотел. Все должно быть натуральным. Без подделок. Граф двигался по освещенной электричеством набережной, держась в тени платанов. Пахло пылью и лавровишней. И как всегда, нефтью немного пахло тоже... В горпарке трубил духовой оркестр. Мужчина в неновой стеганке ходил от скамейки к скамейке, предлагая вяленую ставриду У ларька, сделанного в виде большого винного бочонка, толпились забулдыги. Они чокались гранеными стаканами, курили, спорили, ругались... Чутье подсказывало Графу: такое добычливое место не могло ускользнуть из поля деятельности «мальчиков». И точно. Бокалов увидел знакомую тощую фигуру Левки Сивого. Левка лез к стойке, прижимаясь к невысокому толстяку в белом чесучовом костюме. Левой рукой Сивый протягивал пустой стакан. Правой... Можно было не смотреть. Можно было сесть на лавочку и взглянуть на звезды. Потому что правой рукой Левка обычно вытаскивал бумажники, закрыв глаза. И делал это так же ловко, как смежившая веки старушка безошибочно продолжает вязание на спицах. Уже через десять секунд Левка деловито удалялся в сторону промтоварной базы курортторга. — Сивый! — позвал Бокалов. Сивый остановился, удивленно повернул голову и, не веря своим глазам, произнес: — Граф?! Бокалов положил ему руку на плечо. Обнявшись, как два старых добрых приятеля, они пошли по скверу. — К твоей матери сегодня приходили из милиции, Сказали, что ты смылся. — Сивый замолк, дернул носом. — И все? — спросил Граф. — Объявишься — велели им сообщить... — Сообщают сводки погоды. И то лишь для Москвы. Ладно. Жрать хочется. Сколько выбрал? Сивый раскрыл бумажник: — Поужинать хватит.,. От Сивого несло чесноком и папиросами. — Босяк ты, — сказал Граф. — Выходишь на вечерний променад, а жрешь чеснок, словно цыган на ярмарке. Сивый виновато ответил: — Забыл я. Они вышли к морскому вокзалу — двухэтажному выбеленному зданию с пузатыми колоннами у входа и тяжелым лепным портиком. На клумбе опадали последние цветы. Скамейки стояли грязные, и краска лезла с них охотно, словно шерсть с линялых кошек. Фонарь на боковой аллее не горел... Граф оглянулся — и схватил Сивого за локоть. На скамейке, низко опустив голову, сидела женщина. У ее ног стоял чемодан. Сивый понимал Графа без слов. Они подошли к женщине. Она дружелюбно посмотрела на них. Они увидели, что она молодая. С короткой стрижкой. Упрямым скуластым лицом. Женщина сказала: — Мальчики, вы не подскажете, где мне найти сапожника? — Я могу чинить обувь, но у меня нет лапки, — ответил Граф Бокалов. Затем поднял палец и, как маленькому ребенку, пригрозил: — Не пищать! Сивый тяжело подхватил чемодан. — Вы коллекционируете кирпичи, мадам? — спросил Граф. — У моего кореша прогибается позвоночник. Женщина молчала. Только сжимала губы. И лицо было белым и плоским, как кусок стены. В следующую секунду голова женщины дернулась, тело покосилось и ничком рухнуло на скамейку. — Чудачка, с перепугу отправилась в обморок, — заключил Граф. — Похряли... — И подумал про себя: «Каково? Сивому и в голову не пришло, что все идет как по нотам. Только ноты эти писал не композитор, а начальник милиции. Женщина молодец — настоящая актриса. Изобразила обморок на все сто. Она работает секретарем у Каирова. Я ее видел там. Каиров называл ее Нелли...» Около часа ночи Сивый крадучись, словно кот, подошел к дому Ноздри. Оглянулся... Дом, деревянный, под железной крышей, выходил окнами на проезжую часть улицы, потому что тротуар пролегал лишь с одной, противоположной, стороны, где стоял длинный кирпичный дом в три этажа; в полуподвале дома размещались парикмахерская, скобяной магазин и мастерская «Гофре, плиссе». Над входом в парикмахерскую светила небольшая лампочка. Сторож ходил у гастронома, который находился на улице Пролетарской, метрах в ста от дома Ноздри. По правой стороне улицы, рядом с домом Ноздри и дальше, до самого Рыбачьего поселка, темнели такие же деревянные дома, с садами и огородами. Брехали собаки. Но к этому уже давно все привыкли, как и к выкрикам петухов по утрам. Сивый постучал в ставень. В доме хлопнула дверь. Кто-то вышел на застекленную веранду. Простуженно спросил: — Кого нелегкая носит? — Силантий Зосимович, свои, Лева я. — Какой Лева? Сивый? — Да-да... Силантий Зосимович. — Чего хочешь? — сердито спросил Ноздря, приоткрыв дверь, насколько позволяла цепочка. — Граф Бокалов просит на пару слов. — Граф на «курорте». Любой босяк в городе это знает, — возразил Ноздря. — Времена меняются, — сказал за забором Граф. Ноздря распахнул дверь, по скрипучим ступенькам спустился во двор. Подошел к калитке. Злобно лаявший пес, узнав хозяина, радостно завизжал. Громыхала заржавленная цепь. Сонно выкрикивали куры. Запах куриного помета, мочи, псины и вяленой ставриды держался во дворе стойко. Ноздря положил ребром кирпич. Встал на кирпич, схватившись руками за верх высокой калитки. Он был на редкость осторожный, точно старый секач, чуявший охотника на расстоянии. — Добрый вечер, Силантий Зосимович, — вежливо приветствовал Граф. — Спокойной ночи, — пробурчал в ответ Ноздря. — Спасибо за теплые пожелания. Только я вторую ночь зубаря втыкаю... — Это точно, — подтвердил Лева. — Граф позавчера вечером отвалил... — Я не батюшка. Зря исповедоваться пришли, — недовольно ответил Ноздря. — Товар есть, — сказал Граф. — Краденое не скупаю. — Может, адресок подскажете? — У Левки что, память отшибло? — Кузьмич такое не берет... И Мария Спиридоновна тоже, — оправдывался Левка. — До свидания. Бывайте здоровы. Абсолютно ничем помочь не могу... — Ноздря слез с кирпича. Над калиткой торчал только его нос, длинный и загнутый, словно крючок. — Ну, сука! — взорвался Граф. — Мешок с трухой, ты еще припомнишь нашу встречу! И десять кобелей не устерегут твою поганую конуру! Мне терять нечего! Меня угро по всему городу ищет! В меня стреляли! — Не ори, психопат! — оборвал его Ноздря. — Что за товар? — Чемодан кофе. В зернах. Ноздря поперхнулся от удивления. Сопя, открыл замок. Подалась калитка. Покряхтывая, Левка втащил чемодан во двор. В дом Ноздря их не повел. Они обогнули курятник и очутились в маленьком сарайчике. С полками во всю стену, на которых что-то стояло. И хотя было темно и ни чего не было видно, Граф знал: в таких сараях обычно хранят банки, пустые бутылки, столярные и другие инструменты и еще разную рвань: тряпки, плащи, старую обувь. Все это, конечно, покрыто пылью. И пауки живут по углам припеваючи. Ноздря чиркнул спичкой. Просунул руку под полку. Щелкнула задвижка. Полка подалась на Ноздрю. В стене открылось отверстие, ведущее под пол. Граф кивнул Левке, чтобы он лез первым. Бокалов любезно уступил дорогу Ноздре. И последним спустился сам. Погреб оказался небольшим квадратным ящиком из бетона, размером примерно два на два. Электрическая лампочка светила на стене. Она была ввернута не в простой патрон, медный, с белым фарфоровым ободком. Такие патроны продавались на базаре, в скобяном магазине. Их можно увидеть в любой квартире города. Нет. На стене висело бра, вероятно переделанное из позолоченного подсвечника: пузатенький ангелочек с пупочком держал в руке рожок. В этот рожок и ввинчивалась лампочка. Может, Ноздря купил бра у какого-нибудь ворюги, но не рискнул повесить его в комнате. У стены под бра стоял высокий сундук, на котором лежала овчинная шуба. Чемодан открылся. Крупные кремовые зерна кофе лежали, словно мелкая прибрежная галька. — Турецкий, — сказал Левка. — Ты-то, сопля, знаешь! — съязвил Ноздря. — Что ж я, Силантий Зосимович, турецкого кофе не видал? Я даже пил его... — В Турции кофе не растет, — сказал Ноздря. — В Турции все растет, — возразил Левка. — И табак, и кофе. Я сам в ресторане «Интурист» такое блюдо видел — турецкий кофе. Ноздря отмахнулся от него, как от мухи. — Сколько хочешь? — Одежду соответственно сезону. И укромное местечко на неделю, разумеется с харчевкой. Отлежаться надо, пока фараоны решат, что я все-таки в Ростов прорвался. — Беру, — сказал Ноздря. Граф устало опустился на сундук. — Задешево отдает, — сказал Левка. — Вы бы видели, Силантий Зосимович, как мы накололи чемодан! Прима! Высший класс. Дамочка в обморок. Граф — жентельмен... — Пока будешь находиться здесь. Подушку принесу. — Ноздря кивнул Левке: — Помоги! Левка потащил чемодан наверх. Ноздря поднялся за ним. — Жратвы не забудь, — напомнил Граф. Они вернулись минут через десять. Граф дремал, привалившись на тулуп. — Сутки средь могил ховался, — сказал Левка. — Как подумаю; гробы, покойники!.. Аж дрожь берет... Вставай, Вова. Ноздря принес бутылку самогона, запечатанную туго свернутым газетным пыжом, полдюжины сырых яиц, малосольный огурец, пяток помидоров и ворох вяленой ставриды. — Барахло завтра подберу. — Чтоб приличное было, — напомнил Граф, потирая кулаками глаза. — Как чижика оденем, — успокоил Ноздря. ...Тогда они выпили крепко. Видимо, Ноздря считал сделку удачной. Он еще раз сбегал за бутылкой. И еще... Захмелев, Ноздря болтнул, что к нему заходил Хмурый. Они крепко-крепко поддали. И Хмурый держал себя как метр. Говорил, что напал на золотую жилу и намерен обеспечить себе беззаботную старость «на том берегу». Какой это берег, Ноздря не уточнял, по догадался, что турецкий. Хмурый обещал не забывать Ноздрю, если Ноздря будет помнить его, Хмурого. Глаза у Хмурого были масленые, и он говорил, что стосковался по женщинам, но ему, дескать, нельзя впадать в разгул. У него должна состояться деловая встреча.; Важная встреча, которая сыграет в его судьбе поворот... Уходя, Хмурый просил Ноздрю подумать, найдется ли где подходящее место: тайничок надежный и безопасный. На всякий случай, если придется что спрятать. Больше Хмурый не приходил. Однако Ноздря знал Хмурого не первый год. И был уверен: такой делец зря слов на ветер не бросает... В конце концов Ноздря упился до чертиков и со слезами умиления лез целоваться к Графу, называя его сынком, родненьким. Левка уволок Ноздрю лишь на рассвете. Граф накрылся тулупом и уснул...5
Несколько днейАнастасия видела геологов только через окно. Даже после разговора с полковником Козяковым Воронин не велел ей показываться во дворе. Он сказал: нужно выждать, присмотреться, что это за люди. Хорошие или плохие. И пусть даже хорошие. Все равно следует остерегаться. Потому что даже самый хороший, увидев такие волосы и глаза восемнадцатилетней девицы, может натворить столько дел, угодных черту, что потом никакими молитвами не откупишься. Анастасия никогда не замечала, чтобы Воронин молился или стоял перед иконами. Но помянуть имя господа, всуе с неприличным словом он любил. И делал это особенно громко. Быть может, из-за того, что жена его, сгорбленная сердитая старушка, была туговата на ухо. Некоторое время Анастасия не знала, как вести себя с хозяйкой дома. Лицо этой неприветливой женщины и глаза ее казались Анастасии загадочными, а порою одержимыми. Но была ли это одержимость или какое-то обостренное состояние нервов, а может, всего сложного комплекса, который называют психикой, — определить трудно. Анастасия и Матрена Степановна относились друг к другу настороженно. Хозяйка приглашала Анастасию к столу в завтрак, обед, ужин. Девушка, поев, благодарила и уходила в свою комнату. Кажется, на второй день пребывания в доме егеря Воронина Анастасия хотела вымыть после завтрака посуду, Матрена Степановна сухо сказала: — Я сделаю это лучше. Воронин тут как тут: — Вы, барышня, не извольте беспокоиться. — И добавил: — С вашими ли пальчиками в помоях возиться! Цыпки наживете! Вскоре она поняла, что хозяйка недолюбливает ее и потому относится с подчеркнутой холодностью. Но это не очень взволновало Анастасию. Нет, отношение людей не было для девушки безразлично. Сейчас ее беспокоило другое — отец, воскресший словно из пепла... Как-то хозяйка истопила баню. И Анастасия мылась. Вначале одна, потом пришла Матрена Степановна. Она помогла девушке мыться и, глядя на нее, неожиданно сказала по-матерински тепло: — Кожа-то у тебя какая! Одно слово — господская... — Зачем вы так? Хозяйка вздохнула: — Батюшка ваш, чтоб им на том свете черти подавились, не любит вас, не жалеет. Лиходей он, сколько жизней тут, на Кубани, загубил! И вас, Настенька, погубить хочет. Креста на нем нету. Тикайте вы отсюда к своей бабушке, пока не поздно. — Почему вы так говорите? — возмутилась Анастасия. — Он за свое борется. Новая власть все у нас забрала. — Молода ты еще, дочка. Ох как молода!.. И старую власть, стало быть, не видела. А меня при этой самой власти без всякого моего согласия вот за этого волка отдали. Мне же в пору ту и семнадцати годочков не исполнилось. И груди мои были такие высокие, как твои, и ноги тоже розовые. А волосы, они до сих пор у меня густые, сама видишь. Власть-то старая к нам из самого Петербурга приезжала. Насмотрелась я... Князь великий, значит, кобель кобелем. И женщины с ним гадючие... Никем не брезговали. Моим хозяином тоже. А он перед ними вертелся, как кот линялый. — Бедняжка вы, — пожалела Анастасия. — Зачем же вы с мужем-то своим остались? Ушли бы. — Уходила... Нашел он меня. Избил так, что в позвонках хрустнуло. С тех пор разогнуть спину не могу. — Жестокий он, — согласилась Анастасия. — Вся порода у них такая...Высокий, плечистый, стройный, с седеющей головой и вислыми запорожскими усами, Воронин одним своим взглядом пугал Анастасию. Однажды он вошел в ее комнату. Настенька сидела на кушетке, поджав ноги. Читала французскую книгу. Французскому языку ее научила мать. Мать была женщиной, совершенно не приспособленной к новой жизни. Но французский язык знала лучше, чем русский. За год до смерти она начала особенно серьезно заниматься с дочерью. Анастасия не только свободно говорила по-французски, но и читала и писала. И больше того, иногда даже думала на французском языке. Воронин остановился перед кушеткой. И Анастасия, не поднимая взгляда, сжалась в комок, будто ждала, что он подомнет ее, раздавит. — Так запомните еще раз... Вы моя племянница, приехали из Ново-Минской. Тятька с мамкой в тифу, а может, от голоду померли. Наряды свои московские — платьица, туфельки — подальше заховайте. И книжки эти тоже. Племянница кубанского казака не может читать по-аглицкому или немецкому... — А по-французски может? — не сдержалась Анастасия. — Нет! — Хорошо, — прячась за раздражение, как за щит, сказала Анастасия. — Я выполню все, что вы сказали. Но я хочу видеть отца. — Сейчас это невозможно. — Тогда я возвращаюсь в Москву. Мне надоело затворничество. Я не привыкла к такой жизни, без друзей, без подруг... — Отпускать вас отсюдова не велено. Я за сохранность вашу башкой отвечаю. — Ничего не понимаю. Ничего... Я напишу отцу... — Только не сегодня. На следующей неделе. Всему свой срок. Анастасия поднялась. Она доставала Воронину до подбородка. Почувствовала тошнотворный запах табака и самогона. И шагнула в сторону. Прильнула к окну. — Барышня! — сказал Воронин. — На чердаке в стружке хранятся груши и яблоки... — Принесите! — оборвала Анастасия. Она считала, что нужно показать характер. И насмешливо добавила: — Или вы хотите подняться со мной на чердак? — Мы хотим, чтобы у вас не был бледный цвет лица, — сказал хмуро Воронин. И кашлянул. На другой день геологи куда-то ушли еще ранним утром. С рюкзаками, кирками, лопатами. И пелена дождя скрыла их, как скрывала и горы, и дорогу. Сам отлучился из дому вчера к вечеру, велев женщинам крепко запираться и не впускать в дом никого ни под каким предлогом. Старуха пекла хлеб. Анастасия любила смотреть, как жена Воронина возится у печи, совершая удивительное таинство серьезно и молчаливо. И в доме, и даже во дворе стоял запах свежего хлеба, сладковатый, хмельной запах. Часам к трем погода прояснилась. Небо стало синим-синим, с круто замешенными белыми облаками, которые плыли с юга над вершиной горы. Анастасия подошла к ограде. И посмотрела вверх. Ощущение времени исчезло незаметно, как порою исчезает боль. — Добрый день или, вернее, вечер, — сказал мужчина. И она сразу узнала самого молодого из геологов, которого несколько раз видела из окна. Аполлон улыбался, глядя на нее чуточку смущенно. Щеки у него покраснели. И она тоже почувствовала, что не в силах скрыть румянец. Хотя за последнее время привыкла к пристальным, а порою откровенно восхищенным взглядам мужчин. — Я так и думал, что у старого егеря есть все основания прятать свою племянницу. — Разве такие основания вообще могут существовать? — Да. Посмотрите в зеркало. — Я не верю зеркалу. Лучше в воду... — Вы говорите так, словно всегда жили в лесу. А между тем в вас много городского. Вы не похожи на внучку кубанского казака. Аполлон, не стесняясь, разглядывал ее тонкие белые пальцы, длинные, заостренные ногти. — Молодые девушки везде одинаковы, — ответила Анастасия. Ей все-таки нравился этот геолог из Москвы. И она добавила: — Le printemps de la vie ne revient jamais*["12]. Аполлон усмехнулся: — On a tous les ans douze de plus*["13]. — Вот именно. — Анастасия силилась побороть смущение. И даже страх. Как ни суди, но внучке или там племяннице кубанского казака ни к чему болтать по-французски с незнакомым человеком. Однако что-то было в этом мужчине располагающее к откровенности. Кажется, глаза, умные и ласковые. Она не могла сердиться, глядя в них. Она только сказала: — До свидания.
6
Каиров сразу узнал певучий голос уполномоченного ГПУ. Даже в трубке чистый и немного протяжный, будто человек, произносивший слова, хотел их пропеть, но потом передумал, а звучание осталось. — Мирзо Иванович, милый, ожидаешь? Каиров ответил: — Мирзо Иванович человек терпеливый. Более терпеливый, чем квочка. Уполномоченный захохотал: — Так не пойдет... Мужчина! Азиат! И вдруг квочка! А почему не сокол, высматривающий добычу? — Какой сокол?.. Зачем душу крутишь? Говори прямо: ты ко мне придешь или я к тебе? — Ни то и ни другое. Сапожник молчит. — Значит, еще не время. — Там виднее. — Звони. — Домой? — Что говоришь? — удивился Каиров. — Я у себя. В милиции. Часы есть. Смотри на стрелки. Наступила пауза. Видимо, уполномоченный действительно смотрел на часы. — Двадцать минут третьего, — донеслось из трубки. — Вот видишь. Скоро утро. — Хорошо бы выпить крепкого чая. Всего, Мирзо Иванович. Положив трубку, Каиров очень зримо представил большой фарфоровый чайник с двумя красными маками на боках, которым уполномоченный гордился, солдатскую эмалированную кружку и подумал, что неплохо бы и в милиции завести чайник, а может быть, самовар, чтобы вот такой глухой ночью ребята могли побаловаться кипяточком. Он и сам любил горячий чай со свежей душистой заваркой. И чтобы варенье было в кругленьких белых розетках с какими-нибудь маленькими цветочками, вишневое варенье, сливовое и обязательно из алычи. И хорошо, когда за окном ветер, и голые ветки трутся о стекло, и тучи спешат, деловые, озабоченные... Тогда чай уже не чай, а наслаждение, словно добрая баня или верховая езда. Впрочем, при одном условии: если на сердце не щемит, если на сердце все спокойно. В противном случае лучше пить вино, или чачу, или простую водку. Но только немного, ради просветления... Каиров стиснул виски ладонями — голова раскалывалась и без вина. Он поднялся. Медленно подошел к двери, погасил свет, щелкнув выключателем, и вышел в коридор. Дверь в туалет была распахнута. В коридоре пахло хлоркой и аммиаком, и слышно было, как журчит вода, заполняя бачок. «Кто из врачей дежурит сегодня в милиции?» — подумал Каиров, но вспомнить не смог. Доктор Челни сидел за столом в сером двубортном пиджаке, белой накрахмаленной рубашке, при галстуке цвета морской волны. Перед ним на газете пыхтел никелированный чайник, на блюдцах стояли две чашки, высокие, темно-бордовые, с золотой каемкой, а ручки у них были такие тонкие, такие изящные, что боязно притронуться. В маленьких белых розетках лежало варенье. И на розетках были нарисованы мелкие цветы. Каиров различал это ясно. Челни виновато сказал: — Я совсем забыл про вишневое варенье. Но это из персиков, — он показал на среднюю розетку, — необыкновенно ароматное. Я бы сказал, нектар. Каиров на какое-то время закрыл ладонью глаза. Ему показалось, что он спит стоя. Не отнимая ладони он глухо проговорил: — Я пришел за таблеткой, Семен Семенович. Пожалуйста, как в прошлый раз. Тогда головная боль прошла быстро и усталость вместе с ней тоже. — Кофеин, — засуетился Челни, семенящей походкой подошел к шкафу, растворил дверки, выдвинул верхний ящик. — Вот. — Он вынул из бумажного пакетика белую таблетку: — Запьете чаем. При содействии горячей воды она быстро растворится в организме. Через три — пять минут вы почувствуете облегчение. Садитесь, Мирзо Иванович. — Челни подвинул к нему чашку и налил в нее чай. Каиров понял, что он не спит, а только очень устал. И не дело и не время удивляться по поводу такого пустяка, как накрытый для чая стол. — Сегодня спокойная ночь, — сказал Челни, может, просто для того, чтобы начать разговор. — Ночь и должна быть спокойной. Так задумано природой. К сожалению, не все задуманное осуществимо. — Потому что мир вещей существует вне нашего сознания... — И каждая вещь в себе принципиально непознаваема. — Вы читали Канта, Мирзо Иванович?! — Когда в пятнадцатом году я сидел в Екатеринодаре, в политическом изоляторе, у меня было время и на чтение, и на раздумья... — Вам не кажется, что Кант сильно страшился будущего? И только потому хотел примирить идеализм с материализмом. — Красивые домыслы, Семен Семенович. Кант путал божий дар с яичницей. Челни иронически улыбнулся: — Так просто. — И вульгарно. Подумали, но не сказали. — Каиров поставил пустую чашку на блюдце и отодвинул от себя: — Правильно подумали. Правильно... Но я не буду оправдываться, напоминать, что в сутках двадцать четыре часа. И у меня нет времени на философию Канта, рыбную ловлю и домино. Даже если бы к суткам добавили три часа или пять, все равно я не стал бы заниматься Кантом. У меня другая задача. Борьба с преступностью. Вот на эту тему я готов говорить с увлечением, как юноша с любимой. А четыре антиномии Канта лучше оставить философам. Хотя одна из них весьма любопытна. Челни: — Положение: в мире существуют свободные причины. Противоположение: нет никакой свободы, а все есть необходимость. Вы имели в виду это? — Семен Семенович, вы угадали. И я могу раскрыть вам тайну. Я сторонник противоположения. Все в жизни порождается необходимостью. Вот почему в основе преступности прежде всего лежат социальные корни. — Да, — сказал Челни. — Но и наследственные. И религиозные... Я этим несколько интересовался. Не знаю, известно ли вам, что в начале девятнадцатого века в Индии было раскрыто древнее религиозное общество фансегаров, или, как они называли себя, «братьев доброго дела». Братья поклонялись некоему божеству Бохвани, самыми желанными приношениями для которого были человеческие жизни. В основе лежала весьма примитивная формула: блага на том свете находятся в пропорциональной зависимости от количества жертв, принесенных божеству. — Занятно, — согласился Каиров. — В религии многое идет от плутовства, от шулерства. Не случайно отмечал Вольтер, что религия произошла от встречи дурака с обманщиком. Каиров засмеялся: — С вами беседовать одно удовольствие. Голова больше не болела. После таблетки, после выпитого чая была бодрость, которую, казалось бы, способен вернуть лишь крепкий сон. Уже у дверей Каиров обернулся, внимательно посмотрел на Челни: — Семен Семенович, только честно, вы умеете читать чужие мысли на расстоянии? — Мне бы так хотелось соврать, сказать «да». — Тогда откуда это? — Каиров показал рукой на стол. — Чай, варенье... Розетки. — Жена. Все жена... Настояла, чтобы на дежурстве при мне был горячий чай, варенье... — Это у вас вторая жена? — Да... — грустно ответил доктор. — Моя первая жена умерла в Одессе. От брюшного тифа. Я девять лет был верен ее памяти... — Извините меня, Семен Семенович. — Нет, нет... Минутку. Позвольте, я закончу свою мысль. Так вот. Вскипятив чай, я увидел из этого окна, что ваша машина стоит у подъезда. Я понял: вы здесь. И решил пригласить вас на чай. Однако вы опередили меня, словно прочитали мои мысли. — Ловко вы это повернули. Вам надо бросить медицину и заняться адвокатской практикой. — Возможно, вы правы. Возможно, восемнадцатилетним гимназистом я совершил ошибку. ...Каиров вернулся в свой кабинет. Телефон надрывался. — Слушаю, — сказал Каиров. — Приезжай, Мирзо Иванович, — сказал уполномоченный ГПУ. Через минуту машина фыркнула белым дымком, крепко пахнущим бензином, выползла на шоссе и помчалась; по городу. Луна висела над крышами. Но небо было не очень темным, а словно выцветшим. Где-то далеко на окраине лаяли собаки. Город спал... Машина остановилась. Каиров широким шагом вошел в один из подъездов трехэтажного дома, на фасаде которого лепилось много различных вывесок; «Рыбхоз», «Райфо», «Заготскот»... И справа, под пыльной лампочкой: «Уполномоченный ГПУ». ...Некоторое время спустя Каиров вышел из подъезда, сел в машину. Бросил шоферу: — Домой! — Но тут же передумал: — Нет. Сначала в порт. Спать не хотелось. До сна ли после такого известия: сегодня в 2 часа 47 минут операция «Парижский сапожник» началась.7
Глубокая ночь. Быстро бегут облака. И луна словно купается в них. Ветер холодит землю. Холодит деревья. Холодит листья. Последние незеленые листья. Он срывает их. Бросает под ноги лошадям. Шестеро всадников и две лошади без седоков пробираются по узкой размытой дороге, ведущей к дому егеря Воронина. А вот и дом. Он стоит на бугре. И его белые стены видны далеко, точно паруса яхты. Сипло дышат лошади. Цокают копытами о вымытые камни... Всадники останавливаются в тени раскидистого граба. Спешиваются. Привязывают лошадей. Один из них, видимо начальник, решительно говорит: — Обождем минуту. Сейчас туча луну проглотит... Петро остается здесь. Соболев идет к дому Воронина. Мы вчетвером — к даче... ...Анастасии не спится. В комнате душно. Так душно, что не уснуть, даже сбросив одеяло. «Ну и дикая привычка у моих хозяев закрывать на ночь ставни! И не просто закрывать на крючки, а закладывать поленом... Конечно, если всю жизнь прокоптеть здесь, как эти стены, ничто не будет казаться диким. Я зря злюсь. И на старика особенно. Он, конечно, хитрый мужик. Зверь. Да это и понятно — от рождения дела со зверями имел. Не случайно у моей кровати шкура рыси лежит. Как мне надоело торчать в этой дыре! И отец... Чем он занимается? За два месяца я видела его всего один раз. И зачем он здесь? Где же обещанный Париж и вилла в Плезансе? «Обожди, дочка, скоро Кубань будет свободной». Говорит, а по голосу чувствуется, что и сам не верит. «Я собой не распоряжаюсь!» Кто же им распоряжается? Борец за идею. Не хочет ли он объявить себя императором Кубани? Интересно, как чувствуют себя дочери императоров? Им все можно или не все? А ставни я попробую открыть». Анастасия опускает ноги на ворсистую шкуру. Ощупью находит чувяки. Крадучись добирается до окна. Засов — толстое, обтесанное полено — поддается с трудом. Девушка напрягает силы... Есть! Прислонила засов к стене. Распахнула створки ставней. Повернула задвижку. Форточка откинулась вправо. Вот он, свежий воздух. Как легко дышится! И приятно, точно в жаркий день утоляешь жажду. «Аполлон! Он смотрел на меня, словно я редкий минерал. «Вы не похожи на здешних девушек». А на Клеопатру я похожа?» Чужие шаги врываются в тихое бормотание ветра. Кто-то идет к дому. Шум... И выстрелы. Один, второй, третий... Злобная ругань... Чья-то фигура метнулась мимо окна, исчезла в кустах за забором. Потом другой человек кричал: «Стой!» — и палил из пистолета... В доме Воронина произвели обыск. Ничего подозрительного не нашли. Но главный — в серой каракулевой папахе, в длиннющей кавалерийской шинели, как положено, с раструбами на рукавах, в пахнущих сапожным кремом сапогах с блестящими шпорами, которые время от времени позвякивали, с пистолетом в руке и шашкой на боку — говорил Воронину: — Как же ты недоглядел? На каком таком основании беляков пригрел? — Геологами они назвались. Справки показывали, — оправдывался Воронин. — Справки... Бандиты они, а не геологи. Шайку сюда создавать приехали. Забрать тебя, дед, нужно. — Что же я? Я документам Советской власти верю. Бумага печатями пропечатана. — Воронин говорил неторопливо. И в голосе не чувствовалось волнения. Вот только глаза недобро горели, как у зверя. Главный удобно сел на стул. Свернул папироску. Прикурил от лампы. Сказал: — Фамилия ваша Воронин? — Она самая. — Поскольку одному из бандитов удалось скрыться, — продолжал главный, — и он представляет опасность для населения, точно голодный волк, вы, товарищ Воронин, должны нам помочь. Егерь понимающе кивнул. — Что вы знаете о сбежавшем бандите? — Зовут его Аполлоном. Роста высокого. Волосы светлые. Молодой. Лет тридцать будет... Веселый. Всегда песенки напевал... Происхождения высокого. Про отца сказывал, что тот к самому князю Кириллу близок был... Больше ничего не знаю. — Бдительности у тебя, отец, нет... Не пролетарской закалки ты человек... Да ладно... Из этих мест бандит далеко не уйдет... — Из этих мест можно уйти в самую Турцию, — скептически возразил Воронин. — Если знать дорогу, — многозначительно заметил главный. — Так вот, Воронин, коли бандитский Аполлон появится в ваших местах, постарайтесь задержать его силой или хитростью. И сообщите нам в кавалерийский отряд или в отделение милиции. Через четверть часа кавалеристы покинули хутор Воронина. Шестеро с карабинами. И между ними профессор и Меружан — руки связаны за спиной. Лупа по-прежнему купается в облаках. Только облака стали больше и плотнее. Где-то воют шакалы... Прибывает ветер. Кажется, днем опять польет дождь. Кавалеристы останавливаются подле граба. Приветливо ржут лошади. Главный поворачивается и смотрит на белый, словно бумажный, дом Воронина. Потом решительно достает нож и... разрезает веревки, стягивающие руки профессора и Меружана. — Мы вас не сильно помяли, товарищи? «Профессор» шевелит затекшими кистями рук. Меружан говорит: — И холостым выстрелом можно запалить волосы, если стрелять прямо в чуб. — Это Боря Кнут перестарался, — говорит главный. Кавалеристы негромко смеются. — По коням! Осторожно ступают кони. Постукивают о камни копытами. Восемь всадников скрываются в ночи...8
Пуговиц двадцать штук. Маленьких, перламутровых, сидящих одна возле другой. Они удлиняют талию Варвары, и без того длинной и тонкой женщины. И платье зеленое, и глаза зеленые. И волосы, густые, спадающие на плечи, тоже какого-то зеленоватого отлива. Но в этом не следует винить Варвару. Она хотела сделать локоны золотистыми. Но заграничные химикаты даже в их парикмахерской, лучшей в городе, где все вывески и объявления пишутся на двух языках, русском и английском, даже в их парикмахерской эти химикаты давали иногда самые неожиданные результаты. Варвара меняет иголку. Опускает мембрану на черный диск пластинки. Игриво улыбается гостям. Левка пыжится. Распрямляет грудь. Приглашает Варвару. Она кладет руку на его плечо. Чуть наклоняет голову. Волосы дождем сыплются на Левкину щеку, попадают на губы. Левка доволен, как кот, вылакавший сметану. Граф Бокалов в небрежной позе развалился на диване. Варвара на семь лет старше Левки. И вдруг любовь... Бокалов немножко выпил. Коньячку. Граф либо совсем не пьет, либо пьет очень мало. Левка и Варвара накурились американских сигарет. В комнате плавают круги белого сладковатого дыма. Иголка чуть дерет пластинку. Вероятно, пластинка заиграна. Певец томно поет:9
Вечером Каирову, когда он после ужина читал газету, позвонила Нелли. По взволнованному голосу своей секретарши он догадался — произошло что-то серьезное. Она просила о встрече. О немедленной встрече. Каиров велел ей прийти к нему домой. Жена, убиравшая со стола, сказала: — Мирзо, ты посмотри, что творится за окном. Дождь, тьма. И ни одного фонаря на нашей улице. Ты бы встретил Нелли. Девушке неловко одной... Жена Каирова — полная красивая армянка с седеющими волосами, стянутыми в тугой узел, — принесла плащ. — Нелли — смелый человек, — сказал Каиров, которому не хотелось выходить из теплой комнаты, такой уютной и светлой. — Мирзо — старый человек, — насмешливо заметила жена. Каиров вздохнул, поднял вверх руки, потом развел их в стороны, будто вспоминая гимнастическое упражнение. Он теперь ежедневно занимался гимнастикой. Доктор Челни как-то выслушал его тщательно и вынес приговор: — Ежедневная гимнастика или ожирение сердца. Надев плащ, Каиров долго возился с капюшоном. Капюшон сползал на глаза, и его пришлось зашпилить булавкой. Переложив в карман плаща пистолет и зажав в руке английский фонарик — трубку коричневого цвета, — Каиров вышел на крыльцо. Свет из окна падал на ступеньки и на часть дорожки, выложенной плоским камнем. Батарейки были редкостью, и Каиров решил пройти до калитки, не включая фонарика. Дождь лил не ливневый, а обыкновенный мелкий осенний дождь, который не кончался неделями. И ветер метался. И шумело море... Вдруг Каиров различил человеческую фигуру, копошащуюся у забора. Правая рука машинально скользнула в карман за пистолетом. — Мирзо Иванович, батенька! — услышал он голос доктора Челни. — Я потерял галошу... — О боже! — удивился Каиров, — Ему не спится и в дождь... — Я составил оригинальную задачу. Белые начинают и делают мат в четыре хода... — сказал доктор Челни. Вероятно, доктор споткнулся, потому что галоша соскочила на плите, где и грязи-то не было. Да и соскочила недавно... Когда Каиров включил фонарик, лиловая подкладка галоши еще была сухой... — Хорошо, — сказал Каиров. — Пройдите в дом... Аршалуз обсушит вас и напоит чаем. А я через четверть часа вернусь... — Спасибо, Мирзо Иванович. Я ведь тоже лишь на минутку. Улица, виляя, спускалась к шоссе, с которого открывался вид на порт. Порт лежал внизу, под горой. И пристани, обозначенные желтыми точками огней, и зеленые и красные огоньки над выходом в море, и корабли, стоящие у причалов, со светлыми прорезями палуб — все это было знакомо Каирову, как собственная квартира. Сейчас справа покажется маяк — домик, похожий на пчелиный улей. Он стоит на белой треноге высотою с большой тополь. И светит нежно, фиолетово. Выше, на горе, есть еще один точно такой же маяк. Маяки — поводыри капитанов кораблей, приходящих в порт ночью. Огни обоих маяков должны совместиться. Это будет означать, что курс правильный. Выйдя на шоссе, Каиров огляделся. Из города, разгоняя тьму метлами света, полз автобус. Когда автобус подошел, Каиров увидел Нелли. Она стояла у выхода, прижимая к груди черную сумочку. — Мирзо Иванович, у меня в квартире что-то искали, — сразу же сказала она. — Обыск? Кто давал разрешение? — Это не обыск. И не кража. Это совсем другое... Перерыты все вещи Геннадия... Каиров вспомнил, что за несколько дней до своей гибели Мироненко переселился к Нелли. — Что же они могли искать? — Плакаты, — сказала Нелли. — К счастью, я собралась перепечатать записи и взяла сегодня плакаты на работу... — Ты их читала? — Да. — Что-нибудь серьезное? — У Геннадия были подозрения, но он не доверял их бумаге... — Плакаты с собой? — Да. — Она открыла сумочку и вынула из нее бумажный сверток. Каиров спрятал его под плащ. — Я боюсь возвращаться домой. — Придется, Нелли. Я сейчас позвоню оперативному дежурному, чтобы прислали сотрудников с собакой. Может, собака возьмет след. Или нам удастся заполучить отпечатки пальцев. Когда Каиров пришел домой, доктор Челни пил чай и рассказывал Аршалуз какую-то веселую историю. Каиров отдал распоряжение по телефону. Челни спросил: — Займемся задачкой, Мирзо Иванович? — У меня задачка посложнее, — буркнул Каиров и заперся в кабинете. Доктор Челни поболтал с Аршалуз еще четверть часа и вежливо откланялся. Каиров стал смотреть записи. Записи не в тетради, не в блокноте, а на оборотной стороне плакатов. На плакатах была нарисована физкультурница, метающая диск. Рослая красивая девушка. Она улыбалась. Где-то на втором плане целился из ружья стрелок, стартовали бегуны, мчались мотоциклисты. Ниже белели стихи.Плакат первый
Луна лежала поперек моря. Длинная, серебристая. Она рассекала его надвое — от берега до горизонта. Волны мягко накатывались и отступали, словно тая, незаметно, с тихим клокочущим шепотом. Колченогий шезлонг, беспризорный, забытый отдыхающими, приткнулся к зонту. Круглый, будто дыня, камень заменял ему обломанную ножку. Я присел, твердо решив разуться. Сапоги у меня брезентовые, узкие. Стащить их не так просто. Клок парусины свисал над реей. Я поднял глаза кверху и увидел дырку, залатанную небом и звездами. Перевернутый баркас, темневший метрах в пятнадцати, заслонял огни города. И море казалось мне большим. Я видел все это впервые. И длинную пристань, и маяки, словно цветы, у входа в порт... Со стороны города послышались шарканье шагов и негромкие мужские голоса. Двое остановились по ту сторону баркаса. Черный буксир, входя в порт, обрадовался таким пронзительным гудком, что я невольно вздрогнул. Буксир — маленький и низкий, но габариты баржи, которую он тащил, внушали уважение. Словно муравей, он старательно волочил свою ношу. Слабый, мутноватый прожектор щупал воду. Белесая в ночи дымка изгибалась над трубой, будто парус. Буксир развернулся и пошел к пристани... Мне почему-то стало радостно. Просто по-человечески — и все... Хорошо, что я приехал в этот город, где пахнет рыбой и нефтью, где растут магнолии и крошечные буксиры таскают баржи-великаны. И может, совсем зря мне не понравился Волгин, дежурный по отделению, небритый и заспанный, который с лабораторной тщательностью исследовал мои документы и в завершение предложил на ночь диван в комнате угрозыска. Облезлый, с двумя горбами, почище верблюжьих, в котором, наверное, столько клопов, что и до утра не сосчитать... За баркасом кто-то застонал, почти вскрикнул. Секунду спустя что-то с глухим стуком подмяло гальку... Нет ничего хуже, чем быть застигнутым врасплох. Истина древняя, как сама жизнь. И тем не менее каждый открывает ее заново. Меня словно подбросило. Однако бежать в лишь наполовину снятом сапоге оказалось не очень ловко. Я запрыгал, потом, ругаясь, опустился на камни, стащил сапог обеими руками. Человек лежал лицом вниз. Я осветил его фонариком. Крови почти не было. Только на затылке короткие, как щетка, волосы казались смоченными чем-то темным. У пристани дрожали огни. Там должны быть люди. Я поспешил... Близ причала какой-то человек шпаклевал лодку. — Слушай, товарищ, — сказал я, — нужно позвонить в милицию. Случилось убийство... Человек выпрямился. Я включил фонарик. Человек вздрогнул и замахнулся на меня веслом. — Полегче! — успел сказать я и вцепился в весло. — Брось дурить... Где ближайший телефон? Опустив руки, он недоверчиво спросил: — Вправду говоришь... убийство? Он был немолод. Лет шестидесяти. Лицо морщинистое. Под лохматыми ресницами зоркие, как у птицы, глаза. — Милиционер... Сейчас будет милиционер... Он поднял с камней кепку и, сутулясь, пошел к пристани... Вернулся с милиционером. Худым и длинным, как каланча. Осмотрев труп, милиционер сказал мне: — Вы задержаны. — Мне нужно обуться, — сказал я. — Мои сапоги там... — Ничего не знаю, — сказал милиционер, расстегивая кобуру. — Вам лучше постоять... Следствие разберется. Постоять так постоять. Только вот камни влажные, словно вспотели от страха. Это ложится роса. И чайки кричат громко и тревожно, будто не могут отыскать свои гнезда. Подкатил новый, блестящий черным лаком ГАЗ-А. Два оперативных работника и врач, все в штатском, спустились к баркасу. Вспышка магния — желтая клякса — легла на кусок берега. Щелкнул затвор фотоаппарата. Труп перевернули. Из кармана выпал бумажник. Оперативники не торопясь разглядывали его содержимое. Я сказал милиционеру, что пойду обуюсь. Он кивнул, но тут же, спохватившись, шепнул: — Кузьмич, иди с ним... Кузьмич, тот самый лодочник, что едва не огрел меня веслом, с явной неохотой поплелся за мной. — Сам-то не из ближних краев? — спросил он. — С дальних. — Брюхо рыбу чует. Публики нынешнее лето понаехало. Только рыба не дура. Такого паршивого клева пятнадцать лет не было. Никогда сапоги не казались мне такими легкими и удобными. Кузьмич не отставал, будто тень. У баркаса никто не обратил на меня внимания. Невысокий оперативник, видимо возглавлявший группу, спросил: — Как вы полагаете, доктор, когда произошло убийство? — В двадцать часов семнадцать минут, — ответил я. Все с удивлением посмотрели в мою сторону. — Документы! — потребовал невысокий оперативник. Я расстегнул нагрудный карман гимнастерки, в котором лежало заверенное подписями и печатью мое назначение на должность начальника уголовного розыска. ...В бумажнике убитого оказались паспорт на имя Бабляка Федора Остаповича, справка о прививке оспы, тридцать рублей и билет на поезд со станции Курганная. Билет двухнедельной давности. Мокрая фотография Бабляка прилипла к газете, и потеки, словно плесень, расползались по ее краям. Снимок был сделан с паспортного фото. Широкий хрящеватый нос, казалось, занимал большую часть сходящего на клин лица. Темные черточки глаз, открытый, средних размеров, лоб, волосы короткие, зачесаны назад. Лицо как лицо... Словом, это была одна из тех неудачных фотографий, по которым мало что можно узнать о человеке. Ночь кончалась. Я выключил свет, и окно отпрыгнуло назад. В кабинете душно. Распахиваю раму и сажусь на подоконник. Отсюда, со второго этажа, видна часть улицы, подпирающей круглую, как блюдце, площадь. Верещат птицы. В воздухе настоянный запах осени. Где-то вдалеке скрипит телега. Вскоре она выползает из-за дома и катит к площади. На телеге бидоны с молоком. Рядом шагает возница. Я узнал его по кепке-шестиклинке. Видимо почувствовав на себе взгляд, он поднял голову. Опознал меня. И дружески приветствовал взмахом руки. Это был Кузьмич. Тот самый, с пристани... Кто-то вошел. В кабинете было темнее, чем на улице, и я не мог различить, кто вошел. Щелкнул выключатель. У стены стоял мужчина с непроницаемым, как икона, лицом. Он положил на тумбочку рулон, который развернулся. Девушка в спортивном трико смотрела на меня с плаката. Она улыбалась и замахивалась диском. Мужчина сказал: — Каиров. Вот он какой, начальник городского отделения милиции! Я представился. Бросив взгляд на стол, где высыхало фото Бабляка, Каиров спросил: — В чем дело? Убийство? — Да... Девять часов назад... Его фамилия Бабляк, — сказал я. — Это ничего не говорит вам? — Первый раз слышу! — быстро ответил Каиров. Он вызвал дежурного и назначил служебное совещание на восемь тридцать... Я, кажется, уснул. Разбудила секретарь-машинистка. Я видел ее еще вчера. Она тронула меня за плечо: — Скорее в кабинет Каирова. — Как вас зовут? — спросил я. — Нелли... Ей лет двадцать. У нее каштановые, совершенно прямые волосы и загорелое скуластое лицо. Походка угловатая, мальчишеская. — Я хочу коротко проинформировать вас, — начал Каиров, — о совещании, которое проводил начальник ОГПУ Северокавказского края. Обстановка на Кубани напряженная. Борьба с кулаками вызвала известные временные осложнения. На реке Малой Лабе, в окрестностях заповедника, орудует банда одного из царских полковников. Фамилия его точно неизвестна. Скрывается он под кличкой Козяк. Людей в банде немного. Триста — четыреста. Но они отлично вооружены. Кто-то регулярно снабжает их боеприпасами. Есть сведения, что боеприпасы поступают через наш порт.Плакат второй
Октябрь выдался теплым. И листья на деревьях еще держались; они были серые от пыли и немного желтые от старости, но ветры, дующие с моря, от берегов Турции, еще не могли сбить их. Листья держались до ноября, до тех пор, пока норд-ост, развернувшись в Новороссийске, не устремился к югу и желтая его дорога не протянулась до самого Батуми. Я снял комнату уполной особы, которая уверяла, что двадцать лет назад у нее была осиная, самая тонкая талия на всем побережье Северного Кавказа. Когда я пришел к ней, хозяйка спешила на концерт. Она была пианисткой. — У вас современный вид, — сказала она. — Вы не спали и не брились по меньшей мере трое суток. Я не вижу причин, чтобы не уступить вам комнату. Судя по всему, вы ответственный работник. — Я из угрозыска. — В наше время такой квартирант — просто находка. Я возьму с вас вдвое дешевле. Комната мне понравилась. Дом стоял на горе. Из окон, выходивших в маленький розарий, было видно море, порт, пристань... Но акация, что росла за соседним домом, густой кроной, точно пологом, закрывала то место на берегу, где в теплую сентябрьскую ночь произошло неразгаданное убийство. Я чувствовал, что другой, более опытный человек разобрался бы в этом деле. Вероятно, тогда на парткоме следовало проявить большую принципиальность и отказаться от неожиданного назначения. Тяжеловато. И Каиров — человек трудный, настойчивый. Я признаю за ним силу воли. Но во многом не понимаю его... Однажды Нелли, я и Каиров шли обедать. Был полдень. И солнце грело вполне. Цыганка в пестрых юбках сидела у входа в отделение. Это было не очень умно со стороны цыганки — усесться в таком месте, да еще, схватив Каирова за полу пиджака, нараспев сказать: — Позолоти ручку, черноглазый. Как звать, скажу. Счастье угадаю... Она, конечно, не знала, кто такой Каиров. И нахальничала, как с самым рядовым прохожим. — Филиппов! — Милиционер появился на пороге. — Проверь документы, — бросил Каиров, указывая на цыганку. — Откуда они у нее? От сырости? — лениво сказал Филиппов. Каиров предупредил: — Не отпускать до моего прихода. Потом цыганку выпустили. И может, не стоило бы это вспоминать... Но в общении Каирова с людьми есть что-то панское. Я не понимаю, откуда это взялось у старого партийца. Возможно, виною возраст. Возможно, просто старый человек думает, что он самый умный, что он никогда не ошибается. Конечно, люди в пожилом возрасте бывают мудрые. Но и молодой, и средний возраст не состоит из одних дураков... Нелли разделяет мою точку зрения... Я нарочно избегал писать о Нелли. Но, видно, наступила пора сказать о ней сразу... Это очень сложно рассказывать. Кто думает, что писать о любви проще пареной репы, тот либо никогда не любил, либо это было у него лет пятьдесят назад. Срок простительный, внушающий понимание. Дело в том, что в феврале девятнадцатого года я женился на военфельдшере Тамаре Исаковой. Мне было девятнадцать лет, моей жене и того меньше. Свадьба случилась на фронте. Мы пили горилку из темных эмалированных кружек, закусывали квашеной капустой... Я не верю в то, что есть песни, которые задумывались без души, без веры в их нужность, в их будущность. Но почему же тогда бывают плохие песни? Кажется, именно взаимное непонимание, возникшее между мной и Тамарой в последние годы, побудило меня уехать из Ростова. Обстоятельства сближают людей. Это не ново. Но верно. И многое кажется значимей и желанней, чем оно могло бы казаться в другое время. Нелли я увидел в первый день, когда сидел у Волгина. Волгин вертел мои документы, а в соседней комнате стучала пишущая машинка. Потом машинка перестала стучать, а из комнаты вышла девушка. Она быстро взглянула на меня и сказала: «Здравствуйте». Я сказал: «Добрый вечер». Но девушка уже положила ключи на стол и ушла. И в дежурке опять стало нерадостно и дымно... Кабинеты наши были напротив, и я встречал Нелли в коридоре. Я улыбался, ее же лицо не выражало никаких эмоций. Она всегда к кому-то торопилась с зеленой папкой в руках, а когда работала за машинкой, надевала очки. Раз или два в день она заходила в мой кабинет с поручениями от Каирова. И скоро я понял, что мне приятно видеть ее упрямые глаза и короткие, словно у мальчишки, волосы. В воскресенье меня разбудили на рассвете. Посыльный сказал, что ограблен торгсин. Мы долго возились с этим делом. Только к трем часам дня я закончил диктовать Нелли протокол допроса сторожа, которого мы нашли в кладовой целым и невредимым, завернутым в ковер. Из отделения вышли вдвоем. Поднялись к площади, где под мимозой дремал милиционер в белых перчатках. Купили каштанов. Старый грек, насыпая каштаны в банку, бормотал: — Каштаны печеные, каштаны вареные... Лучше пирожного, лучше мороженого... Разобрали — не берут! В единственном в городе кинотеатре шел новый звуковой фильм «Путевка в жизнь». Зрители брали кассы приступом. Нелли сказала: — Пойдем в кино. — Пойдем, — согласился я. Администратор, посмотрев мое удостоверение, заверила, что обеспечит на последний сеанс двумя приставными стульями. Чтобы как-то скоротать время, мы пошли к старику Нодару, с которым меня недавно познакомил Каиров. Сидели в беседке за дощатым столом. Светило солнце, и белые облака бежали на запад. Нелли положила локти на стол, ладонями уперлась в подбородок. Нодар принес обмотанную тряпками бутыль и граненые стаканы. — Прошлогоднее, — сказал он. — Взгляните, какое ясное... Нелли усмехнулась. Вино было светло-розовое, ароматное. Старик Нодар добавлял в него инжир, хотя ни за что на свете не хотел в этом сознаться. Ветер дул из щели. Он был зябким. И желтые виноградные листья падали на стол. И он выглядел почти праздничным. Я поднял бутыль. И налил вино в стаканы. — Выпей с нами, — сказал я Нодару. Нодар покачал головой. Он покосился на старый, увитый глицинией дом, вздохнул и негромко пожаловался: — Скандальная у меня баба. Не женись, кацо! — У тебя нет такта, Нодар, — лукаво сказала Нелли. — А вдруг я хочу женить его на себе? — Вай! Вай! — смутился Нодар. — Сохраню на свадьбу бочку вина. Первый сорт! «Изабелла»... — Не храни, Нодар... Оно скиснет. К сожалению, личные дела наших сотрудников проходят через мои руки. — Удобная штука — личное дело, — усмехнулся я. — Человек как на ладони. — Скука... Неразгаданное лучше. — У нее был твердый, почти жестокий взгляд и строгие, сдвинутые брови, на которые спадала челка прямых волос. ...Мы не торопились, но пришли в кино еще задолго до начала сеанса. Когда поднялись в фойе, Нелли сказала: — У меня есть боны. Пожуем чего-нибудь... В торгсиновском буфете лежали узкие баночки шпрот, пирожные, бутерброды из настоящего белого хлеба и зернистой икры, черной и блестящей, точно бусинки. И еще лежали там многие другие приятные вещи, среди них — папиросы «Пушка». — И «Пушку» возьмем, — сказала Нелли. — Я ведь тоже изредка покуриваю... — Не нужно тратиться, — остановил я. И, смеясь, добавил: — Насытимся духовной пищей... В фойе была фотовыставка. На ней экспонировались работы местных любителей. Выставка называлась «Наш город». Несколько морских снимков с густыми низкими облаками были исполнены талантливо. Остальные — дрова... Уже прозвенел звонок, и народ хлынул в зрительный вал. Нелли потянула меня за руку, как вдруг на стенде, что стоял возле самого окна, я увидел фотографию... Фотографию, в которую не мог поверить. Уголок сквера, на заднем плане — пристань. А у фонтана, сделанного в виде маяка, на скамейке сидят двое мужчин. Сидят и курят. Их лица так ясно и четко выделяются на фоне зелени, словно фотограф именно на них наводил резкость. По жестам и мимике лиц было очевидно, что это не просто два случайных человека. Нет, они курили и беседовали. Нелли перехватила мой взгляд. — Я видела этого человека... Гена, это же тот, которого убили в день твоего приезда. — Бабляк... Но кто второй? Я покачал головой. Потом присел и стал разглядывать снимок через лупу... Третий звонок дрожал над обезлюдевшим фойе. Заглянула билетерша. Она торопила нас. — Пойдем, — шепнула Нелли. — Не привлекай внимания. Мы пошли в зал. Но мне было не до кино. Я твердил фамилию фотографа — Саркисян...Плакат третий
Этот стук извел меня. Он был громким и повторялся через короткие промежутки времени: «тяк... тяк... тяк!..» Я высунул голову из-под одеяла. Посреди комнаты стоял эмалированный таз. С потолка капала вода. Таз, вероятно, принесла хозяйка, потому что за окном лил дождь и было сумрачно. А крыша была совсем как решето. Хозяйка однажды сказала: — Достали бы мне жести. Вы все можете... — Не обещаю. — Вы все можете, — повторила хозяйка. — Если захотите. — Это другое дело. Она деланно вздохнула и покачала головой. Что ни говори — дама с манерами. Вот и сейчас я слышу ее шаги на пороге. Она не стучится в дверь, а громко, нараспев говорит: — Вы еще спите? — Нет. Плаваю... — У меня к вам дело, — говорит хозяйка. Минуту спустя она уже в комнате. Громоздкая, словно шкаф. — Вы будете иметь возможность беседовать с человеком необыкновенным. — Голос ее звучит как в бочке. — Роза Карловна, кто вы по национальности? — спрашиваю я. — Спросите что-нибудь полегче. Мать моя была гречанка. Отец прибалтийский немец... По паспорту я русская... У вас что, профессиональная манера перебивать говорящего? За месяц я так и не смогла сказать вам то, что могла и хотела. Но на этот раз вы меня выслушаете... Наш сосед — учитель ботаники. Настоящий русский интеллигент. Он всего боится. И только к органам власти питает доверие. К тому же он убежден, что у такой хозяйки, как я, не может быть плохого квартиранта. У него неприятности. Поговорите с ним. Это займет немного времени. А я приготовлю вам воду для бритья... Над жухлым, худым лицом блестело пенсне. Учитель ботаники протянул мне руку и виновато сказал: — Чайников. Путаясь и заикаясь, он рассказал, что этой ночью к нему залезли воры. Очистили шкаф с шерстяными вещами. А дело идет к зиме... Расследованием кражи в доме Чайникова занялся Волгин. Он обнаружил на шпингалете отпечатки пальцев. Вскоре выяснилось, что отпечатки принадлежат местному жулику по кличке Граф Бокалов. Графа взяли в три часа дня в торгсине, когда он сдавал золотое обручальное кольцо. Девятнадцатилетний парень, бледный, с глазами наркомана, дурковато произнес: — Граждане начальники, меня и самого совесть мучит. К старому учителю залез. К человеку, который мне про порядочную жизнь рассказывал... — Где вещи? — спросил Волгин. — Какие вещи? — удивился Граф. — Что-то вы тень на плетень наводите. Лучше спросите, из каких побуждений я кодекс уголовный нарушил. Что меня в чужое окно толкнуло? Я отвечу вам, граждане начальники... Жажда знаний! Вы и не ведаете, какая у старика богатая библиотека! При царском режиме собирал! Болтая в таком духе, Граф Бокалов в течение трех часов утверждал, что забрался к учителю Чайникову с целью выкрасть книгу Лидии Чарской «Паж цесаревны». Книгу обнаружили при обыске. Исчезновение ее Чайников просто не заметил. И еще в комнате Графа нашли нераспечатанную коробку в английской упаковке. Потом Графом внезапно заинтересовался сам начальник отделения. Какие планы у Каирова на этот счет — профессиональная тайна. А может, он просто хочет помочь Бокалову порвать с преступным прошлым. Стать на правильный путь... Я забыл написать о фотографии. Тогда, после сеанса, мы вернулись в фойе. И я снял фотографию, предъявив изумленному директору удостоверение угрозыска. Вообще я заметил, что люди либо удивляются, либо пугаются, столкнувшись с нашим братом. Почему так? Ведь большинство из них хорошие люди... Сразу пошел в отделение. Показал фотографию Волгину. Он часа два рылся в картотеке. Пришел и говорит: — Привет от Хмурого. Выходит, что старый валютчик опять объявился в наших краях. Фотографию увидел Каиров. Он поразил меня своим ответом: — Хмурый. Поговорите с Саркисяном. Саркисян — фотограф с базара — точно указал дату съемки: — Двадцать третье сентября. — Искать Хмурого! Возможно, он еще в городе! — приказал Каиров. Вечером Хмурый был опознан сотрудниками уголовного розыска в тот самый момент, когда спокойно прохаживался возле афиши кинофильма «Парижский сапожник». Я обещал Нелли взять билеты на этот фильм. Но, видимо, с временем я по-прежнему не в ладах. У Нелли упрямый характер и теплый голос. Я преображаюсь, когда слышу его. Нет нужды делать тайну из того, что мы не можем жить друг без друга... Я и Нелли идем по набережной. Темной и грязной, застроенной пакгаузами, складами, мастерскими. Сегодня вечер с грустинкой, как весною. И звезды. И даже луна... Пахнет морем и нефтью. От запахов кружится голова. У нас серьезный разговор про высокие материи. Иногда нужно говорить и об этом. Нелли не философ. И я тоже. Говорим, что чувствуем. — Мы какие-то особенные, — говорит Нелли, — И жизнь у нас особенная... А мне хочется простоты. Вот ты любишь меня, а не знаешь... что я обожаю танцы и мороженое. У меня есть боны. Купим мороженое? — Время особенное, — повторяю я. — Не надо себя переоценивать. Мы только люди. И выполняем свой долг... Это главное! А потомки разберутся, что мы сделали. Как знать, может, эти улицы именами нашими называть станут... Мороженое в круглых вафлях. На вафлях имена: «Таня», «Маня», «Ваня»... У Нелли на вафле написано «Гена». — Твое имя, — говорит она. — Если у нас родится сын, я дам ему это имя в честь тебя... ...Мы возвращаемся домой очень поздно. Зажигаем свет. Уже три дня, как я перебрался в ее комнату. Так правильнее. И честнее... Она спит. Или делает вид, что спит... Хмурый опять вертелся у афиши кино «Парижский сапожник». Кого он ожидал? И почему тот, неизвестный, не пришел на свидание? — К афише не подходите... Этот случайно услышанный телефонный разговор... Нет. Об этом еще рано писать. Надо проверить. Надо тщательно проверить. Семь раз отмерь, один отрежь... Неужели враг действительно так близко? Я вижу его десятки раз в день. Здороваюсь с ним за руку... А может, это мания подозрительности, вызванная усталостью... На этом записки обрывались.В полночь Каирову позвонил дежурный по городскому отделению милиции. Он сообщил, что при тщательном осмотре квартиры на стекле книжного шкафа были обнаружены отпечатки пальцев, не принадлежащие хозяйке дома. Составленную дактилоскопическую формулу по методу Гальтона и Рошера отправили в краевое отделение милиции.
10
Костя Волгин стал Аполлоном Пращуровым не случайно. И раньше ему приходилось менять имя и фамилию. Появляться в занятом деникинцами Екатеринодаре с паспортом турецкого коммерсанта Генриха Боркмана, разгуливать в белогвардейском Симферополе в погонах кавалерийского капитана, забулдыги и циника. Разыгрывать из себя слепого, немого, припадочного... Но пожалуй, самой трудной была роль кафешантанного певца в Одессе в 1918 году. Может, потому, что это была первая роль. И трудности набегали, как волны на неумелого пловца. Он пел в кафе у Фанкони. И публика там была пестрая. И весь город был пестрый, оккупированный французами. Негры, зуавы, спекулянты самых различных пошибов, великосветские дамы — бывшие фрейлины и просто легкомысленные девицы дворянского происхождения. И конечно же, господа офицеры всех возрастов и званий. В моде была серо-розовая камбала, круглая, как сковорода, и крюшон из белого вина с земляникой. Волгину удалось завязать знакомство с майором из окружения генерала Шиллинга. Сведения, выуженные у майора, пригодились подпольной организации большевиков... Года, года... Только память сейчас походила на кладовую, где далеко не все разложено по своим местам. Многое затерялось. Позабылось... Но не эта встреча. Там, у Фанкони. После концерта к нему подошел светловолосый худощавый человек с удлиненным лицом. Пожал руку. И представился: — Вертинский. Каждый одессит знал, что Александр Вертинский гастролирует в Доме артистов. Там еще было кабаре. Настоящее европейское кабаре. С Изой Крамер и Плевицкой...Жизнь родителей Кости и его близких родственников так или иначе была связана с театром: бабушка — известная костюмерша, мама — драматическая актриса, папа (он умер молодым) писал веселые куплеты и лично исполнял их под фортепьяно. Были среди родственников декораторы, режиссеры, музыканты, суфлеры и один гардеробщик — дядя Кеша, о котором в доме говорили с тихой печалью, будто о скончавшемся младенце. Дядя Кеша не перешел Рубикон. Мало того, подавая театралам шубы, он не брезговал чаевыми. Глаза у него всегда были красными. И кончик носа тоже. Полагают, что не из-за алкоголя, а по природной стыдливости. Мама и бабушка уверовали, что Костя будет артистом. У мальчика обнаружилась отличная мимика, правильная речь. И притвора он был порядочный. Но бабушка проказы внука определяла как способность к перевоплощению. Костя родился 2 января 1900 года. Появись на свет лет на пять позже, он, естественно, не стал бы в 1918 году разведчиком Красной Армии. Из него, скорее всего, получился бы интересный актер. Быть может, даже знаменитый... Однако в 1918 году молодой Советской стране прежде всего нужны были не актеры, а воины. В мае 1928 года Костя Волгин демобилизовался из армии. Москва. Театральное училище. Седой профессор — старый друг семьи. И Костя. Одежда согласно времени: диагоналевая гимнастерка, хромовые сапоги. На груди два ордена Красного Знамени. Даже шашку еще не снял. Настоящую шашку, взятую у убитого офицера, в чеканной серебряной оправе, с георгиевским темляком. — Поздно, друг мой, — проникновенно говорит профессор. — В двадцать восемь лет поздно учиться актерскому мастерству. Может быть, режиссура. Попробуйте свои силы в режиссуре. На следующий год мы предполагаем набрать целый режиссерский курс. Люди, которые не однажды рисковали жизнью, сами не знают, сколько им лет. Каждый раз, когда смерть уже позади, они чувствуют себя заново рожденными. Будто впервые видят небо, траву, улыбки... И зачем только седеют виски?.. В старом, пропыленном диване Костя нашел растрепанную книгу без начала и без конца. Он так и не узнал название этой книги и ее автора. Одна часть, вероятно вторая, называлась «Под Южным Крестом», последняя — «Магараджа острова Борнео». В книге лихо описывались похождения двух французских авантюристов, схватки с пиратами... И хотя книга была наивной, а приключения надуманными, все равно с пожелтевших страниц дули ветры южных морей. Белыми гривами вздымались брызги над безымянными коралловыми рифами. Грустили высокие пальмы. Кричали непоседливые попугаи... И Косте вдруг захотелось стать моряком дальнего плавания. Пусть вначале матросом, потом штурманом. А под занавес — и капитаном... Он представлял себя шагающим по набережной Сиднея или Порт-Саида. С сигарой в зубах... Маленькие таверны с диковинными названиями: «Три носорога», «Штопаный парус»... Улыбки смуглых женщин в пестрых узких платьях, подчеркивающих стройность фигуры. Мальчишки, торгующие финиками. И ром... Душистый ямайский ром, так полюбившийся людям Флинта... Костя подался к Черному морю. Секретарь горкома партии, подвижный для своего возраста мужчина, терпеливо выслушал посетителя. И с не меньшим терпением, осилив с десяток папирос, убедил Костю Волгина, что, принимая во внимание его, Волгина, героическое прошлое, в штате городской милиции он гораздо нужнее, чем на набережной Сиднея или Сингапура... За пять лет Волгину приходилось сталкиваться с разными феноменами преступного мира. Среди них были и дегенераты, и артисты-эрудиты... Аполлон Пращуров... Обрадовался ли Костя? Мало сказать — да. Он уже и думать не думал, что когда-нибудь вновь ему придется заучивать роль. Вживаться в образ человека, знакомого ему лишь по легенде. О проведении операции «Парижский сапожник» были проинформированы немногие опытные и надежные люди. Но о том, что главную роль в ней будет исполнять Костя Волгин, во всем городе знал только один Каиров. Через день после отбытия Кости в полутемном коридоре городского отделения милиции был вывешен приказ:
«Оперуполномоченного К. Волгина считать в командировке в г. Ростов-на-Дону. На курсах повышения квалификации».
11
Трудно представить доподлинно, как произошла их встреча, потому что ни Волгина, ни Козякова сейчас нет в живых. Волгин не успел подробно ознакомить Кравца с ходом операции, когда был у него однажды суматошной ночью. Можно лишь предположить, что Волгин убедительно рассказал легенду, подготовленную для него Каировым, и полковник Козяков поверил в это. Хотя нет никаких сведений, что характера полковник был доверчивого. Но когда-то Козяков сочувствовал горю молодой вдовы полковника Пращурова, своего друга, погибшего в первой мировой войне. У Пращурова был сын Аполлон. И вероятно, не только Козяков, но и всякий другой человек с трудом мог бы признать в тридцатитрехлетнем мужчине ребенка, которого не видел более двадцати лет. Пращуровы занимали второй этаж особняка, выходившего лиловым фасадом на набережную Фонтанки. Анфилады комнат, где все — и тяжелые портьеры, и тончайшие тюлевые занавески, и модная венская мебель — источало запах нежных духов, которые так любила мать Аполлона, белокурая немка Берта. Она была тогда молодой женщиной, умеющей томно смотреть и загадочно улыбаться. И глаза у нее были серые, а шея длинная и красивая. И вообще при своем высоком росте Берта отличалась на редкость правильными формами. Козяков увлекался Бертой. И, как свидетельствовал Аполлон (подлинный, взятый в плен после разгрома Врангеля), мать легко изменяла отцу. И кажется, не только с Козяковым. Может, сказанное выше в какой-то степени объясняет доверчивость Козякова. Дань молодости. Времени, о котором редко кто вспоминает без грусти... Возможен такой диалог: «Если это вы — в чем я не сомневаюсь, — то вы очень и очень постарели, — говорит Волгин. — Последний раз... Вы были у нас на обеде. И все жалели, что папа накануне уехал в Киев. Вы принесли большую плюшевую обезьяну. Мать всегда любила игрушки. И очень жалела, что я не девочка». «Ты похож на свою мать, — говорит Козяков. — Те же глаза, те же волосы. И улыбка... Что с ней? Она жива?» «Нет. Мама умерла в Одессе от брюшного тифа». «Давно?» «В восемнадцатом». Ну а если Козяков окажется менее сентиментальным? И, схватив Волгина за грудки, крикнет: «Врешь, сволочь!» В этом случае... Он не может не заметить золотую цепочку... И медальон. Медальон, который он когда-то подарил Берте. И фотографию молодой Берты. Берты-девочки. И прядь волос... «Вы любили ее?» — должен был спросить Волгин у присмиревшего Козякова. И он,вероятно, ответит: «Да». Он мог ничего не ответить... И весь разговор мог сложиться совсем иначе, чем он представляется сейчас. Несомненно одно: Волгин выиграл первый поединок... И в банде почувствовали, что новенький пользуется доверием и покровительством атамана. Люди, пославшие Волгина на это трудное задание, понимали, что, даже поверив в Аполлона Пращурова, Козяков должен был спросить: «Хорошо, мальчик мой! Но зачем, для чего ты здесь? Неужели ты всерьез веришь в спасение отечества?» Волгин должен был рассказать следующее: «За несколько часов до смерти мать призналась, что я не сын полковника Пращурова. Я немец. Настоящий немец. Мать назвала мне кодовый номер вклада, который ее отец оставил в швейцарском банке. Это большая сумма. Мне нужно в Европу. Там я обеспеченный человек... Памятью матери заклинаю вас, помогите мне осуществить мечту». Тогда еще никто не знал, что Анастасия дочь полковника Козякова и что по этой причине у Козякова вообще могут быть особые виды на Аполлона и на его «швейцарское наследство».12
Сохранился протокол допроса Анастасии. Вот выдержки из него.В о п р о с. Что вы знали о своем отце? О т в е т. Ничего. Я встретила его шесть месяцев назад в Староконюшенном переулке. Подошел человек и сказал: «Я твой отец». Я привыкла верить бабушке. А бабушка никогда не говорила, что отец жив и скрывается за границей. У бабушки такие честные, искренние глаза! У меня тоже честные, искренние глаза. И они остаются честными, искренними даже тогда, когда я вру. Но сейчас я говорю правду. Чистую правду. Потому что все так ужасно!.. Я по-разному представляла свою жизнь. Но никогда не думала, что стану вдовой в восемнадцать лет... В о п р о с. Почему вы поехали с отцом? О т в е т. Последние дни я думала об этом. Кажется, были три причины. Незнание жизни. Отсутствие того, что в газетах называют патриотизмом. И страх... Разве я испытывала что-нибудь, кроме страха, к этому усталому мужчине с седыми висками?! И когда он остановил меня в Староконюшенном переулке, мне показалось, что он принял меня за проститутку. И я покраснела, и мне хотелось провалиться сквозь асфальт. Он сразу понял это. Он сказал: «Чем же крашеные ногти лучше натуральных?» «Моднее», — ответила я. «Твоя мать, девочка, никогда не красила ногти. А вы похожи, словно две капли воды». — «Разве вы знали мою мать? Почему я не видела вас никогда раньше?» — «Я твой отец, Анастасия. Я вернулся, чтобы больше не расставаться с тобой». И опять повторил, что я очень похожа на мать. Я и без него знала, что моя мать была похожа на бабушку, а я на мать. И фотографии, хранившиеся в старом бархатном альбоме, подтверждали наше сходство. Так что никакого открытия он не сделал. Но он умел говорить прописные истины точно бог. Он взял меня под руку. Без разрешения. Словно я была его собственностью или он двадцатилетним красавцем из киноинститута и собирался предложить мне роль в своем фильме или хотя бы для знакомства пригласить в «Метрополь». Мы шли к Арбату. И старушки в подворотне судачили о распущенности молодежи, а я как дура смотрела себе под ноги. Потому что я читала в книгах: когда отцы возвращаются из странствий, дети бросаются им на шею. Плачут, целуются... Короче говоря, проявляют теплые чувства. У меня не было никакого желания целовать его в гладко выбритые щеки, тем более в губы. Пестрый шарф выбивался из-под бежевого плаща. И этот шарф привлекал к себе внимание, точно родинка-мушка, посаженная над губой. А в его положении, как я позднее поняла, было глупо привлекать чье-либо внимание. В о п р о с. Он вас уговаривал? О т в е т. Он спросил: «Ты поедешь со мной?» — «Во Францию?» — «Да. У меня там дом под Парижем. Розы, виноград... Бабушка говорила о твоей мечте стать актрисой. В Париже много русских эмигрантов, подвизающихся в кино, в театре». Он шел высоко подняв подбородок, расправив плечи. И ноги ставил, печатая шаг. Я не забыла, как бабушка однажды проболталась, что мой отец белогвардейский офицер. И я спросила. Нарочно. Назло. Как он будет реагировать? «Ты большевик, папа?» Он словно поперхнулся. И походка у него изменилась, точно его кирпичом ударили. «Я русский... Я потерял здесь все, что завещали предки. Но, слава богу, при мне остались моя голова, мои руки...» — «Как я — пролетарий?» — «Я не беден. Я приехал за тобой, Анастасия. Может, это и не вся правда. Но основная причина моего возвращения — ты. Я хочу показать тебе мир... Он велик и необъятен. Рим. Неаполь, Париж... Ницца...» Он стрелял названиями городов. И я слушала... Меня качало, как лодку. И я держалась за его руку уже не просто ради приличия. «Нельзя представить возможности, какие жизнь открывает перед человеком. Представить — это значит посадить мысль в тюрьму, в клетку. А мысль должна быть свободной, как птица», — говорил он. И верил, что все это придумал сам. И это было его дело — верить или не верить. Но самое глупое заключалось в том, что и я верила в произносимые им слова. В набор слов, связанных банальностью, точно слюной. Может, в нем где-то спала телепатия. Может, иногда она пробуждалась. И тогда он мог делать с людьми все, что ему угодно. А ему угодно было подчинить меня своей воле. В о п р о с. Свадьба... Расскажите о вашей свадьбе с Аполлоном Пращуровым. О т в е т. Я полюбила Аполлона, как только увидела... Но разумеется, ни о какой свадьбе не могло быть и речи... Отец ничего не спрашивал о чувствах. Приехал ночью, вошел в комнату, не сняв кубанки, сказал мне: «Тебе придется выйти замуж. Приготовься, венчание через полчаса». От удивления я даже не спросила, кто же мой суженый. Я просто сидела на постели, прижав коленки к подбородку, и сонно смотрела на одеяло, сшитое из разноцветных лоскутков. «Я объясню тебе позднее. Все позднее...» А в соседней комнате уже позвякивала посуда. Накрывали стол. Три лампы освещали комнату. И еще красноватый огонек лампадки, висевшей под большой иконой святой Марии с младенцем Иисусом на руках. Поп, от которого разило самогоном, наскоро совершил обряд. Мы обменялись кольцами. И поцеловались... В о п р о с. Сколько времени в ту ночь оставался Козяков в доме Воронина? О т в е т. Часа два. Перед отъездом он минут на десять выходил с Аполлоном во двор. О чем-то говорили... В о п р о с. Одни? О т в е т. Нет. С ними был Генрих Требухов. Он следил за отцом. В о п р о с. Означает ли это, что полковник Козяков не мог поговорить ни с кем с глазу на глаз? О т в е т. Нет, не означает. Но Требухов, как мне известно, всегда находился на расстоянии видимости, имея возможность в случае надобности прийти на помощь. Полковник так и называл его: «Мой телохранитель».
13
Вероятно, деятельность и карьера Генриха Требухова заслуживает особого изучения. Мы ничего не знаем о его детстве и юношеских годах, если не считать рассказанную им самим историю о романе с землемеровой дочкой, отличавшейся высокой грудью и низкой нравственностью... Поэтому перенесемся в 1923 год, когда Генрих работал делопроизводителем учетно-воинского стола при отделении милиции. Поскольку торговля заплесневелыми чернильницами и обкусанными ручками не сулила барыша, делопроизводитель начал продавать учетные карточки, без которых в ту пору трудно было устроиться на работу. Карточка приносила 10 тысяч рублей. Деньги, скажем прямо, некрупные, если учесть, что номер «Курортной газеты» стоил 20 рублей. Однако Генрих не тратился на прессу, предпочитая читать этикетки грузинских вин... Последнее занятие, как и первое, было прервано 114-й статьей Уголовного кодекса. Пункт 4 дробь 1. Народный суд определил Генриху Требухову меру наказания в три года, с сокращением срока в силу амнистии наполовину, с ущемлением в правах по отбытии наказания на один год. Время точит срок, как шашель мебель... И вот Генрих опять в губсуде. Только уже не подсудимый, а секретарь-квалификатор камеры по делам о нарушении законов о труде. Поднатаскавшись в новой должности, секретарь-квалификатор смекает, что большинство граждан-нэпманов совершенно не знают кодекса о труде. В один прекрасный день он приходит в трикотажный магазин гражданки Гофман и заявляет напуганной даме, что она привлекается к ответственности за наем служащих без биржи труда и что за это ей грозит строгое наказание. — Я могу вам помочь, — сказал Генрих. И черные усики над пухлой губой дамы дрогнули от умиления. — Я могу вас совсем освободить от суда. Или квалифицировать преступление в более легкую сторону. — Ближе к делу, — сказала гражданка Гофман, еще надеясь на свои чары, как сорвавшийся с пятого этажа надеется, что ему повезет и внизу он встретит не мостовую, а воз свежего сена. — Полагаю, что содержание статьи сто тридцать второй Уголовного кодекса вам знакомо... Освобождение от суда обойдется вам в пять миллиардов рублей, а более легкая квалификация по первой части статьи сто тридцать второй будет стоить только три миллиарда... — Я не держу дома и рубля, — доверительно сообщила гражданка Гофман. — Так приучил меня мой покойный муж... Придите завтра. На следующий день, не застав хозяйку в условленный час, Генрих написал записку, в которой указал номер своего телефона, имя и отчество. Гражданка Гофман позвонила ему вечером и, проявив практическую смекалку, попросила его принести «дело», дабы убедиться, что тут нет обмана. Отправляясь с визитом, Генрих надел накрахмаленную сорочку, галстук «кисочку». Он нежно нес «дело», как молодая мать несет первенца. Мило улыбаясь, гражданка Гофман приняла папку. И отсчитала задаток — один миллиард рублей... Генрих спрятал деньги в карманы. Из соседней комнаты вышли милиционеры... — Пять лет. — Прощай, «Хванчкара»... «Отто Поднек» — пишущие машинки всех систем, арифмометры, ротаторы. Трамваи и кинематограф... «Мастяжарт» — вакса, гуталин, охотничья мазь. Оптом и в розницу... «Тук-тук!» — стучат колеса. «Ду-ду!» — кричит паровоз. Дальше в биографии Генриха Требухова — айсберг, или, как принято говорить, белое пятно. Промежуток в два-три года после выхода из лагеря не оставил никаких следов в судебной хронике. И можно лишь заключить, что именно в это время и произошло превращение Требухова из рецидивиста-комбинатора в бандита. Выяснилось, что Козяков обещал переправить Требухова за границу... Может быть, никакого превращения не было. Жулик остался жуликом, только решил переменить климат.14
Прежде чем перейти к описанию дальнейших событий, следует отметить один маленький эпизод, а если говорить строго, всего лишь случай, озадачивший Волгина в самый первый день пребывания в банде. Малоподвижный мужчина с плоским небритым лицом вручил Волгину обрез. Сказал: — Вычисти и покажи. Обрез был подернут налетом ржавчины. Приклад измочален. Это немного насторожило Костю. Ему не доверяют. Ведь все остальные бандиты вооружены новенькими английскими карабинами. — Кочерга, — критически сказал Костя. — Ею только золу ворошить. — Какой бог послал, — лениво ответил мужчина с плоским лицом и сделал жест рукой, давая понять, что Волгину лучше выйти из землянки. — Керосинчику бы, — напомнил Костя. И вот у него в руке зеленая бутылка, заткнутая добротной пробкой, словно выдержанное вино, кусок ветоши. Волгин сидит под деревом и, насвистывая простенькую мелодию, чистит обрез... Мимо кто-то проходит. Костя поднимает голову. И не верит глазам: по тропинке идут четверо красноармейцев. В шинелях, в буденовках с красными звездами. Только вот карабины за спинами все те же, английские. Люди, одетые в форму красноармейцев, садятся на лошадей и скачут вниз, в долину, где пенится река и в преддверии вечера курится туман... Волгин в бессилии плюнул... Вот что значит не иметь связи! Бандиты задумали какую-то каверзу. А он никак не может предупредить своих. Вспомнилось наставление Каирова: «Твоя задача — Козяков. Ты должен выкрасть его при первом удобном случае. Очень важно ничем не выдать себя. Поэтому связь будет односторонней. Если нам потребуется что-то сообщить, к тебе придет человек. И скажет: «Поклон от Кравца».Той же ночью неизвестные вырезали семью столяра Антипова и запалили дом. Соседи, боявшиеся прийти на помощь, все же следили за происходившим через окна и теперь в один голос утверждали, что налетчиков было четверо и все они красноармейцы.
Кравца мучила зубная боль, но, паля папиросу за папиросой, он лично допрашивал свидетелей. И вся загвоздка была в том, что Кравец, хотя ни на йоту не сомневался, что это дело рук бандитов Козякова, все же не мог понять, почему жертвой вдруг стал Антипов и его семья. Хромоногий столяр никогда не служил ни в какой армии, был человеком весьма зажиточным, к Советской власти особой любви не проявлял... Когда вышел последний свидетель, Кравец спрятал исписанные фиолетовыми чернилами листки в ящик стола. Положив руки на бедра и слегка прогнувшись, он вдруг обратил внимание на то, что пол в кабинете давно не метен, заплеван окурками и заляпан дорожной грязью... Кравец побрызгал пол водой прямо из графина, достал из-за печки огрызок веника и, согнувшись, принялся за работу. Он еще мел пол, когда в дверь заглянул дежурный. — Товарищ Кравец, к вам просятся. Кравец удрученно сказал: — Не видишь?.. Я полы мою. У нас грязнее, чем в конюшне. Сегодня вечером генеральная уборка... Запомни. — К вам этот... — Кто? — Егерь Воронин. Воронин был бледен и зол. И глаза краснели воспаленно, словно он долго плакал. — Присаживайтесь, — сказал Кравец и бросил веник в угол. Но Воронин не сдвинулся с места. Снял шапку и, опустив голову, глухо сказал: — Заарестуйте меня. Не ожидавший такого разговора, Кравец подвинул егерю стул. Повторил: — Присаживайтесь. И сам сел. Достал из пачки папиросу. Предложил закурить Воронину. Тяжело, словно у него подкосились ноги, опустился егерь на стул. Мутно посмотрел на Кравца. По старому, изморщиненному лицу Воронина катились слезы. — Так... — Кравец вопросительно уставился на егеря. Пряча руки между коленями, Воронин начал говорить негромко и прерывисто: — Невтерпеж держать грех на душе. Бог свидетель... Пятьдесят лет худого людям не делал. И сейчас натура не позволяет. Во-первых, знаю, где банда Козяка. Людей сколько в банде — знаю: немногим меньше трех сотен будет. Все при конях... Это во-вторых... Еще, слыхал я, в наших краях они не задержатся. Уйдут... Сказывается мне, в Турцию... Вынув из кармана огрызок карандаша, Кравец положил перед собой листок бумаги. Угрюмо посмотрев на бумагу, Воронин напомнил: — Только отпиши, что я добровольно, по своей чистой совести пришел. Готов отряд красных такими тропками провести, каких никто и не знает. Врасплох мы Козяка застанем. Всех бандюг сничтожим. — Хорошо, — сказал Кравец, — что сами пришли. Но почему так поздно? Вы были у Козякова связным? — Связным я не был... Но помнил он меня по тем годам, когда приезжал сюда с князем Кириллом охотиться. Говорит, мужик ты тертый и покладистый. Вера тебе есть... А кто на моем месте не стал бы покладистым! Люблю я свою работу. И любил... Потому и угождал всем... Хотя про себя другое думал... А почему поздно пришел, гражданин начальник? Как на духу скажу, может, вовсе бы и не пришел, если бы они Ильюшку Антипова не порешили. Племянник он мой. Сын сестры единокровной... — Мы тоже знаем, что это бандиты. Но зачем бы им озлоблять вас? Смысл какой? — А чтобы я на красноармейцев больше злости лютой поимел. Да меня не проведешь. Я калач тертый. Известно мне, что они не в первый раз в форму красных переодеваются. Лицо Воронина было суровым, глаза жестокими... — Поможете нам, Воронин? — перегнувшись через стол, в упор спросил Кравец. Воронин степенно кивнул. Кивнул с чувством осознанной силы, непримиримой, злой... — Решено, — сказал Кравец. — Мы свяжемся с вами, когда вы нам понадобитесь. А сейчас возвращайтесь домой и ведите себя так, словно и вправду верите, что красноармейцы убили вашего племянника и его семью. Воронин еще раз кивнул... Ушел не простившись. Через полчаса Кравец послал две шифрованные телеграммы. Одну — начальнику ОГПУ Северокавказского края, вторую — руководителю операции «Парижский сапожник» Каирову.
Между тем Воронин, прежде чем отправиться к себе домой, заглянул на почту и у окошка «до востребования» спросил, не поступило ли письма на его имя. Женщина в платке протянула конверт с зеленой маркой. Выйдя на улицу, Воронин еще раз внимательно оглядел конверт, но распечатывать не стал и спрятал во внутренний карман. Потом сел на коня и уехал.
Сто шагов... Кравец отсчитал сто шагов и остановился посреди кабинета. Кабинет был маленький. И Кравец несколько минут ходил из угла в угол. Сизая темнота заполняла комнату. И она немного давила, эта темнота. Во всяком случае, мешала думать... Тогда Кравец снял стекло с керосиновой лампы. Чиркнул спичкой и коснулся ею паленого фитиля. Желтый огонь, подернутый черной копотью, потянулся кверху. С хрустящим стуком влезло в гнездо стекло. Сразу же сделалось светлее. Кравец поднял лампу и, приблизившись к стене, повесил ее на гвоздь. Ни из Ростова, ни от Каирова ответных телеграмм еще не поступало. Кравец подумывал, не связаться ли ему лично с командиром кавалерийского отряда и, воспользовавшись помощью Воронина, накрыть бандитов врасплох. Это было очень заманчиво — покончить с Козяковым одним ударом, понеся при операции минимальные потери. А он, Кравец, был уверен, что бандиты не ожидают нападения и не смогут оказать особого сопротивления. С другой стороны, как человек опытный, он должен был взвесить все варианты. В том числе и самый худший... Но Кравец уже не спал двое суток. И в голове у него гудело. Неплохо бы отдохнуть... Однако явился новый свидетель и задал новую задачу. Переминаясь с ноги на ногу, колхозник Никодим Буров сказал, что подозревает в убийстве Антипова егеря Воронина. — Встретил я его намедни. Плачет в тряпочку, да уж больно усердно. Жаль ему Илью... Может, это все и правда... Горе человеческое осмеивать грех... Но по тому, как знаю егеря Воронина характером, радоваться смерти племянника он должен... Известно мне, что они золотишко на Лабе при англичанах промывали и опосля тоже. И где-то вместях, как говорил однажды выпивший Антипов, до лучших времен заховали. — Когда Антипов говорил про золото? — Года два... три назад. На пасху... — А если он просто болтнул? — Я здесь родился и всю жизнь безвыездно и безвыходно... Как облупленного Антипова знаю. Месяцами пропадал он на Рожкао. Красный камень толок... — Конгломерат? — Он самый. — А разве вы в тех местах не бывали? — Случалось, за ладаном ходил. Много его в горах. Попы хорошо за ладан платили...
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ
1
В тот год Европу заливали осенние дожди... И люди, стоя в очередях за газетами, держали над собой зонтики. Черные зонтики — один около другого, похожие сверху на летучих мышей. Газеты, как всегда, пахли типографской краской. И жирно набранные заголовки на полосах бросались в глаза. Это были новости. Калейдоскоп новостей. Их приносили радио, телеграф, телефон... Политическая полиция закрыла во Франкфурте-на-Майне институт социальных исследований, обвиняя его в том, что он поощряет антигосударственные стремления. На совещании исполнительного комитета федерации лесоторговцев в Лондоне было принято постановление отклонить вмешательство канадского премьера Беннета во внутренние дела Англии, и правительству был послан протест с требованием, чтобы лесоторговцы при заключении сделок предварительно совещались с федерацией. Эти решения расцениваются как различное отношение к импорту советского и канадского леса. Указывается, что Канада не в состоянии снабжатьв достаточном количестве Англию нужным ей лесом и не может предложить лес по ценам, приближающимся к ценам тех же сортов леса, предлагаемых СССР. Сотрудники Академии наук СССР, работая в Библиотеке имени В. И. Ленина и в архивах и книгохранилищах Горьковского края, обнаружили новые материалы о восстании Степана Разина. Найденные документы подробно освещают крестьянский быт допетровской эпохи и дают новые сведения о разгроме ряда сел при ликвидации восстания 1670 года. Сегодня на берлинской бирже курс доллара снова упал до 2,86 германской марки против вчерашнего курса — 2,90 за доллар (паритет 4,20 марки). Вашингтон. Из авторитетных источников стало известно, что Рузвельт намерен без всяких ограничений осуществить программу военно-морского строительства. В 1936 году, когда программа будет завершена, в американском флоте окажется на 101 судно меньше, чем это разрешено договорами, а в английском флоте — на 64 судна меньше, тогда как японский флот достигнет к этому времени максимальных пределов. Вчера в 16 часов 15 минут три французских самолета, на которых следовал французский министр юстиции Пьер Кот и его спутники, снизились на центральном аэродроме Аэрофлота в Москве. Все три прибывших самолета — трехмоторные монопланы. Особый интерес представляет флагманский аппарат «Девуатин-332». Агентство Ассошиэйтед Пресс передает из Буэнос-Айреса, что все попытки Аргентины, Бразилии, Чили и Перу выступить с посредничеством между Боливией и Парагваем потерпели неудачу. По словам агентства, Парагвай готовится к войне на неопределенный срок для оказания сопротивления Боливии. Парагвайское правительство намерено завербовать в свои войска 10 тысяч русских белоэмигрантов-казаков. Царский генерал Беляев направляется в Европу в целях вербовки. Парагвайское правительство обещает белогвардейцам, которые примут участие в войне, земельные наделы в районе Чако, послужившем поводом для конфликта. Агентство указывает, что расходы по переправке белогвардейцев взял на себя «видный парижанин». По сообщениям из Гаваны, стачечное движение на Кубе ширится. Рабочие захватили в свои руки ряд новых сахарных заводов, требуя от американских предпринимателей повышения заработной платы. Опасаясь растущего революционизирования солдат, рабочих и крестьян, новое правительство Сан-Мартина вооружает несколько тысяч студентов. Многих капралов и сержантов правительство продвинуло на высшие должности. Радио, телеграф, телефон... Осень 1933 года...2
Тучи на рассвете густели. И горы казались плоскими, точно наляпанными на бумагу. Из щели дул ветер. Листья падали темные, как тучи. Ведомые под уздцы кони ступали осторожно, будто не доверяли мокрым камням, прятавшимся под листьями. Требухов шел впереди. И его спина в запачканной глиной телогрейке маятником раскачивалась перед глазами Волгина. Всю дорогу молчали. И это было удобно, потому что нужно было думать. Думать серьезно, как никогда. У Волгина были все основания ругать себя за то, что выполнение задания затянулось, что события приняли такой оборот, когда трудно предсказать, чем они кончатся. Но с другой стороны, работать без связи почти невозможно. Не с кем посоветоваться, некого проинформировать. Если даже он, Волгин, больше никогда не попадет в банду, не увидит Козякова, время, которое он пробыл здесь, даром не пропало... Ему известен пароль. Это и мало, и много. Мало, если тот, кто скрывается в городе, что-то заподозрит и не придет на место встречи. Много, если все будет хорошо... Потому что похищение Козякова не было самоцелью. Он нужен был живой, чтобы дать сведения. Рассказать, кто же действительный руководитель бандитских шаек, кто снабдил их английскими карабинами, патронами... Этот пароль ниточка. А может, леска. Авось добыча не сорвется. И если сейчас вести себя как нужно и, купив билет на первый же скорый поезд, уехать в город, то Каиров не станет сердиться, не скажет: «Подвел. Сорвал серьезное задание». Вернее, не сказал бы. Не будь этой свадьбы... Но свадьба состоялась... Да, дети не отвечают за родителей. Пусть Анастасия Козякова — человек наивный и легкомысленный, но она не преступница... Нет, нет, нет! И она красивая. И Костя Волгин любит ее. Он никогда не любил раньше. А теперь любит. Но, честное слово, он не собирался на ней жениться! Честное-честное!.. Да, это трудно доказать... Сейчас, когда он не привез Козякова, связанного по рукам и ногам, с кляпом во рту... Можно подумать, что это так просто — связать Козякова, словно грудного ребенка. Костя очень рассчитывал на свадьбу, когда узнал, что она состоится в доме Воронина. Он был уверен, что гости перепьются. И если выйти с дорогим тестем подышать свежим воздухом, а потом ударить его по черепу маленьким, но таким тяжелым браунингом, который лежит в кармане куртки... И тогда не велика проблема связать его и положить поперек седла. А за час, даже за полчаса можно уйти далеко... И Косте удалось в ту ночь выманить Козякова из дома. Холодный ветер трепал ветки. И они раскачивались, словно в танце. Иней подбелил землю, и ступеньки крыльца, и перила. Тихо ржали кони, привязанные у сарая. Мотали хвостами, гривами. Козяков прислонился плечом к стене, спокойный, довольный. Смотрел на Волгина, попыхивая папиросой. Волгин нащупал в кармане пистолет. Взял за ствол. Рукоятка достаточно тяжела, чтобы свалить кого угодно... — Что ты хотел сказать мне, Аполлон? — Голос Козякова был почти ласковым. — Я теперь не один... Мы с Анастасией должны убраться отсюда, пока не настали морозы. Он повел локтем, намереваясь вынуть из кармана пистолет и мгновенно нанести удар. Но... Скрипнула дверь. Хмельные голоса на секунду стали громкими. Однако тут же опять затихли, словно удалились. На крыльце кто-то остался. Козяков передернул плечами и пошел к крыльцу. Волгин не двинулся с места. — Что, Генрих, не пьется? — Нужно ехать, — сказал Требухов. — Аполлон, останешься здесь. — Я бы с вами, — возразил Волгин. — Хорош зятек... От молодой жены в первую же ночь убежать готов! Останешься до утра... Воронин проводит тебя. Мы будем на прежнем месте. Все так же не унимался ветер. Хлопала дверь. Бандиты выходили поодиночке. С ухмылкой желали Волгину счастливой ночи. Садились на коней. Стук копыт растворялся в шуме ветра... Горы лежали вокруг мрачными черными пятнами. Где-то за ними была луна. Она немного подсвечивала. И поэтому небо было светлее, чем горы. А горы казались еще непрогляднее. Старуха убирала посуду. Воронин дремал, положив голову прямо на стол. — Ступай, — старуха кивком указала на дверь, — волнуется она. Молодое дело, известное... Волгин вошел в комнату Анастасии. Лампа была пригашена. На спинке стула висело белье. Волгин смутился и перевел взгляд. Анастасия лежала в кровати, повернувшись лицом к стене...Внезапно Требухов остановился, подал знак рукой. Внизу по обмелевшей речке двигался конный дозор. Пятеро всадников в буденовках, с карабинами в руках. Передний вскинул бинокль и долго рассматривал склон горы. Потом он что-то сказал товарищам. Всадники подъехали к горе. Теперь кусты и деревья скрывали их из виду. Требухов шепнул: — Надо уходить. Вскочили на коней... Днем прятались. В расщелине между скалами... Вечером еще ехали около двух часов. Наконец коней привязали в кустах близ самшита, единственного на опушке, потому приметного. Несколько километров шли до станции пешком. Уже стемнело. Дорога была незнакомая, осенняя, студеная, с вязкой глиной и лежалыми листьями. Паровозный гудок подсказал, что станция близко. На поросшем травой запасном пути стояло несколько товарных вагонов. В маленьких, под самой крышей, оконцах бледнел свет. Сушилось белье на невидимых в темноте веревках. Играла гармошка, однообразно и вызывающе. И кто-то танцевал, кажется в крайнем вагоне, возле которого уже было срублено крыльцо из некрашеных досок. Женщина вышла из вагона и сказала кому-то оставшемуся в тепле: — Снимать нужно. Сыроватое... Да уж стащат, ищи ветра в поле. Живут вот люди: работают, спят, стирают белье. А ветер сушит его. Хорошо. Все хорошо. И гармошка играет. Хорошо. Значит, людям радостно. Волгин и Требухов прошли близ женщины. Она посмотрела на них. Пристально или подозрительно, попробуй разбери. Когда шагали по шпалам, Требухов сказал: — Пожрать бы. Метров через тридцать остановились. Вдоль линии лежали горки угля. Под фонарем, висевшим на перекошенном столбе, топтался красноармеец, держа поперек винтовку. Искрящийся шар мерцал вокруг лампочки. Волгин провел по лицу рукой. Мокро. Изморось была мелкой и липкой, как туман. — Придется в обход, — с досадой сказал Требухов. — Не заблудимся? — Язык до Киева доведет... Но спрашивать не пришлось. Несмотря на то что было еще не поздно, на улицах не встретилось ни одного человека. Требухов сориентировался по водонапорной башне, и вскоре они стучали в нужную калитку. Долго лаяла собака. Неприветливо, хрипло. Потом вышел хозяин: — Чего желаете, люди добрые? — Еще минута, и я бы пристрелил твоего пса! — раздраженно ответил Требухов. — Рано спать ложишься, свояк. — Днем не бездельничаем, — ответил хозяин. — Керосин экономим, — подсказал Требухов. — Проходите. — Хозяин открыл калитку, пропустил их во двор. Сам же вышел на улицу. Оглянулся. Никого не было. Все это не нравилось Волгину. И предчувствие не обмануло его. Едва вошли в теплую продымленную комнату, как он обратил внимание на человека с коротко отросшими волосами. Он показался ему знакомым. Стриженый и еще один, угрюмый мужчина с крупным подбородком, сидели за столом, в центре которого светила пятилинейная лампа. На столе, застланном чистой скатертью, больше ничего не было. Стриженый, верно, тоже узнал Волгина. Глаза его беспокойно забегали, и он убрал руки со стола, сунув их в карманы. Может, это ловушка? Может, все подстроено Козяковым? Хорошо. Если Козяков заподозрил Костю, то зачем такие сложности? Разве он. не мог прикончить его там, в горах? Резон. Последний разговор с Козяковым был особенным. Это был разговор тестя с зятем. И Козяков доверил ему такое, на что ни Волгин, ни Каиров даже не рассчитывали. Прибыв в город, Волгин должен приклеить на углу рыбного магазина (это возле нового колхозного рынка) объявление: «Коллекционер приобретет старинные медали и монеты, а также литературу по нумизматике. С предложениями обращаться: Главпочтамт, до востребования, Лазареву Юрию Михайловичу». И все же... Костя где-то видел эту рожу. Но где, когда, при каких обстоятельствах? Опасность быть узнанным, разоблаченным точно подстегнула его. Костя улыбнулся, спокойно сказал: — Здорово, ребята. Сдержанные рукопожатия, как всегда, между малознакомыми людьми. Требухов заявил: — Корми, дядька. Голодные, словно волки. Хозяин сам набросил на стол клеенку. Принес соленья, картошку, сало. Бутылку с мутным самогоном. Выпили. Волгин неожиданно разомлел. Сказалось недоедание. Снял куртку, повесил ее на гвоздь, вбитый в стену Волгин только позднее вспомнит, что в кармане куртки остался пистолет. А сейчас Костя думает о том: кто же этот стриженый? Кто? Поезд на Сочи прибывал только в четыре утра. Билеты начинали продавать не раньше чем за четверть часа до отправления. Хозяин предложил передохнуть. Костя лег на сундуке в маленькой комнате с окном, выходящим во внутренний двор. Подушки не было. Костя положил руки под голову и сразу вспомнил... Стриженый! Точно! Костя присутствовал на допросе, который вел Мироненко. В чем же тогда подозревали стриженого? Кажется, в ограблении... Нет сомнения, что стриженый тоже опознал Костю Волгина.
3
Редкую ночь Граф Бокалов проводил теперь под одной и той же крышей. Каиров не советовал ему спать дома. Считалось, что Бокалов скрывается от милиции, а значит, и квартира его под наблюдением. Дружки, чередуясь, водили Бокалова к себе. Это было не всегда удобно и, может, порою рискованно, но бродячая жизнь позволяла больше видеть и больше слышать. А это-то для него и было главным. Видеть больше, слышать больше... Два дня назад Граф встретился с Каировым на дровяном складе в маленькой дощатой сторожке с единственным, никогда не открывающимся окном. Каиров, по обыкновению, был в штатской одежде. Серое пальто, шарф, мягкий, из белой козлиной шерсти, кепка. Слушал Графа не перебивая. Похвалил за наблюдательность. Потом сказал: — Меня очень интересует Варвара. Не сможешь ли с ней сблизиться, Вова? — Если нужно, я могу пойти пешком в Америку, — заверил Граф. — До Варвары гораздо ближе... Но... Левка Сивый порядочный олух. Он несерьезный и к тому же ревнивый... — Если Сивый тебе уже не нужен, — сказал Каиров, — мы приютим его у себя. Кража бумажника... — Хорошо, — сказал Граф. — Если Левка переселится «на курорт», Варвара не вынесет одиночества. И моя дружба может оказаться весьма кстати... — Решено, — протянул руку Каиров. — Нет, Мирзо Иванович, нужны деньги на представительство. С тех пор как я не занимаюсь делом, мой кошелек тощ, словно мартовский кот. — Ясно, Вова. Получишь деньги... — Сколько? — Для начала — пятьсот... — Считайте, что Варвара в наших руках. — Скажешь гоп, когда перепрыгнешь. Слушай меня внимательно, Вова. Варвара часто стала бывать в клубе иностранных моряков. Сам по себе факт не очень примечательный, поскольку этот клуб привлекает многих потаскушек. Но Варвара амурных знакомств с моряками не заводит. И рано уходит из клуба. И всегда одна... Странно? — Вполне, — согласился Граф Бокалов. — Надо выяснить, зачем она приходит. Понял? — Да. — Действуй.Темнело в шесть часов... В начале девятого Граф Бокалов направился к Варваре. Он решил не ехать автобусом, а пешком пройти через Старый порт, подняться к шоссе, а там до дома, где живет Варвара, рукой подать. Вечер был с ветерком, сухим северо-восточным ветерком с кубанских степей. И в городе не пахло морем, а только немного нефтью. И улицы были безлюдны. По выложенной камнем дороге прогромыхала телега, потом проехал мужчина на велосипеде. Тонкая луна изогнулась над горой, и тени у заборов густели нечеткие. Глухая ограда судоремонтного завода тянулась вдоль левой стороны дороги. Справа обрывистая гора, только на самой вершине перехваченная кустарником, прижимала к обочине деревянные домики, глядевшие из-под драночных крыш одним-двумя занавешенными окнами. За оградой рабочие ночной смены клепали, вероятно, обшивку судна. Грохот пневмомолотков смешивался с повизгиванием лебедок, человеческими выкриками. Бокалов хорошо знал этих ребят. Он и сам едва не пошел работать на судоремонтный завод. Колька Инженер красочно свое житье-бытье расписывал. Инженером его на улице ребята прозвали. За смекалку, за любовь к технике. А вообще, на заводе Колька слесарем в сборочном цехе... И Граф согласился пойти к нему в ученики, заявление написал. Но тут, как назло, продулся майданщикам в «двадцать одно»... Майданщики, занимавшиеся кражами на железных дорогах и в поездах, были угрюмыми и злыми. И срок для выплаты долга поставили три недели. Тогда Бокалов еще не был возведен в ранг воровского графа, и с ним можно было разговаривать на таких условиях. Бокалов сошелся с двумя чердачниками. Таскал с ними белье с чердаков: трусы, простыни, бюстгальтеры... Сбывал добычу на барахолке. Получал свой сармак — так на блатном жаргоне называлась доля... Потом познакомился с домушниками... И уже месяца через два его стали величать Графом благодаря смелости, инициативе, смекалке... Что греха таить, Бокалов не сразу понял, куда ведет дорожка, на которую он ступил. Все это казалось игрой. Рискованной, но интересной. И было в этой жизни что-то притягательное, но и засасывающее, как болото... Первое открытие — назад дороги нет — было особенно безотрадным. Он стал приглядываться к своей воровской компании. И подумал, что многие из ребят, абсолютное большинство, за исключением двух-трех законченных кретинов, могли бы стать людьми вполне полезными обществу... Камни делают дорогу похожей на шахматную доску. Они квадратные, но лежат не совсем ровно. И луна освещает их так, что одни камни блестят, точно смоченные водой, а другие остаются темными, шершавыми. И по камням хочется не шагать, а прыгать, как по «классикам». Впрочем, больше всего Графу хочется довести дело, которое ему доверил Каиров, до хорошего конца. И начать новую жизнь... Но кто это уже три квартала шагает сзади? Граф остановился, резко повернулся. Человек шел прямо на него. По силуэту и походке можно было определить, что это мужчина. Чутьем или интуицией, называйте как хотите, Бокалов вдруг понял, что в него сейчас будут стрелять. И когда неизвестный вынул из кармана правую руку, Граф бросился к стене в надежде, что тень на какое-то время прикроет его. Он прильнул к стене, широко расставив руки, словно хотел обнять ее, и двигался боком, боком... Коленка ударилась о выступ. И Бокалов сообразил, что, может быть, судьба дарит ему последний и единственный шанс выиграть поединок. Вскочил на уступ, схватился руками за край стены и перебросил через нее туловище. В тот самый момент, когда Граф еще был на стене, первая пуля, попав в козырек, сбила с него кепку, вторая чиркнула о кромку стены, оставив на цементе темную продолговатую полоску. Отряхнув брюки, Граф поднял с земли кепку и пошел к цеху — большому длинному зданию, в широких окнах которого горел свет. — Володя? — В голосе у паренька удивление, изумление. Ясно, что Колька Инженер ожидал увидеть здесь кого угодно, только не Бокалова. — Он самый... — вяло ответил Граф. — Как же ты сюда попал? — Профессиональная тайна. Где у вас телефон? — Телефон? — Да. Я хочу вызвать машину. — Шутишь. — Серьезно. Покажи, где телефон. — Граф посмотрел ему в глаза... И Колька не спросил больше ничего. Он провел Бокалова в кабинет начальника цеха. В это время там уже никого не бывало. — Выйди, — сказал Граф. И набрал номер телефона Каирова...
4
Иван Беспризорный сказал: — Ребята, я вам стихи новые прочитать хочу... — Не время, — ответил Сема Лобачев, который сейчас был за старшего. Поддувайло возразил: — Может, до рассвета никто и не объявится... Да и потом кто знает, чьи это кони. — Бабушка надвое гадала, — поддержал Боря Кнут. — Скорее всего, кони ворованные. И здесь милиционеру сподручнее сидеть, а не нам, бойцам Красной Армии. — Много говорите, — заметил Семен Лобачев. И потом разрешил: — Ладно, читай... Только негромко... — Стихотворение называется «Сабля»... — начал вполголоса Иван Беспризорный. Тучи расползались медленно и тихо, как расползается промокшая бумага. И появлялись звезды, маленькие, словно елочные свечи. И Семен Лобачев, который плохо слушал Ивана, глядя на небо, подумал, что третий десяток на земле живет, а первый раз видит, как звезды из-за туч появляются... — Да, — сказал Боря Кнут. — Будешь ты, Ваня, большим поэтом. В столице жить будешь. А я к тебе проездом наведываться стану, на выпивку занимать... — Я серьезно, ребята. Как ваше мнение? — Мое мнение хорошее, — сказал Поддувайло. — Но я бы больше приветствовал, если бы ты анекдоты писал. — А про любовь что-нибудь есть? — спросил Семен Лобачев. — В смысле — про его Марию, — посмеиваясь без злобы, уточнил Боря Кнут. — Лирических стихотворений у меня много, — заверил Иван Беспризорный. — Хотя бы это... «Я не знаю, как зовут девчонку»... — Тише, — вскинул винтовку Семен Лобачев. — Кто-то идет... От дороги в сторону опушки ехали всадники.Окно светилось в ночи. И на полу у сундука лежал белесый квадрат, рассеченный рамою, точно крестом. Где-то скреблась мышь. В соседней комнате не спали. И замочная скважина по-прежнему оставалась желтой. Волгин натянул сапоги, присел на сундук, мысленно ругая себя последними словами. Как же он мог оплошать? Забыть на гвозде куртку с пистолетом в кармане! Может, еще не поздно пройти в соседнюю комнату. За стеной разговаривали. Костя замер у двери. Прислушался. — Что я, маленький! Это точно, — говорил стриженый. — А если путаешь? — спросил Требухов. — Ты знаешь, кто он? Зять полковника. — Все равно... Похож он на того лягаша... Тикали часы. Под ногами Требухова попискивали доски. — Что будем делать? Задал ты мне задачу, — бурчал Требухов. Костя на носках пробирается к окну. Двустворчатую раму соединяет с наличником лишь крашеный шпингалет. Движение руки — и шпингалет легко скользит вверх. Створки расходятся беззвучно. Земля сразу затрещала под ногами. И собака метнулась к углу дома. Но цепь была короткой. Собака лаяла, но достать Волгина не могла. А он уже бежал через сад до забора. Перевалился через забор. Очутился на улице. И кинулся вперед, ища глазами водонапорную башню. Звезды прыгали над головой и неслись за ним вдогонку. Полная луна мелькала справа за крышами. Он махал руками, как бегун на дистанции, и пот катился по его лицу. Но рубашка была тонкая, холод легко проникал сквозь нее. Между лопатками леденело, словно он прижимался к стеклу. Черные шпалы выползали ему под ноги. И он бежал по шпалам, помня о часовом, охранявшем уголь. И когда часовой крикнул: «Стой! Кто идет? Стой! Стреляю!», Волгин обрадовался, будто услышал голос близкого человека. — Ты поскорей, поскорей вызывай своих! — торопил он часового. А часовой смотрел на него подозрительно, точно на сумасшедшего. Разводящий трижды переспросил. Покачал головой. Но может, все же поверил, а может, просто путь в караульное помещение пролегал мимо дома, который занимал уполномоченный ГПУ. И разводящий заглянул туда. Кравец оказался на месте. Кравец удивился. И не скрывал этого. А Волгин не знал, с чего начать. Не знал, что можно говорить, а что нет. Поэтому, подумав, он сказал самое простое: — Я от Каирова. — «Два», — сказал Кравец. — «Восемь», — ответил Костя. И на всякий случай добавил: — «Парижский сапожник». Через семнадцать минут на явку, где оставался Требухов, был совершен налет. Чекисты обыскали дом, подвал, чердак, сарай и сад, но ни Требухова, ни стриженого, ни самого хозяина найти не удалось. На кухне оказались лишь перепуганная женщина да двое плачущих детей. Куртка Волгина висела на прежнем месте. Но именного пистолета в боковом кармане не было. Волгин рассказал Кравцу самое главное, про объявление с медалями и монетами. И про телеграмму, которую он должен дать на имя Воронина, если все будет хорошо. На раздумья не было времени. Но и Кравец, и Волгин сразу сообразили, что самое главное в настоящий момент — перехватить Требухова, не дать ему возможности связаться с Козяковым. Потому что может существовать еще какой-то канал связи, по которому Козяков сумеет предупредить того, кто в городе, об опасности. И тогда сведения, добытые Волгиным, потеряют всякую ценность. Командир кавалерийского эскадрона поступил правильно, выставив засаду возле лошадей, обнаруженных на опушке. Однако, когда Семен Лобачев вскинул винтовку и сказал: «Тихо. Кто-то идет», это были не Требухов и его дружки... Это шли Волгин, Кравец и кавалерист — командир взвода...
5
Варвара читала журнал «Вокруг света». Она любила его. Здесь печатались приключенческие повести, интересные рассказы, большей частью переводные: про далекие моря и незнакомые города, по которым обезьяны разгуливают так же свободно, как у нас кошки. Варваре нравился этот журнал. И она выписывала его... Она всегда делала все, что хотела, без лишних слов и шума. В кресле было уютно. Свет настольной лампы ложился на письменный стол, этажерку, зеленый пуфик и ковровую дорожку неправильным кругом — с затейливым орнаментом по краям.«Солнце опускалось за горизонт, освещая красными лучами ярко-зеленую поверхность Саргассова моря и Остров Погибших Кораблей с его лесом мачт. Этот исковерканный бурями, искрошенный временем лес, его изломанные сучья-реи, клочья парусов, редкие, как последние листья, — все это могло бы привести в уныние самого жизнерадостного человека. Но профессор Людерс чувствовал...»В дверь постучали. «Матери сегодня нет. Кто бы это мог быть?» Часы пробили один раз. Варвара машинально взглянула на циферблат: стрелки показывали половину первого. И от сознания, что она одна и уже поздно, Варвара замедлила шаги. Нерешительно остановилась перед дверью. Ей стало жутко, но лампочка в прихожей перегорела несколько дней назад, и свет падал лишь из той комнаты, где минуту назад она читала журнал. Стук повторился, требовательный, громкий... Варвара подняла крючок, повернула ключ. Скрипнула дверь и поплыла в полумрак лестничной площадки. На пороге стоял мужчина в низко надвинутой на глаза кепке. Варвара вздрогнула, но... дверь уже была далеко, и потянуть ее на себя просто невозможно. Лицо мужчины показалось ей чуточку знакомым. И хотя ей было страшно, так страшно, что хотелось плакать, она ничем не выдала своего испуга, наоборот, нагловато сказала: — Алло, милый! «Милый» холодно спросил: — Одна? Она неопределенно пожала плечами, лихорадочно думая, что же делать. — Можно пройти? — Я жду любимого, — на всякий случай соврала Варвара. Мужчина вошел в приходную. — Закрой дверь, — сказал он. — Закрой сам, — ответила она. — Я боюсь темноты. Они прошли в комнату, где горела настольная лампа. Мужчина спросил: — Ты не разрешаешь мне остаться? — Да. Это невозможно. Не переношу, когда мужчины увечат друг друга. Варвара еще не могла его припомнить. Но он вел себя так, будто уже оставался ночевать в этой комнате. Сел в ее кресло. Достал пачку с сигаретами. Варвара охотно закурила. Бросив быстрый взгляд на пачку, поинтересовалась: — Из загранки? — Угадала. С минуту он испытующе разглядывал ее. Потом сказал: — Ты меня помнишь, Варвара? — Глупый вопрос. Конечно же помню, ты обещал на мне жениться и увезти в какой-то... Э... э... Скадовск! — Я никогда не был в Скадовске. — Это где-то между Одессой и Севастополем. — Возможно. Но я ничего не обещал тебе. — Я не верю обещаниям. — Ты большая умница, — покровительственно сказал мужчина. И когда он сказал эти слова, она вспомнила. Год или два назад он приносил в парикмахерскую французские лаки, помаду, пудру, одеколон. Он не торговался, и все остались им очень довольны. А Варвара, польстившись на коньяк «Наполеон», пригласила его к себе... — Даже самые умные женщины мечтают выйти замуж, — ответила она. — Верно. Тем более что всегда можно разойтись. Не правда ли? — Не пробовала. У меня все получилось проще... Мой супруг угодил в тюрьму... Ладно, ближе к делу. У тебя есть что-нибудь для продажи? — Зачем так быстро? Мне приятно разговаривать с тобой на отвлеченные темы. Ты молода и красива... Тебе не место в этом городе. В Одессе ты была бы королевой... — Легко дарить комплименты. Они ничего не стоят. А деньги? Где я возьму денег, чтобы перебраться в Одессу? — Деньги зарабатывают не только в постели. — Я этого не знала, — с издевкой возразила она. — Ты по-прежнему ходишь в клуб моряков? — Не подыхать же мне со скуки. — Сегодня не пошла? — Я хожу не каждый день. Кстати, сегодня понедельник, а по понедельникам клуб не работает. — Я знаю. Поэтому хочу попросить тебя об одной услуге. Она передернула плечами. У нее была такая привычка. Может, заменявшая усмешку. Может, слова, которые она не смогла бы так быстро подобрать. — В среду передай эту книгу моему другу. Вы встретитесь с ним в клубе моряков. Мужчина вынул из-под пальто книгу. Варвара прочла на буром корешке: «Граф Монте-Кристо». — Как зовут твоего друга? — Неважно. Он сам подойдет к тебе. Ты будешь ждать его в бильярдной комнате и держать книгу на коленях, раскрытую на тринадцатой странице... Она скорчила гримасу. — Не бойся... Все нормально. Я думал это сделать сам. Но мы стоим в этом порту только семнадцать часов вместо обещанных трех суток. Если он не придет в эту среду, жди в следующую... — Дуру нашел... — ответила Варвара. — Буду я, как идиотка, таскаться на танцы с книгой. Достав из кармана бумажник, мужчина отсчитал три сотенные и положил на стол рядом с книгой. — Это аванс... Потом получишь еще столько. Как видишь, работа не физическая и для здоровья не вредная. Согласна? Варвара молча кивнула. Однако, словно торгуясь, сказала: — По нынешним ценам это не такие уж большие деньги. — Больше, чем твоя зарплата, между прочим, — резонно заметил он. Но все же вновь полез в карман за бумажником и добавил еще сотню. Она закрыла за ним дверь и несколько минут стояла не двигаясь, зажав ладошками рот, готовая кричать от страха.
6
Припекало солнце. Оно выглянуло совсем недавно, жаркое полуденное солнце. И легкая дымка дрожала над землей и над деревьями, потому что и земля, и деревья, и опавшие листья еще блестели влагой. А ветра не было. И только птицы колыхали ветки, когда садились на них. Ветки поддавались, как резина мячика под пальцами ребенка. И капли падали на землю, яркие, словно кусочки солнца. В темных лужах, мелких, точно блюдца, лежали листья, над которыми трещали кузнечики, зеленые — величиною с палец, коричневые — размером с фасоль. Выпорхнула бабочка с длинными стреловидными крыльями в черную полоску и долго кружилась над Волгиным, пока он не слез с коня и не повел его под уздцы. Щебень полз под ногами. Но кусты цепко держались за землю, вставали на пути щебня. И лишь отдельные камни с тихим шорохом скатывались вниз. Склон, по которому спускался Волгин, был открытым. И Костя, и его конь могли послужить отличной мишенью, если бы кто-то захотел встретить их выстрелом. Немного успокаивало, что до Лысой горы ходьбы больше часа, А засада в лощине казалась маловероятной, потому что любая группа людей, даже самая небольшая, рисковала быть замеченной сверху. Неизвестное ждало внизу, за тем склоном. Оно не страшило, а просто сковывало мысль. И порою Костя чувствовал себя беспомощно, точно стрелок с завязанными глазами. Явка у Лысой горы была последней зацепкой, способной возвратить Волгина в отряд Козякова. Но возвращаться можно, лишь опередив Требухова. В лощине чуть-чуть тянуло сыростью. Журчал ручей, извиваясь между мшистыми камнями. Конь опустил морду. Коснулся губами воды. Фыркнул. И начал жадно пить... Костя присел, зачерпнул горсть воды. Она была прозрачная и холодная. И зубы ломило от нее. Но пить было приятно. Похлопав коня по крупу, Костя повел его дальше. Правый берег начисто зарос кустарником, но перебираться обратно, на левую сторону, по скользким булыжникам не хотелось. Ручей шумел... Мерно и однообразно. И шум немного раздражал и настораживал Волгина, потому что скрадывал шаги. И свои, и чужие... Встретился куст кизила, большой, раскидистый. Ягодами усеяна земля. Но и на ветках еще много плодов. Черно-красных! Костя дивился терпкому и одновременно сладкому вкусу переспелого кизила, пахнущего диким лесом. Руки стали черными и липкими от сока... Но вот опять молчат над головой деревья. И небо редеет за ними. Опять душный и неподвижный воздух. И надоедливая мошкара кружится над гривой коня. На этой последней прямой можно заставить коня бежать резвее. Только нужно ли? Километра через полтора Лысая гора вырастет перед ним, загораживая горизонт, словно египетская пирамида. А на открытом участке нужно скакать во всю прыть. Скакать, как в атаку. Даже страшнее, потому что в атаку по одному не ходят... Конь сам остановился. И Костя, не ожидавший этого, подался корпусом вперед. Тревожное ржание, настороженно поднятые уши. И вдруг чей-то стон... Если бы жизнь была длинной, как те дороги, которые он не успел пройти. Если бы ему оставалось видеть небо, слышать ветер, дышать и бороться больше, чем семнадцать часов, Костя Волгин часто вспоминал бы эту минуту, когда он спрыгнул с коня. И в придорожных кустах увидел Анастасию. Следы крови. И свой браунинг, маленький, но тяжелый, который она сжимала в руке. Он уже не думал о том, как Анастасия очутилась здесь, на дороге к горе Лысой. Он понял главное: Требухов опередил его...7
Женщина, перевязанная платком крест-накрест, выкапывала клубни георгинов. Бережно складывала их в плетеную перепачканную корзину... Неширокая, метра в полтора, полоса, окаймляющая газон перед входом в клуб моряков, еще неделю назад белевшая живыми цветами, теперь была перекопана. Женщина уже заканчивала работу, когда оперативный уполномоченный Золотухин появился на набережной. Втиснутая в море гора чернела, словно вырубленная из угля. Волны переливались бликами — желтыми вблизи, а у горизонта розовыми. Солнце садилось. Увидев Золотухина, женщина собрала клубни, взяла корзинку и ушла... Наступил черед Золотухина. Он поставил мольберт, достал краски... Свет менялся, и тени исчезали. Быстро и заметно, точно след воды на горячем песке. Скрежетали лебедки. Вода омывала сваи обветренной пристани, к которой швартовался грязный, точно бродяга, сухогруз. На его корме трепыхал флаг, сейчас малиновый, потому что закат был очень ярким, и настоящий цвет флага Золотухин не смог определить. Вдоль набережной, словно оспой, изрытой солнцем и солью, сидели рыболовы: с десяток мальчишек и меньше — стариков. Удилища свисали над водой. Но рыба ловилась плохо... Впрочем, Золотухин не имел возможности все время наблюдать за рыбаками. Гораздо больше его интересовали люди, входившие в клуб моряков и выходившие оттуда. Несмотря на то что вход в клуб моряков был свободным, местные жители редко приходили сюда. Когда наступали сумерки, возле клуба появлялись девицы определенной категории. Они знакомились с моряками, своими и чужеземными, тут же, в скверике. Клуб моряков работал ежедневно, кроме понедельника. Это был красивый трехэтажный дом с большими концертным, бильярдным, танцевальным залами, рестораном, где за боны или прямо за доллары, фунты, марки продавались самые изысканные блюда и напитки. Золотухин сразу заметил Варвару. Граф Бокалов накануне познакомил их, представив Золотухина как своего хорошего кореша. И Варвара успокоилась, поняв, что в клубе моряков она будет не одна, что там будут ее друзья, которых она, может, так никогда и не узнает. Ведь даже с Золотухиным она должна обходиться, как с совершенно незнакомым человеком. В ту ночь, когда непрошеный визитер поручил ей передать книгу «Граф Монте-Кристо», Варвара не ложилась спать. Она сидела в кресле. Пила холодный кофе и листала «Графа Монте-Кристо», но никаких следов тайнописи или какого-то шифра она не находила. В третьем часу ночи — опять стук в дверь. Долго не открывала, прислушивалась. Наконец узнала голос Графа Бокалова, ругающегося за дверью. Встретила его, как родного. И выложила все будто на духу. Граф помрачнел: — Влипла ты, Варя. Одно дело — взлом квартир и карманные кражи. Другое дело — шпионаж. За шпионаж — стенка. Варвара плакала и просила выручить. Тогда Граф сказал, что он сейчас уйдет на некоторое время и чтобы она, кроме него, Графа, никого в квартиру не впускала ни под каким предлогом. Граф вернулся минут через тридцать, которые показались ей годом, с Золотухиным. Варваре объяснили, что она должна делать и как себя вести. ... И вот сейчас Варвара шла неторопливо. Очень плавной и очень грациозной походкой. Одетая в светлое коверкотовое пальто, с черной газовой косынкой на волосах. В правой руке, согнутой в локте, она несла книгу, прижимая ее к груди. Кто-то из подружек поздоровался с маникюршей. Она кивнула. Затем потянула на себя бронзовую, начищенную до блеска дверную ручку и вошла в клуб моряков. Фойе блестело паркетом. Лестница из белого мрамора, ведущая на второй этаж, была покрыта широкой темно-бордовой дорожкой с голубыми полосами по краям. Изогнутые канделябры мерцали на стенах, словно свечи. Гардероб размещался в полуподвале. Варвара сдала пальто. Поправляя волосы, положила книгу на столике возле зеркала. Какой-то мужчина остановился за ее спиной. Она видела лишь блестящие от бриолина волосы и нос с большими ноздрями. Мужчина маслено улыбнулся: — Готов спорить, что книга, которую вы читаете, самая увлекательная на свете. — Не знаю, — ответила Варвара. Она действительно не знала, что это за книга. Она не читала ее и ничего о ней не слышала. Вернее, смутно помнила, что рассказывали еще в детстве подружки, читавшие эту книгу. — Интересуюсь названием, — сказал мужчина. — «Граф Монте-Кристо». — О-о... Занимательно. Мы еще увидимся! — бросил мужчина. И крикнул кому-то: — Роза Карловна, одну минуточку... В бильярдной плавает папиросный дым. На зеленых столах шары, желтые и блестящие, словно налитые яблоки. Возгласы. Разговоры. Говорят и по-немецки, и по-французски, и по-английски. Но Варваре все равно. Она не знает другого языка, кроме русского. Учила в школе немецкий: фатер, муттер, киндер... А больше не помнит. Она сидит, закинув ногу на ногу, в костюме из мягкой шерсти, свежая и привлекательная. И глаза у нее красивые, задумчивые. И она не читает книжку, а думает о чем-то своем, наверное, очень важном и очень далеком... Книжка уже полчаса как открыта на одной и той же странице — тринадцатой. А в танцевальном зале играет музыка. Бойкая мелодия. Называется «Рио-Рита». Темнокожий в салатовом пиджаке и клетчатых брюках подходит к Варваре, любезно раскланивается. Что-то говорит. Вероятно, приглашает на танец. Она не менее любезно отказывает. Темнокожий улыбается, обнажая зубы. Они у него обыкновенные. И просто кажутся большими. Варвара терпеливо слушает музыку. Фокстроты, танго, вальсы... И вдруг ей стало не по себе. Хотя никто не обращал на нее внимания. И вокруг бильярдного стола мужчины спорили и даже размахивали киями, словно шпагами. А потолок по-прежнему голубел от дыма. Но у Варвары сердце замирало, словно она прыгала с большой высоты. Сказывалась усталость, вызванная бессонной ночью. Не случайно, собираясь в клуб моряков, Варвара больше часа провела перед зеркалом, растирая лицо кремами, пудрясь, укладывая волосы... Золотухин сказал, что, если никто не подойдет к ней и не заинтересуется книгой, она должна находиться в бильярдной до тех пор, пока не заиграют танго «Брызги шампанского». В который раз Варвара перечитывала начало второй главы: «Известие о прибытии «Фараона» не дошло еще до старика, который, взобравшись на стул, дрожащей рукой оправлял настурции и ломоносы, обвившие окошко. Вдруг кто-то обхватил его сзади...» Подсаживается пузатый иностранец. Маленькие глазки за выпуклыми очками в позолоченной оправе. Оценивающе смотрит на ноги Варвары. Что-то бормочет гнусаво, протягивает чулки. Чулки, конечно, хорошие. Из черного шелка. И осенью, и зимой такие чулки были бы кстати. Но Варвара не имеет права их брать. Да и пузатый ей противен. Пусть о ней думают что угодно, но она еще никогда не опускалась до того, чтобы лечь в постель с человеком, который ей не нравится. «Известие о прибытии «Фараона»...» «Известие о прибытии «Фараона» еще не дошло...» Вот и знакомая мелодия. «Брызги шампанского». «Почему брызги? Почему?..» Варвара поднялась и пересекла танцевальный зал, в котором кружилось всего лишь несколько пар. В раздевалке она лицом к лицу столкнулась с полной, сильно накрашенной дамой, которая, увидев в руке у Варвары книгу, громко воскликнула: — Я давно мечтала об этом романе! Милочка, вы не оставите мне его почитать? Не успела Варвара что-либо ответить, как женщина уже потянулась за книгой. — Пожалуйста, — ответила Варвара. — Чудесно. Я верну, как только увижу вас здесь. — Роза Карловна! — окликнула даму гардеробщица. — Вам целый вечер звонит мужчина. А я нигде не могу вас разыскать. Граф встретил Варвару у выхода. Без всяких предосторожностей сказал: — Провожу тебя. Она ответила: — Это можно? — Нужно, — ответил он. Ночь была тихой. Дорога казалась белой, точно вымазанная известью. Сады утопали в темноте. Но вершины деревьев тоже были белыми, как дорога. Светила луна. Большая, полная...8
Весь вечер Каиров не выходил из своего кабинета, но все, что происходило в клубе моряков, было известно ему до мельчайших подробностей. Телефон звонил каждые пять — десять минут. К сожалению, первые полтора часа не принесли ничего утешительного. И вдруг: — Варвара передала книгу пианистке Розе Карловне. В момент передачи книга не была раскрыта на тринадцатой странице. И Варвара находилась в гардеробе, а не в бильярдной. Сейчас Роза Карловна играет на рояле в голубой гостиной. Книга лежит рядом на столике. — Продолжайте наблюдение... И выясните, по какому телефону ее вечером спрашивал мужчина. Каиров повернулся, не вставая со стула, и протянул руку в открытый сейф, стоявший за спиной. Он вынул из сейфа тоненькую папку табачного цвета, на лицевой стороне которой была приклеена бумажка и черными чернилами выведено: «Георгец Никодим Харитонович». Раскрыл папку. На первой странице фотографии: хмурое, удлиненное лицо, шея с кадыком, нагловатые, без ресниц, глаза. Не смог удержаться Каиров от улыбки. Он вообще редко улыбался на службе. Механик судна «Сатурн» Георгец Никодим Харитонович. Это была чуть ли не первая крупная удача. Граф Бокалов оправдал себя. А Варвара, наблюдательная пройдоха, толково выложила устный портрет незнакомца, вручившего ей книгу. Не составляло труда связаться с начальником порта и выяснить, какие суда вышли в море в ночь с понедельника на вторник. Оказалось, что между субботой и вторником только один сухогруз «Сатурн» швартовался в порту. Он стоял у пристани ровно семнадцать часов и отбыл в Новороссийск во вторник на рассвете. «Сатурн» был приписан к местному порту. В отделе кадров Каиров довольно-таки легко разыскал фотографию, совпадающую с приметами человека, приходившего к Варваре. . Золотухин показал фотографию маникюрше, и она без колебаний опознала незнакомца. Кнопка возвышалась над зеленым сукном стола, словно маленькая горошинка. Каиров нажал ее. Дверь открыл сотрудник. Молча остановился у порога, ожидая приказания. — Введите арестованного. ...Мужчина сутулился. Илицо его было небритым. Он сел на предложенный стул и, щурясь от яркого электрического света, смотрел на зашторенное окно. — Георгец Никодим Харитонович, — сказал Каиров. Мужчина кивнул. — Год рождения тысяча девятьсот первый. Опять кивок. — Уроженец города Одессы. — Да. — Национальность? — Родителей не помню. Считаю себя русским. — Запишем: русский. Образование? — Самообразование. Юнга. Ученик механика. Затем механик. — Литературу любите? Георгец ответил не очень уверенно: — Люблю. — Книги каких авторов предпочитаете читать? — Товарищей Пушкина, Лермонтова... — Что же вы читали товарища Лермонтова? Молчание. — Забыли? — Да. У меня плохая память на названия. — В ваши-то годы! — А что годы? Не годы человека старят, а жизнь. — И все же странно, — возразил Каиров. — Утверждаете, что поклонник русских классиков, — и не можете вспомнить ни одной прочитанной вами книги. — Про золотую рыбку помню... И еще «Бородино»... — Это уже лучше. А скажите, книги товарища Дюма вы любите?. — Не знаю. — Удивительный вы человек. Может, и роман «Граф Монте-Кристо» не читали? — Не читал. — Вы оплошали. Я на вашем месте непременно бы прочитал эту увлекательную книгу, прежде чем передать ее маникюрше Варваре. — Я никому ничего не передавал, — быстро ответил Георгец и насупился. — Может, вы и с маникюршей Варварой не знакомы? — Не знаком. — Что вы делали в понедельник, в ночь с двадцать второго на двадцать третье ноября? — спросил Каиров. — Отвечайте быстро. Или не помните? — Не помню, — огрызнулся Георгец. — Даже малолетние преступники врут ловчее. — Двадцать второго вечером я был на берегу. Выпил вина. Потом познакомился с женщиной и пошел к ней. С берега вернулся во втором часу ночи. Можете спросить у вахтенного. — Фамилия женщины и где она проживает? — Я не спрашиваю фамилии у случайных знакомых. А живет она в железнодорожном городке. Где точно, не помню. Был выпивши. — Как звали женщину? — Тоня. — Георгец, вы опять врете. И опять это заметно. Я, разумеется, знаю, где вы были и что делали двадцать второго ноября. Но хочу помочь вам. Мне кажется, вы запутавшийся человек. Но вы не враг. Нам известно, что вы спекулируете по мелочам, иногда даже контрабандными товарами. Вас давно следовало арестовать. Это помогло бы вам встать на честный путь. Однако история, в которую вас втянули сейчас, не уголовное преступление. Она имеет другое определение — шпионаж в пользу иностранной державы. Георгец стал белым как полотно. — Вы неглупый человек. И знаете, что шпионаж в нашей стране карается сурово. Если вы поможете следствию, это будет принято во внимание при вынесении приговора. — Что я должен делать? — спросил Георгец. — Рассказать, кто, где и когда передал вам книгу «Граф Монте-Кристо». — У меня никогда не было такой книги. — Вы забыли. — Каиров прикоснулся к кнопке звонка: — Полагаю, у вас будет время подумать. Вы вспомните все. А завтра утром мы встретимся снова. Разумной ночи, Георгец. Конвоир увел механика «Сатурна», и Каиров остался один. Позвонил Золотухин. Сказал, что Роза Карловна благополучно прибыла в свой дом. Комната, которую раньше занимал Мироненко, теперь сдана молодоженам. У них маленький ребенок. Он чем-то болен. Все время плачет. Роза Карловна заходила к квартирантам. Видимо, рекомендовала вызвать врача. Потому что квартирантка тут же оделась и ушла. Роза Карловна проводила ее до калитки. Заверила: «Хороший врач. Старой школы. Сошлитесь на меня, и он придет непременно». Каиров сказал Золотухину, чтобы тот продолжал наблюдение. Затем принесли две шифрованные телеграммы из Ростова. В первой сообщалось, что убитый в сентябре Бабляк Федор Остапович разыскивается Саратовской конторой «Заготсырье» в связи с хищением крупной суммы денег. Вторая телеграмма была очень важной. Она содержала сведения, которые Волгин успел передать Кравцу. «Значит, так, — расхаживал по кабинету Каиров, — убийство Бабляка не имеет политических мотивов. Возможно, не имеет. Встреча Бабляка и Хмурого, зафиксированная на фотографии, могла быть чисто случайной. А Хмурый прихлопнул Бабляка, видимо, с целью грабежа. Допустим, так.... Но куда же Хмурый дел деньги? Не мог ли он передать их Ноздре под видом чемоданчика с вещичками? Маловероятно... Но придется вспугнуть Ноздрю, произвести обыск». Дела идут хорошо. В руках Каирова три нити. Георгец. Роза Карловна... «Коллекционер приобретет старинные монеты и медали...» Это уже целая сеть. И рыбе трудно будет из нее вырваться, какой бы крупной она ни была... В одиннадцать вновь позвонил Золотухин. Соседка привела... доктора Челни. Ну и Челни. Восьмой месяц работает в уголовном розыске, а частной практикой занимается, словно земский врач. Нужно поговорить с ним официально. — Следите за Розой. Не спускайте глаз с ее дома. Через четверть часа Золотухин докладывал: — Доктор Челни ушел. Роза Карловна жаловалась ему на печень. — Он тебя видел? — Да. Поздоровался. И спросил, что я здесь делаю. Я ответил: она опаздывает на свидание. — Ох, Челни! Я же запретил ему подрабатывать на стороне. Затем он взял чистый лист бумаги. И стал писать объявление: «Коллекционер приобретет старинные медали и монеты...»9
У Лысой его никто не ждал. Однако следы копыт и запах конского навоза свидетельствовали, что час или два назад здесь находились два всадника, поспешно ускакавшие на юго-запад, может вспугнутые именно выстрелами. Анастасия продырявила Требухова в четырех местах. Но у него еще хватило сил вскочить на ноги и пробежать метров десять. А потом он споткнулся и покатился под гору. И Волгин просто случайно увидел тело, застрявшее в кустах, когда метался в поисках воды, надеясь привести Анастасию в чувство. Требухов был мертв. Но открытые глаза его удивленно смотрели на землю, словно никогда не видели ее раньше. Минут через пятнадцать Анастасия пришла в себя. Она глядела на Костю с каким-то диким изумлением. — Какое счастье, что ты жива, — сказал он. Она молчала. — Тебе нужно помыться. И ты мне все расскажешь... Они вместе нашли ручей, и она попросила его уйти. Раздевшись донага, обмыла себя студеной водой. Вернулась от ручья раскрасневшаяся. И было заметно, что белье она надела на мокрое тело. — Что случилось? — сразу же спросил Костя. Анастасия отвечала сбивчиво, волнуясь. Но он понял следующее... Рано утром в дом егеря Воронина явился Требухов. Он сказал, что Аполлон вовсе не Аполлон, а сотрудник уголовного розыска... Воронин был на пасеке. Но Требухов не стал его ждать. И велел Анастасии быстро собрать необходимые вещички и идти с ним. «Куда?» — об этом Анастасия спросила, когда они уже находились в лесу. «К отцу», — ответил Требухов. «Я хочу к бабушке. В Москву. Покажите мне дорогу...» «Я не знаю в Москву дорогу». «Тогда я найду ее сама», — решительно ответила Анастасия и повернула на ту дорогу, где и нашел ее Волгин. «Вернись, — остановил ее Требухов. — Ты знаешь, кто твой отец?» «Догадываюсь...» «Вот-вот... Тебя будут судить, если задержат. Большевики не признают церковных браков. И то, что ты спала с их агентом, не поможет тебе». «Подлец! Мне безразлично, кто он — сотрудник уголовного розыска или рыбоконсервного завода... Он мой муж. И я люблю его». Тогда Требухов набросился на нее. Повалил на спину. Но... из кармана выпал пистолет Кости. И Анастасия выстрелила четыре раза... — Это правда, что говорил Требухов? Как тебя называть — Аполлоном или... — Костей. Ты очень разочарована? — Пусть Костя. Но я хочу знать всю правду. Я должна знать правду... — убежденно сказала Анастасия. — Вся правда в том, что я люблю тебя. — А ты... Ты имеешь на это право? — Я не знаю, что такое право на любовь. — Но почему ты не сказал об этом тогда, ночью?.. Ты не верил мне? Ты думал, что я способна тебя предать? — Я не мог. — Что мы будем делать теперь? — Возвращаться на станцию. У нас есть лошадь. И мы доберемся к утру... Жена Воронина слышала, что говорил Требухов? — Да. Она перепугалась... — У меня есть краюха хлеба. И я знаю, где растет кизил. Там пообедаем. — Мне не хочется есть. Совсем не хочется. Как все запуталось! Отец и ты. Он убьет тебя, если поймает? — Или я его, или он меня... — Это ужасно! Почему все так сложно в жизни? — Помнишь у Киплинга «Маугли»?.. Там тигр-людоед... — Помню. — Твой же отец лишил жизни людей побольше, чем тигр Киплинга... Семьи вырезал. Детей малолетних не щадил... — Это ужасно! — повторила Анастасия. — Садись на коня, — сказал он. — Было бы неплохо засветло выбраться из этих дебрей....Они двигались остаток дня, вечер и большую часть ночи. Потом произошла встреча. Силуэт всадника, скакавшего одвуконь, мелькнул на фоне неба, более светлого, чем горы и лес, и Волгин сказал Анастасии, что это полковник Козяков. Он сказал, что узнал бы полковника с любого расстояния и ночью и днем, потому что тот учился верховой езде в императорском Александровском лицее и сидел в седле артистично. Стук копыт приходил снизу. Можно было догадаться, что всадник уже выбрался из ущелья и горной дорогой, на которой с трудом могли бы разминуться две лошади, поднимался сюда, к дубу, где стояли Анастасия и Костя. Глухо крикнула большая птица. Улетела в ночь, рассекая воздух черными крыльями... — Это точно Козяков, — тихо сказал Волгин. — Спрячемся, — прошептала Анастасия. — Пусть прячется он. Мы у себя дома. Мы здесь хозяева. Анастасия вспомнила, что у нее в кармане пальто лежит пистолет мужа. Она опустила руку в карман, чтобы передать Константину личное оружие. Но тут же увидела в правой руке Волгина другой пистолет. Конь Волгина внезапно заржал. Козяков остановил свою лошадь. — Руки вверх! — крикнул Костя и шагнул навстречу полковнику. Но в это время за его спиной раздался выстрел. Волгин упал плашмя. И даже не вскрикнул... Вздрогнул конь под Козаковым, поднялся на задние ноги. Едва удержался в седле полковник. — Не пужайтесь, господин полковник... — Из-за дуба вышел егерь Воронин с ружьем наперевес. — Кого это ты успокоил, Сергей Иванович? — спросил Козяков, спрыгивая с седла. Но, не дождавшись ответа, вдруг опознал Анастасию и бросился к ней: — Анастасия! Бог милостив! Бог милостив! Я не рассчитывал тебя найти! — Что вы наделали? — выдохнула она, — Что наделали? Вы убили его! Мерзавцы, подлецы, бандиты, сволочи!.. — Успокойся, дочка. Успокойся... — Это Аполлон, — сказал Воронин. — Они уже здесь около получаса отдыхали. Сбросив оцепенение, в которое ее ввел внезапный выстрел, Анастасия подбежала к Волгину. Упала рядом с ним на колени и прижалась лицом к его голове. Пуля, вероятно, попала в затылок. Волгин был мертв. Но кровь еще не остыла. — Нашел? — спросил Козяков Воронина. — Да. В полной сохранности. Только перекласть во что-то нужно. Несподручно тащить в горшке будет... — Придумаем. Где золото? Егерь повернулся, чтобы идти к дубу, и уже сделал несколько шагов, когда поднялась Анастасия, быстро приблизилась к Воронину и выстрелила в то место, где воротник кожуха облегал шею. Затем она повернулась к отцу: — А теперь твоя очередь... — Анастасия! Не смей! — Не подходи... — Анастасия, Воронин принес золото. Мы сегодня же уедем отсюда. Уедем туда, куда я обещал... — Не подходи!.. — Я не двигаюсь! Это тебе просто кажется! Но она выстрелила все равно... Эх! Только все это привиделось Анастасии. Привиделось, приснилось. Бывают же сны, похожие на явь. Это, конечно, хорошо, что не случилось ничего страшного, непоправимого. Что уснула Анастасия, просто уснула. Волгин и Анастасия действительно шли день, вечер и большую часть ночи. Большую часть, но не всю ночь. Потому что идти всю ночь у Анастасии не было сил. И они сделали привал возле заброшенного шалаша, с которого еще не облетели сморщенные, как гармошка, листья. И когда Анастасия открыла глаза, то поняла, что они с Костей не одни. Кругом лошади и люди... Потом она услышала голос отца... И перепугалась за Костю... Но Козяков еще не встречался с Ворониным. Ничего не знал... И он, вероятно, спросил Костю, почему они здесь. И Костя что-то сказал... Когда Анастасия проснулась, то все уже очень торопились. Козяков сказал ей, что встретились они кстати. И бродить, и скитаться осталось им недолго. Он угадал, словно смотрел в воду. Но конечно, вкладывал совсем другой смысл в свои пророчества... Сели на лошадей. Анастасия ехала рядом с Волгиным. Наступало уже утро. Красивое утро. Но вдруг впереди крикнули: — Красные! А потом началась беспорядочная стрельба. Конь понес Анастасию, и Волгин едва догнал ее. Схватил коня под уздцы. А пули шипели и свистели. И кора отскакивала от деревьев, и белые щепки тоже. Вспышки выстрелов мелькали, будто кто-то размахивал желто-красными цветами. А потом упал один человек, и другой лежал на земле с разбитым в кровь лицом. Козяков подтащил пулемет. Пулемет «максим». Поставил на очень хорошее место, а красные были внизу, и прошивать их из пулемета было очень сподручно. Козяков сам лег за пулемет. Брызнуло пламя. И люди внизу словно начали спотыкаться. Тогда Волгин, разгоряченный боем, крикнул: — Уходи, атаман, я прикрою. Козяков кинулся к лошади. Прокричал: — Аполлон, мы поддержим твой отход огнем! Действуй! Костя лег за пулемет, а козяковцы повскакивали на коней и подались в горы... Но когда они отъехали метров на сто, Волгин развернул пулемет и стал стрелять им вслед. И они падали и кричали. И тяжелые кони летели через головы, ломали хребты, ноги... Стреляли и сверху, и снизу. Анастасия лежала рядом с Волгиным и стреляла в бандитов из пистолета. И пуль было больше, чем пчел в улье. И попробуй узнай, чья пуля нашла Костю Волгина. Попробуй узнай! Костя, конечно, видел, как выпал из седла прошитый очередью полковник Козяков. А что он еще видел, никто не знает... ...Утром кавалерийский дозор задержал молодую девушку с обезумевшими глазами. Она сжимала в руке браунинг и пыталась стрелять. Но патронов в обойме больше не было...
10
Золотухин стоял у тополя, торчавшего на изгибе улицы. Отсюда ему был виден дом Розы Карловны, вернее, верхняя часть дома и калитка, потому что высокий фундамент и ступеньки крыльца прикрыли вьющиеся по забору розы. И хотя розы сейчас уже не цвели, кусты их были достаточно густыми, чтобы делать невидимым с улицы двор и нижнюю половину дома. После полуночи Золотухин подошел к забору вплотную. Теперь он мог лучше рассмотреть дом и дорожку, пролегающую между домом и палисадником. Тишина. Даже слышно, как маневрируют паровозы, хотя железнодорожное депо неблизко... А на часы лучше не смотреть. Время тянется долго. Так долго, словно дремлют часовые стрелки, словно они тоже наморились за день. И вдруг Золотухин различает звук... Будто скрипнула дверь, заунывно, протяжно... Или показалось? Бесшумно и легко (уж такая у него походка) Золотухин пробирается к калитке. Отодвигает задвижку. Двор уложен камнями, разными по размеру и по форме разными. Обыкновенными, случайными камнями. Золотухин задевает один из них носком ботинка и едва не падает. Нехорошая примета. А он верит в приметы. Хотя никому не признается в этом. Комнаты, в которые ведет парадное крыльцо, занимают квартиранты. Роза Карловна живет в противоположной части дома. Двор густо зарос деревьями и виноградом. Во дворе темнее, чем на улице. И плохо видно из-за темноты. Золотухин огибает дом. Если с улицы дом имеет высокое бетонное крыльцо с белыми гладкими ступеньками, то с тыльной стороны — длинная деревянная терраса, незастекленная. Золотухин останавливается возле узких ступенек, заглядывает на террасу. Дверь в комнату приоткрыта. Немного приоткрыта. На ширину ладони. Ну, может, чуть больше. Странно. Одинокая женщина. Пожилая. Ложится спать — и забывает прикрыть дверь? Некоторое время Золотухин неподвижен. Потом, вынув из кармана наган и фонарик, он поднимается на террасу и рывком распахивает дверь. Луч фонарика опережает его. Роза Карловна лежит на смятой подушке. Рот широко раскрыт, глаза большие, набрякшие. ...Приезжает Каиров и с ним несколько оперативных работников. Машина останавливается под горой. К дому поднимаются гуськом. Каиров тяжело дышит от быстрой ходьбы. Пока доктор Челни осматривает труп, Каиров и Золотухин бродят по саду. Выясняется, что сад заканчивается оврагом. Непроходимым? Как сказать! Просто поросшим кустами ежевики и хмеля... Доктор Челни констатирует, что никаких внешних следов насильственной смерти на теле Розы Карловны нет. Окончательное решение покажет вскрытие. Да, но где же роман Дюма? Может, в доме есть тайник? Нужно все обыскать тщательнее.11
Когда он подержал письмо над паром, между строчек выступили цифры:010 056 002 009 003 223 068 003 009 068 008 204И еще другие цифры. Тринадцатая страница романа «Граф Монте-Кристо» начиналась следующей строкой: «Будь в Париже улица Каннебьер, Париж был бы маленьким Марселем». Десятой была буква «ж», третьей буква «д», девятой «и»... «Жди...» И далее, таким же методом: «Яхту тридцатого косого мыса два часа ночи сигнал круги красным огнем». Мужчина взял книгу, письмо, конверт. Подошел к печке. Открыл заслонку. И бросил письмо и конверт в пламя. Затем он по два, по три листка вырывал из книги и тоже клал их в огонь, свертывая в трубочки... После он разворошил пепел кочергой. И вышел из дому. Небо было облачным. Солнце не показывалось. Было прохладно. На улице, в конце которой высилось, мутнея стеклянной крышей, здание рынка, женщины торговали последними георгинами. На углу, возле рыбного магазина, мужчина остановился. Среди десятка объявлений, написанных на обрывках бумаги («Ищу няню», «Продаю шкаф», «Учу игре на баяне»), мужчина отыскал одно, видимо заинтересовавшее его:
Коллекционер приобретет старинные медали и монеты, а также литературу по нумизматике. С предложениями обращаться: Главпочтамт, до востребования, Лазареву Юрию Михайловичу.
12
Таблетка акрихина была горькой на вкус и очень приятной, светло-желтой на цвет. Каиров поморщился, запивая таблетку водой, и выругался в душе: опять подобралась лихорадка, нашла ключик. И всему причиной два последних происшествия: ночное — с Розой Карловной и утреннее — с механиком судна «Сатурн». В голове гудело. И его немного знобило. И пот, который выступал на лбу и под мышками, был очень холодным, как вода из-под крана. Пришел Граф Бокалов: — Здравствуйте, Мирзо Иванович. — Здравствуй, Володя. Садись! Граф подвинул стул поближе к столу. — Ты не интересовался, Володя, почему в тебя стреляли? Граф рассудительно ответил: — Можно допустить один из двух вариантов: или меня с кем-то перепутали, или кому-то известно, что я на... — Он хотел сказать «на вас», но тут же поправился: — Что я у вас работаю. — У нас много людей работает. Но без причины в наших сотрудников не стреляют. — Разве я сотрудник? — Внештатный... Но при желании и старании... Ладно, мы еще вернемся к этому разговору в более подходящий момент. А сейчас, Володя, к тебе еще один вопрос. Ты мне обо всем рассказываешь? — Мирзо Иванович, как вы можете сомневаться?! Все, что представляет маломальский интерес, вам известно. — А то, что не представляет маломальского интереса? — Разве я имею право отнимать у вас время на всякую чепуху? — Дорогой, если в человека стреляют, это не чепуха. Иди к Нелли, возьми у нее чистой бумаги. И опиши все, день за днем, до того вечера. Пиши, с кем встречался, о чем говорил, что делал. Факты, мне известные, можешь не описывать. Как только Граф ушел, принесли заключение медицинской экспертизы. Оно подтвердило предположение Каирова: Роза Карловна умерла не своей смертью — ее задушили. Оставалось последнее. Объявление. — Нелли, разбудите Золотухина. Золотухин вначале умылся. И лишь потом пошел к начальнику. — Георгец раскололся? — спросил Золотухин. — Нет. — Вы его допрашивали? — Нет. — Каиров говорил, как всегда, когда он был раздражен: «Нэт». Но Золотухин никогда не отличался особым тактом и, казалось, не замечал плохого настроения начальника. — Не успели? — Как ты угадал? Не успел. — Может, допросим? — Этого нельзя сделать. Сегодня утром, за завтраком, Георгец принял яд. Золотухин присвистнул от удивления. — Не знаю, где уж он хранил цианистый калий. Не могли же его подбросить здесь, у нас! В моем учреждении! Но он принял яд с чаем, предварительно аппетитно позавтракав. Эта деталь настораживает. — Нужно проверить отпечатки пальцев на посуде, — решительно предложил Золотухин. Каиров махнул рукой: — А... Чтобы подбросить яд в чай, не обязательно касаться кружки. Дошкольники такими делами не занимаются. Вот что, дорогой мой Золотухин, пиши объявление.13
В те времена членский билет Общества Красного Креста и Красного Полумесяца являлся документом, вполне остаточным для того, чтобы, взглянув в него, вам выдали корреспонденцию «до востребования». Два дня спустя, после того как объявление появилось на углу, возле рыбного магазина, что стоит возле колхозного рынка, Золотухин показал девушке с почты, сидящей за широким расколотым стеклом, членский билет Лазарева Юрия Михайловича и вежливо осведомился, не поступало ли что-нибудь на это имя. Признаться, Золотухин был не в состоянии скрыть удивления, когда девушка приветливо положила перед ним пять писем. Достаточно было одного беглого взгляда, чтобы понять — письма писали разные люди. Однако вежливость — прежде всего. Золотухин ответил улыбкой на улыбку девушки с почты. И поспешил к Каирову. Итак, писем было пять. Распечатали первое:«Мы, члены краеведческого кружка школы № 8, прочитав ваше объявление, решили установить с вами контакт, но не на предмет купли и продажи старинных монет и медалей. А для взаимного обмена медалями и монетами... С пионерским приветом...»Второе:
«Товарищ Лазарев! У нас на чердаке лежат какие-то книги, на которых изображены монеты и медали. Но книги эти не русские. А на каком языке, не знаю. Если они вам нужны, отдам их даром. Василенко, работаю токарем».Третье письмо было своеобразным:
«Ответьте мне на один вопрос, гражданин Лазарев, почему случается так, что в то время, как вся страна и весь народ напрягают силы на создание тяжелой индустрии, находятся люди, которые не помогают стране и народу в гигантском строительстве, а зарываются в мещанской трухе и выискивают разные монеты и медали, отлитые при ненавистном царском режиме? Недорезанный буржуй вы, гражданин Лазарев».Подписи, разумеется, нет. Обратного адреса тоже. В четвертом письме некий товарищ Коблев, шофер автобазы райпотребсоюза, предлагал товарищу Лазареву черкесский кинжал в серебряных ножнах. Кинжал старинный... Но... Шофер Коблев честно признавался, что ни монет, ни медалей у него нет.
«В память о моем покойном муже я храню коллекцию монет, собранную им в первые годы нашей совместной жизни. Это большая коллекция. И я не очень разбираюсь в ней, но помню, что среди монет имеется даже луидор времен Людовика XIV, которым муж мой очень гордился. В свободное время можете навестить меня, во второй половине дня я всегда дома. Адрес: улица Мойка, 16, кв. 41. Седых Ольга Павловна».Каирову было над чем задуматься. Золотухин сказал: — В этом весь фокус. Лазарев один. Адресатов же в городе, где населения триста тысяч, не считая приезжих... Адресатов может быть сколько угодно. Я не удивлюсь, если завтра милая девушка предложит десяток писем. Конечно, Золотухин преувеличил. На другой день девушка с почты положила перед ним четыре письма, на третий день тоже четыре. Больше писем пока не поступало. Тринадцать писем! Роковое число. Не будем приводить здесь содержание остальных писем. Первые пять достаточно характеризуют корреспонденцию, поступившую на имя Лазарева Юрия Михайловича. — Знаешь что, — сказал Каиров Золотухину, — Козяков, видимо, сообщил Волгину не весь пароль, а только первую его часть. — Не вижу смысла, — возразил Золотухин. — Я склонен думать, что Волгин не успел впопыхах рассказать все Кравцу. Или Кравец запамятовал. Будь Костя жив... Я одного не пойму: почему его тогда опять понесло в горы? — Я говорил с Кравцом по телефону. У него создалось впечатление, что Волгин вернулся из-за этой девочки, из-за Анастасии. И Кравец не мог запретить ему. Так как задание не было выполнено до конца, он имел все основания вернуться в горы. Это было его право на риск, дело профессиональной чести. — Да. Я знал Костю. Если он полюбил, значит, девчонка заслуживала этого. С минуту молчали. Может, как дань уважения погибшему товарищу. Может, это получилось просто само собой. — Так, дорогой Золотухин, все-таки мне кажется, что Козяков сообщил Волгину первую половину пароля, вторую он сообщил другому человеку, который должен был ехать тайно от Волгина и даже следить за ним. Вероятно, этим человеком был Требухов. В момент, когда Волгин получил бы корреспонденцию «до востребования», они повстречались бы, и тот, другой, выбрал бы нужное письмо. Ибо он знал условные слова, которых не знаем мы. Выход один. Писем всего тринадцать. Пионеры не в счет и строитель индустрии тоже. Остается одиннадцать писем. Следует уточнить, что за люди их авторы. Действуй. На столе под папками лежали листки, исписанные Графом Бокаловым. И когда Золотухин ушел, Каиров принял папки и подвинул листки к себе. Граф писал крупным почерком, слегка наклоненным влево, жирно макая перо в чернила, и поэтому буквы вышли сочными и броскими. И читать было легко. Вначале Каиров откладывал листок за листком, дивясь добросовестности Графа и тем не менее не находя в записях ничего интересного. Но вдруг вздрогнул, словно коснулся чего-то холодного. И вновь перечитал абзацы, насторожившие его.
«Не знаю, из каких источников Варвара узнала, что у старушки водится золото. Возможно, все это явилось плодом воображения Варвары. Я не высказывал определенного отношения к предложению Варвары, но и не мог отказаться от участия «в деле», чтобы не навлечь подозрений Левки Сивого. Наконец Варвара прямо высказалась, что пора нанести визит мадам Седых (так она называла старушку — хозяйку квартиры). Мы работали втроем. Левка остался на улице. Я и Варвара вошли в подъезд. И я тут же почувствовал беспокойство. И Варвара тоже. Мы остановились, одолев первую ступеньку. Дверь захлопнулась, и свет проходил через окно над дверью, которое было заделано цветными маленькими, размером с половину кирпича, стеклами. Зеленые и красные пятна лежали на полу и на обшарпанных стенах, словно в подсвеченном аквариуме. По лестнице кто-то спускался. Секунд через пять мы увидели на площадке сухонького пожилого человека, немного сутуловатого, который, судя по звуку и частоте шагов, спускался довольно легко. Заметив нас, человек остановился, круто повернулся и быстро пошел наверх. Мы тоже пошли, потому что стоять было дальше неловко. И Варвара и я чувствовали себя скованно. Мужчина поднимался все выше и выше. Наконец на четвертом этаже он вошел, как нам показалось, в сорок первую квартиру — квартиру мадам Седых. Мы точно не видели, куда вошел мужчина. Но были уверены, что скрипнула именно левая дверь. Постояв на площадке, мы так и не рискнули стучать и представляться инспекторами городского жилищного управления. Мы вернулись вниз, а Левке сказали, что не достучались...»Остальные записи не представляли ничего любопытного, разве что в психологическом плане. А между тем... в Графа Бокалова стреляли. Каиров перевел взгляд на листок, где были записаны фамилии одиннадцати человек, откликнувшихся на объявление нумизмата, подчеркнул фамилию Седых и поставил против нее жирный восклицательный знак.
14
— Володя, ты смог бы опознать того пожилого мужчину, которого видел в подъезде дома мадам Седых? — Разумеется, Мирзо Иванович. Тем более что я видел его не только в подъезде, но и в тот вечер, когда Варвара носила книгу в клуб моряков. На обратном пути он повстречался нам на Приморском бульваре. Я сразу шепнул об этом Варваре. У меня гениальная память на лица. — Проверим, — решил Каиров. И уже через час Бокалов с Золотухиным, как выразился Граф, «арендовали» комнату Варвары. Из окна отлично был виден шестнадцатый дом на Мойке и подъезд, ведущий в квартиру сорок один. К Варваре в комнату провели телефон и обещали не отключать, что, естественно, обрадовало хозяйку. Целый день Золотухин и Граф наблюдали безрезультатно. К вечеру набежали тучи. Стал моросить дождь. Разгулялся ветер... Людей на улице поубавилось. И это облегчило задачу Графа. Но окно, сделалось мокрым, и приходилось всматриваться, до боли напрягая глаза. Вероятно, Граф был человеком везучим. Когда казалось, что темнота вот-вот наступит, наступит раньше, чем зажгутся фонари, Граф сказал: — Он. — Ты не ошибся? — спросил Золотухин, глядя на человека, шагавшего под дождем. — Нет. Смотри, он сейчас свернет в подъезд. Ну? Что я говорил?! Золотухин позвонил Каирову; — Мирзо Иванович, Бокалов опознал человека, зашедшего во второй подъезд дома шестнадцать. Да, но это, к моему удивлению... доктор Челни. — Следите за ним, — сказал Каиров. — Поджидай на улице. Когда он выйдет из дому, пусть Граф сообщит мне по телефону. Через полчаса Каиров получил у прокурора разрешение на обыск в квартире Седых Ольги Павловны. А также ордер на арест доктора Челни и на обыск в его квартире. Еще четверть часа назад, просматривая материалы расследования обстоятельств отравления механика судна «Сатурн», Каиров обратил внимание, что в момент приготовления завтрака на кухне кроме повара находился только один человек — доктор Челни, который снимал пробу пищи. А еще через некоторое время Каиров установил, что отпечатки пальцев, оставленные доктором Челни на посуде, совпали с теми, что были обнаружены в комнате Нелли на стеклах книжного шкафа.15
Доктор Челни вышел из дома мадам Седых черным ходом, через котельную. Нет, он не заметил, что дом находится под наблюдением. Но его чутье, поистине волчье чутье, взывало к осторожности. Итак, человек, который дал объявление, на встречу не явился. Возможно, он уже задержан. Возможно, нет. Гадать не стоит. На эту явку доктор больше не придет. Девять лет прожил он в городе, нося личину подточенного годами старика. На последнем году даже в милицейские врачи пробрался. Репутация: не пьет, не курит, к больным внимателен. Достойный человек. Интересно, довольны ли его работой там, за границей? Организовать банды и на первых порах снабдить их оружием ему удалось. Но потом... Не хватило ловких людей, способных переправить боеприпасы из города в горы. Первая осечка вышла на Бабляке. Ему было обещано место на яхте при условии, что он отработает его — займется доставкой патронов Козякову. Бабляк согласился, но после струсил. Хмурый чисто убрал его. Но угро искало Хмурого за старые грешки. Опознало. Привесило хвост. Пришлось ликвидировать. Грубо. В самый последний момент. А заодно с Хмурым и Мироненко. Он мог слышать, как Челни звонил в гостиницу и просил не появляться возле афиши «Парижский сапожник», потому что встреча с этим олухом Хмурым была назначена у рекламного щита. Георгец идиот. Да, ему пришлось работать с такими идиотами, как Георгец, который способен доверить девке важное поручение только потому, что он однажды с ней спал! Пришить бы эту Варвару, да некогда. Пришлось пожертвовать Розой Карловной. И самое печальное, оставить следы... Челни свернул на Приморский бульвар. Здесь ветер был сильнее и слышался шум волн. Челни с испугом подумал, что, если разыграется шторм, яхта едва ли придет тридцатого. Ветер качал редкие фонари, и круги света прыгали по скамейкам, по голым деревьям, по мокрому асфальту. И представлялось, что это мечется сам бульвар. На душе у доктора было очень неспокойно. Лодочник Кузьмич, как и договорились, ждал его у «бочонка». Возле стойки, прямо на открытом воздухе, пили еще несколько забулдыг. Челни попросил стакан «Хванчкары». Отошел с Кузьмичом в темноту. — Ящики сегодня утопи, — негромко проговорил Челни. — Все шесть? — Да. — Свежевато на море. — Деньги тебе отправлены по почте. Кузьмич кивнул, что понял. Челни допил свое вино. Стакан поставил на прилавок. Купил пачку «Казбека». И пошел дальше. К набережной. Возвращаться домой он считал опасным. Однако сутки нужно было где-то отлежаться. Идти к Кузьмичу было бы верхом неосмотрительности. Его вполне могут задержать, когда он будет сбрасывать в море ящики с оружием. Бродить по городу — не лучший выход из положения. Каиров наверняка объявит розыск. Есть только одно место, где можно укрыться. По адресу, который оставил Хмурый... Ноздря встретил его неприветливо. Смотрел с подозрительной настороженностью. Отвечал кратко и негромко, словно ленился раскрывать рот. Но Челни не был обескуражен холодным приемом. Именно таких замкнутых, осторожных людей, как Ноздря, Челни считал надежными, достойными доверия. Он выложил перед Ноздрей сто рублей и сказал: — На текущие расходы. Завтра получишь вдвое больше. Ноздря спросил: — Где желаете находиться? В доме или в тайнике? — Веди в тайник, — решил Челни. Ноздря повел Челни тем же путем, которым когда-то шел Граф Бокалов. В тайнике было холодно и сыровато. — Да-а... — поежился Челни. — Можно электроплитку организовать, — сказал Ноздря. — Умно. Это было бы очень умно, — согласился Челни. Вскоре Ноздря принес ржавую электроплитку и узелок с продуктами. — Ужинайте. — Ноздря вытащил из кармана неполную бутылку самогона. Поставил ее на сундук перед Челни. В узелке были яйца, хлеб, огурцы, пустой стакан. Челни налил самогону в стакан. И тут он совершил последнюю, роковую ошибку. Может, ему уж очень понравился Ноздря, может, осечка, вышедшая у него с Графом, раздражала, будто заноза, во всяком случае, он сказал: — Бы знакомы с Графом Бокаловым? — Да, — ответил Ноздря. — Не доверяйте ему, он работает на Каирова. Внешне Ноздря реагировал на предостережение так же, как если бы услышал: «Приготовьте галоши, завтра пойдет дождь». Короче, он даже не шевельнул бровью. Словно Челни ничего и не говорил. Между тем в голове его мелькнула такая мысль: если Каиров подсылал к нему Графа, значит, дела плохи, значит, надо спасать собственную шкуру. А как спасать? Можно ли спасти? Кажется, да. И, выбрав момент, Ноздря ударил Челни бутылкой по голове. Связал. Очистил карманы. Деньги припрятал в укромном месте. Пистолет, какие-то порошки, бумаги завернул в сверток. И пошел к Каирову... ...Лодочник Кузьмич этой же ночью был задержан пограничниками. А еще через сутки чекисты встретили яхту у мыса Косого.16
«Дорогая Марфа Гавриловна! С большой скорбью сообщаю Вам тяжелую весть о героической гибели Вашего сына и товарища нашего, Лобачева Семена Матвеевича, который бесстрашно и не щадя жизни сражался с белобандитами, отстаивая завоевания рабочих и крестьян. Ваш сын, Лобачев С. М., был храбрым и сознательным красноармейцем, пользовался любовью и уважением товарищей. Память о нем навсегда сохранится в сердце революционного народа. Похоронен Ваш сын и наш дорогой товарищ, Лобачев Семен Матвеевич, на кладбище в станице Лабинской. С командирским приветом!Комэска Л и х о н о с о в20 ноября 1933 года».
«Здравствуйте, Оксана Петровна! С большим горем и скорбью спешу сообщить, что муж Ваш, Иван Антонович Поддувайло, героически погиб в схватке с белобандитами, отстаивая завоевания трудового народа. Товарищ Поддувайло И. А. был храбрым и сознательным красноармейцем, пользовался уважением друзей. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Похоронен Ваш муж и наш дорогой товарищ, Поддувайло Иван Антонович, на кладбище в станице Лабинской. С командирским приветом!Иван Беспризорный и Боря Кнут родственников и близких не имели.Комэска Л и х о н о с о в20 ноября 1933 года».
ЭПИЛОГ
И опять светило солнце. Здесь всегда так. Сегодня дождь или мокрый снег, а завтра солнце, жаркое, южное. И словно нет на земле никакой осени, нет зимы. Только весна и лето. И небо было голубое. И море голубое. Они сливались, и казалось, что город повис в голубом воздухе. Люди на перроне торговали виноградом, каштанами, вяленой ставридой и белыми хризантемами. Проводник объявил, что здесь меняют паровоз и стоянка продлится двадцать пять минут, но Анастасия не вышла из вагона, а стояла на площадке прокуренного тамбура. Она знала, что ее должны встретить друзья Кости Волгина, и считала, что на площадке ее легче найти, нежели в толпе у вагона. Анастасия ехала в Гагру, в санаторий, куда была направлена ростовскими врачами. Золотухин поднимал над головой букет хризантем. Каиров обеими руками прижимал к груди кулек с виноградом. — Я вас узнал сразу, — заявил Золотухин. — У вас внешность героини. Вам нужно сниматься в кино. Анастасия была бледна. И улыбалась от смущения, но румянец не проступал на ее щеках. И они оставались желтыми, словно восковые. Только глаза были живые. И печальные. Она сказала, что очень тронута. Просила Каирова помочь ей оформить брак с Костей. Она хотела, чтобы ребенок Волгина носил фамилию отца. Каиров заверил Анастасию, что любил Костю, как родного, и сделает для Анастасии все... Потом поезд пятился назад. И Каиров, и Золотухин, и еще какая-то женщина, сунувшая ей в руку пакетик конфет, которую мужчины называли Нелли, махали Анастасии. Под колесами загремел мост через зеленую речку с черными от мазута берегами... И Анастасия увидела море. Оно было живое. И от этого еще более величественное, чем на картинах в Третьяковке. Волны шли одна за другой. Большие волны с белыми холками. И разбивались где-то у поезда. Но Анастасия не видела, как разбиваются волны. Лишь брызги попадали ей на лицо. Она знала, что брызги блестят на солнце. И они блестели. И хотелось, чтобы так было всегда. Гудел паровоз, прикрываясь дымом, как зонтиком. Мельтешили телеграфные столбы. Город удалялся... Этот незнакомый солнечный город, в котором она не была ни под одной крышей, не бродила по улицам. И все же не считала его чужим, потому что там остались люди, которые знали ее, верили ей. Люди — ее друзья!ОЖИДАНИЕ ШТОРМА

Помощник
Берег, подобно чаше весов, то поднимался, то опускался, потому что волна о борт била крупная, серая. И сторожевик не резал ее носом. Взмывал вверх. Ухая, падал. И тогда корма задиралась высоко, словно занавеска, подхваченная ветром. Брызги белые, но тусклые, шипя, погружались в море, с какой-то торопливой обреченностью перекатывались по палубе, стальной, холодной. Каиров в прорезиненном плаще, который боцман почти насильно заставил надеть поверх шинели, стоял на ходовом мостике рядом с капитан-лейтенантом — высоким простуженным грузином. Каиров трудно, что всегда удручало его, переносил качку. Но море пахло хорошо. И это было просто спасением. Стылые тучи ползли вслед за катером, обгоняли, громоздясь одна на другую, зависали впереди над нечеткими вершинами гор, Слева, не далее чем в миле, море вскипало, подставляя зюйд-весту лохмы соленых брызг, — это камни волнореза, старые, поросшие зеленым мхом, преграждали дорогу шторму. И море злилось. Бросалось на камни яростно, грозно. Темный мол, окаймлявший бухту, казался низким. Волны перекатывались через бетон, но не все. Большая часть их, взметнув к небу пенистые гривы, охая, откатывалась назад. — Впервые сюда, товарищ полковник? — не оборачиваясь к Каирову, спросил капитан-лейтенант, собственно, не спросил, а выкрикнул. — В начале тридцатых годов работал здесь начальником городской милиции. С тех пор и не был... — Каиров говорил тоскливо и тихо, без всякой надежды, что капитан-лейтенант услышит его. Но тот услышал. И снова выкрикнул: — Немалый срок! Позапрошлой осенью немец превратил город в развалины! Катер стал забирать влево. Волна валила его на борт. И небо покосилось, как старый, зализанный дождями забор. Каиров, желтый, с набрякшими от бессонницы веками, полной грудью, будто зевая, вдохнул воздух, почувствовал, что тяжесть в груди спала, сказал»: — Жаль. — Сегодня не сорок второй, сегодня сорок четвертый. Второй Украинский фронт уже в Румынии. — Однако Гитлер еще в Крыму, — возразил Каиров, с въедливой рассудительностью старого человека. — Выбьем! — Не сомневаюсь. И все же хочу напомнить разумную азербайджанскую пословицу: вначале перепрыгни арык, а потом кричи «ура!». Малыш МО-IV, прошмыгнув сквозь створы ворот, оказался в бухте, где вода была более спокойной, темно-зеленого цвета, с фиолетовыми маслянистыми разводами. Четыре подводные лодки, ошвартованные у пристани, чернели долгими, строгими, похожими на акул телами. Над мрачным тральщиком, покачивающимся в западной части гавани, кружились чайки. Они, наверное, кричали, но гул волн и шум мотора были сильны, и Каиров не слышал птиц и только подозревал, что они обязательно о чем-то кричат. В береговой дымке проступали очертания зданий. Одни из них были разрушены, другие закамуфлированы: в коричневых, в зеленых пятнах. Лишь пирамидальные тополя да кипарисы, как и в прежние, довоенные годы, высоко качали вершинами. — Лево руля! — крикнул капитан-лейтенант. — Такдержать! Теряя ход, катер плавно приближался к причалу. По причалу, заложив руки за спину, расхаживал капитан в сухопутной длинной шинели. С мостика Каиров еще не мог разглядеть его лицо, но отметил, что капитан — человек приземистый и сутулый. Заботливый боцман вынес из кубрика чемоданчик. Каиров снял плащ. Поблагодарил боцмана. Боцман был весь седой. Правую щеку его прорезал свежий шрам почти от глаза до угла губ. Когда боцман говорил, шрам натягивался, будто готовый лопнуть. — Удачи вам, товарищ полковник. А коли в Поти снова надумаете, враз доставим. — Боцман правильно говорит! Он службу знает! — весело заметил капитан-лейтенант. К его смуглому лицу с курчавыми бакенбардами очень шла морская форма. Он пожелал: — Счастливо оставаться... — Всего вам доброго, друзья! — Каиров ступил на настил причала. Капитан, у которого лицо оказалось самое обыкновенное, без всяких примет, и лишь взгляд был излишне холодным — он запоминался, — приложил правую руку к козырьку фуражки: — Разрешите представиться, товарищ полковник, следователь особого отдела капитан Чирков. — Каиров. Погон перекосился. Глядя на грузного, немолодого полковника, страдающего одышкой и, кажется, въедливостью, капитан Чирков поспешно поправил погон и сказал четко и холодно, стараясь тем самым утаить досаду: — Машина на набережной. Она отвезет вас в гостиницу. — Спасибо, сынок, — удовлетворенно ответил Каиров. — Начальник особого отдела просил выяснить, когда он может прибыть к вам для доклада. — Я встречусь с ним завтра. Пусть подготовит в мое распоряжение человека. — Этот человек я, — с грустью признался капитан Чирков. — Тем лучше! Сводку Совинформбюро слушали? — Утреннее сообщение. Наши войска овладели Симферополем. — Спасибо за радостное известие, капитан... Шофера Дешина, случаем, не расстреляли? — Никак нет, товарищ полковник. Исполнение приговора задержано по приказанию штаба фронта. Странно, какие высокие инстанции заинтересовались столь рядовым происшествием... — Что такое рядовое происшествие? — Каиров шел на полкорпуса впереди Чиркова. Ему не хотелось смущать капитана своим взглядом. Ему не хотелось и говорить, и двигаться. Но он понимал, так или иначе, нужно добраться до гостиницы, так или иначе, нужно выяснить, что же за человек его помощник: вдруг придется от него отказаться! — Не выходящее за рамки обыкновенного чепе, — ответил Чирков. — Как отличить обыкновенное чепе от необыкновенного? Чирков отвечал торопливо: — Теоретически, возможно, и трудно. Но на практике нам, хоть мы и рядовые следователи, виднее, чем там... — Он поднял руку кверху. Набережную и дорогу разделяли два ряда колючей проволоки, натянутой на высоких неоструганных столбах. Машина стояла по эту сторону ограды. — В твои годы я думал то же самое... — Каиров махнул рукой, давая понять, что разговор окончен. Но капитан уже не мог остановиться: — Вы можете пересмотреть дело. Заменить расстрел штрафной ротой. Возражать, чинить препятствий никто не будет... Тем более что серьезных мотивов для преступления у Дешина не было. Их ничто не связывало с Сизовым, даже знакомство. Несчастный случай, а потом трусость. Элементарное дело... Прошу вас — Капитан Чирков открыл дверку «виллиса».В библиотеке
— «Женщины потеряли тут всякую сдержанность...» Нет, ты послушай, Танечка... «Они появляются перед мужчинами с открытыми лицами, словно просят о собственном поражении, они ищут мужчин взорами; они видят мужчин в мечетях, на прогулках, даже у себя дома; обычай пользоваться услугами евнухов им неизвестен...» Если бы китайцы не изобрели фарфор, трудно сказать, с чем можно было бы сравнить лицо Татьяны. Кремы, пудра, краски, тушь — все это так умело совмещалось на лице, что оно действительно казалось вылепленным из фарфора. Дрогнув ресницами, она почтительно спросила: — Миша, и тебе нравится Монтескье? Миша Роксан, майор интендантской службы, упитанный, румяный мужчина лет сорока, нарочито почесал затылок и, сморщившись, сказал: — Нравится — это по-школьному. Меня поражают глубина его взглядов, широта тем, философское осмысление событий. — Древние писали обо всем, — вздохнула Татьяна. — Монтескье не столь древен, как ты думаешь. Восемнадцатый век. Эпоха французского Просвещения. — Мы что-то учили об этом в школе. — Татьяна вспомнила: — Атос, Портос, д’Артаньян... Правильно я говорю? — Да, милая, — несколько смутился Миша Роксан, — но я бы, с твоего позволения, добавил: Дидро, Даламбер, Руссо, Гольбах, Гельвеций. И конечно же, великий Вольтер! — Помню, помню, — сказала Татьяна. — Он был любовником царицы Екатерины. — Я, например, слышал, что они только переписывались. И старик Вольтер пытался внушить императрице основные идеи просветителей. Ликвидацию крепостничества, гражданские свободы, широкое просвещение народа, приобщение его к богатствам культуры. — Одно другому не мешает. У нее было очень много мужчин. — Ты ей завидуешь? — Миша спросил шутливо, мягко, почти шепотом. И, словно признаваясь в сокровенном, Татьяна зарозовела и ответила: — Мы, женщины, все немножко завистливы... Она сидела у столика, за которым пестрели корешками книги на длинных стеллажах, закрывающих всю стену от пола до потолка. Другие стеллажи, короткие, стояли посреди комнаты. На них тоже лежали книги. Слева на узком, покрытом скатертью столе белели подшивки газет. — А я завидую вашей работе. Еще год — и я окончил бы филологический, — сказал Миша Роксан. Он облокотился на перегородку, которая отделяла стол Татьяны стеллажи от остального зала. И теперь смотрел на нее верху вниз. Пальцы у библиотекарши были вымазаны чернилами. Она старательно оттирала их промокашкой. — Где учился? — В Москве... — Этому можно позавидовать, — вздохнула Татьяна, улыбнулась. Ее забавляла неуклюжесть Роксана, навязчивость, стеснявшая его самого. — Война скоро окончится. У тебя все впереди, Таня, — сказал он убежденно. — У меня все позади, Мишенька, — сказала она без всякого кокетства. Искренне. И это так понравилось Роксану, что, сам тому не веря, без всякого страха он произнес: — Таня, будь моей женой. Она не смутилась, не покраснела. Подняла удивленные лаза. И... вдруг заплакала. — Нет-нет! Я не хотел тебя обидеть, Таня! Честное слово! — Роксан склонился над барьером, коснулся рукой плеча женщины: — Я понимаю. Нелепая гибель Валерия. Я понимаю... — Ничего ты не понимаешь. — Она вынула из сумки носовой платок. Заглянула в зеркало, прислоненное к фанерному ящику с абонементными карточками: — Валерий никогда не любил меня. — Ты ошибаешься. — В словах Роксана не было уверенности. Просто ему не хотелось в это верить. — Я говорю правду. Незадолго до того как он попал под машину пьяного шофера... мы поругались из-за письма... — Какого письма? — Роксан почувствовал, как неприятно дребезжит его голос. — Он разве ничего тебе не говорил? — Нет. — Письмо от женщины, — устало вздохнула Татьяна. Она уже привела свое лицо в порядок. И только глаза ее блестели, как листья после дождя. — Ты что-то путаешь. — Я нашла письмо в кармане кителя. А он ударил меня по лицу. И сказал, что лазить по чужим карманам свинство. — Ты приняла это близко к сердцу? — Когда тебя бьют по лицу, тут уж хочешь не хочешь — примешь близко к сердцу. Миша Роксан нахмурился. Сказал на этот раз без срывов в голосе: — О покойниках не говорят плохо. Но в данном случае майор Сизов вел себя недостойно. Резкая, пронзительная сирена вспучила тишину. И это было так неожиданно, как если бы рухнул потолок или в окно хлынуло море. Молчавший до сих пор репродуктор вдруг забасил: — «Внимание! Внимание! Говорит радиоузел штаба противовоздушной обороны. Воздушная тревога! Воздушная тревога!»Между тревогой и отбоем
Коридор гостиницы был пуст. Сирены уже не гудели, зенитные орудия еще не стреляли. И в здании, и за его стенами хозяйничала тревожная тишина. Выйдя на лестничную площадку, Каиров увидел часть освещенного вестибюля, стол с табличкой: «Дежурный администратор» — и однорукого мужчину в неновом матросском бушлате. Когда Чирков привел Каирова в эту гостиницу при Доме офицеров, в вестибюле дежурила женщина. Значит, произошла смена. Заметив спускающегося по лестнице полковника, однорукий администратор поднялся со стула и предупредительно сказал: — Бомбоубежище направо во дворе. — И добавил: — Под горой, товарищ полковник. — Будет бомбить? — спросил Каиров. — Да кто же его знает. Может, и пронесет... В сорок втором прикладывался крепко. Дня не было, чтобы два-три раза не шуровал. А теперь, случается, гуднет сирена, попужает... Да и отбой дают. Наши-то Симферополь взяли! — Знаю. Администратор, видимо, ровесник Каирова. Только лицо у него более жухлое и морщинистое. Он, кажется, охотник поговорить. — Вот, кинь-перекинь, можно сказать, век отживаю, товарищ полковник, а только теперь понял, что города — они точь-в-точь как люди. В каждом из них какая-то штуковина заложена до поры до времени. Возьмите наш город... Живу я здесь с одна тысяча девятьсот седьмого года. Представление о нем имел самое обыкновенное. Моряки, грузчики, курортники. На рынке кубанцы с картошкой, адыгейцы с кизилом. Знаменитостей в нашем городе не рождалось, театра нет, трамвай опять-таки не ходит... А пришла беда, и у нашего города характер открылся. Что только немец не делал, сколько дивизий не бросал! Бомбил и днем и ночью... А люди наши по шестнадцать часов в сутки работали. Баррикады строили, противотанковые ямы рыли. Враг в город не прошел... И порт в самое лихое время Всесоюзное переходящее знамя получил. — Про характер верно подмечено, — согласился Каиров. — Жизнь, она тайна сильная. Я бы сказал, могучая. Она как трава весной. Отбили немца. И помаленьку все налаживается. Детишки в школы пошли. Баня стала работать. Три раза в неделю танцы. — И есть кому танцевать? — Еще бы!.. Война, она не сильней людей. Фигу ей! Слыхал я, ребята и на передовой с гармонью не расстаются. — И песни поют. — Товарищ полковник, — администратор хитро улыбнулся, — лицо мне ваше, сдается, знакомо. Не бывали ли у нас до войны? — Может, где в другом месте виделись? — Нет. Я тута уже тридцать седьмой год безвыездно. — Каиров — моя фамилия. — Все ясно. Вспомнил... В тридцать втором, в тридцать третьем вы у нас милицию возглавляли. — Было дело. — О вас здесь добрая молва осталась... Рад с вами познакомиться — Сованков Петр Евдокимович. — Очень приятно. — Значит, к нам в гости. — Служба. — Понятное дело. В каком номере остановились? — В одиннадцатом. — Там один майор жил. Погиб недавно. — Война. — Все так... Однако на войне геройская смерть красна. Дверь, как занавес, поползла влево. Вошла молодая женщина. Лицо правильное. Губы яркие, словно сами по себе. Глаза большие, темные, как ночные бабочки. Рядом с женщиной майор интендантской службы. Богатырь. — Кто эта красавица? — с откровенным восхищением спросил Каиров. — Таня Дорофеева из библиотеки, Невеста погибшего майора. — Привлекательная женщина, — очень серьезно сказал Каиров. И даже вздохнул.В номере Каирова
— Надо поправить шторы, — сказал Чирков. — Кажется, свет проникает на улицу. Он пластично, с женской аккуратностью переставил стул. Подоткнул штору под потертые ребра батареи парового отопления, давным-давно выкрашенные в синий цвет, который теперь уже был не синим, а просто грязным. — Не надо переоценивать светомаскировку, — ворчливо сказал Каиров. — Ночью с самолета хорошо виден каждый огонек. — Ты когда-нибудь летал ночью на самолете, сынок? — Нет, товарищ полковник, — виновато ответил Чирков, видимо непривычный к манере обращения, свойственной Каирову. Он не знал, куда деть руки, где стоять и как: вольно ли, смирно. Кивнув капитану на кресло, Каиров стащил сапоги и, не раздеваясь — в галифе, в гимнастерке, — лег на постель, поставив вертикально подушку, чтобы лучше видеть Чиркова. — Спасибо, товарищ полковник. — Чирков присел на краешек кресла. — Вижу, ты устал за день, капитан, — сказал Каиров. — Обещаю не задерживать долго. Выкладывай свою версию дела шофера Дешина. — Я не могу этого сделать, — смутился капитан. Тут же поправился: — Никакой особой моей версии не существует. Есть одна общая версия, установленная следствием и подтвержденная судом. — Одна так одна!.. — чуточку недовольно проворчал Каиров. — Эту версию я и имел в виду. — Четырнадцатого марта в двадцать два часа десять минут из городского отделения милиции позвонили к военному коменданту. Сказали, что на третьем километре за Рыбачьим поселком стоит наша машина и под ней — мертвый офицер. Следствие установило, что машину водил шофер местного гарнизона рядовой Дешин Николай Николаевич. Будучи за рулем — полагаю, в пьяном виде, — он сбил машиной майора Сизова Валерия Ильича. Оставив смертельно раненного майора истекать кровью, шофер Дешин из-за страха, обуревавшего его, сбежал в горы, а точнее, дезертировал... — Его нашли? — Он вернулся сам. Однако на вторые сутки. Да... В предъявленных обвинениях шофер Дешин признал себя виновным. За совершенные преступления Дешин приговорен к расстрелу. — Это мне известно. Каиров некоторое время задумчиво смотрел мимо Чиркова на стену, где в небольшой лакированной рамке висела картина, изображающая берег моря, кипарис и яхту, белую-белую, на рейде. Потом сказал неожиданно официально: — Капитан Чирков, у меня еще один вопрос. Вы вели следствие и конечно же сможете назвать мне фамилии людей, которые дружили или близко общались — я понимаю, это все относительно, — с покойным майором Сизовым. — Да, только относительно... Хорошо его знала Татьяна Дорофеева. Дружил с интендантом Роксаном. Вот это близкие... Ну еще кто? Общался он с товарищами по работе. Это нужно взять список офицеров штаба. — Он всегда жил здесь, в гостинице? — Нет. В начале пребывания в гарнизоне. И в последнюю неделю. Более двух месяцев он жил на квартира у Дорофеевой. — Вы допросили Дорофееву, Роксана? — Не считал нужным. Какое отношение они могут иметь к дорожным происшествиям? — Понимаю... Так. Прошу завтра к десяти утра представить мне сведения на Дорофееву, Роксана и других офицеров, с которыми Сизов сталкивался по службе. Подготовьте мне список служащих гостиницы: дежурных администраторов, горничных, коридорных... Я имею намерение с ними побеседовать. Ясно? — Так точно, товарищ полковник. — Будь здоров, сынок. До завтра. — Товарищ полковник, разрешите?.. Я вспомнил. Есть еще один человек, с которым Сизов находился в приятельских отношениях. Барабанщик Жан... — Фамилия? — Это легко выяснить. Три раза в неделю он играет в джазе здесь, при Доме офицеров. — Хорошо, капитан. Спасибо. Чирков, как на смотре, щелкнул каблуками. Четко повернулся кругом. — Постой, сынок! — остановил его Каиров. Ты не знаешь, кто сейчас начальник городского отделения милиции? — Майор Золотухин. — Золотухин! Отлично. Еще раз спасибо, капитан. Хороший ты человек. — Спокойной ночи. — Тебе тоже. Несмотря на доброе пожелание Чиркова, Каиров не уснул. Он долго глядел на картину — на белую яхту и зеленый кипарис. Картины, подобные этой, он видел почти во всех южных гостиницах. Море на них всегда было синим, небо розовым, а кипарисы походили на огурцы, поставленные вертикально. Но, странное дело, сегодня это не вызывало у полковника обычного раздражения. И он смотрел на картину спокойно, как на рядовой гостиничный инвентарь, оставшийся от славного довоенного времени и уже по одному этому милый для глаз. Звонок у телефона повизгивающий, как разношенные борта машины. Каиров резковато хватает трубку: — Слушаю! — Товарищ полковник, это Чирков. Фамилия барабанщика — Щапаев Жан Герасимович. — Спасибо за оперативность. — Не стоит.Тайник
Вечер был не слишком холодным, но ветреным, пронизанным морской сыростью и шумом волн, которые, накатываясь на берег, грохотали, словно взрывы. Может, в те, другие, мирные годы грохот разгулявшейся соленой волны никто бы и не стал сравнивать со взрывами, но после огневой осени сорок второго люди нет-нет да и вздрагивают от грохота волн. «Эх, чайку бы не помешало!» — подумал старшина милиции Туманов и даже поежился, вспомнив о сопящем чайнике. Как ни рассуждай, что Черноморское побережье — рай, только вот такой сырой ветер в сто раз хуже самого лютого сибирского мороза. Туманов вырос в Сибири. Детство в Красноярске провел, юность. Знает он цену тому краю. Не в пример другим, которых Сибирью пугать можно, как детей милицией. Там если мороз, то мороз. Днем солнце. Воздух звенящий. Ночью звезды считай! И благодать — ветер отсутствует. Ежели ты одет нормально, то морозу и кум и сват. Здесь же листочки зазеленели, однако постоял час без всякого движения — и зуб на зуб не попадает. «Да, — думает Туманов, — одиночество завсегда на размышления тянет. И самое паршивое, что закурить нельзя. Вдруг вспугнешь того, значит, неизвестного, что к тайнику прийти должен. Черт знает когда он придет! Может, ему плевать на этот баул с десятью банками свиной тушенки! Может, у него тушенки — ящиками! Ловкое жулье. В городе по хлебным карточкам раз в неделю кукурузную муку дают, на продуктовые лишь хамсу получить можно, а в развалинах под полурухнувшей лестницей — баул с пестрыми американскими баночками, на которых такие аппетитные кушанья нарисованы: тарелочка, значит, со свиной тушенкой, по краям — свежие помидорчики, молодая петрушечка! И как это я сегодня в полдень случайно на баул наткнулся?! В развалины зашел и глазам своим не поверил». Сам начальник милиции товарищ Золотухин крепко жал руку. Молодцом назвал. Велел баул на прежнее место положить и скрытый пост выставить. Все так и сделали. Одна лишь разница: в бауле не тушенка, а три кирпичины, в газеты завернутые.Человек, которого ждет старшина Туманов, уже идет по улице. Их еще разделяют два квартала. Но это немного. Семь минут ходу. Человека зовут Жан. Ему двадцать лет. Он удивительно маленького роста. Один метр и сорок сантиметров. По этой причине или по какому другому дефекту здоровья в армию не призван. На Жане куртка с «молнией», берет. Куртку, как и остальную одежду, Жану сшила мать. Она портниха. В городе известная. Темно. И сейчас трудно рассмотреть лицо Жана. Проще это будет сделать в Доме офицеров, где Жан играет в джазе на барабане. В городе введен комендантский час. Но у Жана есть пропуск. Об этом позаботился начальник Дома офицеров. Музыка в жизни Жана — целый мир. Но время трудное. Жан понимает это. И потому еще работает приемщиком в мастерской по ремонту металлических изделий. Погода нравится Жану. Улицы пустынны. Вой ветра и грохот моря глушат звуки шагов. И луны нет. Пусть отсыпается... На перекрестке улиц Вокзальной и Карла Либкнехта патруль проверял документы. Конечно, можно топать прямо, пропуск законный. Но лучше обойти. Так спокойнее. Зачем привлекать к себе внимание. Зря разве мамочка учила: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». И Жан повернул в подъезд разрушенного дома...
Все-таки старшина Туманов замечтался. Он увидел неизвестного, когда тот уже миновал проем окна и приближался к лестнице. Старшина Туманов был обязан дать возможность неизвестному взять баул. Только после этого он имел право произвести задержание. Раньше нельзя. Если раньше, неизвестный скажет — зашел в развалины нужду справить. Потом доказывай... Вот почему старшина Туманов строго придерживался инструкции. В левой руке у него был фонарик, в правой пистолет. Он не торопился, но и не медлил. К сожалению, из-за темноты старшина не мог видеть, взял ли неизвестный баул. И когда от лестницы вновь отделился силуэт, старшина нажал кнопку фонарика. Однако произошло непредвиденное. Фонарик только мигнул и погас. Старшина крикнул: — Стой! Неизвестный не выполнил приказания, а бросился бежать со всех ног. — Стой! Стрелять буду! — В инструкции предусматривалось и это. Но, когда фигура появилась в проеме окна, выделявшегося на фоне густой, вязкой синевы, старшина был поражен маленьким ростом неизвестного. Подлецы! Мальчишку подослали. — Стой, паршивец! — И старшина выстрелил вверх. — Стой! Жан и не думал останавливаться. Перебежав улицу, он прошмыгнул в другие развалины. Спрыгнул в подвал. Оттуда вышел в бездействующий канализационный туннель. И через четверть часа был далеко от места происшествия.
Начальник милиции
Золотухин смотрел, как Каиров закрыл за собой дверь. Как неторопливо, словно сомневаясь в прочности пола, вышел на середину кабинета. Остановился, по-хозяйски огляделся. Сказал с ухмылкой: — Ты такой же лохматый, точно десять лет назад. Золотухину давно казалось, что он забыл голос Каирова. Как забыл вкус березового сока, первые цветы медуницы: розовые, фиолетовые, синие. Судьба накрепко приковала его к этому городу. И все, что лежало вне города, было похожим на случайный сон. — Седины прибавилось, Мирзо Иванович. Да и волосы лезут, точно солома с крыши. Широк и грузен был Каиров. Золотухин обхватил его за плечи. Прижались щека к щеке. — Не думал, что увижу вас, — почему-то виновато произнес Золотухин. — Это очень хорошо. О встречах не нужно думать. Тогда они радостнее, — произнес Каиров с расстановкой и, шаркая подошвами, направился к дивану. — Мы сейчас поедем ко мне домой. Я предупредил Нелли, как только вы позвонили. Она ждет вас с нетерпением. — Сегодня поздно, — сказал, глядя на усталое, изможденное лицо Золотухина, Каиров. — Лучше завтра. Я пробуду здесь несколько дней. А может, всю неделю. — Мы вам многим обязаны, Мирзо Иванович! — На шее у Золотухина пульсировала жилка. — Мы вас так любим! — Ты правильно сделал, что женился на Нелли. Она верная женщина. Моя Аршалуз по-прежнему зовет ее дочкой. Каиров почему-то не сел на диван. Стал ходить по кабинету. Смотрел вниз. И руки его были за спиной, будто сцепленные. Золотухин, хорошо знавший привычки своего бывшего начальника, молчал, терпеливо ждал, когда заговорит Каиров. — Побит город. — Каиров расцепил руки, потер подбородок. — Побит, — согласился Золотухин. — Жаль. — Само собой, Мирзо Иванович. Каиров сел в кресло. Закрыл ладонями глаза. — Извини... Я лишь сегодня приехал. А в море немного покачивало. — Да, погода стоит дрянная... — согласился Золотухин и умолк, выжидая. Положив руки на подлокотники, Каиров запрокинул голову и, глядя вверх, в угол, где встречаются потолок со стеной, сказал: — Как понимаешь, я приехал к вам не случайно... В местном гарнизоне совсем недавно произошло на первый взгляд заурядное событие. Я подчеркиваю, на первый взгляд... Шофер по пьяной лавочке задавил офицера. Испугавшись, протрезвел. И два дня скрывался в горах. Машину и труп обнаружили твои люди. — Совершенно точно. — Кто именно? — Старшина Туманов. — Я хотел бы с ним поговорить. — Завтра. Сейчас Туманов выполняет задание. — Хорошо. — Каиров опустил голову. И теперь смотрел прямо на Золотухина. — Меня интересуют сведения о двух людях. Помоги узнать все, что можно. — Постараюсь. — Дорофеева Татьяна Ивановна. Библиотекарша при Доме офицеров. И еще... Щапаев Жан Герасимович. Где работает, еще не выяснил. Но подвизается в джазе барабанщиком. Тоже при Доме офицеров. — Барабанщика Жана знаю в лицо. Виртуоз! — без восхищения, но с данью уважения произнес Золотухин. — Надо будет посмотреть его в деле. Давно не слышал приличной музыки. — У нас есть патефон. Десятка три пластинок. И бутылка коньяку из довоенных запасов. — Ладно. Уговорил, — согласился Каиров.Нелли
Над горой висела звезда. Голубая, большая. Больше, чем в две ладони. Нелли никогда не видела ее раньше, ни в этом, ни в другом месте. Но звезда висела над черной, похожей на вещмешок горой, и это было не наваждение. Мелкие, другие звезды точками прокалывали небо где-то высоко, неярко, неподвижно. А эта покачивалась низко и лениво, точно медуза в спокойной волне. «Красавица», — подумала Нелли. Почувствовала, что ей хочется погладить звезду, как щенка или котенка. Усмехнулась этому желанию. Сошла с крыльца. За забором лежала темная улица, пахнущая молодой листвой кисловато, весело. Где-то орали коты, перелаивались собаки, одинокие светлячки пунктирили ночь вдоль и поперек. Машины не были слышны. Нелли прислушивалась долго. Далеко-далеко шумело море. На товарной станции маневрировал паровоз. Нелли поняла, что волнуется в ожидании встречи с Каировым. Мирзо Иванович, какой он теперь?.. Нелли рано осталась сиротой, воспитывалась в детдоме. В общем, это было славное время. Хотя и голодное. Учителем по литературе был старенький, щуплый мужчина — Александр Михайлович. Он носил пенсне. И какую-то старую форменную куртку синего цвета. Держась правой рукой за стол, словно для устойчивости, он, приподнимая вверх согнутую в локте левую руку, читал:Барабанщик Жан и его мамочка
— Засекли, проклятые! — выпалил Жан, переступая порог комнаты. — Засекли! И стукача поставили! Марфа Ильинична, побледнев, каким-то механическим, словно заученным, движением проворно задвинула засов и повернула ключ в двери. — Вот им! Шиш! Баул-то я унес. — По щекам Жана катился пот, смешанный с пылью, будто минуту назад, надрываясь из последних сил, долбил он ломом твердую известковую землю. — Тебя преследовали? — испуганно спросила мать сына. — В меня стреляли. Только черта им... Ночь прикрыла. У Марфы Ильиничны, грузной, седоволосой женщины, подкосились ноги. И ее глаза, обычно властные, утратили свою привычную твердость. Хорошо, что под рукой оказалась спинка стула... Жану пришлось торопливо отсчитывать капли. Но он, как всегда, был не в ладах с пипеткой, потому в стакан попало гораздо больше восемнадцати капель. И ему пришлось менять воду, к недовольству мамочки. Лекарство подействовало не сразу. Некоторое время Марфа Ильинична сидела закрыв глаза и дышала шумно, и грудь ее под ярким халатом опускалась и поднималась, точно насос. Жан снял куртку, брюки. Он был в пыли, в извести. А в доме не любили грязи. На сундуке, прикрытом суровым чистым рядном, он увидел щетку с надтреснутой, блестевшей от долгого употребления ручкой. Он хотел немедля, сию же секунду, почистить одежду. Однако Марфа Ильинична уже открыла глаза. Повелительно, хотя и негромко, она сказала: — В бауле-то что? Посмотри в баул! В трусах и в майке, Жан поспешил к столу, щелкнул замком. — Что-то есть, — сказал он обрадованно. — Бестолковый ты... По всему пора догадаться, что не пустой. — Мамочка! Кирпичи! Кирпичи в газете. Целых три штуки. — Подменили, — спокойно сказала Марфа Ильинична. — Я так и думала, что подменили... — Вы этой шлюхе деньги не отдавайте! — закричал Жан разгневанно и нервно. — Она ни при чем. Милиция подменила, — спокойно ответила Марфа Ильинична и плотно поджала губы. — Все равно мы не должны нести убытки! — Убавь голос, — поднялась Марфа Ильинична. — Да не маячь перед родной матерью без порток, бесстыдник! — Я сейчас, мамочка. Я моментально. — Он убежал в другую комнату, не прикрыв дверь. Она заглянула в баул, взвесила кирпич на ладони. Спросила громко: — Уверен, что тебя не проследили? — Премного. Она задумалась. Поглаживала кирпич, будто ласкала. Вдруг спросила: — Ну а если с собакой? — Я махру в трех местах ронял, мамочка, — беспокойно ответил Жан. И добавил поспешно: — Как вы учили. — Мне тайник этот с самого начала не по сердцу был, — сказала Марфа Ильинична. — Ой, мама... Опять двадцать пять! — Жан появился теперь уже одетый. — Не могла же интеллигентная, хрупкая женщина таскать вам баулы да корзины, точно лошадь. — Не в глаз, а в бровь... У этой хрупкой женщины бедра как лошадиные. — Зря, мама... — возразил Жан. Правда, не очень уверенно. И даже опасливо. — Противоборствуешь? Разума не приложу, Жан... То ты ее шлюхой называешь, то — интеллигенткой, хрупкой да красивой. Таишься что-то... Сдается мне, влюбился в нее? Али ревнуешь? — Мне двадцать лет, мама. А я на вас работаю. Получку до последней копейки на этот стол кладу. Вы же мне от щедрот своих по пятерке на кино выдаете. При таких деньгах, опять же рост мой учитывая, у меня век невесты не будет. — Глупый! — ласково, нараспев произнесла Марфа Ильинична. — При такой маме у тебя все будет. Что надулся, как индюк? Таньку пожалел... На родную мать рассердился. Эх! Глупый, глупый... Своя матка бья — не пробьет, а чужая гладя — прогладит. — Вам легко говорить. Вы старая... Марфа Ильинична руки в бока. Глядит козой: — В старухи отрядил! Рановато, сынок! Мне пятьдесят шесть лет. Да если я захочу, ко мне еще сватов засылать станут. При моем доме, при моем саде, при достатке моем... — Усмехнувшись, раздумчиво покачала головой Марфа Ильинична: — Только не захочу я этого, не пожелаю... Для тебя живу, для сына своего... А Танька пустая. На мужиков падкая. Думаешь, она за тебя не пойдет, роста твоего постесняется? Ничего подобного! Посулить ей богатство нужно... И все хлопоты! — Вот и посулите. — Жан, кажется, испугался собственного упрямства. — Нет! — словно отрубила Марфа Ильинична. — Старше она тебя на четыре года. Мужиками избалована. — Красивая да гладкая... — Слышал, как в народе говорят: на гладком навоз кладут, а на рябом пшеницу сеют. — Рябая мне не нужна. — Без тебя знаю! И сама обо всем позабочусь! — Эти слова она произнесла строго. Но потом ласка появилась у нее в глазах. Она приблизилась к сыну, положила руки ему на плечи: — Думаешь, для чего я в городскую баню вот уже второй месяц хожу? Невестку себе присматриваю. Жену тебе, глупенький. В бане девчонки-то без маскарада, как под стеклышком... — У меня свои глаза есть, между прочим, — напомнил уныло Жан. — И потом, душа-то в шайке не моется. Ее-то как разглядишь? — Хватит! — нахмурилась Марфа Ильинична. — Спать пора. А мне еще помолиться надо. Она пошла в угол, где под потолком висела большая широкая икона — дева Мария с младенцем Иисусом на руках. Опустилась на колени. В это время в наружную дверь громко постучали. — Матерь божья, пронеси и помилуй... — зашептала Марфа Ильинична. Кивнула сыну: дескать, ступай к двери, спроси. — Кто там? — Голос у Жана был неуверенный, дрожащий. — Откройте! Милиция!Жизнь вообще, семейная в частности
Каиров обнял Нелли. По-отечески поцеловал ее в обе щеки. И она поцеловала его. Золотухин прошел вперед. А они замешкались у крыльца. И Каиров сказал: — Пойдем. Я хочу рассмотреть тебя при свете. Перила — они были видны в темноте — подпирали крыльцо, но длинные ступеньки оставались невидимыми. И Нелли посветила фонариком, а Каиров держал ее под локоть. Дверь, которую успел открыть Золотухин, оголила светлый проем, прикрытый колышущимися портьерами. Каиров поднялся на крыльцо. И его крупная фигура едва протиснулась сквозь дверь, а занавески он раздвинул руками. Нелли поставила графин с вином на стол. Подошла к Каирову. — Постарела я? Сильно? — спросила она с надеждой, чистой и чуть-чуть забавной. — Что значит постарела? Я не постарел, а в твои годы... Тридцати нет. — Скоро двадцать девять. — Двадцать девять? Я этот возраст за детский считаю. Вот когда тебе будет шестьдесят, а мне девяносто, ты придешь, спросишь: «Постарела, Мирзо Иванович?» А я отвечу: «Шутишь, Нелли, ты стала зрелой женщиной». — Вы такой же веселый человек, как и прежде... Каиров вздохнул и улыбнулся: — На том стоим, Нелли... Грусть — она хуже старости. — Раздевайтесь, Мирзо Иванович. Нелли заговорит кого угодно. — Ладно, Золотухин, — Нелли сказала с улыбкой, но решительно, — не проявляй остроумия. Каиров посмотрел на стол. Покачал головой, вздохнул: — Сдаюсь... Тут уж ничего не поделаешь... — Сейчас мы организуем патефон. И довоенные пластинки, — сказал Золотухин и ушел. — Как живете? — спросил Каиров, передавая Нелли шинель. — По-семейному... — Не ругаетесь? — Он так выматывается на службе, что не способен даже ругаться. — Мне не нравится твой ответ, дочка... Аршалуз Аршаковна просила передать тебе привет. И велела разузнать все о твоем житье-бытье. — За привет спасибо. Житье-бытье у меня обыкновенное. А для военных лет — прямо хорошее. У других мужья на фронте, а мой рядом. У других дома разбомбили, а наш целый... — Не нравится мне твой голос, Нелли. — Ой, милый Мирзо Иванович, мне много чего не нравится! — Выкладывай. — Пойдемте на кухню. Умывальник на веранде, но там нельзя зажигать свет. — Тогда я сниму китель. — Конечно. Повесьте его на спинку стула. Каиров склонился над белым эмалированным тазом, а Нелли сливала воду, держа обеими руками коричневый глиняный кувшин. — Говори, — попросил Каиров. — Что? — Он тебя любит? — Да. — А ты? — Вы же знаете. — Он хороший человек. — Хороший. — Чем же еще недовольна? — Засосала меня семья! — Вай! Вай! Некрасиво говоришь. — Домохозяйка я. Повариха, прачка, садовник, огородница... — Полезные специальности. — Я литературу люблю. На педагога хотела учиться. — Еще не поздно. — Легко говорить. А мне газету почитать некогда, не то что книгу. — Э... Умение выкраивать время — это тоже талант. — Сколькими же талантами должен обладать человек, чтобы прожить так, как он хочет? — Видимо, многими. Однако к талантам нужна еще одна штука — сила воли. Иногда ее подменяет везение... — Тогда все верно. — Нелли подала Каирову полотенце. — Значит, я на своем месте. И Золотухин здесь ни при чем... Понимаете, когда-то вы давали мне маленькие задания, пустяковые... А я, дура, думала, что вот так, от одного дела к другому, смогу стать оперативным работником. Человеком полезным... Увы, наивные мечты кончились детьми и корытом... — Видишь ли, Нелли, — они еще минуту стояли на кухне, — возможно, у вас с Золотухиным где-то и не все ладно получилось. Но нельзя игнорировать и то сложное время, в которое мы живем. Не погибни от пули бандита Гена Мироненко — и твоя жизнь могла сложиться сейчас иначе. И ты бы не стояла, как говоришь, у корыта, а может быть, работала разведчицей в тылу врага... Или исполнилась бы первая мечта — и ты читала бы литературу в школе... Понимаешь? — Понимаю... А поныть иногда все равно хочется. Каиров засмеялся, хлопнул Нелли легонько по плечу: — Ребенок ты еще маленький... А говоришь, постарела. — А что мне еще говорить... — Правильно. Тема исчерпана. Молчание.,. Нет, дочка, ты мне открылась, теперь моя очередь. Слушай, жизнь сложна, но и несовершенна. И мы в этой жизни не случайные гости, а бойцы. Так уж повелось, что у бойцов не спрашивают, кем бы они хотели быть, чем бы желали заниматься. Наше дело бороться за то, чтобы жизнь стала лучше. Я, сама знаешь, только и занимаюсь тем, что разных подонков и сволочей вылавливаю. А душа у меня, между прочим, к другому лежит. Если бы жизнь была идеальной, если бы не было на земле врагов рабочего класса, я знаешь чем бы занимался? Не поверишь, засмеешь... Я бы растения домашние выращивал... — Цветочки?! — Это для человека непосвященного они цветочки, травки, кустики. А у них имена есть, да еще какие!.. Мирзина африканская, санхезия благородная, бегония королевская, рафиолепис индийский, арегелия представительная... Вот так-то, милая. Я недавно роман одного американца прочитал про сыщика Ниро Вульфа. Толковый такой сыщик, ленивый правда. Так он, дочка, не только всякие убийства раскрывает, но и выращивает орхидеи самых редких, самых знаменитых сортов. Нелли ласково положила руку на плечо Каирова. Тихо и очень искренне сказала: — Мирзо Иванович, вы хороший... — Хороший, хороший... Лучше некуда. А бедные цветочки возрастают сиротинками. Они вернулись в комнату. Золотухин поставил на пластинку круглую, как луковица, мембрану, спросил: — Подходит? Песенка была глупенькая, но очень модная в довоенное время. И мелодия былапростенькая, приятная. Вадим Козин пел слащаво, по-женски. Однако настроения песня рождала мирные, беззаботные. И слушать ее было приятно.Им не пришлось долго сидеть за столом, предаваться воспоминаниям. Позвонил дежурный по отделению милиции. Сказал, что вернулся старшина Туманов. — Пришлите машину! — приказал Золотухин. Каиров решил ехать с ним, чтобы еще сегодня побеседовать со старшиной. Нелли сказала: — Мы увидимся, Мирзо Иванович. Вы же не уедете не попрощавшись? — Конечно нет. Мы еще отведаем твоего вина, Нелли. Это я говорю, Каиров. А Каиров всегда держит слово. Старенькая эмка, похожая на черепаху, неуклюже развернулась и подкатила к калитке. Она пыхтела. И газ возле стоп-сигнала клубился красный. Золотухин и Каиров сели на заднее сиденье. Каиров сказал: — Черствый ты человек, Золотухин. Может, слова мои покажутся тебе давно известными. Но женщины — это цветы. Розы, гранат, персик. Они требуют внимания, заботы, восхищения. — Мужчины — камни. Цемент, бетон. Восьмой год живем... Она меня ни разу но имени не назвала. Все Золотухин да Золотухин... Наверно, и не знает, что Дмитрием зовут.
Проверка
Услышав слово «милиция», Марфа Ильинична напряглась, побелела лицом. Сутулая фигура ее, окаменевшая, будто бы потянулась к выкрашенному полу. И руки висели как плети. За дверью переминались нетерпеливо: явно несколько человек. Кто-то сопел, покашливал. Марфа Ильинична мотнула головой, стряхнула с себя оцепенение. Шепнула: — Открывай не торопясь. Быстро, словно ветер, подхватила со стола баул. Сунула его в пустую духовку. Метнулась в другую комнату: ну конечно же, грязную одежду бросил Жан прямо на стуле. Марфа Ильинична — разом брюки и куртку в шкаф. Все в полном порядке. Все?! Кирпич, оранжевый, заметный, остался лежать на столе, бросая тень на чистую голубоватую клеенку. Первой мыслью Марфы Ильиничны было схватить кирпич и сунуть его хотя бы под стол. Но два милиционера — один повыше, помоложе, другой пожилой, с усами — уже вошли в комнату. Молодой приветливо сказал: — Добрый вечер, хозяева. — Спасибо, здравствуйте, — ответила Марфа Ильинична, расплываясь в улыбке. — Одни в доме? — Господи, спросят же... А кто еще у нас может быть? В такое-то время! До войны, когда муж, царство ему небесное, жив был, гостей мы часто принимали. Любил он компанию... Да вы садитесь, сынки. В ногах правды нет! Младший сел. Подозрительно посмотрел на кирпич. Дрогнул взгляд у Марфы Ильиничны, что-то похожее на тень коснулось углов рта. Однако, пересилив себя, она выдавила стеснительную улыбку. Сказала тягуче: — Извините уж... Не прибрано. Потому как гостей не ждали. А нынче прострел у меня в хребте. Так и ноет, и ноет... Надумала кирпичину прогреть. Да в постель с собой. Хорошее народное средство. — Грелка лучше, — сказал милиционер с усами. — Не скажу... — возразила Марфа Ильинична. — Грелка, она пар выделяет. А при простреле пар — что ни есть яд! — Принесите паспорта и домовую книгу, — сказал молодой милиционер. — Для чего, милый? — всплеснула руками Марфа Ильинична. — Чай, нас не знаете? Со дня рождения безвыездно и безвыходно в городе живем. — Не волнуйтесь, мамаша. Пора привыкнуть. Обыкновенная проверка документов. — Сей минут, сей минут! — Марфа Ильинична торопливо направилась в другую комнату. Милиционер с усами пошел вслед за ней. Молодой милиционер поднял кирпич, подержал его на весу и, словно убедившись, что он не из золота, положил на клеенку. Барабанщик Жан стоял, прислонившись к косяку двери, ни живой ни мертвый. — Квартиранты имеются? — спросил молодой милиционер. — Нет-нет! — быстро ответил Жан. — На чердаке кто прячется? — Он заколочен, чердак... — Тоже непорядок. А если пожар? — Пожар? — переспросил Жан и заморгал часто, будто собираясь расплакаться. — Именно пожар, — назидательно повторил милиционер и добавил: — Расколотить надо. — Сейчас? — Можно завтра. — Обязательно, — поспешно заверил Жан и при этом почему-то поклонился. — Придем проверим. Марфа Ильинична положила на стол домовую книгу и два паспорта. Пришел и милиционер с усами. Доложил: — Посторонних нет. — Ну и ладно. Молодой милиционер деловито перелистал домовую книгу. Посмотрел паспорта. Встал: — Извините за беспокойство, хозяева. Спокойной вам ночи! — Спасибо, сынки. Вам того же. Марфа Ильинична проводила милиционеров до двери. И только щелкнул замок, а потом и задвижка, Марфа Ильинична облегченно вздохнула. И перекрестилась.Первый час суток
Часы в шестигранном футляре из темного полированного дерева висели на противоположной стене. Каиров видел, как большая стрелка под круглым выпуклым стеклом сползла с цифры «двенадцать» и стала клониться к цифре «один». Старшина Туманов — мужчина сорока лет, — несколько удрученный разговором с начальником милиции, настороженно и вопросительно смотрел на незнакомого тучного полковника. — Вы садитесь, товарищ Туманов, — сказал Каиров, всматриваясь в лицо старшины, рябоватое и плоское. — Ничего. Я постою, товарищ полковник, — уважительно ответил старшина, полагая, что приглашение начальника не более чем вежливость, что рассиживать ему, старшине Туманову, нет никакого резона. — Садитесь, — настоял Каиров. — Вот так... Старшие знают, что говорят. Правильно? — Так точно. — У меня к вам вот какой вопрос: расскажите, где вы несли службу вечером четырнадцатого марта? Что произошло на вашем участке? — Это вы про машину, которая офицера сбила? — догадался Туманов и тяжело вздохнул. — Совершенно верно. — Вечером четырнадцатого марта я нес службу в районе Рыбачьего поселка, — начал Туманов монотонно, словно пересказывал текст, заученный наизусть. Каиров понял, что старшина не первый раз рассказывает эту историю, что она ему порядком надоела. Потому перебил вопросом: — Во всем поселке? — Нет. Ну... — Старшина почесал затылок: — По треугольнику, можно сказать: рыбозавод, начало улицы Плеханова и третий километр Приморского шоссе. Ну... Я ходил. — Вы были без мотоцикла? — Да. У нас на той неделе вышли из строя сразу три мотоцикла. — Понятно. — Ну... Когда я пришел на третий километр... Там большая трансформаторная будка. Ну... Она, можно сказать, ориентир... — Действующая будка? — Для Каирова ровным счетом не имело значения, была будка действующая или нет, но он еще улавливал монотонность в голосе старшины и стремился добить ее, эту монотонность, неожиданными вопросами. — Нет. Она разбита. Ну... Когда я подошел к будке, мне показалось, что кто-то побежал в гору. Ветра не было, а камень посыпался. Я вынул пистолет. И поспешил за будку. Ну... Там такой съезд с дороги. Я смотрю, машина стоит, «студебеккер». По номеру вижу — военная... Ну... К ней у меня интерес сразу и отошел. — Отошел, значит? — Конечно. У военных своя служба. Мало ли они по какой причине машину за будкой поставили. Ну... У меня к тому времени курево вышло. Я спросил: «Хозяин, не найдется ли закурить?» Никто не ответил. Ну... — Старшина стеснительно пожал плечами: — Я подумал, или шофер по какому делу в гору полез, или с девчонкой притих в кабине. — Бывает и так? — весело спросил Каиров. — Всякое бывает... Я решил обойти машину. Ну... С фонариком, ясное дело. Смотрю... Метра за два от переднего колеса — след крови. А под передним левым колесом офицер... — Какой это был час? Точно не скажете? — Минут пять — десять одиннадцатого. Ну... Я скоро остановил попутную машину. И сообщил военному коменданту. — А в милицию сообщили? — И в милицию. Дежурному. Но сначала военному коменданту. Если машина военная, мы первым делом докладываем в комендатуру. — Вы уверены, старшина, что, когда подходили к машине, какой-то человек полез в гору? — Каиров наклонился над столом, примяв лежащую на краю газету. Смотрел на старшину пристально и тревожно. Туманов было заерзал под неожиданно потяжелевшим взглядом полковника, выдержал этот взгляд. Сказал тихо: — Полез, точно. Ну... Человек ли? Судить трудно. Темно как было! Может, шакал. Может, бездомная собака. — Следствием установлено, что машина шла из города. Случаем, вы не видели ее? — Мы не автоинспекция? Наша задача следить за порядком. Чтоб хулиганства не было, разбоя. В ночное же время машин идет много. — «Студебеккер» — приметная машина. — Товарищ полковник, машина что человек. Ее остановить надо, разглядеть... Тогда запомнишь... Шли по дороге в тот вечер «студебеккеры». Два или три видел. Ну... Что из этого? Номеров не знаю, водителей в лицо не видел. — Скажите, а сколько человек сидело в кабинах тех «студебеккеров»? По одному, по два?.. Старшина Туманов сочувственно, как-то по-отечески, хотя был намного моложе Каирова, посмотрел на докучливого полковника, но твердо ответил: — Два человека, три... — Вы уверены? — Да. В сторону Новороссийска редко ездят в одиночку. Машина с одним шофером сразу привлекает внимание. — Спасибо, старшина. Вы свободны. Туманов вышел. Он неплотно прикрыл за собой дверь, и его тяжелые шаги еще долго и глухо слышались в коридоре. Кряхтя по-стариковски, Каиров поднялся с кресла. Прошел к трехногой вешалке, где висели его шинель и фуражка. Золотухин сидел за столом, отрешенно глядя на откидной календарь. — Я пойду, — сказал Каиров. — Чертовски выдохся за этот день. — Я распоряжусь, и вас отвезут в машине, Мирзо Иванович. — Золотухин встал, намереваясь подать полковнику шинель. Но Каиров покачал головой, выражая этим недовольство. И Золотухин стоял возле вешалки немного растерянный. — Здесь недалеко, — сказал Каиров. — Я пойду. Это полезно — пройтись перед сном. Иначе я не усну. И буду долго мучиться. — Вам виднее, Мирзо Иванович, — устало ответил Золотухин и опустил голову. Скорее всего он был серьезно огорчен неудачей, постигшей Туманова. Каиров застегнул шинель. Сказал спокойно: — Я тебе не начальник. Но, как старший товарищ, как твой учитель, должен сказать, что ты неправильно поставил задачу Туманову. Не нужно было пытаться брать этого неизвестного мальчишку, или кто бы там ни пришел, на месте, в развалинах... Нужно было проследить, куда он пойдет. Какие-то связи, какие-то каналы... Поискать каналы, по которым они достают эти продукты. А теперь что? Дело кончилось испугом. И все перекрыто. Золотухин состроил гримасу. Видимо, он был очень недоволен словами Каирова, видимо, ему было больно слышать эти слова, хотя он, разумеется, и понимал всю их правоту. Но тем досаднее и обиднее было слышать это ему, сгорающему на работе и днем и ночью. — Это все правильно, Мирзо Иванович. Правильно, так сказать, с точки зрения нормальной, мирной жизни. А сейчас разве есть возможность проследить что-либо?.. Это все может быть настолько случайно!.. Здесь нужно брать сразу, на месте. Потому что нас всегда поджимает время. Спекулянты. Их нужно хватать. И все. На допросах сознаются. Я в этом не сомневаюсь. Просто Туманова подвел фонарик. И сам он неточно все сделал... Это сбивчивое и даже наивное объяснение конечно же не удовлетворило Каирова. И он напомнил недовольно: — Нельзя было посылать одного старшину. — У меня некомплект людей. Не хватает народу. Так работать трудно. — Всем сейчас трудно. Война... Они не сказали друг другу ни «до свидания», ни «спокойной ночи», но это не означало, что между ними возникла холодность. Скорее всего они действительно измотались за минувшие сутки. Ночь по-прежнему была темная. И ветер цеплялся за улицу. И вертелся на ней, как гимнаст на перекладине. Гудок маневрового паровоза прозвучал жалобно, а точнее, тоскливо и одиноко. Грузовые машины с притемненными фарами двигались , осторожно, словно на ощупь.След «Цеппелина»?
Солнце ласкало развалины. Короткая и очень зеленая трава пробивалась мелкими клочками между обуглившимися кирпичами, искореженным бетоном, ржавым железом. На баррикадах, осевших после нудных дождей, чирикали птицы. Пахло белой акацией, сиренью, морем. — Покажите мне вещи Сизова, — попросил Каиров. Чирков привел полковника на какой-то широкий двор, вход в который охранял часовой с винтовкой. Во дворе стояли старые продолговатые здания, низкие — в один этаж. Видимо, это был склад, скорее всего вещевой, потому что у одного из зданий солдаты грузили в машину тюки шинелей. Вынув связку ключей, Чирков долго искал нужный. Наконец открыл замок. И они оказались в маленькой комнате, где было немного света благодаря небольшому окну, заделанному решеткой. Мебель в комнате отсутствовала.. На полу вдоль стены лежали папки с бумагами, на которых крупно было написано лишь одно слово: «дело...», «дело...», «дело...». Черный потертый чемодан выглядел очень приметным. Он стоял перед папками. Рядом лежал узел. — Это и есть вещи Сизова, — сказал капитан Чирков. — Все забрали? — Все, — ответил Чирков и добавил: — Естественно, представляющие ценность. — Да, — задумчиво сказал Каиров, — ответ расплывчатый. Ценность, видите ли, может представлять все. Например, меня интересует, не было ли у майора Сизова дневников, записных книжек. Не нашли ли вы среди вещей каких-то бумажек, может, клочков, на которых что-нибудь написано или не написано. Мне это очень важно. Чирков пожал плечами: — Я не могу вам сказать ничего точно. Я лично не был... Вернее, не присутствовал, когда забирали вещи. Я послал за ними в гостиницу солдат. Понимаете, товарищ полковник, Сизов не был подследственным. Подследственным был шофер Дешин. — У него не было библиотеки? — спросил Каиров. — У Дешина? Не знаю... Ей-богу, не знаю... — Сынок, меня интересует прежде всего майор Сизов. И только потом — шофер Дешин. — Виноват, товарищ полковник. Но мне трудно судить, почему вас интересует пострадавший, собственно, даже жертва, а не преступник? — Чирков говорил почтительно, но настойчиво. — Вы уверены, что Сизов жертва? — спросил Каиров, рассматривая чемодан. — Это подтверждают факты. — Меня уже в твои годы смущали дела, которые легко подтверждались фактами. Чирков нахмурился, по-мальчишески зашмыгал носом: — Никто не станет отрицать, что пьяный шофер Николай Дешин четырнадцатого марта сбил майора Сизова. Испугавшись расплаты, Дешин бросил истекающего кровью офицера и убежал в горы. Фактически дезертировал, тем самым усугубив свое положение. Логично? — Относительно... А тебе не приходила в голову такая элементарная мысль, почему вдруг вечером четырнадцатого марта майор Сизов оказался на третьем километре за Рыбачьим поселком у разбитой трансформаторной будки? Что его могло привести туда? — Я не ставил перед собой задачи уточнить это. Видимо, были какие-то причины, по которым он пришел туда. Может, он пришел на свидание. — К Татьяне Дорофеевой? — серьезно спросил Каиров. — Едва ли. Он мог встретиться с ней и дома. Чирков согласился: — Да. Конечно, не к Татьяне Дорофеевой. — Хорошо, что по этому пункту у нас общая точка зрения. Но меня интересует, почему все-таки Сизов оказался у трансформаторной будки. — Товарищ полковник, у Сизова было сто дорог, у нас — одна. И всегда, если подумать, можно найти сто, двести, триста версий, вполне логичных, закономерных, оправданных, по которым Сизов оказался у трансформаторной будки ночью. — Пожалуй, да, — согласился Каиров. И повторил: — Пожалуй, да... Вот и давайте искать вариант, тот самый, единственный, верный. — Нужно ли? — недовольно спросил Чирков. — У меня по делу нет никаких сомнений. — Спасибо за откровенность. — Это, пожалуй, самое главное в отношениях между людьми. — Не самое главное. Но качество важное... Как-нибудь мы выберем свободный вечер, капитан, и поговорим на отвлеченные темы. — С удовольствием. — А сейчас можете заниматься своими делами. — Неожиданный переход на «вы» будто подстегнул Чиркова. Он щелкнул каблуками: — Слушаюсь... Только вот... — Капитан Чирков протянул Каирову связку ключей: — К замку подходит вот этот. — Спасибо, капитан. — Разрешите идти? — Идите. Чирков четко повернулся, еще раз щелкнул каблуками. Такой лихости позавидовал бы завзятый строевик. Полы его шинели на мгновение растопырились, словно зонт. Каиров невольно улыбнулся. Потом негромко и спокойно сказал: — Одну минутку, капитан. И опять повернулся Чирков — не мог же он разговаривать со старшим, стоя к нему спиной. Но теперь Чирков повернулся, переставив ноги, как обыкновенный штатский человек. Рука Каирова легла на плечо капитана. И, повинуясь этой руке, словно в танце, Чирков двинулся шаг в шаг с Каировым. Они остановились у стены, против входа. Каиров тихо произнес: — Есть одно обстоятельство, о котором ты раньше не знал, сынок. Я открою его... Майор Валерий Ильич Сизов, одна тысяча девятьсот пятого года рождения, уроженец города Астрахани, умер четырнадцатого ноября сорок третьего года от ран в Батумском госпитале. Нам надо выяснить, чей агент работал здесь четыре месяца по документам Сизова. И за что его бросили под машину. Ясно? — Да, — так же тихо ответил капитан Чирков, с лица которого сразу исчезло выражение плохо скрытой обиды. — Что думаешь по этому поводу? — Сразу и не ответишь... Скорее всего, агентура абвера. — Немцы в Крыму. Вывод кажется правильным... — Каиров сощурился: — Хотя как же быть с Батумским госпиталем? Батуми далеко от фронта. — У абвера широкая амплитуда действий. Каиров не любил, когда молодые офицеры щеголяли мудреными словами, будто новыми хромовыми сапожками. Он считал, что такая манера говорить равно свидетельствует о недостаточной скромности и о недостаточной профессиональной подготовке сотрудника. Поморщившись, он сказал: — Так-то оно так... Но диверсионной деятельностью занимаются не только агенты Канариса. Уже два года Действует «Цеппелин» — орган главного управления имперской безопасности. В отличие от абвера «Цеппелин» прежде всего интересуется глубоким тылом. — Они могут действовать совместно, — предположил Чирков. Каиров сказал: — По нашим данным, особой дружбы между военной разведкой и гестапо не наблюдается. Но... ворон ворону глаз не выклюет. И координировать свои действия, по логике, эти службы могут вполне.Вариант
Видимо, можно утверждать, что профессия контрразведчика помимо честного отношения к ней, влюбленности, трудолюбия требует еще и таланта. Видимо, можно сравнить талант этот с водой, давшей возможность произрасти зерну, брошенному на сухое поле, вспаханное щедро, влюбленно, трудолюбиво. Кроме личной храбрости контрразведчик должен обладать еще целой обоймой человеческих качеств. Таких, как принципиальность и наблюдательность, интуиция. Он должен обладать отличной памятью и великой выдержкой. От умения держать себя, быть терпеливым может зависеть исход всей операции, результат труда многих дней и ночей. С остротой журналиста или художника он обязан схватывать детали. И не просто схватывать, но и уметь их сопоставить и сделать выводы, способные запугать врага, загнать его в тупик. Само собой разумеется, что контрразведчик должен быть разносторонне эрудированным человеком. Знание языков, литературы, искусства, техники необходимо контрразведчику, как тиски или напильник слесарю. Контрразведчик должен быть тонким психологом, прирожденным актером, с присущим этой профессии умением скрывать свои чувства. И не только скрывать, но и радоваться, когда хочется плакать, восхищаться, когда естественнее выразить презрение, в гневе оставаться сдержанным и спокойным. Но всего главнее — обязательное творческое начало в человеке, решившем бороться со шпионами.Каиров прожил долгую жизнь и достаточно сложную. Он редко учился чему-то специально. Жизнь учила его сама. И в общем, неплохо... Очень нежный и тонкий по своей натуре человек, он конечно же затвердел за годы службы, свыкся с маской человека иронического, умудренного, всевидящего. Он по-прежнему любил природу, часами мог со своей Аршалуз разговаривать о комнатных растениях, наставляя ее, как правильно выращивать алоэ, амариллисы или бальзамины. Но маска нужна была ему, как дирижеру фрак, как футболисту бутсы. Он работал в ней. Аршалуз, его дорогая и славная, ворчала: — Ты много повидал... Ты много знаешь. Не понимаю, зачем напускаешь на себя важность? Голова твоя от седины белая, как луна. Будь скромнее, Мирзо! Он и сам бы рад быть скромнее. Не получается. А переделывать, перекраивать себя поздно. Стар. И голова действительно седая... Аршалуз, как всегда, во всем права. Повидал он много. И знает — дай того же судьба каждому... Книгу бы ему написать! Опытом поделиться. С пользой бы прочитали такую книгу те, кто будет после него. Только времени взяться за перо нет. Нет времени... Вот война кончится, тогда другой разговор. Тогда многие писать станут. Будет что рассказать людям... Еще в Поти, ознакомившись с обстоятельствами гибели майора Сизова, Каиров пришел к выводу, что под машиной Сизов оказался по одной из следующих причин. Либо его убрала своя же немецкая разведка, либо действительно произошел несчастный случай. Помочь выяснению этого мог только пересмотр дела под новым углом, изучение деталей, малейших подробностей. Если Сизова убрали агенты немецкой разведки, вероятно по заданию центра, то должны быть причины, вызвавшие такое решение. Надо искать эти причины, надо искать агентов. Их конечно же, словно мошкару на свет, тянет к порту, ставшему в эти дни важной базой Черноморского флота. Если верен второй вариант, если действительно произошел несчастный случай, то следует выяснить каналы связи Сизова. Он вполне мог быть резидентом. Но если он даже был рядовым шпионом, все равно существовали каналы, по которым он получал и передавал информацию. Один знакомый археолог как-то рассказывал Каирову, что, обнаружив глиняную статую исполинского будды, ученые снимали с нее тонны грунта маленькими кисточками, потому что малейшее усилие, неосторожное движение могли погубить находку, превратить ее в пыль. И вот сейчас у Каирова было такое чувство, что где-то здесь закопан глиняный будда и что к нему тоже необходимо добраться с осторожностью. Гораздо деликатнее, чем археологам. Этого будду можно вспугнуть. И он исчезнет. И тогда его придется искать снова. Долго и трудно искать. Опыт подсказывал, что лучше всего идти от простого к сложному. Проверить версию с несчастным случаем. В пользу его говорило одно немаловажное обстоятельство. Какой смысл немецкой разведке инсценировать несчастный случай, если она могла убрать неугодного ей агента менее хлопотливым способом? Убрать, не оставляя никаких следов. Каиров поднял запись допросов шофера Дешина.
«В о п р о с. Признаете ли вы себя виновным в том, что вечером 14 марта сего года, нарушив правила вождения автомобилей, что выразилось в необеспечении безопасности движения, сбили майора Сизова Валерия Ильича, что и явилось причиной его смерти? О т в е т. Признаю. В о п р о с. Осветите подробно обстоятельства происшествия. О т в е т. Какие обстоятельства? Сбил — и все! В о п р о с. Есть одно обстоятельство. Вы сбили его не на проезжей части, а в тупике за трансформаторной будкой. Как вы попали в тупик? О т в е т. Не знаю. Может, меня осветила встречная машина. В о п р о с. А точнее? О т в е т. Встречная машина осветила».— Тупик — это зацепка, — сказал Каиров Чиркову. — Вы заметили, Дешин заколебался в данном пунктике. Лишь на повторный вопрос ответил утвердительно. — Здесь бы надо поднажать, — сказал Чирков. — В самый раз, — подтвердил Каиров. — К сожалению, я же тогда не знал, кто такой Сизов на самом деле. — Не все еще потеряно, — сказал Каиров. — Я должен видеть шофера Дешина. — Это просто. Его сейчас приведут. — Нет, — покачал головой Каиров. — Мне еще рано допрашивать. Посмотреть бы его между прочим. И поговорить бы между прочим... — Со стороны понаблюдать? — Не совсем. В камере какое отопление? — Паровое. — Батарея есть? — Да. — Отлично, капитан. Достаньте мне рабочую спецовку. Погрязнее только. Разводной ключ. Молоток. И перекройте паровое отопление.
В камере
Он редко садился на табурет, а больше мерил камеру шагами, сутулый, обросший человек с воспаленными от бессонницы глазами. Прислушиваясь к каждому звуку, раздававшемуся в коридоре гауптвахты, он замирал, напрягая слух и зрение. Узкая дверь в черных трещинах завораживала его. А когда она, скрипя, уползала в коридор, дыхание его останавливалось, словно шершавая петля захлестывала горло. Никто точно бы не угадал, сколько ему сегодня лет, но по документам он числился 1916 года рождения. Значит, ему пошел двадцать восьмой год. Девять лет он проработал шофером. Образование — неполное среднее, холост. Беспартийный. Уроженец города Читы. Фамилия Дешин. Звать Николай. И отца Николаем звали. Каиров заметил все: и испуг, и смятение, и облегчение, которое, как дыхание жизни, коснулось щек, глаз Дешина, уголков его рта, когда он увидел, что часовой остался за дверью, а в камеру вошел немолодой слесарь в промасленном комбинезоне и с сумкой, откуда торчал большой разводной ключ. — Здорово, сынок! — приветливо сказал Каиров и, схватившись рукой за поясницу, сморщился. — У, черт, кости ломит! Можно? — Он кивком показал на табуретку. — Валяй, отец! — грубовато, но уже как-то тоскливо сказал Дешин. Каиров, кряхтя, добрался до табурета. Полез за папиросами. Не вынимая пачки из кармана, достал одну папироску. Потом в руках у него оказалось кресало. Оно было сделано из напильника. И концы кресала закруглялись, как колеса. Кремень, на который Каиров положил фитиль, голубел узкими изломанными прожилками. Он хорошо давал искры. Они веером разлетались в разные стороны. В камере приятно запахло огоньком. — Не найдется закурить, отец? Каиров прокашлялся. Нехотя, явно скупясь, ответил: — Поищем. — Да ты не жмись. Шестой день без курева. Уши опухли. — Зарос-то как! Давно сидишь, что ли? — Не спрашивай, — прикурив, ответил Дешин. — Давно. Значит, скоро отпустят. — Почему так думаешь? — быстро и настороженно спросил Дешин. — Теперь долго не держат. Смысла нет. Воевать надо. — Я хоть сейчас на фронт! — Дешин схватил себя за грудь: — Я фашистов!.. Я их, гадов!.. Да боюсь, не пошлют. Вышку мне, отец, приляпали. — Не шути. — Правду говорю. — Дешин произнес эти слова тихо и спокойно. Подошел к стене. Прислонился единой: — Вот и сижу, как в мышеловке. Дожидаюсь. Каиров сокрушенно сказал: — Выходит дело, каждую минуту тебя могут того? — и показал пальцами вверх. — На помилование подал. Откажут, значит, того... — Трудно ждать? — Ой как трудно! — Дешин закрыл глаза. — Лучше бы пулю в лоб. Сразу. Чтобы не думать. Сыграть в ящик не страшно. Страшно думать об этом. — Может, оно там спокойнее. — А на хрена мне покой нужен, если земля останется, а меня не будет! Это же все... Больше не закуришь, девку не обнимешь. Песню не услышишь... — Ох! — Каиров, покряхтывая, вынул из сумки разводной ключ, присел на корточки возле батареи парового отопления. Хмуро и укоризненно посмотрел на Детина: — Натворил ты, видать, малый, дел нехороших, раз по такой строгости к тебе подошли. — Офицера задавил, — моргнул Дешин короткими ресницами. И тоска была в его голосе. И страх. — Шофер... — Каиров осуждающе покачал головой: — Водить машину не умеешь — ходи пешком. — Я?! Ты не мели глупостей, отец! Я девять лет за баранку держался, — Теперь в голосе звучала только обида. Нет, пожалуй, не одна обида, но и раздражение. — Он к тебе сам под колеса бросился? — Не должен бы... — засомневался Дешин. — Баба у него здесь красивая. Сам майор. При деньгах. — Знакомый? Дешин неопределенно пожал плечами, будто и не знал, что ответить на этот вопрос. — Знакомым не назовешь. Офицер из штаба. Иногда на машине его подбрасывал. У нашего брата шофера таких знакомых гарнизон. Дай еще закурить! — Трудно сейчас с куревом, — поморщился Каиров и тяжело вздохнул. — Не жмись, батя!.. — чуть ли не взмолился Дентин. — Еще достанешь себе. А для меня она, может, и последняя... Каиров опять стучал кресалом о кремень. — Спасибо, отец. На том свете встретимся. Угощать папиросами буду я. — Зачем так шутишь? Я старый человек. Я тоже о смерти думаю. Не надо шутить на эту тему. — А я, может, от страха шучу. Я боюсь, может! — Ты мужчина. — Ну и что... Мне вот один парень рассказал. В далекие времена за границей, во Франции или в Италии, такой обычай был. Приговоренному к смерти мужчине в ночь перед казнью приводили молодую красивую девушку. И спал он с ней, чтобы семя все из него вышло. Чтобы не погибала вместе с ним будущая жизнь, которая в каждом из нас заложена. — Красивый обычай, — согласился Каиров. — Понятно. Каиров уныло посмотрел на ключ, тяжело встал с табуретки. Сказал с сомнением: — А мне одно непонятно. Задавил ты человека. Тяжелый случай, так за это же не стреляют! — Стреляют не стреляют. Любопытный ты, отец, очень. — К старости все любопытные... Я о чем говорю. Не умеешь водить машину — ходи пешком. — Опять свое. Я шофер второго класса. Автобус в Чите водил. А здесь влип. И ничего не докажешь... Шел я в рейс. Напросился ко мне Сизов. Подбрось, говорит. Круг нужно было сделать. Выехали на третий километр. Он говорит: стой, друга обождать надо. В женское общежитие он, что при рыбозаводе, значит, захаживал. И сам ушел. А мне фляжку с водкой оставил. Съехал я с проезжей части в тупичок. За трансформаторную будку. Выпил. Может, оттого, что обедал плохо, отключился я. Пропала память. А когда очухался, майор под колесами мертвый... Я бежать. — Перепугался. — Перепугаешься... — грустно усмехнулся Дешин. Каиров будто через силу подошел к стене, всем своим видом показывая, что ему нездоровится. Пощупал рукою батарею. Спросил: — И сколько же ты бегал? — Двое суток. — Вышка тебе за дезертирство. — Не помилуют, думаешь? — За других решать трудно. — Это верно... — Дешин делал затяжки часто-часто, будто его торопили. — А тот, друг майора, не приходил? — поинтересовался Каиров. — Нет. Не приходил. — И кто он, не знаешь? — Мне это без надобности. — Зря... Я вот из твоего рассказа не разберу, когда же ты майора задавил? — Сам не пойму. Вот думал, думал... Если только он когда слез — может, пошел за обочину помочиться. А я тут сворачивать в тупик стал, фары не включая. И может, задел его. Потом протащил... — Да. Незавидное у тебя положение. — Каиров отвернулся к стене и несколько раз ударил ключом по батарее. Через минуту в коридоре послышались торопливые шаги и кто-то громко спросил: — Где сантехник будет? — В шестой! Открылась дверь. Запыхавшийся выводной сказал: — Товарищ мастер! Быстрей в котельную, там трубу прорвало!Татьяна, помнишь дни золотые...
Старый шкипер Пантелеймон Миронович Обмоткин, впервые увидевший свою родную внучку Татьяну, когда ей пошел шестнадцатый годок, назидательно произнес: «Красива. Слишком красива! А красота, как и выпивка, хороша в меру». Дед ходил по многим морям, обметал клешами набережные Марселя, Сингапура, Шанхая... Ни один, даже самый большой, танкер в мире не вместил бы в себя столько спиртных напитков, сколько выпил Пантелеймон Миронович за сорок лет плавания. Виски, ром, джин, водка, коньяк... Эх, да разве перечислишь! — Я много раз изменял своей жене, — говорил старый шкипер. — Вот почему мне достаточно взглянуть на молодую девицу — и я лучше всякой ворожеи определю, что из нее получится. Татьяне запомнилась встреча с дедом. Многое из времен юности позабылось, схлынуло, не оставив в памяти следа, — так скатывается малая вода, успевшая только лизнуть берег да пошелестеть галькой. Но приезд деда она помнила ясно, точно это было вчера, а не девять лет назад — в тридцать пятом году. Считалось, что дед живет в Одессе. Там жила и бабка. Но потом бабка умерла. Она попала под машину «скорой помощи». И Татьяна считала и до сих пор считает кончину бабки непростительной глупостью. О деде она много слышала. Представляла его высоким и сильным. И красивым, потому как милые родственники, все без исключения, заявляли, что Татьяна похожа на деда. Очень радостно было отметить — дед оправдал ее лучшие ожидания. И рост, и осанка, и глаза деда могли украсить любого мужчину. Вот только старым был дед. И лицо его было морщинистым и коричневым, словно кожа портфеля. Пантелеймон Миронович привез внучке подарки. К сожалению, он не знал ее роста, полноты. И все платья оказались в груди тесными Татьяне, а белье — велико. Но последнее не так уж страшно. Важно, какое это было белье, какие умопомрачительные гарнитуры! Татьяна догадалась, что конечно же не внучке покупал их в Гонконге дед. Но по какой-то причине они не дошли по назначению. Татьяна благодарила судьбу за это. Весна. 1937 год. Татьяна заканчивает десятилетку. Последняя четверть. Пора надежд, ожиданий. Правда, в классном журнале против фамилии Тани стоит некрасивое слово «пос». Ну и что? «Посредственно» — тоже государственная отметка. На «хорошо» и «отлично» пусть страшненькие учатся. Им нужнее... Цветет белая акация. Каждую весну цветет. Кажется, и привыкнуть можно. Но так только кажется... А вот потеплеет земля, засинеет небо, словно подрисованное. И море — разноцветная клумба — напоит запахами воздух. Тогда смотри на ветки акации. Скоро появятся белые гроздья. И к запахам моря прибавится еще один, приятный-приятный... Он вносит в душу смятение, будит мечты... Каждый мечтает о своем: один хочет покорить горную вершину, другой — написать оперу, третий — получить толковую специальность... Татьяна мечтала попасть в ресторан «Интурист». Она не задумывалась над тем, сдаст ли экзамены за десятилетку или нет, выйдет ли замуж или нет, станет ли в будущем доктором или пожарником. Ей было глубоко безразлично все это. Она могла бы мечтать о красивом платье, о лакированных туфлях. Но и шелковое платье, и модельные туфли, покрытые черным лаком, и даже тончайшее нижнее белье из Гонконга у нее были. Предметом ее устремлений стал ресторан «Интурист». Он голубел невдалеке от набережной, между городским парком культуры и отдыха и Домом моряков. Его обвитые глицинией террасы казались наполненными особой таинственной жизнью, где царствовали официанты в накрахмаленных куртках и вечерами играл золототрубый джаз. Женщины с улыбками и без оных поднимались по широким ступеням. Женщин поддерживали мужчины. А ступени поддерживали выбеленные колонны. Они были вылеплены в форме ваз. Поэтому в каждой чаше росли розовые лохматые цветы, названием которых Татьяна не интересовалась. Гуляя с подругами близ ресторана, Татьяна, словно воздушный шар, свободная от всякой тяжести, и прежде всего от тяжести предрассудков, с тоскливой завистью смотрела вслед входящим и выходящим парам. И думала, что когда-нибудь и для нее начнется настоящая жизнь. Начнется именно в ресторане «Интурист». Это правильно, что человек — кузнец своего счастья. Это правильно: кто ищет, тот всегда найдет. Парень был рослый. И мышцы у него играли под загорелой кожей, когда он лег на песок, а потом повернулся на бок и стал пристально разглядывать Татьяну. Она тоже лежала на песке. В сине-белом купальнике. А на парне были не черные сатиновые трусы, в которых обычно на пляже загорали местные ребята, а узкие пурпурные плавки с ярко-желтой тесемкой по краям и на боку. Татьяна поняла, что парень с корабля. И покраснела, как умеют краснеть еще не испорченные девочки, считая, что моряк неприлично долго разглядывает ее грудь. — Где вы успели так загореть? — спросил парень. — На крыше, — ответила Татьяна. — Удивительно. Откройте секрет. — Никакого секрета нет. С марта месяца ежедневно забираюсь на крышу сарая. Лежу там минут сорок, тридцать... — Барсуков, — представился парень и спросил, как ее зовут. Она ответила... Вообще, если смотреть со стороны, все было предельно обыкновенно. Тысячи, а может, десятки, сотни тысяч людей знакомились вот так, между прочим, на этом берегу, а потом встречались еще и еще... Вечером Татьяна сидела в ресторане «Интурист», и деловитый официант с перекинутой через руку салфеткой записывал огрызком карандаша то, что диктовал ему Барсуков. Они расположились у окна. Скатерть на столе была не такая свежая, как казалось с улицы. И соль вокруг прибора была просыпана, и перец тоже. В центре зала за тремя сдвинутыми столиками — веселая компания моряков. Очень часто кто-то из них подходил к оркестру, шептался о чем-то со скрипачом, скомканная кредитка переходила из ладони в ладонь. И тогда скрипач громко объявлял: — По заказу экипажа танкера «Дунай» исполняем любимую песню их дорогого боцмана... Боцман сидел к Татьяне спиной, и она не могла видеть его лицо, но решила, что он некрасивый. Боцман обожал народные песни. «Светит месяц» сменялся «Калинкой», а «Калинка» — «Коробейниками». Наконец боцман соизволил послушать «Очи черные». И Барсуков пригласил Татьяну танцевать. Он водил как бог. Это решило все... Увы! Первая любовь оказалась столь же недолговечной, как и морская волна. Через десять дней Барсуков ушел в рейс, а она познакомилась со студентом юридического факультета Чирковым, который проходил практику в местном народном суде. В первую же ночь 1938 года Татьяна стала его женой. Супружеское счастье могло быть долгим, не страдай Чирков застарелой навязчивой идеей. Он полагал, что его жена должна иметь высшее образование и стремиться к знаниям, словно речка к морю. Но увы! Татьяну прельщало другое русло. Оно виляло между магазинами, ресторанами, парикмахерскими. Однако материальный достаток практиканта оказался шаткой посудиной для такого извилистого пути. За Дорофеева Татьяна вышла в мае сорок первого года. Меньше чем через месяц началась война. Дорофеев был знаменитым в городе футболистом. Левым крайним в команде «Порт». Чирков, который не пропускал ни одного матча, Водил с собой на стадион и Татьяну. Как-то получилось, что она запомнила игру Дорофеева, Он числился рабочим порта. Но, разумеется, не работал. А приходил два раза в месяц за зарплатой. Татьяна после развода с Чирковым устроилась кассиром в бухгалтерии морского порта. Так они и познакомились. По сравнению с Чирковым новый муж показался ей таким пустым и глупым, что она через неделю поняла — они не смогут осилить медовый месяц. Рассудила их война. Уже в июле Татьяна овдовела. Беженцы из Одессы и Крыма наводнили город. Горкомхоз стал проявлять естественный интерес к Татьяниной двухкомнатной квартире. Подселения можно было ждать со дня на день. Тогда Татьяне пришла счастливая мысль: пускать на постой офицеров. Они долго не задерживались в городе. И как правило, были мужчины остроумные и веселые.Татьяна припудрила кончик носа. Кожа на нем немного шелушилась. Это раздражало молодую женщину. Даже пугало. Она понимала, что лицо ее стареет. И она вся стареет. И если доживет, то когда-нибудь станет такой же старой, как Марфа Ильинична. И мужчины будут смотреть на нее без воодушевления или просто не замечать. Что делать тогда? Для чего жить? Правда, при ее фигуре, при ее женских данных лет пятнадцать еще можно продержаться. А дальше? Трудно гадать... Жизнь подскажет. Закрыв коробку с пудрой, Татьяна взглянула на часы. Скоро на работу. А еще нужно забежать к Марфе Ильиничне. Торопливо накинув пальто, она схватила сумку и вышла в коридор. В это же время в дверь постучали. Татьяна повернула ключ. На пороге — Марфа Ильинична. Протиснувшись в коридор, портниха шепотом спросила: — Одна? — Никого больше нет. — Беда, — сказала Марфа Ильинична. — Несчастье.
Дешин меняет показания
Его вызвали ночью. После двенадцати. Заскрежетал замок. И дверь, скрипнув, вывалилась в коридор. Грязная стена, близоруко высвеченная лампочкой, словно подталкивала выводного, который не остановился в дверном проеме, а шагнул в камеру. Сухо сказал: — Собирайся. — Совсем? — без всякой надежды спросил Дешин. И что-то оборвалось у него под дыхом, и он почувствовал, что лицо, и руки, и все тело его мокрые, словно он стоит под дождем. Выводной ничего не ответил. Снял с плеча карабин, поставил на пол. Приклад грохнул о доски, точно выстрел. Предчувствия Дешина усилились. Он спустил ноги с нар, поднялся, не ощущая собственного веса. Подумал, что сделает шаг — и упадет, бесшумно, плавно, как поставленная на ребро бумага. Он хотел накинуть шинель, но выводной остановил: — Не надо. — Может, и сапоги возьмешь, — сказал Дешин. — У шофера они всегда ноские. — Прекратите разговоры! — отрезал выводной. В коридоре Дешин увидел начальника караула, младшего лейтенанта, и с ним двух солдат. Вооруженных. Он сказал начальнику караула: — Не имеете права. Вы обязаны показать мне ответ. Я просил о помиловании. — Не дрожите, — ответил младший лейтенант. — Вас вызывают на допрос. Слегка закружилась голова, вес стал возвращаться в тело. И Дешин почувствовал под собой цементный пол. И похвалил в душе выводного, что тот не воспользовался его минутной слабостью и отказался от сапог.Свет в кабинете поставили так, чтобы освещался только стул, на котором будет сидеть допрашиваемый. Каиров отодвинул кресло в дальний угол кабинета. И оттуда мог спокойноследить за ходом допроса. Как и договорились, Чирков начал без предисловий: — Дешин, я допрашивал вас уже четыре раза. Поэтому опустим формальности. Уточним детали. — Слушаю вас, гражданин следователь, — с готовностью ответил Дешин. — Вот и отлично. Припомните, в какое время, где и куда майор Сизов просил вас его подбросить? Нет. Дешин не вздрогнул. Он только оторопело посмотрел на Чиркова. Насупился. Глуховато ответил: — Я не показывал это на следствии. — Знаю... Поэтому спрашиваю. — Если знаете, нечего и спрашивать. — Дешин, полное и самое откровенное признание — ваш единственный шанс спасти жизнь. Я вас не обманываю, Дешин. Дело может быть пересмотрено лишь в том случае, если вскроются какие-то новые, особые обстоятельства. В ваших интересах говорить только правду. — Я и говорю правду. — Не всю. — Меня помилуют? — с надеждой спросил Дешин, глаза забегали, казалось, из них вот-вот брызнут слезы. — Возможно. — Голос невидимого Каирова, прозвучавший из глубины кабинета, казалось, напугал Дешина. Он внезапно сник, расслабился. Чирков покачал головой: — Будете молчать? — Нет... Я скажу, — вяло ответил Дешин. — Майора Сизова встретил после обеда, когда вышел из солдатской столовой. Сизов спросил, как у меня сегодня со временем. Я ответил, что вечером отправляюсь в рейс. Он сказал: «Выбирайся раньше, подкинешь меня в Перевальный». — Вас не удивила эта просьба? — Нет. Я уже раза два или три возил майора туда. — Для какой цели? — У начальства не спрашивают. — А все же? Он поручал вам перевезти груз или пассажиров? — Нет. Он ездил один. Там госпиталь... Понимаете, гражданин начальник? — Дешин развел руками. И жалкое подобие улыбки появилось на его лице. — Объясните! — сухо потребовал Чирков. — Молоденькие медицинские сестры. Там даже я с одной познакомился. А майору и бог велел иметь среди них зазнобу. — Кто она? — Не могу ответить. — А женщина, с которой встречались вы? — Женщина? — удивился Дешин. Возразил печально: — Она еще почти девчонка. — Фамилия? — Не спрашивал. Аленкой ее зовут. Там все знают. — Дальше? — поторопил Чирков. Если бы Дешин мог хорошо видеть лицо следователя, он бы легко понял, что капитан недоволен его вялыми, неопределенными ответами. — Вечером, значит, я поехал. Затормозил у госбанка. Там ко мне в кабину сел майор Сизов. На третьем километре велел остановиться, друга, значит, забрать нужно было. — Друг не ожидал майора у трансформаторной будки? — Не... Он был в общежитии рыбозавода. Майор вылез. А мне фляжку с водкой оставил. Я в тупичок съехал, чтобы автоинспекцию не раздражать. Там и приложился к фляжке... — Вас не удивило, что майор дал вам водку? — Нет, Он всегда что-нибудь давал. Водки ли, папирос... — А когда же вы задавили майора? — Сам не пойму. Выпил. Вздремнул маленько... Когда пришел в себя, майор был готов. — Почему вы скрыли это обстоятельство на следствии? — спросил Чирков. — Я боялся... за нетрезвый вид получить больше. — Получили под завязку... — подал голос Каиров. — А скажите, куда вы девали фляжку? — Кажется, она осталась в кабине. Ответ не удовлетворил Каирова: — А если точнее! — Я не брал ее. — Выходит, она исчезла. — Я не брал ее, — повторил Дешин. — Вспомните, когда вы очнулись, фляжку видели? — Не обратил внимания. — Жаль. Это единственное вещественное доказательство, которое могло подтвердить правдивость ваших слов. Но его нет. — Может, фляжку взял милиционер, — сказал Дешин. — Не думаю, — ответил Каиров. — Но мы уточним.
Госпиталь в Перевальном
В тот день хорошо светило солнце. И молодые листья, желтые и клейкие, смотрели в небо, как в зеркало. Густо пахло землей и терпкой зеленью, а когда шоссе выходило к морю и оно веером разворачивалось перед машиной, воздух свежел, словно распахивалась форточка, и можно было угадать, как пахнут водоросли, ракушки, галька. Они ехали вдвоем. Машину вел Чирков. Каиров сидел рядом. Щурясь от яркого солнца, глядел на дорогу, обсаженную выкрашенными в цвет земли столбиками, за которой, опускаясь вдаль, светлела лощина. Разбросанные по лощине домики и заборы вокруг них казались Каирову игрушечными. Обогнали полуторку, заполненную ящиками. Вышли на крутой подъем, оплетавший безлесную гору, чуть прикрытую мелким кустарником. Чирков, у которого сегодня не чувствовалось холодности во взгляде и настроение было под стать погоде, рассуждал: — Если фляжка существовала в действительности, значит, ее кто-то взял. Получается, что был третий. Кто? А если это друг Сизова... — Нужно уточнить, были ли в тот вечер гости в женском общежитии. Возьмите это на себя. — Слушаюсь, — кивнул Чирков. — А про фляжку... Я, например, не вижу причин, ради которых Дешину следовало придумывать эту историю. — Я тоже... Тем более он говорил про фляжку там, еще в камере, когда вы пришли к нему сантехником. — Он узнал меня сегодня ночью? — спросил Каиров. — Не думаю. — Да. Запутанная история... Кстати, вам не кажется, капитан, что «дело шофера Дешина» звучит уголовно и не выражает сути? Наступила пора дать операции кодовое название. — Согласен. Так удобнее. Неизвестно, что мы еще здесь раскопаем. — Будду. — Как вы сказали? — не понял Чирков. Каиров опустил стекло. Быстрый ветер прошмыгнул между сиденьями, потом вернулся еще и еще... — Предлагаю назвать операцию «Будда». Вам понятно почему? — Нет, — сознался Чирков. — Я потом объясню... — Дело не во мне. Такое название не понравится начальству. — Начальство знает мои вкусы. Оно просило меня только не кодировать операции названиями цветов. Представляете, операция «Азалия». Красиво? — Вполне. — Когда-нибудь видели ее? — Нет. — О! Это роскошные густо сидящие цветы с маленькими узкими листьями. — У меня такое впечатление, что вы знаете все на свете. — Контрразведчик должен обладать именно такими знаниями. К сожалению, в мире есть много вещей, о которых я не имею понятия.В госпитале медсестру Аленку все считали похожей на мальчишку. И виной тому были не только волосы, подстриженные очень коротко, но и задиристые глаза, и походка, как у мальчишки-подростка, и манера говорить, отчаянно жестикулируя. Если учесть, что с лица она была миленькая, да еще светловолосая, всегда носила чистенький халат и белоснежную косынку, характер имела отзывчивый, то нетрудно догадаться — она слыла всеобщей любимицей. И никто не знал и, может быть, даже не подозревал, что Аленке вовсе не нравилось, когда в госпитале ее называют Ленька и добавляют при этом: «Свой парень». Она все-таки была девчонкой. Самой обыкновенной девчонкой...
Месяца два назад, промозглым февральским днем, когда широкие тучи шли низко, чуть ли не касаясь крыши госпиталя, и колкий дождь хлестался, точно кнут, Аленка познакомилась с шофером Николаем. Он привез какого-то майора и сидел в кабине машины. Аленка бежала через круглый асфальтированный двор в особняк, двухэтажный, с толстыми мрачными колоннами у входа, где жил весь медицинский персонал госпиталя. Николай открыл дверцу, крикнул: — Девушка, притормози! — Она остановилась. А он сказал: — Угости чайком, милая. Промерз как сатана. — Беги за мной, — ответила она. И он побежал. Раскрасневшаяся и веселая, она напоила его чаем с крепкой заваркой и кусковым сахаром. Он пил с удовольствием. Дул на край металлической кружки. И рассказывал смешные анекдоты, многие из которых Аленка слышала раньше. Но она все равно смеялась. Ей было весело с ним. И она чувствовала, что нравится ему... Николай приезжал еще три раза, все с тем же майором. Но дважды Аленка, как назло, дежурила. А в последний раз майор пробыл в госпитале лишь несколько минут. Прощаясь, Николай обещал заскочить в скором времени. Но обещания не выполнил... ...Койка Аленки стояла у окна. В комнате с высокими, окрашенными в салатный цвет панелями было свежо и чисто. Широкий шкаф, поставленный к стене торцом, загораживал вход, образуя перед дверью маленький тамбур, прикрытый узенькой цветастой занавеской. Комната на троих. В центре. — стол. На нем темная бордовая цветочница с молодыми веточками распустившегося граба. Сдернув покрывало, Аленка присела на кровать. Высоко подняв руки, стянула блузку. Тут же услышала, как дверь без стука отворилась. Аленка испуганно спросила: — Кто там? Колыхнулась портьера. Девушка в белом халате, лицом непривлекательная, остановилась у стола, покосилась на цветочник, потом сказала: — К начальству госпиталя тебя вызывают, Алена. — Спать хочу. — С ночи? — В шестой палате перед утром моряк скончался. В сознании умирал. Все пальцы мои рассматривал. И твердил, что они музыкальные, что мне нужно играть на виолончели. А я этот инструмент и не знаю. Ты когда-нибудь видела виолончель? — Много раз, — уверенно ответила девушка. — Она на саксофон похожа. Только труба длиннее. — А я почему-то думала, на гитару. Он так хорошо про пальцы говорил. — Нет. На саксофон... Одевайся. — У меня нет сил подняться с кровати, — призналась Аленка. — Я скажу, что тебя не нашла. — Все равно не отвяжутся.
В кабинете начальника госпиталя Аленка увидела только двух офицеров. — Извините, мне нужен начальник, — сказала она. И хотела выйти. — Не торопитесь, прекрасная девушка, — сказал немолодой тучный полковник. — Вас зовут Аленка? — Да. — Вот и отлично. Мы вас ждем. Проходите, пожалуйста, Аленка. Садитесь... Я полковник Каиров. А это капитан Чирков. Капитан был намного моложе полковника и, как показалось Аленке, серьезнее, За все это время он даже не шевельнулся и только смотрел на Аленку пристально, точно просвечивал рентгеном. Растерянность, коснувшаяся было Аленки, сменилась любопытством. Девушка неторопливо прошла в глубь кабинета. И опустилась в низкое неуклюжее кресло, покрытое мятым холщовым чехлом. Каиров спросил: — Аленка, вы знакомы с шофером Николаем Дешиным? — С шофером Николаем — да... Но я не знаю, как его фамилия. — Посмотрите, пожалуйста, — сказал капитан Чирков и вынул из лежащей перед ним папки крупную фотографию Дешина. — Что он натворил? — мельком взглянув на фотографию, спросила Аленка. — Это он? — повторил вопрос Каиров. — Да. — Он ваш друг? — Мы знакомы, — спокойно, с внутренним достоинством ответила девушка. — Давно? — С февраля месяца. Он приезжал сюда. — Часто? — спросил Чирков и почему-то смутился. Кончики его ушей покраснели очень заметно. — Три раза. — Один? — доброжелательно поинтересовался Каиров. — Нет, — покачала головой девушка, перевела взгляд на Чиркова и ответила так, будто спрашивал капитан: — Он приезжал с майором. — Вы знаете фамилию майора? — Голос у Чиркова был напряженный, словно он через силу выдавливал слова. — Не интересовалась, — виновато призналась Аленка. — А в лицо его помните? — Видела один раз. — Он здесь есть? — Чирков положил перед . ней несколько фотографий. Аленка быстро нашла фотографию майора Сизова: — Вот он. — Вы не путаете? — Нет. Я его запомнила. Он посмотрел на меня так... Я поняла, что не понравилась ему. — У женщин есть такое чутье, — заметил Каиров. — Есть, — подтвердила Аленка. — К кому он приезжал? — спросил Каиров. — Не знаю. — Жаль. — Каиров сокрушенно покачал головой. — Очень жаль. Мы на вас крепко рассчитывали, Аленка. — Если нужно, я постараюсь узнать. — Мы были бы вам за это благодарны, — сказал Чирков и неожиданно улыбнулся Аленке. Хорошо, нежно. И она твердо ответила: — Я узнаю. — Только делать это нужно, не привлекая излишнего внимания, — пояснил Каиров. — Между прочим... Понятно? — Да, — тихо и серьезно ответила Аленка. — Пусть это будет вашим комсомольским поручением. Боевым поручением, — сказал Каиров, любивший (а что делать?!) громкие фразы. — Я приеду к вам завтра в это время, — сказал Чирков, вставая. — Срок достаточный? — Вполне. — Аленка тоже поднялась. — До свидания! — Чирков протянул ей руку.
Автобиография
«Я, Чирков Егор Матвеевич, родился 2 апреля 1917 года в семье юриста. Отец мой, Чирков Матвей Романович, был членом Минской городской коллегии адвокатов. Мать — домохозяйка. В 1924 году мы переехали в город Борисов, где отец работал в нотариальной конторе, а я учился в средней школе. В 1927 году я был принят в пионеры, в 1933 году — в члены ВЛКСМ. Общественные поручения выполнял. Был редактором школьной стенной газеты. В 1935 году я поступил в Московский юридический институт, который окончил в 1940 году. В армии с первых дней войны. Был женат. Но недолго, с января по август 1938 года. С гражданкой Татьяной Обмоткиной мы не сошлись взглядами на жизнь. Родители мои погибли в 1941 году при бомбардировке города Борисова. Под судом не был, Родственников за границей не имею,Капитан Е. Ч и р к о в20.12.1942 г.».
Естественная убыль
— Что я ему скажу? — испуганно спросила Татьяна. — Уж не знаю, не ведаю, — пряча взгляд, заявила Марфа Ильинична, и второй подбородок ее неприятно колыхнулся. — Он не поверит. — Его дело... Только появляться близ тайника, тем паче товар туда класть, не советую. — Он сказал, что вы ему должны две тысячи. — За кирпичи? Разбогатеет быстро, — сказала как отрезала Марфа Ильинична, махнула при этом рукой и покраснела. — Он приносил не кирпичи. — Мне неизвестно, и тебе тоже. — Вы никогда никому не верите, — вздохнула Татьяна. — Это мой недостаток. — С недостатками нужно бороться. — О, если бы только с недостатками! До них руки не доходят. — Марфа Ильинична, вы заговорите кого угодно. — Верно, Танечка. Сызмальства я заикалась. Потом выровнялась. И теперь тараторю, удержу нет. Жан другой раз начнет на инструменте репетировать. Я к нему с разговорами. Он у меня послушный, вежливый. И то взмолится: «Мама, вы кричите так, что я барабана не слышу». — Вам хорошо шутить, — горестно заметила Татьяна. — А что я скажу ему? Марфа Ильинична уклонилась от ответа: — Дай воды попить. Они прошли на кухню. — У меня квас есть, — сказала Татьяна. — Лучше воды. Я квасом не напиваюсь. Крякнув громко и неприятно, Марфа Ильинична поставила опорожненный стакан на подоконник. И повернулась спиной к окну, которое крест-накрест было заклеено узкими полосками марли. — Ты, Татьяна, не печалься. Положись на меня. Твой, он человек осторожный, даже мне не рискует показаться. Он все разумеет. Передай ему — наперед товар, пущай к тебе приносит. Когда я сама носить буду, когда ты... Ни у кого подозрения это вызвать не может. Ты моя клиентка довоенная. Ясно? — Ясно, но... Кто две тысячи платить будет? — Плюнь и забудь. В торговле всегда случается естественная убыль. Об этом каждый продавец знает.Фляжка
В шестом часу вечера еще было светло, хотя солнце уже пряталось за Косым мысом, и свет над городом лежал мягкий, и все было без теней, как на детском рисунке. Каиров направился к Золотухину. Он медленно, словно прогуливаясь, шел по стертому, давно не ремонтированному тротуару, тянувшемуся от здания к зданию, большинство из которых давно лишились крыш и окон. Возле продуктового ларька женщины дожидались своей очереди. Продавщица резала хлеб длинным, будто сабля, ножом, и он мерцал тускло и холодно. Сквер, заселенный старыми, кряжистыми кленами, был пуст. Скамеек уцелело мало. Да и уцелевшие имели удручающе неприглядный вид. Но листья на деревьях уже набирали силу. И смотреть на них было приятно. На выходе из сквера Каиров остановился, чтобы пропустить мчавшуюся на большой скорости машину, но, заскрежетав тормозами, машина лишь чуть проскочила мимо Каирова и замерла у тротуара. Показалась кудлатая голова. Послышался знакомый голос: — Мирзо Иванович! — А я к тебе, Дмитрий, — сказал Каиров Золотухину. — Милости прошу в машину. — Здесь недалеко. Пойдем пешком. Подышим свежим воздухом, — предложил Каиров. — Это возвращает силы и бодрость. — Как всегда, правы, Мирзо Иванович. — Золотухин вылез из машины. Сказал шоферу: — Поезжай. — Выглядел он устало. Протянул Каирову руку: — Я подготовил сведения, которые вы просили. — Спасибо, Дмитрий. Как Нелли? — Что с ней станется? — недовольно ответил Золотухин. — Слушай, дорогой, — Каиров произнес эти слова властно и строго, — в таком тоне никогда не смей говорить о Нелли! Она мне почти как дочь. Золотухин смутился: — Мирзо Иванович, ради бога, не горячитесь. Кажется, я немного устал. — Немужское дело жаловаться на усталость. — Я не жалуюсь. Я объясняю. Не сердитесь, Мирзо Иванович. Я люблю Нелли. — А понимать ее — понимаешь? — Каиров склонил голову набок, заглядывая в глаза Золотухину. — Это уже тонкости. Сейчас не до них. Пусть она меня понимает. У нее больше свободного времени. Каирову ответ показался странным. Мало того, не понравился. Вначале ему захотелось осадить Золотухина или прочесть ему мораль о супружеской жизни, но Золотухин выглядел таким несчастным, таким замотанным, что Каиров не нашел ничего лучшего, как просто спросить: — Подсчитал? — И не думал. — Не верю. — Честно, Мирзо Иванович... У нас с Нелли все в порядке. Хорошо мы с ней живем. Правда, укоряет она, что простора во мне маловато, что суховатый я человек. Не спорю... Говорю, обожди, после войны жизнь настоящая начнется... Нота горечи прозвучала в голосе Золотухина громко и явственно, как петушиный крик на рассвете. Каирову не понравилось это. И он сказал нудновато, по-стариковски: — С жизнью лишь когда расстаются, понимают, что она настоящая. А после войны, дорогой, свои трудности придут. — Ясное дело, — без воодушевления согласился Золотухин. Они миновали площадь. Голубой сумрак лежал над ней, как опрокинутая чаша. Поднялись по улице, которую перегораживала сложенная из кирпичей баррикада. Вышли к зданию милиции. — Старшина Туманов на месте? — спросил Каиров. — Сейчас выясним, — ответил Золотухин. Но выяснять не пришлось. Старшина Туманов сидел возле стола дежурного, набирал номер телефона. Увидев вошедших, он положил трубку, встал и поздоровался. — Мне нужно задать вам только один вопрос, — сказал Каиров. — Вы не находили в машине Дешина фляжки с водкой? — Нет, товарищ полковник. — Значит, не находили, — многозначительно уточнил Каиров. Старшина стоял перед ним навытяжку, смотрел на полковника честно, с пониманием. И Каиров поверил, что такой человек не утаил бы фляжку, пусть даже наполненную водкой. — Фляжки в кабине не было. Я осветил кабину. Думал увидеть кровь. Или другие следы преступления. — Ничего не увидели? — Каиров уже не смотрел на старшину. Окрашенные в белую краску стекла окна за спиной дежурного светились слабо и мерцающе. — Подозрительного ничего. — Спасибо. — Потом, повернувшись к Золотухину, Каиров сказал: — Ладно, всего хорошего. — Вам не нужна моя помощь, Мирзо Иванович? — Пока нет. Выйдя из милиции, Каиров решил не спускаться вниз к площади, а вернуться в гостиницу верхней дорогой. Она выведет его к узкой немощеной улочке, на которой, он когда-то жил. У них с женой был уютный деревянный домик. И персиковый сад. И виноград «изабелла» над окнами. Из винограда осенью Каиров давил вино. Но получалось мало. И вино выпивали молодым, не позже Нового года. Оно очень хорошо пахло. Изумительно! И было почти как виноградный сок, только немножко с градусами. И цвет у вина был темно-красный. Оно приятно смотрелось в бокале, если свет попадал на тонкие стенки и катился вниз-желтым искристым комком. И море искрилось. И летом и зимой... Потому что и зимой было много солнечных дней. Небо в январе голубело еще чище, чем в августе. Белые панамы, яркие одежды курортников на бульварах пестрели, как украшения. Они придавали городу праздничный и немного легкомысленный вид. Сегодня море и небо остались прежними, но курортную панаму город сменил на матросский бушлат. Каирову не довелось быть осенью сорок второго, года среди защитников города. Однако он много, очень много слышал о мужестве людей, сокрушивших врага, преградивших ему путь на Черноморское побережье Кавказа. И сейчас, вглядываясь в сильные и спокойные лица горожан, Каиров верил, что эти люди сделают все. И город, их родной город станет еще лучше довоенного. Как и прежде, он будет солнечным, красивым, веселым, но он будет и строже, и сдержаннее, потому что подвиги мужчин и женщин, отстоявших его, не забудутся никогда. Обелиски и памятники встанут рядом с тополями и кипарисами, а легенды о мужестве и бесстрашии будут передаваться из уст в уста. Сложится очень много легенд — о пехотинцах, моряках, летчиках, зенитчиках. И вначале, видимо, ничего люди не узнают о чекистах. Потому что деяния их известны лишь ограниченному числу лиц и по служебным законам до поры до времени разглашению не подлежат. ...Женщина с полными ведрами шла через улицу. Вода плескалась на землю с каким-то шлепающим звуком. Увидев воду, Каиров сразу вспомнил о фляжке. Куда же девалась фляжка, из которой Сизов поил шофера Дешина? В вещах Сизова ее нет. Да и не должно быть. Вещи брали из гостиницы. А в гостиницу Сизов не вернулся, потому что остался лежать под колесами. Фляжку Дешин не уносил (Каиров верил в это). Значит, был третий. Кто он? В чем заключалась его роль?Опять Перевальный
«Совершенно секретно. Полковнику М. И. Каирову. Отп. 1 экз. 3 апреля 1944 года сотрудниками военной контрразведки «Смерш» фронта совместно с территориальными органами государственной безопасности и внутренних дел в районе станции Южная задержан Примаков Евгений Васильевич (он же Авраменко, Одинец, Парцалиадис, Домогацких). Агентурная кличка — Длинный. Прошел специальную подготовку в диверсионно-разведывательной дивизии «Бранденбург-800». С апреля по декабрь 1941 года находился в распоряжении, разведуправления «Валли-VI». С февраля 1942 года — сотрудник зондеркоманды «Марс» разведоргана «Цеппелин», подчиненного главному управлению имперской безопасности. Шел на связь с агентом по кличке Зуб, которого знал в лицо. Из десяти фотографий, предъявленных ему, с изображением различных людей без колебаний отобрал фотографию Сизова. Имел запасную явку в Перевальном. Ниже для ориентировки приводятся отрывки из стенограммы допроса: С л е д о в а т е л ь. Где вы должны были встретиться с Сизовым? П р и м а к о в. Я не знаю никакого Сизова. Я шел на встречу с агентом по кличке Зуб. У него было много фамилий. С л е д о в а т е л ь. И фамилия Сизов была тоже? П р и м а к о в. В дивизии «Бранденбург-800» он носил фамилию Неделин. Но я подозревал, что она у него не первая и не последняя. С л е д о в а т е л ь. Хорошо. Тогда ответьте на вопрос, где вы должны были встретиться с агентом по кличке Зуб? П р и м а к о в. 15 марта с половины третьего до трех у входа в городскую баню мне надлежало прохаживаться с дубовым веником в правой руке. С л е д о в а т е л ь. Пароль? П р и м а к о в. Мы хорошо знали друг друга. И пароля не было. С л е д о в а т е л ь. В чем заключалось ваше задание? П р и м а к о в. Зуб должен был устроить мне встречу с человеком по кличке Японец, в распоряжение которого я и поступал. С л е д о в а т е л ь. Я не очень верю, что вам не дали пароля. А если Сизов не явился бы к месту встречи? Ваши начальники должны были учитывать и такой вариант. П р и м а к о в. Так и получилось. Сизов не пришел к баням. У меня был запасной вариант. Очень сложный. Потому что здесь огромную роль играли число месяца и час суток. 18 марта я должен был к семи вечера приехать в госпиталь в Перевальном. Сказать дежурной сестре, что я родственник раненого офицера Колесова из Чимкента. Поскольку офицер Колесов скончался несколько дней назад, я попросил бы разрешения остаться до утра, чтобы навестить его могилу. Утром на кладбище ко мне должен был подойти человек и спросить: «Это вы из Чимкента? В Чимкенте есть улица Ленина?» Ответ: «Улица Ленина, есть в любом городе». С л е д о в а т е л ь. Как же сложились дела в действительности? П р и м а к о в. Я уже говорил, что Зуб в баню не пришел. На другой день я добрался до Перевального. Двое суток прятался в горах. И лишь в семь часов появился в госпитале. Все сделал по инструкции. Меня оставили ночевать. Положили одного в маленькой комнате. Там были только стол и кровать, на которой я лежал. Даже не было стула. И я сложил одежду на столе. Комната не запиралась ни на какие замки. Да и дверь прикрывалась неплотно. Я чувствовал себя словно в западне. Все время держал руку с пистолетом под подушкой. Сон не брал меня, хотя я не спал уже почти три ночи. Прошло больше часа, как вдруг дверь отворилась. В комнату кто-то вошел. По звуку шагов мне показалось — женщина. Я спросил: «Кто это?» В ответ действительно женский голос: «Это вы из Чимкента?» «Да», — не веря своим ушам, сказал я. «В Чимкенте есть улица Ленина?» — «Улица Ленина есть в любом городе». С л е д о в а т е л ь. Вы можете описать внешность незнакомки? П р и м а к о в. Нет. Окно было зашторено. А выключатель у двери, при входе. Женщина не включила свет. Видимо, она хорошо знала комнату, потому что смело сделала три шага. И остановилась надо мной. Я попытался подняться. Она сказала: «Лежите! И не вздумайте стрелять через подушку. Знаю, что нарушила инструкцию.. Но у меня нет возможности ждать утра. Зуба выследил НКВД. Он убит, как я понимаю, при задержании. Вот вам документы. Утром без промедления возвращайтесь в город. Попытайтесь устроиться на нефтеперегонный завод. Эта явка закрывается. В городе вас найдут». С л е д о в а т е л ь. Вы не смогли бы по голосу определить возраст женщины? П р и м а к о в. Голос чистый, молодой. С л е д о в а т е л ь. Это могла быть дежурная сестра, которой вы представлялись как родственник офицера Колесова? П р и м а к о в. Не думаю. Дежурной сестрой была пожилая женщина с хриплым, басовитым голосом. Конец стенограммы. В связи с вышеизложенным предписываю Вам при осуществлении операции «Будда» особое внимание уделить госпиталю в Перевальном. Ускорьте выяснение личности сотрудника госпиталя, к которому ездил Сизов (Зуб). Внедрение на завод нашего человека по документам Примакова считаю нецелесообразным. Пароль не назначен, и, очевидно, неизвестная женщина помнит Примакова в лицо. О ходе операции докладывать каждые 12 часов. В случае обнаружения новых значительных данных докладывать немедленно. На завершение всей работы даю 72 часа.Начальник Управления военной контрразведки «Смерш» фронта...».
Свидание с Аленкой
Чирков оставил машину метрах в двухстах от ворот госпиталя. Дорога там размашисто поворачивала вправо. И горы отделялись от нее продолговатой ровной поляной. Трава на поляне была свежая, незатоптанная. И хорошо смотрелась под солнцем, поблескивая нежным зеленым цветом. С чувством сожаления Чирков въехал на поляну. А выйдя из машины, сокрушенно посмотрел под ноги. Две темные полосы, точно тропки, протянулись от дороги к колесам машины. И сок выступил, точно слезы. И скаты были влажными и зелеными. Высокие ворота из кованого железа, красуясь причудливым орнаментом, стражем вставали на дороге. Перед ними ходил еще один страж — матрос в бескозырке, с винтовкой за спиной. Примкнутый широкий штык нанизывал на себя солнце. Издалека, оттуда, где шел Чирков, казалось, что моряк мечет молнии. Столь грозным часовой выглядел лишь на расстоянии. Когда Чирков подошел ближе, он увидел совсем еще молодого паренька, светловолосого, курносого, с веснушками на щеках. Часовой не спросил у Чиркова пропуск, даже не поинтересовался, куда и к кому он идет. Как-то безразлично взглянул на капитана и отвернулся. Громадные здания госпиталя, когда-то белые, а сейчас в больших серо-зеленых пятнах, возвышались справа. Перед госпиталем была широкая асфальтовая площадка. В центре — фонтан. От него лучами расходились аллеи. Аллеи были обсажены кипарисами, но среди них встречались и клены, и магнолии, и каштаны. Где-то там, за аллеями, были корпуса пониже. Чирков хорошо знал это место. До войны тут был санаторий. И хотя ему не довелось отдыхать в санатории, он несколько раз приезжал сюда по делам. Здесь тогда царило веселье. По вечерам играл духовой оркестр. Й звуки фокстротов слышались Даже на берегу.В отделе кадров Чиркову принесли потертую тощую папку, в которой лежали трудовые книжки, справки, заявления, видимо, части вольнонаемных сотрудников госпиталя. — Сейчас найдем, — сказал седой лысоватый мужчина с нездоровым лицом пыльного цвета. Он был в гражданском костюме. И прихрамывал на левую ногу. — Так, что же мы имеем? — Мужчина перебирал документы: — Погожева... Погожева... Есть. Вот, пожалуйста. — Он протянул Чиркову донорскую Справку о сдаче крови Погожевой Серафимой Андреевной в городе Батуми: — И все. — Не густо, — скептически заметил Чирков. — Ее к нам прислали из Батуми. Документы, надо полагать, там. — Как же вы... Взяли человека без документов, без проверки? — Голос у Чиркова строгий, словно черный цвет. Однако кадровика не смутить. Старый он, чтобы смущаться. — Людей, дорогой товарищ, не хватает. Все палаты переполнены. Раненые в коридорах лежат. Поднимись, взгляни. Железнодорожный вокзал, а не госпиталь. — Все это не снимает вопрос о бдительности. — Правильно... Однако мы под начальством ходим, — стоит на своем кадровик, точно лодка на приколе. — Начальство наше в Батуми. Они направили — они в ответе. — Направление где? — Найдем направление... в другом деле. Стало быть, по командировочной линии посмотрим. Звенит ключами кадровик, словно корова колокольчиком. Ящиками гремит. А на лбу испарина выступила. От натуги или от волнения? От натуги, думается. Тяжело, видать, ему нагибаться. Годы сопротивляются. — Вот, пожалуйста... — победоносно подходит к Чиркову, неся перед собой папку, будто каравай хлеба. — Все при деле... Читает капитан. Верно.
«Начальнику госпиталя в Перевальном... В ответ на Ваше письмо № 2/347 сообщаем, что направить в Ваше распоряжение врача-рентгенолога — 1, врача-терапевта — 3, врача-окулиста — 1 и младшего медицинского персонала — 25 не имеем возможности. В данный момент командируем в Ваше распоряжение старшую медицинскую сестру Погожеву С. А. Одновременно предлагаем откомандировать в наше распоряжение врача-невропатолога — 1, которых у Вас — 2.— Документ законный, — сказал кадровик. — Шел специальной почтой. Чирков нервно барабанил пальцами по столу. — Паспорт вы у нее смотрели? У вас же военное учреждение! — Паспорт непременно смотрели. С паспортом все обстоит благополучно. ' — Вы это хорошо помните? — Конечно нет. Чирков понимает: говорить кадровику о бдительности — попусту терять время. — Фотографию бы мне... Этой самой Погожевой. — Чего нет, того нет, — разводит руками кадровик. И вот Чирков опять в коридоре. Только невеселый, угрюмый. Аленка словно поджидает его. Она внезапно появляется из-за колонны. Спрашивает: — Удачно? Все хорошо? — Порядочки у вас. Хаос в документации, — сокрушается Чирков. Аленка не разделяет его печали. — Людям жизнь здесь возвращают, — говорит она. — О здоровье человека заботятся. Не до бумажек. Понимаете? — Не понимаю, — морщится Чирков, лицо у него обиженное-обиженное. — Удар от врага нужно ждать не только на фронте. Враг — он коварен... Фразы какие-то стандартные получаются. Зол Чирков очень. Зол на людей безответственных. — Фотографию бы мне Погожевой, — вслух думает он. — Посмотреть на лицо, какая она. — Есть фотография! — радостно говорит Аленка. — Конечно, любительская. Но разобрать лицо вполне можно. Чиркову хочется поцеловать Аленку. Милая, хорошая она. Фотография — это же совсем другое дело. Это уже удача. — Я сейчас, — говорит Аленка. Потом секунду колеблется: — Пойдемте вместе. Он держит ее за руку. Они не идут, а бегут по аллее. Пахнет морем, водорослями и чистой галькой. Волны накатываются где-то здесь, рядом. Их еще не видно за корпусом и деревьями. Но они шумят. На сердце у Чиркова от этого шума радостно и сладко. А может, волны тут ни при чем? Может, причиной тому медсестра, похожая на мальчишку? Комната Аленки пуста. Девушка предлагает: — Садитесь. — Нет-нет!.. Она открывает тумбочку — там альбом, пухлый от фотографий: — Сейчас я найду... Аленка ловко, точно карты, перебирает фотокарточки. — Вот! Крайняя слева. Нас подполковник фотографировал из газеты. Думали, не пришлет. А он два дня назад прислал... Крайней слева была высокая худая женщина с крупными мускулистыми ногами, удлиненным лицом и густыми бровями, сросшимися у переносицы. — Спасибо, Аленка, спасибо... Они рядом. Они близко. И, сам того не ожидая, Чирков целует девчонку в губы.Начальник управления медицинской службы...».
Каиров в гостях у Татьяны
— Может, в небесах и есть рай, но в нем все равно не уютнее, чем у вас в квартире. Татьяна с изумлением смотрит на гостя, солидного, седого полковника, и заученно улыбается. Но Каирову давно известна эта милая женская хитрость. Впрочем, улыбка у Татьяны получается нежная, непосредственная. И, глядя в ее чистые серые глаза, Каиров, в общем-то, понимает мужчин, влюблявшихся в эту женщину. — Если вы хотите снять комнату, — мягко, словно извиняясь, произносит Татьяна, — то... Я не могу сдать. Сейчас... у меня уже есть постоялец. — Майор интендантской службы Роксан. — Вы знаете? — удивлена Татьяна. И тут же спрашивает кокетливо: — Это он вас прислал? — Я сам по себе, — признается Каиров. — Сожалею. Но ничего другого сказать вам не могу, — Не огорчайтесь. Я остановился в гостинице Дома офицеров. Кстати, в том самом номере, где жил майор Валерий Сизов. Он, кажется, был вашим квартирантом? — Это не имеет значения, — сухо ответила Татьяна. Ее, видимо, начал раздражать осведомленный и разговорчивый полковник. — Прежде всего, Сизов был моим другом. — Простите, — сказал Каиров. — Но, коль я здесь, разрешите задать вам несколько вопросов. Они касаются именно вашего друга. — Кто вы такой? — тихо и чуточку испуганно спросила Татьяна. — Полковник из контрразведки.Чирков скептически отнесся к идее Каирова посетить Татьяну в ее квартире. — Лучше вызвать. Допросить. А в доме устроить обыск. — У тебя ни грамма фантазии, сынок. Ты скучный реалист. Может быть, я покажусь несколько старомодным, но мне кажется, для вдохновения нужно посмотреть дом, где живет Дорофеева. Я хочу пройти той дорогой, по которой много раз ходил Сизов. Посмотреть двор, подняться по лестнице, постоять у двери. В доме есть подвал, И наверняка есть чердак. Я хочу посмотреть квартиру. Она может быть чистой или грязной. Я хочу посмотреть обстановку. Вещи — тоже отличные свидетели... Я предпочитаю застать хозяйку квартиры врасплох... Все это для меня очень важно. Я должен определить свое отношение к Дорофеевой: была ли она только любовницей Сизова или еще и соучастницей? — Вам виднее, товарищ полковник, — сказал Чирков. — Хочу лишь предупредить. Я, слава богу, знаю свою бывшую жену. Неофициальная беседа с ней может иметь нулевой результат. Во-первых, Татьяна врушка. Во-вторых, если вы сразу не поставите точки над «и», не скажете, кто вы и зачем пришли, она решит, что вы просто набиваетесь к ней в постель. И в ответ на ваши хитроумные вопросы будет нести безответственный треп. — Спасибо, капитан, за предупреждение. — Не мне вас учить, но профессионально грамотнее было бы вызвать Дорофееву на допрос. — Милый Егор Матвеевич, запомни: контрразведка — это не просто профессия. Контрразведка — искусство. А в искусстве каждый идет своим путем...
...Низкая арка, хмуро глядевшая на улицу, вела во двор. В глубине двора по левую сторону стоял двухэтажный коттедж, в котором жила Татьяна Дорофеева. Ее квартира находилась на втором этаже. Двор был маленький. Бомбоубежище, желтым холмом возвышавшееся невдалеке от старой груши, делило его на две части. Дверь в бомбоубежище была распахнута. Темнота черным глазом смотрела на забрызганный солнцем двор и дышала сыростью. Две девчонки играли в классики. Смеялись они легко, беззаботно. Пальтишки на них распахивались, короткие и латаные. Из репродуктора, висевшего на сером, зажатом рельсами столбе, слышался голос московского диктора. Он читал утреннее сообщение Советского информбюро. Новости были хорошие. 4-й Украинский фронт рвался к Севастополю... На лестничную площадку, деревянную, с перилами, давно утратившими свой первоначальный коричневый цвет, выходило три двери. Короткая и, словно трап, крутая лестница вела на чердак. Люк над ней былзакрыт. Ступив вверх на несколько ступенек, Каиров убедился: крышка заколочена поржавевшими гвоздями. И нет никаких следов, что люк недавно открывали. Еще внизу Каиров обратил внимание: окна первого этажа висят низко над землей, в доме едва ли есть подвал.
...Услышав, что он из контрразведки, Дорофеева не испугалась, не смутилась. Наоборот, с интересом, точнее, с любопытством посмотрела на Каирова. Без улыбки, но вполне гостеприимно сказала: — Чувствуйте себя как дома, полковник. Давайте, я помогу вам снять шинель. — Я сам. Ради бога, не принимайте меня за дедушку. — Зачем же? — улыбнулась Татьяна. — На мой взгляд, человеку столько лет, на сколько он выглядит. — Я смотрю, вы прогрессивно мыслите. — Не терплю условностей. Каиров пристально посмотрел ей в глаза. Она выдержала взгляд. Он сказал: — Я думаю, разговор у нас с вами получится. — Вы хитрый, — ответила она. — Неожиданный вывод. — Цыгане все хитрые. — Я не цыган. — Армянин? — Я из Азербайджана. Она села на диван. Перебросила нога за ногу. Платье из серо-голубой материи сжалось в складки и теперь лишь самую малость прикрывало колени. Откинувшись, она вдруг заломила руки и стала поправлять прическу. Голова Каирова уже давно из черной превратилась в цвета махорочного пепла, и он конечно же понимал: поза, в которой сейчас находится Татьяна, давно разучена и отработана. Но вместе с тем именно жизненный опыт не позволял сделать иного вывода — эта дама сложена безукоризненно. — Вы обо мне плохо думаете? — внезапно спросила Татьяна. — Я думаю о вас хорошо. — Нет. Вы обо мне плохо думаете. Я красивая, и все мужчины думают про меня одно и то же. — Горечь была в ее голосе и во взгляде тоже. — К сожалению, я пришел сюда не как мужчина, — Он понял, что упускает инициативу в разговоре. — Я вам не верю. — У меня единственный способ убедить вас в обратном: задать несколько вопросов. Она недоверчиво покачала головой и,сказала устало: — Все начинают с этого. — У ваших поклонников бедная фантазия, — пошутил Каиров. И вынул портсигар: — Разрешите? — Пожалуйста. — Она поставила перед ним пепельницу. Вновь опустилась на диван. Пожаловалась: — Я несчастливая. — Сейчас не время говорить о счастье, — нравоучительно заметил он. Прикурил от зажигалки. — Что вы, мужчины, понимаете во времени? Вот вы мне в дедушки годитесь, а на вас смотреть приятно. И куда угодно с вами пойти можно. — Благодарю. Татьяна грустно усмехнулась: — Доживи я до ваших лет — на меня никто и не посмотрит. Для женщин другой счет времени, полковник. — Может, вы и правы... Но я все-таки перейду к делу. Когда вы познакомились с майором Сизовым? — Какое это имеет значение? — вдруг напряглась она. И взгляд ее похолодел. И на лице обозначилась бледность, может быть, от испуга. — Не задавайте встречных вопросов! — кажется, рассердился Каиров. — В декабре. Число не помню. Но можно уточнить. Он пришел в библиотеку. Я выписала ему читательскую карточку. Там стоит дата. — Видимо, вы знали его близко. Не было ли в поведении Сизова чего-либо подозрительного? — Все мужчины одинаковы. В глаза: ля-ля, хорошая, милая. А из дому вышел — ни одной юбки не пропустит. — У него была женщина? — Значит, была, если письма писала. — Вы их видели? — Одно. Ну и этого достаточно. — Поспешный вывод. Прежде необходимо прочитать письмо. — Он учил меня другому. Ударил по лицу, сказал, чтобы я не смела читать чужие письма. — Письмо сохранилось? — Нет. — Может, вспомните содержание? — Ничего интересного там для вас не было. — Охотно верю... Но любопытства ради хотел бы услышать. — В начале письма она слюнявилась: дорогой, любимый... Встретиться бы желала, да обстоятельства не позволяют. Видно, замужняя, шлюха... Просила на брата повоздействовать, который после контузии совсем опустился. И теперь вениками торгует возле бани. — Дубовыми? — А вы откуда знаете? — Проходил мимо бани... Там всегда вениками дубовыми торгуют. — Не знала. В баню не хожу. У меня ванна... Правда, горячей воды сейчас нет. Но я моюсь холодной. Привыкла. А кожа от этого становится эластичнее и здоровее. Смотрите. — Она заголила руку выше локтя. Кожа у нее была смуглая, хорошо сохранившая следы прошлогоднего щедрого загара. — Что было еще в письме? — Ничего. — Ей был неприятен этот разговор. Настолько неприятен, что бледность, будто талый снег, исчезла с ее лица. И теперь — от злости ли, или простого раздражения — оно было покрыто большими розоватыми пятнами. — Кем подписано письмо? — спросил Каиров. — Подпись неразборчива. — Обратный адрес? — Без адреса. — Она отвечала, нервно покусывая губы. — Не обратили внимания, из какого города отправлено письмо? . — Местное... Поэтому я и выгнала его. Последнюю неделю он жил в гостинице. — Вещей своих Сизов не оставил у вас? — Все забрал. Позабыл только фляжку. — Покажите ее. Татьяна безо всякой охоты встала с дивана. «Странная она женщина, — подумал о ней Каиров. — А может, и нет, Может, все закономерно. Родилась красивой. В своем роде произведение искусства. Легкомысленная. Это тоже от рождения... Как бы выглядела жизнь на земле, если бы все женщины были вот такими красивыми? И такими легкомысленными. Наверное, сложились бы другие обычаи, нравы. Понятие морали было бы тоже совсем иным. Почему она так разговаривает со мной? То злится, то кокетничает. Скорее всего, Татьяна иначе и не может разговаривать с мужчиной. Она привыкла нравиться. Привыкла, как пьяница к алкоголю». Татьяна принесла фляжку. Обыкновенную, из алюминия. В зеленом матерчатом чехле. Встряхнула. Булькнула жидкость. — Что здесь? — спросил Каиров. — Вино. Рюмочку? — В первой половине дня не употребляю. — Хорошая привычка. — Сизов пил? — Много. Но никогда не пьянел. Только глаза краснели. — Я заберу с собой фляжку. Слейте вино в графин. — Графин не пустой. А это вино выпейте во второй половине дня за наше знакомство. — Спасибо. — Каиров встал. — Скажите, Сизов вел с вами разговоры о событиях на фронте? — Редко. Мне кажется, они не очень интересовали его. Он любил повторять, что теперь фронт везде. — Это точно. Спасибо... Всего хорошего. Извините уж... — Пожалуйста, пожалуйста, — вежливо ответила Татьяна.
Беженка из Новороссийска
Рыбоколхоз «Черноморский» притулился к морю за высокой, ступающей в волны скалой, на которой моряки поставили мощную береговую батарею. Там же и глазастые прожекторы. Ночью, словно пули, темноту пронизывают. А днем спят под густыми пятнистыми сетками. Скала стройная, точно девушка, красивая, приметная. Немцы на нее в сорок втором зуб точили. Только устояли моряки. Сколько чернобрюхих, крестастых самолетов дельфинами в море кувыркались! Пострадал рыбоколхоз. Конечно, меньше, чем город. Но... Семилетнюю школу прямым попаданием в щепки разнесло. На рыбозаводе от коптильного цеха лишь груды кирпичей остались. С полдюжины жилых домов тряхануло. Правда, прямых попаданий в дома не было, но с окнами, с дверями распрощаться пришлось. Колхоз славился рыбой. До войны имел торговые договоры со многими санаториями и домами отдыха. Держал свой ларек на городском рынке. Делал консервы в цехах собственного маленького завода. С войною улов упал. Большинство мужчин ушло в армию. Женщины теперь верховодили на шаландах. Честь им и хвала. Ничем сильному полу не уступали. Да вот беда, нынче в море далеко выходить рискованно. Немецкие подлодки еще, как акулы, рыщут. Мин — что медуз перед штормом. Промышляют колхозники возле берега. А какой улов на мелкоте — дело известное. И все же шаланды никогда не возвращались пустыми. День на день не приходился — кефаль, ставрида, хамса, битый дельфин. Дельфинье мясо было вполне съедобным. Но, когда его жарили, вонь стояла над всем поселком, уползающим в горы ящерицей. Хозяйки посноровистее добавляли в жаркое стручковый перец, укроп, чеснок, лук... Ваня Манько шмыгнул носом. Нет, есть ему не хотелось. Он сыт по горло дельфиньим мясом. Ему бы простого, говяжьего. Но это будет потом, когда батька вернется с фронта. А сейчас... Сейчас Ваня бежал с уроков. И крутой тропкой, огибающей кусты, спускался к морю. Море сегодня было ласковым и тихим. Волны не шумели, а разговаривали друг с другом шепотом, как мальчишки на уроках. Учился Ваня в четвертом классе. Когда школу разбомбило, их перевели в клуб. Концертный зал большой. В каждом из четырех его углов занимался класс. И гул стоял плотный и неразборчивый, словно на колхозном рынке. В утреннюю смену ходили первый класс, второй, третий, четвертый. После обеда — с пятого по седьмой. Скучно в школе было Ивану. Он любил море. Любил рыбоколхозный причал. Запах ветра морского, соленого. Он давно решил стать рыбаком. И сетовал, что из-за маленького роста взрослые не берут его в море. А учеба? Какой с нее прок! Рыбе лично начхать, кто ее неводом вытаскивает — грамотный или не очень. Берег долгий. И полукруглый, словно край блюдца. Галька на нем светлая. Лишь возле самой воды — темная и блестящая. Потому что влажная. Не успевает высыхать. Волны лижут ее и лижут, как кот сметану... Хорошо на берегу. Да от посторонних глаз не скроешься. Увидит кто из колхозников Ивана — не пощадит. За ухо возьмет. И... водворит в школу. Лучше всего бы спрятаться дома. Так раньше Иван и делал, когда мать на шаланде выходила в море. Но теперь лафа кончилась... Третью неделю у них квартирантка живет, беженка из Новороссийска. Строгая такая тетенька — учительница. Взяли ее алгебру да геометрию преподавать. В старших классах, значит. Вот она и околачивается в первой половине дня дома. Вздыхает Иван. Тяжело, будто старик. Думает: а если осторожно-осторожно на чердак перебраться? Квартирантка и не заметит. Валяется, наверное, на кровати. Книгу читает. Верная мысль! На чердаке сено. Поспать можно... Задами выходит Иван к своему дому. Возле колодца в заборе дыра. А вокруг крапива молодая — богатство по нынешним временам. Суп из нее варят. Подобрался к сараю Иван. Посмотрел через щель. Занавешено окно в комнате квартирантки. Теперь — шмыг в сени. А там и лестница на чердак. В сенях на лавке ведро с водой стоит. И кружка рядом. Испить бы водицы, да зашуметь кружкой можно. Иван переводит дыхание и пьет прямо из ведра. Лестница в доме хорошая, не скрипит. Люк гавкнуть может. Петля там одна перекошена. Накормить бы ее рыбьим жиром! Иван, подталкивая одной рукой люк вверх, другой приподнимает край, где заедает петля. Ура! Обошлось! Тщательно закрыв люк, Иван шагает в сено к слуховому окну.. Жаль, что из окна не видно моря. Зато скалу видно. И батарею на ней. И морячков тоже... Счастливые ребята — моряки, никто в школу не ходит. И дурацкие задачки: «Из пункта А вышел поезд со скоростью 60 км в час...» — решать не заставляют. . «Вырасту — пойду в моряки, — думает Иван. — Рыбаком, конечно, хорошо. Но не сидеть же век в колхозе! Лучше по морям, по океанам побродить. Куплю себе обезьяну и выучу разным фокусам. Вот потеха будет...» «Тэр-рр...» Скрипит люк. Кого несет нелегкая? Квартирантка. Выследила, зануда! Однако на всякий случай Иван прячется за тяжелой, обвешанной паутиной балкой. Квартирантка лезет через сено, приподняв подол платья. Ее длинные ноги в черных чулках проваливаются в сено. Она ступает на коленках. Добирается до слухового окна. В руках у нее появляется бинокль. Она подносит его к глазам и что-то долго рассматривает. «Батарею!» — догадывается Иван. Он сидит ни жив ни мертв. Потом квартирантка поворачивает назад. Выбирается к люку... Иван, желая проследить, что же она будет делать дальше, приподнимается на корточках. Случайно оказавшийся под ногами мальчишки прут предательски трещит. Квартирантка вздрагивает и поворачивается...Что мы имеем?
Чирков подробно, со свойственной ему добросовестностью рассказал Каирову о поездке в Перевальный. Через мощную лупу Каиров, покряхтывая и недовольно морщась, рассматривал фотографию, которой снабдила капитана Аленка. Он подошел к окну. Потом опять сел на кровать, Наконец положил и лупу, и фотографию на одеяло. Сказал: — Встречалось мне видеть фотографии и более высокого качества... — Качество действительно не ахти, — согласился Чирков. — Глаза немного смазаны. Моргала... Ладно. Увеличить и размножить. Сегодня же. — Завтра к утру, товарищ полковник. У нас сушилки нет. Каиров ничего не ответил. Однако лицо у него стало кислым и совсем старым. Ему бы надо было побриться, потому что щетина на подбородке темнела густо. — Вы обедали? — спросил Чирков. — Нет, — ответил Каиров и погладил ладонью подбородок. — Тогда пойдемте в столовую. — Еще не время, капитан. На сытый желудок трудно думается. Кровь из головы уходит. — При моей худобе это незаметно, — не удержался от улыбки Чирков. — Тебе легче прожить... Ладно, — Каиров поднялся с кровати, — шутки в сторону. Прежде чем отправиться в столовую, подведем итог наших двух визитов. Что мы имеем на сегодняшний день? — Мы имеем фотографию сестры-хозяйки Погожевой, с которой Сизов поддерживал контакт. Мы знаем, что какая-то женщина, полагаю Погожева, писала Сизову и назначала встречу возле бань с агентом Примаковым. Мы знаем, что Погожева... — Видимо, Погожева, — поправил Каиров. — Да... Видимо, Погожева рекомендовала Примакову устроиться на нефтеперегонный завод. Она не дала ему пароль, сказав, что его найдут. Полагаю, она не могла рассчитывать только на себя. Значит, в городе есть или в город прибудут агенты, которые знают Примакова и которых Примаков знает в лицо. Чирков говорил не свободно, а так, словно диктовал протокол. Сказалась привычка. — Так или иначе, а нефтеперегонный завод упускать из виду нельзя, — сказал Каиров. — Возможно, сама Погожева станет искать связь с Примаковым. Она же не может знать, что он арестован. Поэтому сегодня же направим на завод человека с фотографией Погожевой. Вдруг клюнет... Однако основное внимание, капитан, и все силы свои мы должны выложить на главные вопросы. Кто убил Сизова? И по какой причине? Нужно проанализировать все причины, вплоть до ревности. В этом свете особо интересен Роксан. — Значит, версию с Дешиным... — Версию с шофером Дешиным нужно отставить, и, чем скорее, тем лучше. Дешина следует судить по другим статьям. К убийству он никакого отношения не имеет, Если фляжка Сизова оказалась на квартире у Дорофеевой, тогда из чьей же фляжки он угощал шофера? Выясните у хозяйственников, не получал ли Сизов второй фляжки. Опросите его сослуживцев, не брал ли он фляжку у кого взаймы. Подготовьте мне фотографии офицеров, с которыми Сизов был знаком или мог быть знаком. Мы отправим их в Поти. Возможно, Примаков опознает кого-нибудь на фотографии. Все это нужно мне завтра к часу дня... Сегодня же к десяти вечера обеспечьте грузовую машину, лопаты и четырех солдат; Вот так, Егор Матвеевич... Аленка была рада вашему приезду? — Хорошая девчонка. — Чирков, совсем как школьник, шмыгнул носом и уткнулся в пол взглядом, доски считать начал. — Хороших девчонок много, — сказал Каиров и с грустью добавил: — Этим прекрасна жизнь, этим и печальна... Ну что ж, теперь можно и в столовую. Уйти не удалось. Помешал телефон. — Золотухин? — переспросил Каиров. — Привет, Дмитрий. Ко мне? Через пять минут? Давай, жду. Каиров словно не хотел расставаться с телефоном, даже положив трубку на рычаги аппарата, он продолжал поглаживать ее пальцами. — Обед передвигается на полчаса, — сказал он Чиркову. — А пока в ожидании Золотухина я расскажу, как влюбился первый раз. Не против? Конечно нет! Чиркову приятно, что большой начальник, заслуженный человек удостаивает его, капитана, своим доверием. Чирков с удовольствием садится в кресло. Весь внимание. Как утверждают злые языки, Каирова хлебом не корми, вином не пои, только дай поговорить. — Сорок четыре года назад, а точнее, в одна тысяча девятисотом году мне исполнилось шестнадцать. А ей было... Ей четырнадцать. Но у нас в Азербайджане девушки в таком возрасте выглядят как в России семнадцатилетние. — Солнце... — Скорее, воздух, растительность. Щедрости много. Вот организм, он как бутон... Расцветает. Звали ее Ануш. Глазами и лицом она была такая нежная и ласковая, как Аленка. Только волосы у нее были не светленькие, а черные и блестящие... что твой сапог. Я работал в сапожной мастерской подмастерьем. А отец Ануш был хозяином этой мастерской. Сухой, прямой, точно метр. Помню, сидит в тени под акацией, четки перебирает. Ануш в мастерскую заглядывала редко — дурной тон по тем временам. Но во дворе появлялась, с подругами играла. И приметила меня, а я ее. Стали мы переглядываться. Она иногда посмотрит и зардеется, словно роза. Сапожники мне: «Давай-давай, не теряйся! Дураком не будь!» А разговоров я там о женщинах наслушался! О! — Каиров махнул рукой. — Ну и однажды — хозяин с мастерами на рынок за кожами уехали — я смело подошел к Ануш. Не помню даже, что сказал. А она быстро, точно это было уже давно заучено, говорит: «Приходи сегодня вечером в сад и спрячься за кустами сирени». Что скрывать, от радости я пьянел. Не мог вечера дождаться. Время тянулось, словно клей. Наконец подошли гранатовые сумерки. Я — в сад. Сижу, как барс, между кустами сирени. Слышу, Ануш песенку поет. Веселую, детскую. Чтобы мама с папой слышали. Я — к ней. Она испуганно: «Это ты?» И остановилась совсем близко. Ближе, чем этот стул. — Каиров указал на стул, где висел его китель. — А у меня еще никогда девчонок не было. Не встречался я с ними. Не целовался. Стою, не могу языком шевельнуть. Руки свинцовыми стали. А она быстро шепчет: «Обними меня». И опять песенку поет. Весело, шаловливо. Совсем я растерялся. Это мне позже в голову пришло, что она пением родителей отвлекала. А тогда подумал: издевается надо мной, смеется. Слова из себя выдавить не могу. Где там обниматься! Постояли мы так минуты две. Она спрашивает: «Зачем пришел, чурбан?» Тут я уж... Меня зло взяло. Вспылил я. Схватил ее за косы. А она перепугалась. Завопила: «Вай, вай, мамочка!» В доме шум, крик. Родственники с ружьями. Я бежать. Бежать из города. И завела меня судьба далеко. В Санкт-Петербург. На знаменитый Путиловский завод... Потом революция... И вот, капитан, прошло двадцать пять лет. Четверть века. Много. И я снова попал в Баку. И конечно же, пошел на ту улочку, где была сапожная мастерская. Случилось ,так, что я увидел Ануш. Она жила в том же доме, с мужем и многочисленными детьми. Это была полная, низкого роста, немолодая женщина. Известно, женщины Востока стареют рано. Мне было сорок один год. Стройный, красивый, в форме. И она узнала меня, сказала: «Мирзо, зачем ты тогда убежал? Я сказала родителям, что на меня напали бандиты. Я искала тебя на другой день, ждала». «Ануш, милая! — ответил я. — Мальчишек шестнадцати лет нельзя любить, только в двадцать шесть лет они достойны женщины». «А я любила тебя», — сказала она. «Мы все равно не смогли бы остаться вместе. Отец никогда не отдал бы тебя за бедняка». Она спросила: «Где ты был, Мирзо?» Я ответил: «Далеко, Ануш. Я повидал много разных краев. Узнал многих людей. Теперь я строитель. Строю новую жизнь, при которой не будет бедных и богатых, а будут просто равные граждане». «Да благословит тебя аллах!» — сказала Ануш, и на глазах ее заблестели слезы... После, капитан, у меня было много увлечений. Но эта первая любовь — это как первый цветок персика, как рассвет, как утренняя роса. Чирков с изумлением глядел на седого полковника. Морщинам было тесно на его лице, но глаза у Каирова были очень молодые и душа, кажется, тоже. Вскоре пришел Золотухин. Поздоровавшись, он вопросительно посмотрел на Чиркова. Каиров подметил взгляд, сказал: — Это мой помощник. Говори при нем откровенно. — Дело пустяковое, — вдруг застеснялся Золотухин. — Но я подумал, что знать вам об этом следует. Мирзо Иванович, помните, вы интересовались Дорофеевой? — Да, да. И сейчас интересуюсь. — А еще помните случай со свиной тушенкой? Когда старшина Туманов упустил человека близ тайника! Так вот, сегодня утром Нелли с моим младшим сыном Алешкой пошла к портнихе. Это мать барабанщика Жана — известная мастерица Марфа Ильинична Щапаева. Вдруг видят они впереди пару. Офицер и Дорофеева. Офицер несет сумочку. Возле дома Щапаевой они останавливаются. Офицер передает сумочку Дорофеевой. Ну а здесь Алешка — мой младший, значит, — побежал на пустырь. Нелли погналась за ним. Потом смотрит, офицер один стоит. Видимо, Дорофееву поджидает. А когда пришла Нелли к портнихе, увидела там Дорофееву. Марфа Ильинична поначалу смутилась. Но однако, радостно воскликнула: «Здравствуйте, дорогая, заходите». Словом, обычная женская трескотня. Нелли принесла отрез на платье. Стали разговаривать, туда-сюда... Алешка же очень балованный парень. Вместо того чтобы тихо сидеть и ждать, пока освободится мать, он стал лазить по комнатам. И вдруг появляется с банкой тушенки в руках. Щапаева, понимаете, сразу изменилась в лице. Дорофеева тоже. Нелли — Алешку ругать. Выяснилось, что банку он достал из той сумки, которую принесла Дорофеева. — Что ты предпринял? — спросил Каиров. — Еще ничего. Вот приехал сюда. Ясно, свиной тушенки там уже нет. Ее перепрятали. Но факт остается фактом, что поступает она через ваши каналы. Скорее всего, из военфлотторга. Нелли запомнила в лица того офицера. В случае чего она может опознать. Чирков спросил: — С Дорофеевой был морской офицер? — Морской. — Вполне возможно, что это был Роксан. Интендант. Каиров согласился с мнением Чиркова: — Нужно будет проверить эту версию. Она наиболее вероятна.Старшина Туманов проявляет инициативу
Взгляд квартирантки цепко, точно прожектор, ощупывает сантиметр за сантиметром, но сена на чердаке много, балок и перекладин тоже. А Ваня Манько — совсем еще маленький мальчик. Окаменел он с перепугу. Стоит, не шевелится. Полумрак заслоняет его. Полумрак — он добрый! «Крыс на чердаке до чертовой матери!» — может, решает квартирантка. А может, вспоминает пословицу: «У страха глаза велики». И думает, что подозрительный шум ей померещился. Она закрывает за собой люк. И по лестнице спускается в сени. А Иван еще долго остается неподвижным. И мысли у него в голове что ни есть самые тревожные. Кто эта женщина? В поселке ее никто не знает. Чужая она для рыбаков. Почему на чердак поднималась, в бинокль на батарею смотрела? Проходит час, второй... Мальчишка понимает, что квартирантка — Ефросинья Петровна — уже давно ушла в школу. И старшеклассники сейчас под ее пристальным взглядом решают примеры по алгебре. Но боязно расставаться с чердаком Ивану. Куда пойти? Кому рассказать о своих догадках? Директору школы? А вдруг он в ответ: «Ты мне, Манько, зубы не заговаривай. Отвечай, почему убежал с уроков?» Директор строгий. А голос у него скрипучий, словно рассохшийся пол. Нет, к директору Иван не пойдет. К директору пусть девчонки обращаются. Так и не приняв решения, с кем поделиться тайной, Иван распрощался с чердаком и вышел на улицу. Солнце уж давно миновало зенит и теперь нацеливалось на угол, где скала, темная — при таком освещении словно вырубленная из угля, — соприкасалась с линией горизонта. Было около трех часов дня. Скоро с моря придут шаланды. Тогда можно будет обо всем рассказать матери. А мать Ивана, которую в поселке все запросто зовут Марусей, женщина рослая, на руку тяжелая. Она (если что!) эту разнесчастную квартирантку в бараний рог скрутит. И вдруг Иван слышит — рядом на улице стучит мотоцикл. Мотоциклисты — редкость в поселке. Можно ли упустить такой случай? Через секунду Иван оказывается за калиткой. Он видит мотоцикл, на нем милиционера. Мотоцикл разворачивается возле магазина и замирает. Старшина Туманов слез с мотоцикла. Несколько раз присел, чтобы размять затекшие ноги. Мальчишка лет одиннадцати, стриженный наголо, в стареньком пиджачке, из-под которого гордо маячит матросская тельняшка, приблизился к Туманову и вежливо сказал: — Здравствуйте, дяденька милиционер. Меня зовут Иван. Фамилия моя — Манько. Учусь в четвертом классе. А живу вон в том облинялом доме. Папка на фронте воюет, а мать рыбачит. — Молодец, — сказал старшина Туманов, не понимая, для чего все-таки столь длинное вступление. И хотел было добавить: «Славный мальчик». Но Иван перебил его: — Дяденька милиционер, я вам должен заявление сделать. От слова «заявление» повеяло чем-то родным и понятным. И старшина Туманов ласково кивнул Ивану: дескать, давай! Иван рассказал, как убежал с уроков, забрался на чердак, увидел квартирантку, которая рассматривала в бинокль батарею на скале. — А бинокль большой был? — с сомнением спросил старшина Туманов. — Не-е... Маленький. — Театральный. — Маленький... Арестовать ее надо, дяденька милиционер. Старшина Туманов колебался: — Арестовать... Говоришь, в бинокль на скалу смотрела. Подозрительно, с одной стороны. А с другой... Ответь мне, батарейцы к вам в поселок ходят? — Обязательно. — Вот... Вдруг учительница ваша с кем-нибудь из артиллеристов познакомилась. Полюбила. В бинокль на него посматривает. Для вдохновения, значит. Улавливаешь? — Нет, — честно признался Иван. — По малости возраста не понимаешь. Ну, допустим, если бы радиостанцию у нее увидел или динамит — это улики. А бинокль — факт сам по себе не убедительный. Ты никому еще не говорил? — Никому. — И помалкивай. Для порядка мы документы у нее проверим, прописочку. Если нарушения будут, задержим, если в полном порядке, отпустим. Понял, милый? — Понял, товарищ милиционер. — А теперь хочешь, я тебя на мотоцикле до школы прокачу? — Очень хочу. Только прокатите меня в другое место. — Шутник! Учительница же в школе. — Вы прямо там документы проверять станете? — удивился Иван. — Ну и что? Проверка документов в настоящее время — дело обыкновенное...На кладбище
Дождь обрушился, когда зашло солнце и тяжелые тучи загнездились над морем, окутав город слепым и гнетущим мраком. Ветер на время стих. И вновь пробудился лишь с первым громом. Молния легла на мокрые тротуары, на развалины и крыши. И город заблестел. И ветки захлестали одна другую, не жалея, словно боксеры на ринге. Фары выхватывали из темноты косую сетку дождя. И «дворники» на ветровом стекле, ползая вверх-вниз, не успевали стирать воду. Видимость была отвратительной. Грузовая машина двигалась позади «виллиса». Каиров, разумеется, не видел очертания ее кабины или кузова. Различал только узкие щели фар да бледно-желтое пятно света, которое, покачиваясь точно тень, не отставало от передней машины. В грузовике, крытом брезентом, ехали четверо красноармейцев. В «виллисе» кроме Чиркова и Каирова находились еще Золотухин и приглашенный им врач-эксперт. Машина с солдатами почему-то задержалась в гараже. Подъехала к Дому офицеров не в десять вечера, как распорядился Каиров, а без четверти одиннадцать. В этот час улицы города были пустынны. А вспышки молнии и гром напоминали артиллерийскую канонаду. Выбравшись на шоссе, машины прибавили скорость. Море здесь было совсем рядом. Ревело оно страшно. И разговаривать в машине было трудно. Капитан Чирков, казалось, слился с рулем. — Скоро поворот! — наклонившись к капитану, прокричал Золотухин. — Вижу! Сбавив скорость, Чирков повернул машину влево. Она очутилась в узком, зажатом двумя горами ручье, под которым скрывалась, вся в колдобинах, дорога. — Застрянем, черт! — не стерпел Каиров. — Ничего, ничего! — успокоил Чирков: — Под водой камень. Вы лучше держитесь крепче, иначе без шишек не обойтись! Каиров обернулся. Между головами Золотухина и врача-эксперта вырисовывался прямоугольник окошка. Желтое пятно по-прежнему маячило за машиной. Значит, грузовик тоже свернул с шоссе. Не проскочил. Потом машины взяли влево и поползли в гору. Дорога-ручей осталась позади. В этот момент опять сверкнула молния. И все увидели кладбищенскую ограду и хилую часовню между двумя высокими акациями. — Не хотел бы я здесь умереть, — сказал Каиров. Остальные промолчали. Кладбищенский сторож уже спал. Золотухин долго и настойчиво стучал кулаком в дверь сторожки. Наконец занавеска на покосившемся окне, заколоченном на две трети фанерой, поползла в сторону. И старческий голос простуженно спросил: — Хто там? — Милиция! Сторож засуетился. Зажег лампу. Распахнул дверь. Это был древний старик с тщательно расчесанной бородой. Он не в силах был скрыть смущение — все же спал на работе. И без всякой надобности торопливо повторял: — Храждане начальники... Храждане начальники... — Открывай ворота, — сказал Золотухин. Сторож натянул фуфайку. Гремя ключами, скрылся в темноте. Но и сквозь шум дождя было слышно его: — Сей секунд, храждане начальники. — Помогите! — распорядился Каиров. Солдаты поспешили к воротам. Потянули их в разные стороны. Машины въехали на территорию кладбища. Развернулись возле часовни. Дальше проезда не было. — Берите лопаты, — сказал капитан Чирков солдатам. Один солдат вскочил в кузов. И оттуда подал лопаты своим товарищам. Было очень темно. Белые деревянные ручки лопат различались еле-еле... — Далеко? — спросил Каиров. — Да, — ответил Чирков. — Я пойду впереди. С прежней силой лил дождь. И тропок никаких не было. А была вода. И, словно острова, могильные холмики с крестами. Чирков светил себе под ноги фонариком. И Каиров, и Золотухин, и врач-эксперт светили. Только солдаты не имели фонариков. Хлюпали кирзовыми сапогами. Не переговаривались. Иногда свет фонарика падал на старый, словно заплаканный, крест, на поржавевшую металлическую ограду. Попалась под ноги сломанная скамейка. Чирков поднял ее и забросил куда-то в темноту. Шли минут десять... Наконец остановились. Лучи скрестились на фанерной пирамидке, увенчанной красной звездочкой.М а й о р
В. И. С И З О В
1905—1944 гг.
Земляной холм еще не осел. И могила выглядела необычайно крупной. Каиров обошел ее. Световой круг юлил перед ним, как собачонка. — Здесь никто не побывал раньше нас? — спросил Каиров. — Не похоже, — ответил Чирков. Ветер с завыванием бросил ему в лицо горсть воды. — Проклятая погода, — сказал Золотухин, — и не закуришь. Солдаты молчали. Они стояли прижавшись один к другому. Молодые. Может, им было не по себе. — Копайте! — приказал Каиров. Чирков снял пирамидку со звездой. Лопаты вонзились в грунт. — Не разбрасывайте землю, — предупредил Золотухин, — Зарывать придется.Упущенная возможность
В тот же вечер, вернувшись с дежурства, старшина Туманов не смог дождаться начальника милиции. Однако о встрече с мальчишкой в рыбоколхозе «Черноморский» он доложил дежурному. — Мальчишка, значит, бдительный, — говорил старшина. — Это ему плюс будет. Ну документы я для порядка у гражданочки проверил. Прописка у нее городская, по улице Вокзальной. При штампе — личная подпись товарища Золотухина имеется. Для порядка, значит, выписал адрес, И фамилию. Деветьярова Ефросинья Петровна. — Ладно, товарищ старшина, — сказал дежурный, — ступайте домой и отдыхайте. Вам завтра с утра. Старшина Туманов ушел домой. А Золотухин появился в милиции лишь около двух часов ночи. Усталый, мокрый, грязный. Спросил: — Что нового? — Ничего существенного, товарищ майор. Ваша жена звонила. Беспокоилась. — Хорошо. Тогда я не буду подниматься к себе в кабинет. Поеду домой. Если что, звони. — Ясное дело, товарищ майор. Нельзя было винить дежурного, что он не доложил начальнику милиции о донесении старшины Туманова. В прифронтовом городе проверка документов была самым обычным делом. Граждан, у которых паспорта оказывались не в порядке, задерживали для выяснения. Старшина Туманов нашел, что документ у гражданки в полном порядке. Ну а если она и в бинокль смотрела, то не обязательно на батарею. Мальчишке могло показаться. К тому же бинокль не приемник и не передатчик. Запрета на бинокли нет. Промашка старшины Туманова стала ясна лишь утром, когда Чирков по распоряжению Каирова передал Золотухину пятнадцать увеличенных фотографий бывшей сестры-хозяйки госпиталя в Перевальном Погожевой Серафимы Андреевны. Старшина Туманов глядел на фотографию как пришибленный. Лицо,его вначале сделалось бледным, словно он почувствовал себя плохо, потом щеки и уйти густо закраснели, точно подкрашенные гримом. Суетливо и сбивчиво он докладывал Золотухину: — Вчера проверял, значит... В бинокль она. Мальчишка подметил. Ну я, грешным делом, значит... — Товарищ старшина, спокойнее, — с досадой говорил Золотухин. — Вы видели эту женщину? — Верно, товарищ майор. — Когда? — Вчера. — Где? — В рыбоколхозе «Черноморский». — Рассказывайте по порядку. И старшина Туманов подробно рассказал о вчерашнем происшествии. — Документы проверил, товарищ майор. Все в лучшем виде. А на паспорте — ваша подпись. — Может, ты обознался? — спросил Золотухин. — Может, там совсем другая женщина? Фотография нечеткая. — Похожа очень, товарищ майор. Капитан Чирков, который еще находился в кабинете Золотухина, немедленно позвонил Каирову. Выслушав капитана, Каиров сказал: — Егор Матвеевич, бери этого старшину. И поезжайте в рыбоколхоз. Привези дамочку ко мне. Нужно ее проверить.Ветер врывался в машину. И тучи скользили по мокрому, еще не высохшему асфальту четкие, красивые. Они тянулись над зазеленевшими горами, но не касались их крутолобых вершин. А в море, близ горизонта, уже смотрело другое небо, голубое и доброе, словно улыбка. Шоссе забирало вверх. Город панорамой сползал вниз. Дома прикрывались разными крышами: железными, черепичными, драночными, шиферными. И все это пестрело, словно лоскутное одеяло. Старшине Туманову казалось, что машина идет слишком медленно. Хотя на спидометре стрелка не сползала ниже шестидесяти. Для мокрой горной дороги — предельная скорость. Чирков не первый год водил машину. Он знал: здесь, на Кавказе, малейшая оплошность может стоить жизни. Приходилось быть крайне внимательным. У старшины Туманова, наоборот, была возможность думать О чем угодно и смотреть по сторонам. И он печалился, что последние дни ему упорно не везет. Совсем недавно упустил мальчишку у тайника. А вчера вот учителку. И вдруг... Навстречу им пронесся забрызганный грязью «студебеккер». В кабине рядом с шофером сидела женщина, — Она! Товарищ капитан! — Туманов схватил Чиркова за плечо, тот по инерции крутнул руль, и машина едва не врезалась в гору. — Остановите! Чирков вывернул к обочине. Нажал на тормоз. — В чем дело? Кого увидели? — Учителку, товарищ капитан. Нужно быстрее разворачиваться. Иначе убегет. — Разве так можно... А если у вас галлюцинации, старшина? — Ежегодно медицинскую комиссию проходим, — обиделся Туманов. — Показаться может и здоровому человеку. — Точно говорю... Нужно догонять. Дорога была узкая. Пока они разворачивались (плюс еще время на разговоры: догонять или нет?), «студебеккер» опередил их примерно километра на два. Стрелка спидометра подскочила к отметке «семьдесят». На поворотах приходилось тормозить. Но машину все равно заносило. И прежде чем впереди замаячил грязный задник «студебеккера», они могли раз пять перевернуться. Встречный транспорт долго не позволял обогнать «студебеккер». Лишь у самой городской черты Чирков обошел преследуемую машину и подал знак остановиться. Трудно представить себе разочарование капитана Чиркова и еще большее разочарование старшины Туманова, когда они увидели, что рядом с шофером в кабине никого не было. — С вами ехала женщина, — сказал Чирков. — Где она? — Попросила высадить, не доезжая до города, у трансформаторной будки, — ответил шофер, мордатый, угрюмый парень. — Документы! — потребовал Чирков. — А вы кто? Я вас не знаю, — лениво возразил шофер. — Я военный следователь. — Чирков показал удостоверение. Поведение шофера сразу изменилось. Он суетливо достал служебную книжку, водительские права. — Где к вам села пассажирка? — В рыбоколхозе, товарищ капитан, — на этот раз четко ответил водитель.
Допрос Роксана
Роксан подвижен. Активно жестикулирует. Ведет себя так, словно заранее благодарен Каирову за приятную беседу. — Михаил Георгиевич, — Каиров сама любезность, — у вас красивая, редкая фамилия. Мне никогда раньше не приходилось встречать такую. Словоохотлив Роксан: — Фамилия моего деда была Поляков. Он поднимал в цирке гири. И держал на груди рояль с акробатками. Одна из них позднее стала его женой. Ее звали Роксана... Фамилия Полякова не звучала на цирковых афишах. Вдохновленный именем любимой женщины, дед стал Мишелем Роксаном. Силачом из Марселя. — Вы не пошли по цирковой линии? — Я не сторонник родовых династий. Династия скрипачей, династия циркачей... По-моему, это признак вырождения. — Позвольте не разделить вашу точку зрения. Наследование от поколения к поколению какой-то одной профессии может явиться выражением врожденных способностей... Роксан прервал Каирова, махнув руками и скорчив гримасу — от нее лицо заморщинилось кругами, словно вода, в которую бросили камень. — Дети Пушкина не стали поэтами. А Льва Толстого — писателями. Я не знаю, может, в каких-то сферах... Скажем, потомственный рыбак, потомственный моряк, потомственный хлебороб... Возможно, здесь, где какие-то чисто механические, практические навыки имеют превалирующее значение... Возможно, здесь наследование профессии имеет положительную роль. Но в искусстве это приводит к рождению бездарности. — Вашим суждениям не хватает последовательности и справедливости. — Вы знаете, что Монтескье говорил о справедливости?.. Справедливость — это соотношение между вещами: оно всегда одно и то же, какое бы существо его ни рассматривало... Правда, люди не всегда улавливают его, больше того: нередко они, видя это соотношение, уклоняются от него. Лучше всего они видят собственную выгоду. Справедливость возвышает свой голос, но он заглушается шумом страстей. Люди могут совершать несправедливости, потому что они извлекают из этого выгоду и потому что свое собственное благополучие предпочитают благополучию других... Понапрасну никто не делает зла... — Я понял. Опираясь на учение Монтескье, а конкретно, на понятие о несправедливости, вы предпочитаете собственное благополучие благополучию других. — Не понимаю ваших шуток, товарищ полковник! — Роксан вскочил со стула, на лице возмущение. — Садитесь, Михаил Георгиевич. Не волнуйтесь. Это особый разговор, и я приехал из Поти не для того, чтобы вести его с вами. Сегодня меня интересует только Сизов. Расскажите все, что вы о нем знаете. Садитесь, садитесь! Не улыбался теперь Роксан. Сидел сосредоточенный. Умно смотрел на Каирова. Лишь иногда морщил лоб, точно что-то вспоминал. — Сизов... — Роксан прокашлялся, — Это был сложный человек. Противоречивый. И скрытный. Последствия контузии, видимо, — его тряхнуло под Ростовом — сказывались самым странным образом. Он иногда проявлял потрясающую наивность и даже чудовищную неосведомленность, скажем, о предвоенной жизни в стране. — Какая ваша официальная должность? — Заместитель начальника гарнизонного военфлотторга. — Сизов был пехотный офицер. При каких обстоятельствах вы познакомились и сблизились? — Все просто... Мы мужчины. Я буду откровенен. Мне уже тогда нравилась Татьяна Дорофеева. В свободные минуты — а у нас, снабженцев, они случаются, к сожалению, редко — я забегал к ней в библиотеку. Между нами существовали самые дружеские отношения. Словом, это был типичный пример безответной любви. Татьяна — человек ограниченный, но по-женски хитрый. Она не отталкивала меня. И, принимая подарки, давала лишь туманные обещания. Сизов тоже стал приходить в библиотеку. Когда она сдала комнату, я понял, что у меня есть удачливый соперник. Роксан достал из кармана мятую пачку «Беломора»: — Разрешите закурить? — Конечно. — А вы? Курите, — предложил Роксан. — Бросил. Второй день не курю... — Желаю удачи... — Роксан чиркнул зажигалкой. — Получился пресловутый «любовный треугольник». С той лишь разницей, что соперники оказались друзьями. Сизов так смог все повернуть!.. И я почувствовал себя необходимым для этой приятной, как мне казалось, счастливой пары. Услуги, которые я им оказывал, вызывали у них чувство благодарности... — Сизов знал, что вы через посредство Дорофеевой торгуете продуктами? Прямо-таки взвился Роксан: — Этого не было, товарищ полковник! Такова уж несчастная доля снабженцев! На нас всех собак вешают!.. — Михаил Георгиевич!.. Это по-детски. Вопрос серьезный. Я сформулирую его так. Не пытался ли Сизов шантажировать вас? — Зачем? — удивился Роксан. — Значит, нет... — Каиров уклонился от разъяснений. Сказал: — Как я полагаю, занимая такую должность, вы должны иметь в своем подчинении транспортные средства. — У меня персональная эмка. И четырнадцать грузовых машин. — Богато живете. — Нет, товарищ полковник. Грузовиков мало. Всегда в разъездах. Дым от папиросы плыл по комнате. Каиров встал и открыл форточку. Он не вернулся к столу, а остался стоять у стены, чуть опершись о выкрашенную в салатовый цвет панель. — Вспомните, Михаил Георгиевич, вы не ездили с Сизовым в Перевальный? Нет, Роксан не изменился в лице, не покраснел, не побледнел. Спокойно, даже несколько равнодушно ответил: — Ездили. — Часто? — Один раз. Сизов попросил подвезти его. Мы воспользовались моей эмкой. — Что ему нужно было в Перевальном? — Госпиталь. Какие-то служебные дела. — А точнее? — Не интересовался. Я обождал его в машине. Все заняло не более десяти минут. — Спасибо. И еще один вопрос. Когда и где вы видели Сизова в последний раз? — Днем четырнадцатого марта. Он позвонил мне и попросил достать бутылку водки. Мы встретились в городе, возле крытого рынка. Прошли на склад. Кладовщик дал ему бутылку. И Сизов ушел. А я остался с кладовщиком. Нужно было уточнить накладные. — Он не говорил, для чего водка? Куда он собирается? — Нет. — А что вы делали вечером четырнадцатого? — В восемь часов я на машине приехал к дому. Отпустил шофера. Хозяйка покормила меня. И я лег спать. — Надеюсь, ваша хозяйка столь же молода и прекрасна... — Нет-нет... Старушка. За шестьдесят лет. Отлично готовит. Я приношу продукты. И питаюсь дома. У меня застарелая язва. — Я обещал задать вам только один вопрос. Но все равно уже не сдержал слова. Вы немного говорили о Татьяне Дорофеевой. Дайте ей характеристику. — Мне это трудно сделать. Разве что в двух словах... Красива, без предрассудков. Не очень умна. — Интересы, запросы, кругозор? — На все это можно уже ответить одним словом — мизерные. — Теперь такой абстрактный вопрос. Совершенно условный. Допустим, если бы вы — повторяю: допустим! — оказались немецким разведчиком, смогли бы вы ее завербовать? — Я не смог сделать из нее любовницу. — Это другая сфера. — Понимаю... Опытный, ловкий разведчик нашел бы у нее много слабостей. Мне кажется, их больше чем достаточно, чтобы превратить ее в сообщницу. — Все! На сегодня достаточно. Надеюсь, в скором времени мы вновь сможем поговорить друг с другом. Вы военный человек. И вас не нужно предупреждать, что сегодняшний разговор должен остаться между нами. — Понимаю, товарищ полковник. Всегда рад побеседовать с умным человеком. Они пожали друг другу руки. Каиров проводил Роксана уже почти до самых дверей, но внезапно остановился, придержал его за локоть. Сказал: — Одну минуточку. Шустро, словно подросток, Каиров вернулся к столу, выдвинул ящик. — Вы узнаете эту фляжку? — Он держал фляжку за цепочку. Мелкую, соединяющую крышку с корпусом. — Да, — сказал Роксан. — Это фляжка Сизова. — Вы уверены? — Мне часто приходилось наполнять ее. — Это моя фляжка, — возразил Каиров. — Фляжка Сизова на экспертизе. Дорофеева рассказала о разговоре со мной? — Рассказала, — смущенно ответил Роксан. — Не следуйте ее примеру!Тайна трансформаторной будки
Чирков развернул машину. И дорога опять побежала под колеса. И море заголубело с левой стороны. — Ну а вдруг вы обознались, старшина? — холодно сказал Чирков. — Тогда мы ведем себя как мальчишки. — Все сходится, товарищ капитан. И внешностью... И попросилась к шоферу, значит, в рыбоколхозе «Черноморский». Поворот. По правой стороне дороги забелела полуразрушенная трансформаторная будка. Чирков затормозил. Они вышли из машины. Прямо за будкой был съезд, кончавшийся тупиком. Дальше начиналась гора. На ней густо зеленел кустарник. Деревьев было мало. Они росли у подножия и на самой вершине. От обочины, противоположной горе, начинался спуск к морю. Несколько тропок выходили на нижнюю дорогу, вокруг которой ютился пригород, именуемый Рыбачьим поселком. Название это, наверное, сохранилось с очень давних времен, когда здесь действительно жили рыбаки. Однако город разрастался, корабли распугивали рыбу, рыбаки переселялись подальше от города (пример — рыбоколхоз «Черноморский»), а название так и осталось. Чирков заглянул в будку. Обвалившаяся штукатурка, обломки кирпичей и аппаратуры... — Скорее всего, она скрылась в Рыбачьем поселке, — предположил капитан. Туманов ничего не ответил. Он пристально рассматривал мягкую, влажную землю, на которой отпечатались следы женских туфель маленького размера. Туфли были на толстом каблуке. И метки от него остались ясные и сочные. — Смотрите, — сказал старшина. Следы вели за трансформаторную будку, к воронке. Бомба здесь разорвалась мощная. Не меньше, чем в полтонны. Яма получилась глубокая. На дне ее мутнело совсем немного воды. — Дождь лил всю ночь, — сказал Чирков, — а воды в воронке кот наплакал. Странно. Следы не кончались у края воронки. Наоборот, цепочкой они тянулись к дну ямы и обрывались лишь у большого искореженного листа жести, вероятно сорванного с крыши трансформаторной будки. Чирков спустился в воронку. Откинул жесть. И, словно подозрительно косясь, черное отверстие, ведущее в глубь земли, предстало перед ним. — Здесь подземный ход! — крикнул Чирков старшине Туманову. Старшина поспешно спустился в воронку. Посветили фонариком. — Каменоломни, — сказал старшина Туманов. — Лет сто назад здесь добывали белый камень. Нас как-то в управлении информировали. И даже показывали несколько входов в районе Нахаловки. Но все они, значит, заканчивались обвалами. — Надо спуститься, — сказал капитан Чирков и вынул пистолет. Туманов расстегнул кобуру: — Разрешите с вами, товарищ капитан? — Да, нырнем вместе. При свете фонарика они определили, что глубина не более двух метров. Когда спрыгнули, то оказались в штольне из белого камня. Лишь в месте, где бомба пробила дыру, порода обрушилась и хлюпала под ногами жидкой грязью. Они сразу решили, что идти по штольне в сторону моря не имеет смысла. Резкий спуск за дорогой неизбежно должен был вызвать обвал. Но обвала не случилось, потому что в пяти метрах от воронки штольня заканчивалась тупиком. Они шли в полный рост. Рядом. Ширина штольни позволяла идти свободно. Она достигала четырех-пяти метров. Пользовались одним фонариком. Чиркова. Фонарик старшины берегли. Вначале силились разобрать следы. Но убедились, что занятие это бесполезное. Ракушечник на дне штольни был сухой и твердый. — Вот, значит, бомбоубежище. Можно сказать, природное... Докладную записку товарищу Золотухину составлю непременно, — сказал старшина Туманов. — Неужели не сохранился план этих заброшенных штолен? — спросил Чирков. — Точно, не сохранился. Уж нам бы показали. Метров через пятнадцать штольня стала сужаться. Забирать вверх. Но вскоре опять выровнялась, и они оказались в зале, достаточно широком и высоком, чтобы в нем могли поместиться три железнодорожных вагона. Нужно было ускорить осмотр зала. Решили пользоваться и вторым фонариком. Несмотря на то что стены выглядели сухими и чистыми, воздух в зале отдавал сыростью, затхлостью. Никаких следов пребывания человека обнаружить не удалось. Дальше из зала выходили шесть узких и низких туннелей. Чирков сказал: — Шесть туннелей — это много. Нужно возвратиться. Прислать сюда взвод солдат. Прочесать этот лабиринт тщательно и старательно. Они повернули назад к штольне, которая привела их сюда. Но в это время в зале послышался подозрительный шум и кто-то громко чихнул...Эксперт подтверждает убийство
В штаб гарнизона пришел милиционер. Часовой остановил его. Сапоги милиционера были в желтой глине, потому что утро было мокрое. И ветер гнал тучи, и солнце появлялось на какие-то минуты, робкое, далекое. — Куда? — спросил часовой. Спросил недружелюбно, свысока. — В особый отдел. — К кому? — К полковнику Каирову. — Обожди. Вызову дежурного. Часовой нажал кнопку. Она была вделана в стену, только гораздо ниже, чем кнопка дверного звонка. Появился подполковник с красной повязкой на рукаве... — У меня пакет в особый отдел к полковнику Каирову, — сказал милиционер. — Пройдемте, — предложил дежурный. Коридор был плохо освещен и выглядел мрачным. Двери из кабинетов — справа и слева. Лишь далеко впереди, самом конце, узкое окно, заклеенное крест-накрест бумагой. Возле одной из дверей дежурный останавливается. Стучит. За дверью — глухо: — Да-да... Войдите. — Товарищ полковник, — докладывает дежурный, — к вам из милиции. Кабинет совсем маленький. Но окно большое. Поэтому света здесь с избытком. И кажется, с секунды на секунду он начнет вытекать, как вода из переполненной бочки. — Спасибо, что проводили, — говорит Каиров. — Разрешите идти? — спрашивает дежурный. — Да, пожалуйста. — Товарищ полковник, вам пакет от майора Золотухина. — Милиционер кладет на стол конверт, большой, но тощий. Достает из сумки потертую общую тетрадь. Говорит: — Здесь нужно расписаться. Каиров расписывается. — Я пойду, товарищ полковник. — Да. Спасибо вам. Милиционер уходит. Каиров вскрывает конверт. Вынимает из него сложенный пополам листок бумаги.Каиров спрятал листок в конверт. Последняя строчка огорчала: «Наличие снотворных, а также отравляющих веществ в организме не обнаружено». Ему все-таки представлялось, что Сизов хлебнул из той фляжки, которую предложил шоферу Дешину. Если же верить Дешину, если верить, что он, приложившись к фляжке, уснул или вообще потерял сознание, то... А вдруг Дешин врет? Каиров позвонил по телефону начальнику гауптвахты: — Здравствуйте! Каиров беспокоит. Доставьте в особый отдел арестованного Дешина.«Медицинское заключение о смерти майора Сизова В. И.
Вскрытие трупа, проведенное 19 апреля 1944 года, дает основание предполагать, что смерть наступила мгновенно в результате сильного удара в область затылка большим, тяжелым предметом с мягкой поверхностью (возможно, гаечным ключом, камнем, завернутым в тряпку). Последовавшая затем травма грудной клетки и нарушение функции важнейших органов: сердца, легких — могли тоже привести к смерти в том маловероятном случае, если удар в затылок вызвал лишь потерю сознания. Установить более точную картину смерти почти месяц спустя не представляется возможным. Наличие снотворных, а также отравляющих веществ в организме не обнаружено.Эксперт И. П а в л о в с к и й».
С психикой у Дешина, видно, не все в порядке. Он не узнает в полковнике того сантехника, который приходил к нему в камеру чинить батарею. Едва ли он прикидывается, играет. Не до игры человеку, приговоренному к смертной казни. Дешин весь в себе. И взгляд у него без смысла. Страх в глазах есть, а смысла нет. — Почему вы скрыли, что отправились в рейс четырнадцатого марта в нетрезвом виде? — спросил Каиров. — Я не скрывал, — вяло ответил Дешин. — Меня никто про это не спрашивал. Сначала в столовой. Потом уже в гараже... — Сколько? — Что? — Сколько выпили в столовой? — Известное дело... Пол-литра. — А в гараже? — Стакан. — Разве вы не понимали, что совершаете преступление? — Никак нет, гражданин следователь. Я в десять часов утра вернулся из рейса. Ночь не спал. Мне положен был отдых. А командир автороты отдых отменил, уже когда я выпил бутылку. — Он не заметил, что вы пьяны? — С бутылки я не пьянею, — обиженно ответил Дешин. — Что было дальше? — Я разозлился, но виду не показал. А решил отдохнуть. И пошел к поварихе, к женщине... Она не то чтобы мне обещала, но намеки делала. Я к ней пришел, а она меня приняла неласково, потому что к ней из села тетка приехала. И стесняла нас... Я поругался... — Как фамилия этой женщины? — Не спрашивал. Клавой зовут. Поварихой она в столовой на улице Энергетиков работает. — Хорошо. Рассказывайте дальше. — В расстроенных чувствах пришел я в гараж. И на полбутылки сменял запасной баллон шоферу Витьке Орлову. — Из фляжки, которую вам дал Сизов, много выпили? — Не мерил. Она железная. Разве увидишь?! — Понятно... Ну а когда вы очнулись... обнаружили беду, то решили бежать? — Решил. — И конечно, прихватили фляжку. Ночи холодные, в горах пригодится. — Нет, гражданин начальник, забыл я про фляжку. Если бы вспомнил, то взял бы ее с собой. Но тогда она не попалась мне под руку. — Куда же девалась фляжка? — спросил Каиров. — Вам виднее...
Встреча в штольне
Резко повернувшись, Чирков поднял фонарик и нанизал темноту на луч света. Желтый круг с нечеткими, будто размытыми краями покатился по белой ракушечной стене, скользнул на пол, остановился. — Собака! — засмеялся старшина Туманов. Дворняга светлой масти беззлобно вертела мордой, стараясь уклониться от слепящего луча. Короткая шерсть ее была примочена каплями дождя. И капли блестели обычно, словно на улице. — Где-то близко есть выход наружу, — сказал капитан Чирков. — Возможно, — согласился старшина. — Ну, кабыздох, веди нас, значит, на свежий воздух. Собака завиляла хвостом, шмыгнула носом и вновь чихнула. — Дух здесь тяжелый, — сказал старшина Туманов. — Даже псу не по нутру пришелся. Едва он успел произнести последние слова, как чихнул сам. Чирков тоже почувствовал резкий щекочущий запах, которого еще минуту назад не было ни в штольне, ни в зале. Подняв фонарик, благодаря чему луч удлинился, Чирков осветил дальний край зала, куда выходили шесть туннелей. Белый дым канатом вытягивался из крайнего левого туннеля и расползался по залу, точно туман. — Дымовая шашка, — сказал Чирков. — Без противогаза здесь делать нечего. Уходим. Они проскользнули в горловину штольни и ускорили шаг. Собака опередила мужчин. Повизгивая и чихая, она бежала впереди. Газ расползался медленно и не преследовал их. Без приключений они добрались до отверстия близ трансформаторной будки. Первым выбрался из штольни капитан Чирков, которого подсадил старшина. Потом Чирков вытащил собаку и с помощью ремня — старшину Туманова. Голубые проблески у горизонта затянула дымчатая пелена. Ветер вновь выколачивал из туч колючий и холодный дождь. День был хмурый, унылый. — Старшина, — сказал Чирков, — сейчас мы с тобой разойдемся. Ты на попутной машине в рыбоколхоз «Черноморский». Уточнишь, когда скрылась учительница. И скрылась ли вообще... А я возьму в гарнизоне солдат с противогазами. И мы прочешем каменоломню насквозь. — Ясно, товарищ капитан. Старшина вышел на середину дороги, остановил едущую навстречу машину. В кабине кроме шофера сидели еще двое солдат. Туманов сказал: — Подбросьте до рыбоколхоза. — Можно. Старшина Туманов забрался в кузов. Он стал лицом вперед, положив руки на кабину. Капитан Чирков видел, как дождь стегал старшину, большого и широкого...Испорченное пианино
— Здравствуйте. Вы Татьяна Дорофеева? Татьяна, не скрывая удивления, разглядывала незнакомую женщину, стоящую на пороге квартиры. — Входите, — нерешительно сказала Татьяна. У женщины в руке был потертый спортивный чемоданчик. — Я только на одну минутку, — сказала женщина. — Хотела посмотреть на вас. Сизов рассказывал... Татьяна спросила: — Валерий? Вы знали Валерия Сизова? — Да. Я хорошо его знала. И... должна признаться, именно я явилась невольной причиной вашей ссоры. То письмо, которое нашли вы, было моим. Взгляд у Татьяны похолодел: — Вот как!.. — Да, — сказала женщина и опустила голову. — И вы посмели ко мне прийти?! — Посмела... Потому что хотела сказать: он ни в чем не виноват. — Какое это имеет теперь значение?.. — Вы красивая женщина. Вы не знаете, не можете знать, что такое безответная любовь. А я... Я росла с Валерием в одном городе. Я знала его с детства. И всегда любила его. А он меня нет. У нас сложились хорошие, дружеские отношения. Многие не верят в такие отношения между мужчиной и женщиной. Но они могут быть... Женщина умолкла, словно для того, чтобы вдохнуть воздух. Татьяна сказала: — Все-таки разденьтесь. И пойдемте в комнату. Неудобно разговаривать в прихожей. — Спасибо. Я воспользуюсь вашим гостеприимством. Но ненадолго. Сегодня я уезжаю в Поти. И мне еще нужно позаботиться о билете. — Это непростое дело — достать билет до Поти, — покачала головой Татьяна, удивившись непрактичности женщины. И чувство участия шевельнулось в душе. И она сказала: — У вас промокли ноги. — Я наследила. Извините... Очень сыро. — Здесь всегда сырая весна... Вот мои тапочки. — Татьяна почувствовала себя гостеприимной хозяйкой. Это придало ей бодрости, уверенности. — Спасибо, — покраснела женщина. — Мне, честное слово, неловко. — А чулки можно высушить на чайнике. Я поступаю так. Нагрею чайник. Оберну его полотенцем. А сверху — чулки. Высыхают моментально. Женщина улыбалась, не решаясь двинуться с места: — Я причинила вам столько хлопот! Зашла на минуту. А застряну на час... — Стоит ли об этом задумываться!-Война ведь... — Война... — со вздохом согласилась женщина. Тапочки из мягкой козлиной кожи Татьяна выменяла на рынке у черноглазого пожилого адыгейца за пайку хлеба. Они были легкие и теплые. И женщина, надев их, казалось, непроизвольно воскликнула: — Какая прелесть! В комнате Татьяна сказала: — Мы почти знакомы. А я не знаю, как вас зовут. — Серафима Андреевна Погожева, — ответила женщина. — Вы жили где-то поблизости? — спросила Дорофеева. — В Перевальном. Я работала там в госпитале сестрой-хозяйкой. — Перевальный. До войны это было шикарное местечко. Я ездила туда со своим вторым мужем. Погожева удивилась: — Такая юная! И уже дважды побывали замужем. Татьяна весело ответила: — Было бы желание! — Вам можно позавидовать. — Напрасно. Я, в сущности, несчастный человек. Другие думают обо мне: легкомысленная, падкая на мужчин, корыстная. Я же ни то, ни другое, ни третье. Я только ищу счастья. Мне хочется быть немножко счастливой. Имею я на это право? — Каждый человек задумывается над подобным вопросом. Но мне кажется, если представлять счастье, как нечто материальное, то такого, счастья гораздо меньше, чем людей на земле. Вот люди и отнимают его друг у друга, как футболисты мячик. — По-вашему получается, что и немцы воюют за свое счастье? — В их понимании — да, — спокойно ответила Погожева. — Так можно оправдать все, — не согласилась Татьяна. И неприязнь к женщине вновь коснулась сердца. И подумалось: не следовало ее пускать в дом. Лучше бы сразу: вот бог — вот порог. — Это не открытие. Оправдать действительно можно все, — ответила Погожева, внимательно оглядывая комнату. — Даже убийство? — насторожилась Татьяна. Стояла не двигаясь, согнув руки в локтях, словно готовясь защищаться. — Почитайте Достоевского. — Он скучно пишет, — призналась Татьяна. И расслабилась: опять книги, надоели в библиотеке! — Вчитайтесь. Это только кажется... — Попробую после войны... — ответила Татьяна с небольшой, но все же заметной долей пренебрежения. — А пока снимите чулки, Серафима Андреевна. Я разожгу примус и поставлю чайник. Серафима Андреевна Погожева (она же Ефросинья Петровна Деветьярова, она же — по картотеке абвера — Клара Фест) меньше всего была намерена вступать в пространные разговоры о счастье и смысле жизни. Иначе говоря, попусту терять время. Но случилось так, что в тот момент, когда Погожева стояла возле двери Дорофеевой и нажимала кнопку звонка, из соседней квартиры вышла старушка и сказала: — Татьяны может и не быть дома. Пришлось повернуться к бабушке, с улыбкой ответить: — Мне повезет. — Вы, часом, не электричество проверяете? — полюбопытствовала соседка. — Нет. — Я думала, лампочки смотреть будете. Давно не интересовались. Старушка, конечно, запомнила лицо Погожевой. Разумеется, можно было и бабушку к праотцам отправить. Но подустала за последние дни Погожева. Нервишки натянулись. Пока взвешивала Серафима Андреевна ситуацию, старушка по лестнице спустилась. Если застрелить или отравить Дорофееву, старушка даст показания. Тогда приметы учительницы из рыбоколхоза «Черноморский» и неизвестной женщины, которая накануне убийства звонила в квартиру Дорофеевой, совпадут. Выйдет вилка. А это плохо... Из города уходить еще никак нельзя. Но и оставаться опасно. Вчера старшина милиции внезапно проверил документы. Странно? Черт знает! Может, обычная проверка. Связанная с войной. Если бы имелись подозрения, арестовал бы ее старшина еще в «Черноморском». Ну а огни в штольне? Сама видела ясно. Огни тоже не доказательство. Как угадаешь, кто там лазил? Может, жулики или дезертиры. Зря она дымовую шашку разбила. Опять нервы. Улику оставила. Нет, еще не пробил час Татьяны Дорофеевой. Счастливая она, черт возьми! На пианино стояла хрустальная ваза, прикрытая свежей салфеткой с искусной вышивкой. И еще — цветочница с сиренью. Переставив вазу и цветочницу на стол, Погожева откинула верхнюю крышку пианино. Поднялась на носках, заглянула внутрь. Справа, прижатый струнами к стенке, темнел пухлый сверток. Погожева вынула сверток, положила его на стол. Спокойно, не торопясь и не волнуясь, что Татьяна каждую секунду может прийти с кухни, поставила вазу и цветочницу на прежние места. Развернула тряпки. В них оказались три толстые пачки сторублевых денег. Погожева вынула откуда-то, чуть ли не из лифчика, маленький пистолет, положила его перед собой. Онемела Татьяна, остановилась на пороге, почувствовала: ногами двинуть не в состоянии, словно взбунтовались они и отказываются повиноваться. — Что это? — спросила Татьяна. Произнесла, в общем-то, два ненужных слова, ибо отлично видела, что лежит на столе. — Никогда не видели зажигалку в форме пистолета и сторублевых денег? — удивилась Погожева устало и немного раздраженно. — Так много! Никогда, — призналась Татьяна, изо всех сил стараясь не выдать своего беспокойства. — Не очень много. Десять тысяч. — Большая сумма, — сказала Татьяна с уважением. — Я хочу подарить ее вам, — улыбнувшись, заявила Погожева. — Мне? Разве вы добрая фея из сказки? — Я действительно фея. Только не добрая, а злая. — Почему же злая? — Татьяна наконец сдвинулась с места, подошла к столу и поставила чашки. Погожева тряхнула головой: — Так удобнее. — И вдруг спросила: — У вас найдется листок бумаги? — Да. Повернувшись к тумбочке, Татьяна взяла из-под старого альбома ученическую тетрадь и положила перед Погожевой. — Нет, — сказала Погожева, — писать будете вы. Вот этой авторучкой. — Я не понимаю вас, — побелев, произнесла Татьяна и покачала головой. — Сейчас поймете. Прошу. Пишите: «Я, Дорофеева Татьяна Ивановна, библиотекарь гарнизонного Дома офицеров...» Написали? Хорошо... Пишите: «Обязуюсь... сотрудничать... с германской военной разведкой...» — Зачем вы так?.. — с обидой спросила Татьяна и отодвинула тетрадь. — Что я вам сделала? — Милая моя! — вздохнула Погожева. — Вы молоды и красивы. Я понимаю мужчин, которые в вас влюбляются. Но поймите и вы меня. Если мы не договоримся, не найдем общего языка, то... бог свидетель... Я не могу уйти из этой комнаты, оставив вас живой. Как бы я к вам ни относилась, я на службе... Будьте благоразумны. — О каком благоразумии может идти речь? — сквозь зубы выдавила Татьяна. — Вы что? С луны свалились? — Увы! С грешной земли. — Погожева положила руку на пистолет. — Эта зажигалка, между прочим, шестизарядная. — Плевать я на нее хотела! — заявила Татьяна, удивляясь собственной храбрости. — Оставим лепет. Вы не девочка, а я не обольститель. Я предлагаю вам дело. Рискованное, но денежное. Я знаю, вы согласитесь. И когда войдете во вкус, поймете, что в разведке можно заработать больше, чем в постели. — Я не проститутка! — покраснела Татьяна. — Фу! Как вульгарно. — А мне плевать! Убирайтесь к чертовой матери из моей квартиры! Я не испугалась вашей пушки! — Спокойнее... Истерики разрушают нервную систему не меньше алкоголя. Отвечайте, вы догадывались, что Сизов — агент немецкой секретной службы? — Какой службы? — не поняла Татьяна, но запальчивости теперь не было в ее голосе. — Вам известно, что Сизову удалось завербовать вашего друга Роксана? Того самого Мишу, который через ваше посредство сплавляет излишки продуктов? — Вы врете! — Забудьте это слово. В разведке не врут. В разведке молчат или говорят правду. Я говорю правду только потому, чтобы вы поняли: я не могу выйти из этой комнаты, оставив вас живой. — Уходите! — решительно сказала Татьяна. — Уходите! Я никому не скажу... Можете не волноваться. — Спасибо, — поднялась Погожева. — Боюсь, что в отношении вас не смогу проявить такую милость. Татьяна отступила на шаг, сказала убедительно: — Я не нуждаюсь в ней, в вашей милости. Я выброшусь в окно. И закричу на всю улицу. Я не пойду на предательство! — Предательство — тоже работа, — сухо заметила Погожева. — Плохая работа! — Запомните, девочка, плохой работы не бывает. Работа либо соответствует духовным запросам и умственным возможностям индивидуума, либо нет. — В таком случае вы переоценили меня. — Скромность человека украшает, агента оберегает. — Я не агент! — процедила Татьяна. Страха не было в ее голосе, лишь злость, злость, злость... — Не будем придираться к словам, — миролюбиво сказала Погожева. — И зря нервничать. Может, нам лучше разобраться в сути. Отвечайте на мои вопросы, только искренне. Вы способны на искренность? — Да! — Вам нравится работать на заводе у станка? — Я никогда не работала на заводе. — И не рветесь? — усмехнулась Погожева. — Нет! — Что бы вы предпочли: коммунальную квартиру или собственную виллу в сосновом бору на берегу моря? — Это глупый вопрос, — заметила Татьяна. — Вам нравится танцевать? — Да. — Хорошо поесть? — Да. — Красиво одеться? — Да. — Какой цвет вы предпочитаете: голубой или красный? — Голубой. — Ох, Таня, Таня... Одного последнего ответа достаточно для того, чтобы усомниться в вашей благонадежности... — Но голубой цвет мне действительно больше к лицу, чем красный, — с обидой произнесла Татьяна. — Все ясно... Если добавить, что в течение определенного срока вы предоставляли крышу немецкому агенту Сизову, нарушаете правила торговли нормированными продуктами, то... Вывод напрашивается сам собой — русскую контрразведку вам надо опасаться больше, чем меня. Я предлагаю вам деньги и обеспеченное будущее. «Смерш» может предложить в лучшем случае длительное заключение, в худшем — стенку... — За что стенку? Я ничего не сделала... — Вы думаете? — Я знаю! — ответила Татьяна запальчиво. — Я тоже знаю. В ночь на десятое февраля в Доме офицеров происходило совещание высшего командного состава группы войск. Оно было совершенно секретным. Продолжалось с двадцати трех часов девятого февраля до трех часов десятого. Вместо заболевшей буфетчицы вам было поручено подать офицерам ужин. — Только кофе с бутербродами. — Пусть кофе с бутербродами. Вам категорически было запрещено говорить, где вы были в ту ночь и кого видели. Это так? — Так. — Вы рассказали об этом Сизову. Выдали военную тайну врагу. — Откуда же я знала, что Сизов враг? Он был ревнив как черт. Думал, что я спала с Роксаном. — Не принимайте меня за девочку. Вы указали на предъявленной фотографии офицеров, приезжавших на совещание. — Все было совсем не так... Когда Сизов узнал, где я была, он неожиданно поверил мне сразу. Воскликнул: «Наверняка там был кто-то из моих друзей!» Я ответила, что не знаю. Вот тогда он и показал групповую фотографию. Я опознала на ней двоих или троих офицеров. — Вы опознали командующего армией, начальника штаба и начальника оперативного отдела... Таким образом, о совещании, совершенно секретном, в то же утро стало известно немецкому командованию. — В то же утро? — не поверила Татьяна. . — Да... Вы совершили служебное преступление. Представляете, что ждет вас, если об этом станет известно русской контрразведке? — Вы хотите сказать... — Глаза у Татьяны были еще сухие, но голос дрожал, словно она уже плакала... — Нет-нет! Меня не расстреляют! — Вы самоуверенны. Вас избаловали мужчины. Вполне вероятно, что вас именно расстреляют. Но если вдруг органы НКВД проявят жалость, недопустимую в военное время, то вам дадут срок. Минимум лет десять. На волю вы вернетесь старухой. Лучшие годы за колючей проволокой. Печально! Может, вам повезет. И время от времени вы будете спать с начальником лагеря. Но все равно это печально — Как же быть? — спросила Татьяна тихо. — Положиться на своих друзей. Я ваш друг. Вы меня поняли? — Поняла... — Пишите, — совсем мягко сказала Погожева. Татьяна послушно взяла ручку. Перо легко скользило по бумаге. Но буквы получались неровными, закошенными вправо. — Теперь поставьте число и подпись, — закончив диктовать, предложила Серафима Андреевна. Татьяна нехотя повиновалась. — Хорошо, — сказала Погожева. — Переверните страницу и напишите номера воинских частей, дислоцирующихся в гарнизоне. — Я не знаю, — испуганно прошептала Татьяна. — Плохо, — укоризненно заметила Погожева. — Плохо в первый же день врать, своему коллеге. На библиотечных карточках вы указываете номера воинских частей. Кстати, не забудьте написать фамилии и воинские звания известных вам офицеров. У Татьяны было такое чувство, будто она летит в пропасть. Но еще долго-долго не будет дна с его острыми скалами, а только страх, незнакомый и липкий. Столбик номерных знаков воинских частей получился совсем коротким. Список офицеров — чуть больше. — Мало, — сказала Погожева. — Больше не помню. — Верю. Даю день сроку. За это время составьте мне полные списки по картотеке. Татьяна ничего не ответила. — Переверните еще страницу, — продолжала Погожева. — Пишите: «Расписка». С новой строки: «Я, Дорофеева Татьяна Ивановна, получила от сотрудника германской разведки за переданную мной информацию военного характера аванс в сумме десять тысяч рублей». Прописью. Так. Число. Подпись. Погожева взяла одну из трех пачек, подвинула к Татьяне. — Десять тысяч в сторублевых купюрах. Считайте. Татьяна подняла пачку, повертела. Ответила: — А что считать? Они же запечатаны. — Спасибо за доверие, — усмехнулась Погожева. Она встала. Взяла тетрадку. — Опустите пистолет, — попросила Татьяна. — Не волнуйтесь. Теперь я не стану в вас стрелять. Но предупреждаю. Не делайте глупостей. Если меня арестуют, ваши расписки попадут в русскую контрразведку. Не думаю, что вы сможете убедить их в своей невиновности. Там работают непокладистые люди. Ясно? — Ясно. — Я попрошу вас, моя милая, обменяться со мной одеждой. Дайте мне свое пальто, платье... Меньше чем через десять минут переодетая Погожева уже стояла в прихожей. Прощаясь, она сказала: — Ваша агентурная кличка — Кукла. Не знаю, смогу ли я сама поддерживать с вами контакт. Возможно, придет другой человек. Пароль: «Мне известно, что у вас есть пианино». — «Оно испорчено». — «Могу предложить в обмен мешок картошки». — «Спасибо. Мне нужна мука».Снова Жан
Чирков всю вторую половину дня с группой солдат обследовал каменоломни. Вернулся лишь вечером, усталый, голодный, злой. Результаты были весьма и весьма скромные. Остатки дымовой шашки (могли баловаться дети) да следы, не очень конкретные, свидетельствующие лишь о том, что еще недавно кто-то использовал штольни в качестве склада. Каиров сказал Чиркову: — Вы свободны. Ужинайте и отдыхайте. Сам же пешком отправился в гостиницу Дома офицеров. Стемнело. Дождя не было. Но воздух весь был пронизан сыростью. И морем, и нефтью... Возле Дома офицеров разговаривали люди. Двери хлопали. И пятна света, словно шары, скатывались по мокрым ступенькам. В фойе Каиров увидел афишу кинофильма.«СЕГОДНЯ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! Английский документальный фильм «ПОБЕДА В ПУСТЫНЕ» Производство Армейского кинофотоотдела и киноотдела Британских королевских воздушных сил. Фильм рассказывает о разгроме итало-немецких войск в Египте и Ливии 8-й английской армией. Начало в 19 часов».Нет. Он не пошел в кино. Усталость и недомогание сковали его, сделали вялым. Поднявшись в номер, он, не снимая шинели, упал на кровать. Закрыв глаза, около четверти часа лежал неподвижно. Потом в дверь постучали. Вошла горничная — низкого роста старушка. Лицо у нее было дряблое, точно тряпка, но улыбка приветливая, глаза моложавые. Она сказала: — Давайте я поменяю вам постель. Каиров поднялся. Виновато пояснил: — Прилег на секунду — и как в воду. — Намаялись, чай, за день, — участливо сказала старушка и задвигала губами, словно что-то пережевывая. — Намаялся не больше обычного. Да годы не те... — Годы — они как пузыри мыльные. Разглядеть не успеешь, а их уж нет. — Белая простыня, затвердевшая от крахмала, хлопнула, словно парус, накрыла матрац. — Давно при гостинице работаете? — спросил Каиров, удивившись ловкости старушки. — Восьмой годок... Аккурат с весны тридцать шестого. — Майора Сизова помните? — Нешто забуду... Приветливый сынок такой был. Ежели придешь в номер прибрать али постель сменять, без пятерки не отпустит. И по десять рублей давал. — Друзей к нему много ходило? — Да ведь разве упомнишь. Офицеры ходили. Этот вот... Солидный моряк. По продуктам который... Фамилию запамятовала. Как зачну вспоминать — все одно забываю. — Женщины навещали майора? Старушка обиделась — нос ее будто бы удлинился и морщинки покатились вниз: — Господь с вами! Он такой хороший был, интеллигентного воспитания. В Танечку нашу влюбленный... — Может, вспомните, когда видели майора в последний раз? — И вспоминать нечего. Видела я его, можно сказать, перед самой кончиной. — Где? — с надеждой спросил Каиров. — Как ни есть супротив бани... На тротуаре они с барабанщиком нашим, Жаном, разговаривали. А потом машина возле них остановилась. Шофер что-то спрашивал. — Не слышали, что говорил шофер? — Нет. На дежурство торопилась. — В каком часу это было? — Близ девяти вечера. До девяти вечера меня начальник отпустил. — Спасибо, — сказал Каиров. А когда старушка уходила, дал ей десять рублей. Лицо горничной расплылось, как блин на сковородке. Запричитала она: — Дай бог вам могучего здоровья. И прожить чтобы еще раз столько. И второй раз столько... — Сегодня танцы будут? — прервал излияния Каиров. — После кино. — Понятно. Горничная ушла. Каиров позвонил начальнику Дома офицеров. — Добрый вечер. Это Каиров. У меня к вам вопрос. Если кто-то из музыкантов джаза не выходит на работу, вы об этом знаете? — Конечно, — ответил начальник Дома офицеров. — Кстати, в этом году случая такого не было. ...Джаз — саксофонист, барабанщик, аккордеонист, трубач, скрипач, пианист — работал на авансцене. Круглый, как солнце, барабан, отделанный красным перламутром, стоял несколько впереди, а справа и слева почтительно замерли маленькие барабанчики. Сверкающие, прямо-таки золотые тарелки салютовали яростным звоном. И свет отскакивал от них брызгами, веселыми, беззаботными. Барабанщик Жан восседал с достоинством, как король на троне. Но на устах его была совсем не королевская улыбка — бесхитростная и приятная. Танцевальные пары заполнили зал. Стулья были придвинуты к стене, те, что оказались лишними, вынесены в фойе. Несколько морских офицеров стояли недалеко от входа, видимо обсуждая фильм. Один сказал: — Впечатляюще. Пески, пальмы... Другой возразил: — По сравнению со Сталинградом — элементарное ученичество. — Африканская жара что-нибудь значит. — Жара, мороз... Все это приправа. Важна суть. Масштабы операции... Пахло духами. Потом. Пол, слегка наклоненный к сцене, был выстлан паркетом. Скользить по нему не составляло труда, особенно вниз, к джазу. Каиров рассчитывал увидеть здесь Дорофееву. Но женщин танцевало много, преимущественно молодых. В антракте Каиров подошел к Жану. Сказал: — Вы большой мастер своего дела. — Стараюсь, — ответил Жан, расстегивая ворот рубашки. — Мой приятель, к сожалению покойный, — Каиров вздохнул, — майор Сизов был большим поклонником джаза. — Я знаю. Он часто приходил на танцы. — Значит, вы были знакомы? — обрадовался Каиров. — Жан! — позвал саксофонист. — Пошли в буфет! Нас угощают пивом. — Приду, — ответил Жан, — через пару минут. Кругом разговаривали люди. Передвигались, толкались... Каиров взял Жана за локоть и увлек за кулисы. — Я вас вот о чем хочу спросить, молодой человек. Последние четыре месяца мне не довелось видеть Сизова. Скажите, не заметили ли вы в его характере уныния, беспокойства?.. Короче, только между нами, не мог ли мой друг сам наложить на себя руки? — Не знаю. Я видел Сизова в тот самый вечер, накануне его гибели. Он был весел. Мы немного поговорили. — О чем говорили? — Так, о пустяках. Пропыленные бархатные занавеси темно-лилового цвета тяжело свисали с потолка, отбрасывая широкие и густые тени. — Куда вы пошли четырнадцатого марта, расставшись с Сизовым? — Сюда, в Дом офицеров. У нас была работа. — В котором часу вы расстались? — Что-то около девяти. — И пошли сразу в Дом офицеров? — Да. — А мне сказали, что четырнадцатого марта ваш джаз до двадцати двух часов десяти минут играл без барабанщика. — Я вначале зашел в библиотеку. — Взять книгу? — Да. «Казаки» Льва Толстого... — Интересная повесть. — Еще не прочитал. Со временем совсем плохо. — Это точно. Извините за старческое любопытство. Друзья ждут вас в буфете. — Да что там! — ответил Жан. — Сизов был хороший парень.
Любопытства ради
Танго было старым, довоенным. Очень тоскливым и немного надрывным. Мелодия рождала банальные картинки томной, знойной жизни, свидетелем или участником которой Каиров никогда не был, но он видел такую жизнь в заграничных кинофильмах и даже слышал именно это танго в одном из них. Он забыл название ленты. Но кадры, как мусор, всплывали в памяти — берег океана, мужчина в пробковом шлеме и яркая женщина, с мольбой глядящая ему в глаза. Попугаи на пальмах, обезьяны... Чужая тоска, чужие страсти. Дешевые, словно грим. И вот эта музыка, рожденная где-то далеко для других людей, для других печалей и радостей... Почему она здесь? Почему люди движутся в такт ей, повинуясь словно приказу? Хорошо это или плохо? Подумать бы на досуге. По когда он будет, этот досуг? Выбравшись из танцзала, Каиров свернул под лестницу и увидел, что дверь в библиотеку приоткрыта. Он вошел. Роксан сидел по одну сторону перегородки, Татьяна — по другую. Роксан встал, он был обязан встать при появлении полковника. Спросил: — Вам нравится наш джаз? Татьяна смотрела настороженно. — Я достаточно стар, чтобы любить такую музыку, — ворчливо ответил Каиров и посмотрел на Роксана неприветливо. Роксан все-таки смутился, но виду не подал: — Предпочитаете симфонии? — Марши. Они напоминают мне дни моей молодости. — Каиров повернулся к Татьяне: — У меня к вам одна просьба. Не могли бы вы дать мне почитать «Казаков» Льва Толстого? — Книга на руках. Ой, надо напомнить Жану, чтоб вернул. Он всегда так: возьмет и держит месяцами. Каиров вздохнул, бросил взгляд на стул, однако не сел. Сказал: — Так уж и месяцами! Может, человек и взял ее совсем недавно. — У меня отличная память. — Татьяна порылась в картотеке. Вынула абонементную книжку. — Смотрите, четырнадцатого марта. Он тогда еще просидел здесь чуть ли не весь вечер. Анекдоты глупые рассказывал. — На нет и суда нет, — развел руками Каиров. — Возьмите что-нибудь другое, — предложила Татьяна. — Только из классиков. — Есть Горький, рассказы. — Это можно. ...Когда Каиров проходил мимо столика дежурного администратора, услышал голос Сованкова: — Добрый вечер, товарищ полковник. Как жизнь? Каирову нравился этот однорукий мужчина, по-житейски мудрый, приветливый. Он остановился, пожал ему руку. Откровенно сказал: — День суматошный выдался. А годы уж не те. — Старость не радость, — грустно согласился администратор. — Жизнь пролетает быстрее, чем сон. — Сны бывают долгие. — Есть люди, которые не видят снов. — Есть. — Каиров хотел было продолжить путь, но вдруг спросил: — Вы хорошо знали майора Сизова? — На нашей работе трудно сказать: хорошо, плохо. Скорее, поверхностно. Фамилия, имя. Номер комнаты, в которой живет... Ну и еще... В какое время уходит, в какое возвращается. — Когда видели Сизова в последний раз, не помните? — Очень хорошо помню. В тот самый вечер, четырнадцатого. Уходя из гостиницы, Сизов положил на этот столик ключ. И можно сказать, мне доложил. Говорит: «Петр Евдокимович, если будут звонить из штаба, вернусь после двенадцати. С Мишей Роксаном к девочкам смотаемся...»Ночь
— Страшно, — сказала Татьяна. — Сегодня останешься у меня. — Раньше ты не позволяла мне этого, — спокойно ответил Роксан. — В твоих словах я не слышу радости. — В пять часов утра я выезжаю в Сочи за продуктами. — Нельзя отменить поездку? — Приказ может отменить лишь старший начальник. — Я все забываю, что ты офицер. — Нужно тренировать память. Они шли темной улицей. Небо над ними было безлунное. И звезд на нем казалось меньше, чем обычно. — Ты обещал подарить мне фонарик, — сказала Татьяна. — Вот он. — Роксан вложил фонарик ей в руку. Татьяна нажала кнопку. Пятно яркого света скользнуло по листве. Замерло. — Сирень, — сказала Татьяна. — Персидская. — Наломаем. — У меня есть большой букет. — Пусть будет два. — Роксан перемахнул через невысокий забор. И затрещали ветки... Они поставили букет в литровую банку, потому что цветочница была занята другим букетом, и наполнили банку хлорированной водопроводной водой. — Обычно я не опускаю цветы в такую воду, — сказала Татьяна. — Я наливаю воду, часов пять даю ей отстояться. Пока выйдет хлорка... — За это время сирень завянет, — возразил Роксан. — Сирени много. — Да. Но скоро она отойдет... ...Лежали молча. И онаслышала в темноте его спокойное дыхание. И видела его голову, камнем вминавшую подушку. Она знала, что он не спит. И ее угнетало затянувшееся молчание. Окно было распахнуто. Поздняя луна заглядывала в комнату вопросительно, но дружелюбно. Прохлада, свежая, ночная, приятно щекотала кожу лица, плеч, рук... Вдруг он спросил: — Ты меня любишь? — Как ты меня. — Это не ответ. — И не вопрос. — Ты ничего не хочешь сказать мне. — Хочу. — Говори. — Со мной случилась беда. — Со мной тоже. — У меня страшная беда. — У меня страшнее. — Нет. Страшнее беды быть не может. Ко мне приходила женщина. Она сказала, что Сизов был немецким шпионом. — Почему же ты до сих пор жива? — Я подписала бумажки. И получила деньги. — Много? — Десять тысяч. — Что ж теперь будешь делать? — Я хочу убежать, скрыться. — Куда убежать, где скрыться? Он лежит неподвижно. Не смотрит на нее. Не хочет видеть ее лица. Больших, напуганных глаз. — Не знаю, — отвечает она. — Убежишь — запутаешься еще больше... Это не выход. Слушай меня. Завтра позвони Каирову. И, не называя себя, попроси встретиться с ним где-нибудь в безлюдном месте. Допустим, в городском саду. Во всем ему признайся. И еще скажи, что я приду к нему вечером, как только вернусь из Сочи. — Почему в безлюдном месте? — спросила Татьяна. — Возможно, они следят за тобой. — Они... Они и тебя хотели завербовать? — Да. Только обломилось, не удалось. — Почему же ты жив? — Потому что мертв другой. — Значит, это ты Сизова... — прошептала она. Он повернулся, посмотрел ей в глаза... Михаил Георгиевич Роксан вышел из квартиры Татьяны Дорофеевой в четыре часа пятнадцать минут. Он не заказал машину. И теперь должен был добираться до места службы пешком. Утро только-только зарождалось. Небо было еще серое. Видимость плохая. Под аркой, которая выводила из внутреннего двора на улицу, сгустилась темнота. Неизвестная женщина, отделившись от стены арки, вдруг преградила Роксану дорогу. Фигура женщины казалась прямой, как столб. — Руки от пистолета! — повелительно сказала женщина. — Вот так... Поклон от Сизова, Роксан.Аленка едет в город
Завхоза в госпитале не любили. Во всяком случае, медицинские сестры. Он был стар, скуп, подозрителен. Слоевом, мужик паршивый. И молодость раздражала его. Медицинским сестрам вредил он обычно по мелочам. Кровать с прорванной сеткой предложит, электрическую лампочку не выдаст: не положено, дескать, старая лампочка сгорела раньше времени. С врачами же и с другими старшими начальниками завхоз был заискивающе вежлив, внимателен. И начальство благоволило к нему. И запросто величало Федотычем. Аленка давно мечтала сделать шестимесячную завивку. У нее были светлые прямые волосы, а ей хотелось, чтобы они вились, как у барашка или хотя бы как у хирурга Сары Ароновны. И Аленка накручивала их на бигуди. Но уже утром они развивались и обвисали, как развешенное белье. Женского мастера парикмахерская при госпитале не имела. Выбраться же в город не так просто: или машины попутной не было, или машина шла в город, а Аленка дежурила. И вот сегодня утром Аленка свободна, девчонки кричат: — Старый хрыч в город едет. Аленка — к завхозу: — Федотыч, я с тобой. Федотыч морщится, как от дыма: — Я в кабине тесниться не буду. У меня ревматизма. — А в кузов?.. Можно, я в кузове? — Тама цистерны, керосином пропахшие. — Ничего. Я как-нибудь, — уговаривает Аленка. — А что тебя в город несет? — Завивку сделать. — «Завивку», — передразнил Федотыч. — Нужна она тебе... Провоняешься керосином — в парикмахерскую не пустят. — Прорвусь! Цистерн в кузове четыре. Железные, черные, высотой с Аленку. Они теснятся к кабине, когда дорога идет под уклон. И пятятся к заднему борту, если дорога забирается вверх.;Нелегко с ними Аленке. Аленка смотрит на небо. Ей очень хочется сделать перманент и увидеть того капитана, серьезного и доброго, который приезжал в госпиталь выяснять про Погожеву. Интересно: нашли ее или нет? Но куда интереснее: женат ли капитан? Если женат, то лучше и не встречать его. Надежды, глупые, точно куры, в голову лезут. А вдруг капитан холост? Глаза у него правильные и лицо тоже. И она нравится ему. Разве забудешь его поцелуй? Не в щеку или в лоб, а в губы. Так целуют, когда любят. А может, нет?Машина въехала в город. Аленка постучала по крыше кабины: — Остановите! Федотыч приоткрыл дверку. — Я слезу здесь, — сказала Аленка. — Давай. Машина остановилась. Аленка спрыгнула на обочину. — Где мне вас искать? — Возле нефтеперегонного завода, — ответил завхоз. — Не уезжайте без меня, — попросила Аленка. — А ты не канитель тута... Не позже часа к проходной объявляйся. — Хорошо, — сказала Аленка. Она быстро разыскала парикмахерскую. Это был низкий беленый дом, стоящий среди развалин, в одной половине которого размещалось пошивочное ателье военфлотторга, в другой — парикмахерская. В мужском зале была очередь. Женский — удача — пуст! Полная армянка в белом-халате сидела перед зеркалом и ела вареную картошку. — Здравствуйте, — сказала Аленка. — Я хочу сделать завивку. — Фиксаж есть? — Какой фиксаж? — Простой... Без фиксажа нельзя. — Как же быть? — огорчилась Аленка. — Я специально приехала из госпиталя. — Раненая? — Санитарка. — А работы много? — поинтересовалась армянка. — Хватает. — У нас, наоборот, клиента нет. До красоты ли теперь женщине? — Плохо, — согласилась Аленка. — До свидания. Я пойду. — Зачем? Не торопись... Поговори что-нибудь... — Фиксажа нет. — Обожди. Куда спешишь? Фиксаж поищем. Удачным ли получился перманент, судить трудно. Годков он Аленке прибавил, но лучше ее не сделал. И с перманентом, и без него она все равно была хорошенькой. Часа через полтора Аленка вышла из парикмахерской. Город она знала плохо. Поэтому спросила у первой встретившейся женщины, как пройти к нефтеперегонному заводу. Выяснилось, что завод не близко — у подножия горы, вершина которой темнела в далекой голубизне. Транспорт в городе ходил нерегулярно, с перебоями, но Аленка все же дождалась автобуса. Приземистый, пузатый, с одной лишь дверью возле кабины водителя, автобус был переполнен. Аленка стояла между мешками и корзиной, сплетенной из прутьев. И другие люди стояли в проходе. Налегали друг на друга, когда автобус тормозил или разворачивался. Оказалось, что до завода автобус не идет. Он останавливается возле моста и делает там круг. Речка под мост текла с самых гор. Быстрая, неглубокая. Она пенилась и бурлила вокруг камней. Камни были очень хорошо видны с моста: большие, завернутые в зелено-желтый мох. Мост заслонялся шлагбаумом. И солдаты с автоматами на груди стояли возле маленького домика, который, очевидно, служил караульным помещением. Документы медицинской сестры пришлись по душе солдатам. Они улыбались Аленке, шутили. Один сказал искренне: — Оставайся служить с нами. Не обидим. — У вас свои есть, — ответила Аленка. — Зачем так говоришь? Зачем обижаешь? — Солдат черненький, с усиками. Грузин, наверное. — Не сердитесь, ребята! — Аленка помахала им рукой. Она свернула с шоссе на дорогу, вымощенную крупными камнями. Громадные нефтехранилища, закамуфлированные зелеными и коричневыми пятнами, возвышались по обе стороны дороги. Вокруг хранилищ была ограда из колючей проволоки и ходили часовые. Один, совсем еще мальчишка, не удержался, крикнул: — Привет, землячка! — Бывай здоров, земляк, — ответила Аленка. — Может, встретимся? — После войны! Когда у тебя борода расти станет. Потом пошли дома барачного типа. А перед заводом — площадь. Через нее железнодорожный путь, выходящий на сортировочную станцию. На площади — магазин, пошивочная мастерская, общественная уборная. Время — полдень. И похоже, что на заводе перерыв. Возле проходной людно. У магазина очередь. В центре площади — стоянка для машин. Их там около дюжины. Грязные, и камуфлировать не надо. Вода в луже шипит и хлюпает, ходит волной, когда машина выезжает на стоянку. Солдаты-водители морщатся и даже чертыхаются: выходить из машины приходится прямо в лужу, желтую, густую. Машины из госпиталя среди остальных нет. «Неужели старых хрыч уехал не дождавшись?» — подумала Аленка. Дежурный по бюро пропусков ответил: — Да. Из Перевального была машина. Полчаса назад уехала. «Вот же сволочь Федотыч! Как теперь добираться?» Стоит Аленка растерянная, словно ее обокрали. Того и гляди, заплачет. — Что же мне делать? — спрашивает жалобно. В бюро пропусков говорят: — К шоссе выйдите. Голосуйте. На попутных доберетесь! Через проходную идут, идут толпой женщины. И обрывки разговоров доносятся до Аленки обыкновенные, женские. — С жидким мылом сплошное мучение... — А ты замачивай в мыле. — Я ей говорю: «Что толку? Он к тебе ходит, а у самого семья». Она в ответ зубы выскалила. Как загнет... Сама знаешь. — Знаю. — На коленках штанишки опять протер. Веришь, залатать нечем... — Фаина крем на свином жиру делает, сурьмы в него добавляет... В раздумье, так и не решив, что же ей делать (легко сказать: выходи голосуй на дороге. На эту дорогу через весь город добираться надо), подошла Аленка к окну. И сквозь запыленное стекло вдруг увидела возле проходной Серафиму Андреевну Погожеву. Не поверила себе, присмотрелась: Погожева... — Ой! — Аленка опять стучится в окошко дежурного. — Здесь женщина у проходной. Ее контрразведка ищет, Помогите задержать. Это очень важно. — Где-то милиционер был. Товарищ старшина! Старшины нет долго. Или время остановилось, замедлилось. Наконец вышел старшина. — Вот она, эта женщина, — показывает Аленка. Старшина Туманов смотрит в окно. Говорит тягуче: — Известная женщина. Откуда ее знаете? — Она работала в нашем госпитале. Старшина чешет подбородок. Молчит. Думает, наверное. «Сюда бы, конечно, лучше офицера, — рассуждает Аленка. — Этот старшина, кажется, порядочный валенок». — Идите поговорите с ней... — наконец говорит Туманов. — Нужно отвлечь ее внимание. А то начнет палить... Люди пострадают. — Старшина, возьмите сотрудников нашей охраны, — предлагает дежурный по бюро пропусков. — Не нужно, — спокойно отвечает Туманов. — На этот раз не уйдет. Аленка уже возле проходной. Радостно, по-девчачьи восклицает: — Серафима Андреевна! Не выдержала Погожева, вздрогнула. Рука в кармане. Но вот узнала Аленку. Напряжение сходит с лица. — Серафима Андреевна, как хорошо, что вы живы! А мы все думали, что вы попали под бомбежку. Думали, с вами несчастье приключилось... — Нет. Все хорошо, Аленка. Вернулась я. А ты какими судьбами здесь? — С машиной я приехала. Завивку сделать. Как? Хорошо получилось? — Зря, Аленка. Без перманента ты была милее. — Вы меня огорчили... — расстроилась Аленка. Расстроилась самым искренним образом. Это не ускользнуло от наблюдательной Погожевой. И она сказала совсем спокойно: — Ничего. Завивка долго не держится... Все же скажи, что ты делаешь возле завода? — Старый хрыч... — Аленка смущенно поправилась: — То есть Федотыч меня бросил. Не дождался... В это время старшина Туманов был уже за спиной Погожевой. — Руки вверх! Все поняла Погожева. Лицо — мел. Глаза словно укрупнились. Подняла руки. Но, поднимая, сунула что-то в рот. И, обмякнув, упала наземь. Невезучий человек старшина Туманов.
Встреча, назначенная по телефону
Женский голос — не скажешь, что он напряженный или взволнованный, может, немного виноватый — в трубке: — Товарищ Каиров, мне нужно срочно увидеть вас. Давайте встретимся сегодня в десять часов утра в городском саду у скульптуры «Русалка». — С кем я говорю? — Вы меня знаете. Но... я не хочу называть свое имя. — Кажется, Дорофеева, — сказал Каиров Чиркову, положив трубку. — Возможно... — согласился Чирков. — Вполне вероятно. Вы произвели на нее впечатление как мужчина. — Не следует быть циником, сынок, — недовольно ответил Каиров. ...Последний раз в этом парке Каиров был с женой семь лет назад. Тогда здесь желтели ровные дорожки, и кусты стояли ухоженные, подстриженные, в фонтаны вздымали гребни, как петухи. На плоской крыше гостиницы «Южная» был летний ресторан и танцевальная площадка. Трио музыкантов — степенные холеные мужчины в белых фраках — играли танго и блюзы. Ресторан был дорогой. Публика сюда приходила солидная. Мужчины и женщины средних лет. Официанты подавали хорошие вина, и кухня отличалась изысканностью. Теперь на крыше гостиницы «Южная» стояли три зенитных пулемета. И маскировочные сети свисали на стены, как покрывала. Дорожки, парка все были в темных трещинах. Кусты разрослись. Скульптура «Русалка», мытая дождями, сушенная ветрами, казалась сморщенной и постарелой. Татьяна ходила по танцевальной площадке, на которой мокли еще осенью облетевшие листья. Женщина, как всегда, была тщательно напудрена и подкрашена, но синеву под глазами не удалось скрыть. И глаза от этого казались еще больше, чем обычно. — Вот, — сказала Татьяна. И вынула пачку денег. — Так много! — сказал Каиров. — Десять тысяч, — сказала Татьяна. И добавила: — Я написала за них расписку. — Понимаю, — сказал Каиров. — Говорите... Он взял ее под руку. И они, словно прогуливаясь, пошли заброшенной аллеей, где стояли облезлые лавочки и прошлогодние листья мусорились под ногами. Она говорила тихо, но очень искренне. И Каиров подумал, что Татьяна, в сущности, неплохой человек, может только избалованный. В последнем виноваты ее красота и мужчины. Впрочем, давно подмечено — нет ничего быстротечнее и ненадежнее, чем красота женщины. — Вы полагаете, что Роксан убил Сизова? — спросил Каиров. — Я так поняла... Он не сказал точно. Но можно было догадаться. — Сизов знал, что Роксан спекулирует продуктами? — Знал. — Картина проясняется... Зная о махинациях Роксана, Сизов пытался его шантажировать. Роксан не мог отказать. Он понимал, что отказ означает смерть. Возможно, он тоже дал расписку. В тот самый вечер, когда Сизов оставил Дешина с машиной у трансформаторной будки, а сам пошел к Роксану. Ведь Роксан снимает квартиру в Рыбачьем поселке. — Я ни разу не была у него. — Я был. Я сразу подумал об этом. Но хозяйка ничего не могла сказать. Она лишь подтвердила, что Роксан приехал домой около восьми, поужинал и лег спать. Вся беда в том, что и она рано уснула. — Как?! — ужаснулась Татьяна. — Нет-нет!.. Хозяйка — старушка. Скорее всего, Роксан вылез через окно. Если так, то убийство Сизова не было случайным, стихийным актом. Видимо давая согласие работать на немецкую разведку, Роксан хотел прежде всего выиграть время. Но Сизов поверил ему. И потерял бдительность. Они пришли к машине. Увидев мертвецки пьяного шофера, Роксан сообразил, что провидение дает ему славный шанс. Выбрав момент, он бьет Сизова гаечным ключом по затылку. Сизов был в шапке. На ней сохранился след удара. Кстати, эксперт, полагая, что Сизов был в фуражке, решил, будто удар нанесен предметом, завернутым в тряпку... Тело он бросает под колеса и спускает машину с тормозов. Он делает одну ошибку — уносит с собой фляжку, в которой были остатки водки. — Фляжка — ошибка? — удивилась Татьяна. — Сама фляжка не очень нужна, но ее отсутствие навело на мысль, что на месте преступления был третий человек. Взволнованный происшедшим, он чувствовал необходимость выпить. Может быть и другое объяснение. Не будем гадать, попросим рассказать об этом Роксана. — Он все расскажет. — Вы уверены? — Он сам послал меня к вам. И обещал встретиться с вами по возвращении из Сочи. — Хорошо. Обождем. — Я все рассказала, товарищ полковник. А теперь отведите меня в камеру. — До конца войны? — спросил Каиров. — До конца войны... — ответила она устало. — А кто победит? Как вы думаете? Мы или немцы? — Мы. — Сидя в камере? Запремся все в камеру и будем ждать, когда кончится война. А кто-то будет приносить нам еду. За нас сражаться... Несерьезный разговор, Таня. Война не состязание джигитов. В ней зрителей нет. Или ты враг, или друг. Раз пришла к нам, давай идти вместе — локоть в локоть... — У меня не получится, — грустно ответила она. — Мы поможем. Ты нам веришь? Она нахмурилась. Покачала головой: — Чиркову я не верю вообще. — Мне? — Вам?.. Ну... Не очень чтобы верю. — А ты поверь, — попросил Каиров. — Без этого нельзя. Я с гражданской войны в контрразведке. Контрразведка — это наука. Контрразведка — это искусство: Контрразведка — это импровизация. Но еще она... и вера! .Вера в товарищей, вера в справедливость твоей борьбы. — Вы мужчина. Вас специально учили этому. — Специально меня не учили ничему. Даже грамоте... Мой отец чистил ботинки на Центральном базаре города Баку. И был уверен, что земля плоская, как лепешка. Я бродил по свету и клевал зерна знаний где придется и когда придется... Единственно, что я понял сразу еще босоногим пацаном, — я понял, что хочу счастья, и для себя, и для людей. А ты, Таня, хочешь счастья только для себя. Она не возразила. Она ссутулилась, сказала, глядя в землю: — Люди обо мне не сильно заботятся. — Даже наш разговор свидетельствует о неправоте твоих слов. За это время я успел бы составить протокол, допросив тебя как немецкую шпионку. — Что я должна делать? — Она выпрямилась, посмотрела решительно. — Ждите. — Кого? — Человека, который придет с паролем. — Он убьет меня? — Скорее всего, нет. Мы примем все меры, чтобы этого не случилось. — А если он не придет? — Это из области догадок. Наберитесь терпения. — Если ко мне придут с паролем, как я сообщу вам? — Об этом условимся. Сегодня же. До свидания. Не будем выходить вместе. Каиров скрылся в аллее. Небо было хмурое. Листья не блестели. Чуть покачивались в ожидании дождя. Глухо гудели машины, двигались по дороге в порт. Каиров обождал, пока Татьяна вышла из сада, и только потом пошел к своей машине. В особом отделе его с нетерпением ожидал Чирков. Первое, что сказал Каиров, войдя в кабинет, было: — Нужно задержать Роксана. И услышал в ответ: — Интендант Роксан исчез. Утром он должен был ехать с автоколонной за продуктами, но на базу не явился, в управление тыла не приходил, дома не ночевал. — Немедленно обеспечьте охрану Дорофеевой! — распорядился Каиров.Шифровка
Вызвав командира комендантского взвода, Каиров приказал взять людей и тщательно осмотреть развалины и пустыри в районе улицы, где жила Татьяна Дорофеева. Он предполагал, что если Роксан стал жертвой, то убийца мог поджидать его лишь у дома Татьяны, потому что уже через квартал была площадь. И на нее выходило шесть улиц. Там постоянно дежурили военные и милицейские патрули. Другой конец улицы заканчивался тупиком. Гора там лохматилась зарослями шибляка. И еще был небольшой карьер правее улицы, за последними домами, утопающими в раздольных садах. В штабе Чирков начал рассказывать Каирову: — Мирзо Иванович, старшина Туманов задержал было Погожеву... — Я все знаю... Тебе, Егор, привет от нашей милой санитарки. От Аленки. — Она была в городе? — Была — не то слово. Она опознала Погожеву. — Труп в морге. — Что при ней обнаружено? Чирков открыл высокий желтый шкаф. На второй полке лежали: пистолет, портсигар, пудреница, стопка денег, хлебные карточки, записная книжка, клочок бумаги и черная женская сумочка. — Сумку тщательно осмотрели? — Так точно! — Записная книжка? — Ничего существенного... Самое любопытное вот это. — Чирков осторожно взял клочок бумаги. Он был размером в половину тетрадного листа. Желтоватый, плотный. Сложенный в несколько раз. На одной стороне — крупные буквы черной тушью:ЕЙСКОГО КИН КИХ КОРОЛЕВС другой стороны лист был чистым. — Что означает эта криптограмма? — спросил Каиров. — Еще не выяснил. Тайнопись с обратной стороны. Обнаруживается только при нагревании. Потом опять исчезает. Чирков положил клочок бумаги на стеклянный, молочного цвета, колпак настольной лампы, включил свет, прижал бумажку пальцами. Вскоре, словно в проявителе, стали появляться колонки цифр... — Шифр. — Он самый... — Знать бы, сколько времени потребуется нашим специалистам на его разгадку...
Гребень с секретом
Комната пропахла нитками. Запах ниток был здесь всегда, как и всегда были потолок, стены, окна, ножная швейная машинка марки «Singer» и портновские ножницы, где вместо второго кольца был продолговатый овальный проем, в который вмещались все четыре пальца. Деньги кружили по комнате. Они кружили не так, как ветреной осенью кружат пожелтевшие листья, легкостью и расцветкой своей напоминающие неугомонных бабочек. Деньги летали тяжело, словно бумажные голуби. Это были крупные сторублевые купюры темно-сизого цвета. Никогда раньше в жизни Жан Щапаев не видел такого обилия денег. Равно как и не видел в таком диком состоянии свою родную матушку Марфу Ильиничну. Обезумевшая, с распущенными волосами, она ползала на полу, сгребая деньги растопыренными пальцами, которые казались ему в эту минуту клешнями пресмыкающегося. Она произносила какие-то нечленораздельные звуки. Но он понимал, что матушка по-прежнему выкрикивает слово: — Погубил! По-гу-бил! Это он, Жан, погубил ее? А может, наоборот? Два дня назад под вечер, когда небо было уже сумрачным и лил мелкий, но по-весеннему холодный дождь, к ним в дом пришла женщина с небольшим чемоданчиком в руках. Она сказала, что работает медицинской сестрой в госпитале Перевальном, и попросилась остановиться у них в доме на два дня. — Что вы! Что вы! — запротестовала Марфа Ильинична. — Вот так просятся на два дня, а потом и за год не выгонишь. — Избави бог! — сказала женщина. — Я говорю правду. — У нас тесно. Мы чужих не пускаем. К тому же есть строгое указание милицейских властей насчет прописки. Женщина положила на стол пятьсот рублей и сказала: — Мне порекомендовали обратиться к вам наши общие друзья. — Какие еще? — настороженно спросила Марфа Ильинична, не сводя, однако, взгляда с денег. — Те, что снабжают вас продуктами. — Только на два дня, — не задавая дальнейших вопросов, согласилась Марфа Ильинична и взяла деньги. Когда женщина сняла пальто, то Марфа Ильинична узнала бежевое платье, которое около года назад шила Дорофеевой. Как тут не спросить: — А что же, Танечка не могла вас приютить? — Она ждет мужчину. Не вступая дальше в разговоры, женщина легла спать, но среди ночи куда-то ушла. Вернулась под утро. Однако побыла дома совсем недолго... И уже второй день не возвращалась вовсе. Под кроватью остался ее потертый чемоданчик. Он был заперт. Но любопытная Марфа Ильинична не утерпела, вскрыла замок. И обомлела. Весь чемодан был заполнен пачками денег. Новых сторублевых денег. Больше в чемодане не было ничего, если не считать женского гребня из какой-то пожелтевшей кости. — Ой, что ж делать? Ой, что ж делать? — Она произнесла эти слова так растерянно, будто отстала от поезда и оказалась на незнакомой станции без вещей и без копейки. — Ой! Что ж делать?! — Сообщить в милицию, — подсказал Жан. — Ты что? Сказился? — Она посмотрела на сына с такой злобой, что он сразу поник и прижался к стене, точно хотел ею заслониться. Но Марфа Ильинична уже забыла о Жане и вновь повторила старую, как мир, фразу: — Ой! Что ж делать?! Потом, опомнившись, она поспешила к окну, суетливо задернула занавеску: — Одни гроши! Чемодан грошей! — И гребешок, — напомнил невпопад Жан. — Его вначале кипятком обдать надо. Может, она шелудивая, — деловито ответила Марфа Ильинична. Она вздохнула глубоко, печально. Сказала тихо: — Где же нам их закопать? — И сама себе ответила: — Лучше в погребе. — Что вы, мамочка? — осмелился молвить слово Жан. — А вдруг хозяйка возвернется? — Ворюга она, а не хозяйка. Я ей возвернусь! Я ее мигом за решетку отправлю! Ступай за лопатой! Жан боялся этих денег. Откуда такая сумма может оказаться у медицинской сестры? Вдруг она из воровской шайки? Ее дружки зазря состояние не упустят. Они семь шкур снимут и с Жана, и с его мамочки. Когда он вернулся из сарая с лопатой, довольная и улыбчивая Марфа Ильинична поливала из чайника гребень. Пар поднимался над миской. И пахло костью или какой-то эссенцией. Тогда-то Жан и увидел, что лицо матери странно изменилось. Она опустила чайник. И сказала: — Посмотри. Гребень лежал в горячей воде. Но теперь он был совсем не таким, как в чемодане. На желтой кости четко и ясно просматривались буквы латинского алфавита. Они располагались напротив зубьев. И каждый зубец имел свою определенную букву или сочетание букв. — Ма-ма! — выдохнул Жан. — Это таинственное что-то... Я боюсь. — Сничтожить! Надо в момент сничтожить! — решила Марфа Ильинична быстро и бесповоротно. Она всегда и только так принимала решения. — Нет! Этого нельзя делать, мама. Это нужно снести в милицию. — Неси! — мрачно пошутила она. — Может, орден дадут... — И деньги тоже, мама! Вздрогнула Марфа Ильинична, потерла ладонь о ладонь, крепко, до хруста, зажала пальцы. Усмехнулась через силу — не понравился, насторожил ее голос сына. Сказала: — Господь с тобой! Дыхни! — Я же не пью, мамочка. Деньги не наши. Их надо снести властям. — Не кричи, сынок. Не кричи... Денег я тебе не отдам. И милиции не отдам! Кукиш ей! — Вы сами кричите, мама! И кричите глупости! — Нет... Нет... А может, гребень и не тайный. Может, его просто какой заграничный умелец делал. Так вот — с фокусом. — Мама, не обманывайтесь. Ведь деньги. Столько денег. Откуда они у медицинской сестры? — Не наше дело. Не наше... Сничтожим гребень — и все. — Нельзя, мама. Война! Если она шпионка, если ее власти ищут... Тогда судить нас будут за то, что мы врагу способствуем. И даже очень расстрелять могут... Он хотел убедить ее доводами. Хотя и не верил в такую возможность. — Матерь божья! Прости... Все на себя возьму. Я без сына все сделала. И гребень, значит, сничтожила, и деньги забрала. А ты на работе был... — Нельзя, мама. Но она уже поспешила к печке, открыла заслонку и кинула в печь гребень. Вначале ему пришлось отбросить мать на пол, потом сунуть руку в огонь. Счастье, что кость на гребне не вспыхнула. Она будто запенилась по краям. И все. Он, словно боясь, что пыл его угаснет, пропадет решимость, побежал в другую комнату, схватил чемодан квартирантки. Но мать не выпустила его из дома. Она вцепилась в чемодан. И Жан тащил ее до двери. А она кричала: — По-гу-бил! Погубил! У двери чемодан распахнулся. Деньги вывалились. Она кинулась на них, пытаясь накрыть телом. Потом стала рвать пачки. И бросать. И деньги кружили по комнате. Мать выла. Может быть, она сошла с ума. Выслушав Жана Щапаева, Золотухин отвез его к Каирову. Мирзо Иванович долго рассматривал гребень. Сказал Щапаеву: — Молодец, ты угадал — это шифр. — Потом обратился к Золотухину: — Дмитрий, прояви находчивость. Добудь бутылку вина. Мы должны выпить с этим парнем.Заботы Каирова, заботы Чиркова
Расшифрованный текст Каирову принесли лишь под вечер. В короткой записке Японец сообщал Кларе, что за устойчивую связь с центром отвечать не может. Профессиональной радиоподготовки не проходил, стал радистом по случаю. Нефтеперегонный завод, по его мнению, — дело сложное. Он никогда раньше диверсиями не занимался. Своей задачей считал сбор информации. Лично встретиться с Кларой не имеет права — таков приказ центра. Любопытно, но не густо. Кто же этот Японец? Радист по случаю? В Южной тоже был задержан радист. Значит, им нужна связь. У них что-то раньше случилось со связью... Каиров захлопнул за собой дверь душного кабинета. На воздух. К набережной. Прыгая с блока на блок — они были громадные, железобетонные, обросшие мягким, как бархат, мхом, — Каиров спустился к морю, очутился возле воды, которая плескалась совсем тихо. Крутоносый катер серебристой окраски шел поперек бухты. Волны, подымавшиеся за кормой, точно крылья, быстро устремлялись к берегу, и море меняло цвет и искрилось, как костер. Сырой воздух, чуть различимым маревом висевший над морем и над набережной, источал запахи, самым сильным из которых был запах брома. Каирову здесь дышалось легко и свободно. Итак, Клара могла искать в штольне передатчик. Нашла она его или нет — записка на этот вопрос ответа не дает. Можно предположить, что она не нашла передатчика. Значит, нужно еще раз проверить эти старые штольни. Все следует проверять, даже маловероятные предположения. Такова одна из заповедей контрразведки. Как бы ни был хитер и умен враг, он всегда может совершить ошибку, выбрать не самое лучшее решение. Ему могут отказать нервы, изменить выдержка. Случай с Сизовым тому лучшая иллюстрация. Агент, прошедший разведшколу, был убит интендантским офицером при попытке завербовать последнего... Оборот непредвиденный. Неразоблаченный агент становится жертвой дилетанта. Этот вариант не сразу приходит в голову тем, кто его послал. В гибели Сизова они усматривают прежде всего действия советской контрразведки. Поспешный вывод рождает не менее поспешное решение — Погожева покидает госпиталь в Перевальном. Нервозность явная! Похоже, она оказалась одной из причин провала агента-радиста по кличке Длинный на станции Южная. Впрочем, территориальные органы государственной безопасности и внутренних дел хлеб даром не едят. И возможно, Длинный совсем не нервничал. Возможно, взяли его чисто и профессионально ребята наши только потому, что оказались опытнее, умнее... Ладно, не будем отвлекаться. Погожева, предположим, остается без связи. Вернее, у нее есть связь, аварийная, запасная, через какого-то Японца, которого центр не подчинил ей... Японец не радист. И не диверсант. Он собирает информацию. Японцем может оказаться старый, давно внедренный агент. Старый, давно внедренный... О безопасности Татьяны Чирков позаботился. В читальном зале, углубившись в чтение газет или журналов, постоянно сидел кто-нибудь из оперативных сотрудников. Посты были выставлены и возле дома, где жила Дорофеева. По дороге от места работы ее, разумеется, незаметно должны были сопровождать назначенные Чирковым люди. Он пришел к ней в библиотеку, выбрав момент, когда там не было посторонних. Она смотрела на него спокойно, без радости и без скорби. Будто никогда не была его женой. Будто они не любили друг друга, не были вместе счастливы. Он попросил ее пройти с ним за стеллажи. И, заслоненные книгами и полками, они стояли словно в длинном, высоком ящике. За долгие годы он впервые очень близко видел ее лицо. И понял, что кожа у нее не такая гладкая и свежая, как в прошлом. И взгляд другой — лишенный самоуверенности. Ясно, она не могла знать, для какой цели привел ее за стеллажи Чирков. Конечно, могла догадываться. Но и могла надеяться на иное, лучшее, потому что надеяться никому не заказано. Протянув бумажку с номерами телефонов, он предупредил: — Если придут с паролем, позвони по любому из этих телефонов. Спроси: «Вы заказывали «Былое и думы»?» Тебе ответят: «Неделю назад». Тогда скажешь: «Книга поступила». — Хорошо, — жалобно ответила Татьяна. — Тебе страшно? — Ничего. Только... Какой-то тип уже целый час сидит в читальном зале. — Это наш человек. Не пугайся. — Роксана нашли? — Еще нет. — Они убили его. — Или он дезертировал. Пожалел, что тебе доверился, и сбежал. — Нет. Они убили его. Татьяна говорит убежденно, точно сама видела преступление, но Чирков понимает, что она ничего не видела, что это страх. Обыкновенный, заурядный страх. Теперь он не чувствовал в душе злости на Татьяну. И сама она вся — обыкновенная, заурядная. Любви к ней у него больше не было. Он даже не очень осуждал ее, полагая, что женщина столь редкой красоты едва ли предназначена для одного мужчины, рядового, обыкновенного. Может, природа, создавая Татьяну, ориентировалась на Александра Македонского или Наполеона... — Как ты живешь? — спросила она. — Война. — Скоро кончится? — Доживешь, не состаришься... — Ты когда-нибудь вспоминаешь обо мне? — У меня редко бывает свободное время. — Зато я утопаю в нем. — Каждому свое... Не забудь про «Былое и думы». — На память не жалуюсь. «Да, жизнь пообтерла Татьяну, — рассуждал Чирков, шагая по улицам погружающегося в сумрак города. — Как в сказке. Попрыгунья-стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела... А кто успел?» У штаба Чиркову повстречался командир комендантского взвода, доложил: — Товарищ капитан, труп Роксана обнаружен, Только не у карьера, где мы искали его днем, а во дворе, под аркой, в водопроводном люке... Руки у командира комендантского взвода были в грязи и ржавчине. А лицо — синее, словно он замерз.Ейского кин ких королев
Вечер опускался теплый, лунный. Деревья шелестели листвой, и ветер был ласковый, осторожный. Он не касался земли, а скользил над ней, точно птица. И птицы радовались ему. Пели на разные голоса: звонкие, глухие, писклявые. Птичий гомон заполнял все небо, до самых звезд. И луна висела над горой... Желтый свет колыхался в море, дрожал на молодых листьях, свинцом застывал в развалинах. Развалины по-прежнему пахли гарью и битой отсыревшей штукатуркой. Но еще они пахли травой. И от этого теплело на сердце. Лучи прожекторов, взметнувшиеся над городом с вершин ближних гор, приняли на себя небо. И звезды зажмурились и стали мельче. Чирков сказал: — Знал ли Роксан что-нибудь о Японце? И кто его зарезал? Неужели женщина? — В разведшколах и женщин учат многому, — ответил Каиров. — Это так. Вот если бы нам удалось взять Погожеву живой! — Она могла не знать, кто такой Японец. И Сизов мог не знать. Здесь есть еще один момент. На мой взгляд, перспективный. Смерть Сизова, исчезновение Погожевой могли оставить Японца в одиночестве... — Если так, он заляжет, — сказал Чирков. — Он так и сделал бы, но... перегонный завод. Они жмут на этот завод. Длинный имел задание туда внедриться. Погожеву задержали у проходной завода, в записке Японца Кларе тоже есть упоминание об этом заводе. И очень ясное: «Никогда раньше диверсиями не занимался». Я уверен, центр будет давить на Японца. Скорее всего, ему пришлют помощников. Диверсантов-профессионалов. Он должен будет подготовиться к их встрече. Обеспечить надежной крышей и так далее... Вот тут-то он может выйти на Татьяну. И у меня предчувствие, что это случится. — Предчувствие к делу не подошьешь, — скептически заметил Чирков. — Мы люди разных поколений, капитан. Может, тебе и забавно, но я верю в могучую силу предчувствий. Я верил бы и в сны, но они мне никогда не снятся... — Счастливый вы человек. — Кто знает... Думаю, сны помогали бы мне. Относительно же предчувствий... Наша старушка земля была свидетельницей многих случаев, когда предчувствия сбывались, как приговор. — Охотно верю. Но считаю, что это не очень надежное оружие против абвера. — Против абвера нельзя брезговать никаким оружием. Вот поэтому, капитан, я разгадал тайну «ейского кин ких королев». — Есть такой город, Ейск, — вспомнил Чирков. — Был там однажды до войны. — Ейск в данном случае ни при чем, — ответил Каиров. — Вы помните, в Доме офицеров демонстрировался английский фильм «Победа в пустыне»... А в городе, между прочим, трудно с бумагой. Школьники пишут на газетах... И мне не давало покоя, что я где-то раньше видел шрифт с записки Погожевой. Тогда я вспомнил про плакат. Поспешил к начальнику Дома офицеров. К счастью, плакаты сразу не уничтожают. Их используют дважды. С одной и с другой стороны. А здесь кто-то оторвал нижнюю часть плаката. Это было сделано после того, как плакат был снят... Как видишь, Егор Матвеевич, «ейского» нужно читать «Армейского», «Кин» — «кинофотоотдела», «ких» — «Британских», «королев» — «королевских»... Теперь вопрос. — Кто это мог сделать? — По логике, прежде всего сотрудник Дома офицеров. Я попросил личные дела всех штатных работников. — Женщин можно отсечь, — сказал Чирков. — Японец — кличка мужчины. — Святая наивность, — усмехнулся Каиров. — В практике разведок не так уж мало случаев, когда мужскими кличками наделяли женщин, и наоборот. — Чего не знал, того не знал, — погрустнел Чирков. — Это в прошлом, — успокоил Каиров и продолжал: — Дела в полном порядке. Есть одно любопытное, но... можно сесть в галошу... Меня заботит другое... На музыкантов джаза нет личных дел. Второе, плакаты хранятся под лестницей, возле библиотеки. Туда ходят сотни людей... — Для начала читателей-офицеров можно исключить, По характеру записки Японец представляется мне гражданским человеком. — Попробуйте, капитан, будем работать в четыре руки, Время не терпит.Звонок в библиотеку
За всю свою жизнь Татьяна не испытала столько тревоги, сколько за последние два дня. Конечно, человек, знакомый мало-мальски с ее биографией, мог донять, что жизнь Дорофеевой не была сплошным праздником. Но семейные неурядицы печалили ее не больше, чем дождливая погода, А страха в буквальном смысле она не испытывала вообще. Сегодня же Татьяна боялась... Проснувшись ночью от какого-то неясного шороха, она долго лежала с открытыми глазами, не только умом, сердцем, но и кожей ощущая, что зло, черное и липкое зло рядом, ее могут убить, что она не бессмертна. Еще совсем недавно Татьяна не верила в свою смерть. Да-да!.. Она знала, что в каждом городе и даже маленьком поселке есть кладбища. Она знала, что идет война. Знала, что меняются поколения. Люди приходят и уходят. Но какое-то большущее, словно вселенная, чувство — нет, не исключительности, а, скорее, вечности — владычествовало в ней давно и безраздельно. Чувство это не было ласковым, добрым, послушным. Давая покой, оно с удивительной жадностью требовало беззаботности, радости, наслаждений. И Татьяна служила этому чувству верно, преданно. И не было у нее кумира, кроме самой себя. Страх пришел после встречи с Погожевой. Притащил за собой неуверенность. Жизнь, казалось, потеряла смысл. Стала тусклой, как запотевшее стекло. Каиров (он пришел в библиотеку, чтобы вернуть рассказы Горького), посмотрев на Татьяну с прищуром, недовольно гмыкнул. И ворчливо сказал: — За сутки вы постарели на целых десять лет. Татьяна прикусила губу, может, стараясь не расплакаться. Щеки ее, оставаясь бледными, порозовели у самых ноздрей. Тяжелый запах старой бумаги, недостаток света, сереющего за окнами, чуть возвышающимися над тротуаром, заляпанными грязью и зарешеченными, стол в фиолетовых пятнах, как в лишаях, — все это давило, угнетало, раздражало. Каиров не мог скрыть раздражения и не хотел его скрывать. — Зачем вы так сказали? — спросила Татьяна робко и жалостливо. — Вас как воспитывали папа с мамой? По-новому или по-старому? — Не понимаю? — Когда Татьяна удивлялась, ее глаза становились похожими на глаза ребенка. — С ремнем или без ремня? — Мирзо Иванович! — укоризненно сказала Татьяна. И улыбнулась. И платок теперь можно было не комкать в пальцах. За ненадобностью. — Понимаю. — Каиров приподнял ладонь. — Возможно, я покажусь вам консервативным мужчиной. Но я человек искренний... Я считаю, что на ниве воспитания, если говорить военным языком, ремень снят с вооружения преждевременно. — Какое счастье, что я не ваша дочь! — Одна из самых старых и неопровергаемых истин гласит, что человеку свойственно заблуждаться, и вещи, которые он порой принимает за счастье, на поверку оказываются не таким большим счастьем. Скорее, наоборот... — Из этого следует... — В глазах Татьяны было и любопытство, и хитринка, и даже улыбка. И еще что-то... Только не тоска. Нет-нет! — Из этого следует, — подхватил Каиров, — что нужно взять у начальника Дома офицеров скатерть и покрыть ею стол. Нужно взять тряпку, выйти на улицу и протереть окна. Нужно, наконец, открыть форточку... — Она не открывается, — пояснила Татьяна. — Этого не может быть, — сказал Каиров. — Мы заставим ее открываться... ...Визит Каирова приободрил Татьяну. Но, к сожалению, бодрости этой хватило только на полдня. ...Вяло, словно тяжелобольная, Татьяна вынимала абонементные карточки из узкого длинного ящичка, стоящего на ее столе по левую руку. Ящик был старый, некрашеный, утративший первоначальный цвет оструганного дерева, со следами пальцев и чернильными пятнами, выцветшими и совсем еще свежими. Книги отличались ветхостью, заношенностью и пахли, точно несвежее белье. Посетителей было мало. Они приходили по одному, чаще всего молодые офицеры, красовались перед Татьяной, острили, шутили. А она, обычно такая приветливая, отвечала сегодня невпопад, смотрела отчужденно и не улыбалась. Каждый раз, когда скрипела на поржавевших петлях входная дверь, Татьяна настораживалась и с волнением смотрела в дверной проем, ожидая увидеть чужое, незнакомое лицо, услышать слова пароля. Но лица все были, в общем-то, знакомые, примелькавшиеся. И взгляд ее угасал. И она опять оставалась наедине со страхом. Тот телефонный звонок раздался около трех часов дня. Примерно без семи минут. Татьяна подняла трубку и сказала: — Библиотека. — Татьяна Ивановна? — Мужской голос был ей незнаком. — Да. Слушаю. — Здравствуйте, дорогая Татьяна Ивановна. «Мне известно, что у вас есть пианино». Она вздрогнула и ощутила необычайную сухость во рту, и в горле, и в легких, а ладонь, сжимающая трубку, стала, наоборот, такой влажной, словно ее опустили в воду. Но это, конечно, было не самое главное. Главным и страшным оказалось то, что Татьяна забыла слова ответа. Сдавленным, не своим голосом она сказала: — Здравствуйте... А кто вы? А как... как вас зовут? — Это неважно, Татьяна Ивановна, «мне известно, что у вас есть пианино», — настойчиво повторил мужчина. — «Да, но оно испорчено». — «Могу предложить в обмен мешок картошки». — «Спасибо. Мне нужна мука». — Вот и хорошо. Договоримся! — весело сказал мужчина. — А сейчас, Татьяна Ивановна, приподнимите свой узкий ящик с абонементами. Прошу вас. Окончательно растерявшаяся Татьяна приподняла ящик. — Что вы там видите? — спросил мужчина. — Паспорт. — Правильно. Откройте паспорт — и вы найдете квитанцию в камеру хранения. Вам останется лишь сходить на вокзал и предъявить квитанцию с паспортом, чтобы получить в камере хранения свой чемодан. — А куда его деть? — Оставьте у себя.Книга поступила
По своей натуре, по складу характера Каиров был человеком медлительным. О нем нельзя было сказать, что он тяжел на подъем, или ленив, или апатичен. Но когда он проводил какую-нибудь операцию, то вначале напоминал неуклюжий паровоз, который долго-долго пыхтит на путях, медленно, будто нехотя, трогается с места и лишь позднее набирает крейсерскую скорость, способную вызвать удивление. Понятное дело, в работе контрразведчика бывают такие случаи, когда, подобно бегуну на короткие дистанции, нужно обладать отличным стартом, но, видимо, Каиров был рожден для далеких расстояний, расстояний, где можно начинать не спеша, приберегая силы для заключительного рывка. Он мог нравиться или не нравиться, но не считаться с ним было нельзя. Каиров придерживался того мнения, что поспешность чаще всего дает хотя и эффектные, но поверхностные результаты. Работая с молодыми сотрудниками, Каиров считал своим долгом воспитывать их, передавать собственный опыт, вызывать на споры, на разговоры. Любую паузу, свободную минуту он использовал для этих целей. Человек, не знающий его или знающий плохо, мог принять Каирова просто за пожилого мужчину, склонного к нравоучениям. Каиров жалел, что не имел возможности окончить какое-нибудь педагогическое заведение, и понимал, что с методикой дело у него обстоит плоховато. — Наше поколение, — любил повторять он, — пришло на землю в интересное время, но слишком бурное. Мы многое сделали, но далеко не все, на что имели право. — А можно ли сделать все? — как-то спросил Чирков. — И как понимать это «все»? — Условно понимать, Егор Матвеевич. Я полагаю, как ни печально, есть предел человеческим возможностям. Схематично его можно представить в виде круга. То, что внутри круга, я и называю «все». — Значит, предел есть? — В жизни одного человека — безусловно. Тот факт, что само наше существование ограничено временным отрезком, подтверждает мои слова. А если учесть, что и отведенные нам годы мы чаще всего используем не лучшим образом, то... Сами понимаете. Я, например, страдаю из-за отсутствия систематической, фундаментальной подготовки. До многого своим умом доходил. — Это же хорошо. — Хорошо, хорошо... Но не продуктивно. Все равно, что самому велосипед изобретать!В тот день у них был другой разговор. Но он мало чем отличался от приведенного выше. Разговор о жизни, когда высказываются обыкновенные, в общем-то, неновые вещи, Каиров поднял трубку. Татьяна Дорофеева, волнуясь, сказала: — Вы заказывали «Былое и думы»? — Неделю назад. — Книга поступила. — Вы не могли бы принести ее? — А где я вас найду? — Там, где и в прошлый раз. Вас будет ждать мой друг. — Хорошо. Узкие дощечки паркета, уложенные елочкой, поскрипывали под сапогами Чиркова, медленно ходившего по кабинету. Заложив руки за спину и опустив голову, он смотрел на сухой неначищенный паркет очень сложной цветовой гаммы, где было перемешано множество оттенков от желтого до темно-бурого. Да, везде и всюду есть оттенки. Людей одинаковых тоже нет, и дел, и поступков... Как всегда неторопливо, Каиров положил телефонную трубку. Откинулся на спинку стула. — С Дорофеевой кто-то вышел на контакт. Отправляйтесь в городской парк. Там будет ждать Татьяна. Выясните обстановку, в случае необходимости принимайте решение самостоятельно. — Слушаюсь! — четко ответил капитан.
Чемодан
Внезапно полил дождь. Небо осело. Оно не было темным, а, наоборот, удручало однообразным светло-серым цветом — первым признаком затяжного дождя. Вода оседлала улицы. И лужи расползлись по тротуарам, и ручьи затемнели, как трещины. Чирков, который вышел из штаба в кителе, без шинели, без плащ-палатки, заторопился, перебегая от дерева к дереву, где под зелеными молодыми листьями дождь стегал не так хлестко. Перед входом в городской парк была открытая площадка. И когда он бежал через нее, то вымок основательно. Входные чугунные ворота, сорванные взрывной волной, лежали на мокрой щебенке, но тесная кирпичная будка — в безмятежные довоенные времена здесь хозяйничала кассирша, дама солидная, высокомерная, — сохранилась, только покосившаяся дверь больше не закрывалась. В будке Чирков увидел Татьяну. Она тоже была без плаща. И серый двубортный жакет ее хранил следы дождевых капель. Она удивленно, но вместе с тем жалостливо и капризно произнесла только одно слово: — Ты? А он, готовый к встрече, негромко, без всяких эмоций спросил: — Что стряслось? Она торопливо достала из сумочки паспорт и квитанцию в камеру хранения. — Вот. И потом быстро-быстро, очень волнуясь, стала рассказывать, как ей позвонили на работу, назвали пароль, затем велели приподнять абонементный ящик, взять паспорт и квитанцию и получить на железнодорожном вокзале чемодан. Чирков раскрыл паспорт. Он был выписан на имя Деветьяровой Ефросиньи Петровны. Но фотография на паспорте была приклеена Татьянина. — Что мне делать? — спросила она. — Я сейчас запишу номер квитанции. Придешь получать чемодан через полтора часа. За это время я успею ознакомиться с его содержимым. — Хорошо, — сказала Татьяна. — Только мне страшно. — Крепись, — посоветовал он. — Сама влипла в историю. Никто не виноват. — Знаю, что сама, — ответила она, — потому и страшно. — Возьми пистолет, — сказал он, достав из кармана ТТ. — Я не умею стрелять. — Очень просто. Отведешь предохранитель и нажмешь курок. — Не надо. — Она покачала головой. — Зря... — Он спрятал пистолет. — Мне оставаться здесь? — покорно спросила она. — Иди к людям. Тут слишком пустынно. Татьяна кивнула: — До свидания. — Из камеры хранения чемодан отнесешь домой. И сразу же возвратишься в библиотеку.Площадь перед вокзалом лежала круглая. В центре — сквер, тоже круглый, как обруч, обсаженный рослыми кустами самшита. Скамейки были пусты из-за дождливой погоды. А люди прятались на вокзале, но все не могли втиснуться в здание, потому много солдат и женщин стояло под фронтоном у входа. И Чиркову пришлось смотреть требовательно и строго говорить: — Пропустите. От мокрых одежд шел пар. И сильно пахло хлоркой, которую медслужба, боясь эпидемий, совсем не экономила; пахло человеческим потом, махоркой, бензином, дешевым мылом и еще черт знает чем. Начальник вокзала провел Чиркова в камеру хранения. — Приемщик — человек надежный? — спросил Чирков. — Да. Женщина. Наш старый работник. Они разыскали нужный чемодан. Немного тяжеловатый для своих размеров. Чирков откинул крышку и увидел два поношенных платья. Синее, в белую горошинку, и салатовое. Капитан осторожно поднял платья. Под ними лежали бруски размером с хозяйственное мыло — толовые шашки.
Каиров выходит на цель
Она со страхом осмотрела библиотеку, уверенная, что за каждым стеллажом стоит человек, готовый лишить ее жизни. Свет, попадавший через низкие решетчатые окна, едва освещал полуподвал. И Татьяна, подойдя к своему столику, быстро включила настольную лампу. Желтый круг лег на старую газету, измазанную фиолетовыми чернилами, коснулся стенки ящика, где лежали читательские карточки, обласкал черный неуклюжий телефон. Однако темнота в углах загустела. И помещение казалось Дорофеевой еще мрачнее, еще зловещее... Выслушав доклад Чиркова, Каиров сказал: — Хорошо, что вы подменили содержимое чемодана. Плохо, что квартира Дорофеевой оставлена без присмотра. — Наблюдение есть. Наш человек стоит вот здесь. — Чирков коснулся места на плане города. — Он видит, кто выходит из-под арки и входит во двор. — В дом Дорофеевой можно попасть через крышу... — Но если кто-то придет за чемоданом... — начал Чирков. Каиров прервал: — Он, скорее всего, откроет его в квартире. Увидит вместо взрывчатки кирпичи и постарается быстро и незаметно скрыться. ...Татьяна вздрогнула. Телефон звонил требовательно, тревожно. Она выдохнула в трубку; — Да. — Татьяна Ивановна! — Голос мужчины, назвавшего пароль. — Я вас слушаю. — Вы получили чемодан? — Да. — Где он? — У меня на квартире. — Хорошо. Пусть полежит до завтра. — Мне все равно, — раздраженно ответила Татьяна. — Вы чем-то взволнованы? — Вам показалось. — Надеюсь, что это так... ...К вечеру распогодилось. Ветер утих. Пришедшие на смену тучам пушистые белые облака висели неподвижно. Небо между ними было не ярко-голубое, а дымчатое. И солнце, скатившееся за горы, подсвечивало розово и нежно. Каиров оставил машину за квартал от дома Татьяны. Сказал шоферу, чтобы не уезжал, дожидался его возвращения. — Если я не вернусь через час, позвони Чиркову. Пусть он прибудет на квартиру Дорофеевой. ...Женщина катила ребенка в коляске. Коляска была очень хорошей, довоенной, заботливо сбереженной. Бледно-зеленая, с белыми колесами и блестящей никелированной ручкой. Каиров отступил в сторону, пропуская женщину и ее ребенка. Ребенок лежал молча. И глаза на его лице казались пребольшими. Мужчина вставлял стекла. Почерневшая, с дырочками от гвоздей, фанера валялась прямо на тротуаре. Но стекла были не целые, а колотые. У подъезда на маленькой лавочке сидели две старушки и девочка-школьница. Старушки смахивали слезы, скорее радостные, чем печальные, а девочка читала вслух письмо. — ...А фашистов мы ненавидим люто. И бьем их от всей души. У нас есть знаменитый снайпер... Навстречу шла группа женщин. У всех — через плечо — противогазы. Знакомая арка. Каиров пересек двор. У бомбоубежища, как и в прошлый раз, играли дети. Репродуктор на столбе оглашал двор русской народной музыкой. Каиров поднялся на второй этаж. Ключами (Татьяна разрешила сделать вторые ключи для нужд сотрудников Каирова) открыл квартиру. Полумрак. Тишина. И конечно же, душно. Каиров направился к окну. Успел повернуть шпингалет, как вдруг услышал за спиной голос: — Руки вверх, полковник... Живее, живее! Или я стреляю. Никогда еще Каирову не приходилось поднимать руки. Да, занятие не из приятных. — Можете повернуться. В проеме распахнутой двери, ведущей во вторую комнату, стоял администратор гостиницы Сованков. — Долго мы вас искали, Японец, — сказал Каиров и опустил руки. — Руки, руки... — Пистолет Сованкова не дрожал. — Положи пистолет на стол, — сказал Каиров. — И можешь пока посидеть на диване. — Если вы сделаете хоть шаг, полковник, я выстрелю. — Зачем? — Мне нечего терять. — С подобными выводами вредно торопиться. — Не двигайтесь! Но Каиров спокойно приближался к Сованкову. Шаги были долгими, словно сама вечность. Или, может, время остановилось вдруг, внезапно, вопреки всем законам физики. Сованков почему-то вспомнил свою мать. Молодая, красивая, в красном ситцевом сарафане, она стояла у колодца и загорелыми руками вертела деревянный барабан, на который наматывалась мокрая пеньковая веревка. Это было непостижимо. Каиров приближался. Потела ладонь, потели пальцы, сжимающие пистолет. Но капелька пота дрожала у матери над переносицей, и степное небо синело за ее головой. Вода хлюпала в ведре, когда оно, холодное и темное, появилось между прелыми бревнами сруба. Потом мать ловко-сняла ведро с крючка. Вода еще и еще метнулась из стороны в сторону, перекатилась через край, шлепнулась в желтую пыль и запахла одуряющей свежестью. Палец лег на курок. Но сладко казалось, что в руке не пистолет, а гибкий ивовый прут, с которым хорошо бежать впереди матери и сбивать репейники у тропинки, взмахивая им, словно саблей. Пыль в верховьях Дона мягкая, теплая, если, конечно, лето, и светит солнце, и нет дождя. Когда же льет дождь, тогда пыль становится грязью, великой грязью, из которой не всегда способна выбраться даже лошадь с телегой. В такие дни хорошо сидеть у окна и смотреть за мокрый плетень, на мокрую улицу, где в широкой луже плавают утки. Они почему-то не мокрые и чувствуют себя в дождливую погоду очень хорошо. Мать, тряпкой вытирающая запотевшие окна, бывало, говорила: — Человек должен быть как утка. Таким же чистым. И чтобы никакая грязь к нему не прилипала. Глаза у матери, большие, удивленные, — в деревне такие называли коровьими — становились тогда грустными. И вся она казалась обиженной и не очень молодой. А еще она любила петь песню про тонкую рябину, которая не может перебраться к дубу. Старательно выводила ее и даже вытирала платочком слезы. Отец в сердцах хлопал по столу кулаком, устало говорил: — Кончай выть! Отец был бородатый, от него всегда пахло лошадью и овчиной. Каиров вынул из кармана портсигар. Усмехнулся Сованков. Вспомнил, в первый раз курил с мальчишками в овраге, возле старой ветряной мельницы, на которой, может, уже полвека никто не молол муку. Курили листья вишни, подсушенные на солнце. Дым не то чтобы был противным, но голова от него не кружилась, хотя мальчишки обещали это твердо. Наоборот, было ощущение пустоты и холодной слабости. А трава была зеленой. И были стрекозы, и кузнечики, и птицы, и все другое, что можно увидеть в погожий летний день. Сованков посмотрел в окно. Вечерело. И солнце, совершенно розовое, погрузилось в море ровно наполовину. Сованкову вдруг стало страшно, словно он испугался за солнце. Возникло ощущение пустоты и холодной слабости, как тогда в овраге, за старой мельницей. Каиров сказал как-то уж очень равнодушно: — Положите оружие. И Сованков понял: дом оцеплен. И не только дом, но и все входы и выходы. И еще понял: жизнь и смерть полковника Каирова не принадлежат ему, Сованкову, как и сам он сейчас не принадлежит себе. Без надежды, на всякий случай, он сказал: — Стойте. Вы делаете последний шаг. — Не будь дураком, Японец. На тот свет никто и никогда не опаздывал. — Что вы мне предлагаете? — спросил Сованков и ощутил, как пересохло в горле. — Кроме пули в лоб может быть еще только одно предложение! — жестко и сухо сказал Каиров. — Работать на нас! — Какой смысл? — Это уже другой разговор. Давай пистолет, Японец. И садись на диван. — На диван я сяду, но пистолет не отдам. — Тогда спрячь его к черту! Не будь ребенком. Весь дом оцеплен. Сованков спрятал руку с пистолетом в карман плаща. Боком прошел к дивану. Каиров опустился на стул. Сказал: — Спрашиваешь про смысл. Смысл верный — сохранить себе жизнь. — Как вы меня нашли? — Прочитал ваше личное дело. Вы — участник русско-японской войны. И должен заметить, что кличка вам подобрана неудачно. У меня возникли некоторые подозрения. Ну а после звонка к Дорофеевой я решил установить за вами наблюдение. К тому же я знал, что диверсия для вас дело новое. Опыта вы не имеете. И ваша прозрачная хитрость была рассчитана на Татьяну. Мы не сомневались, что вы не станете ждать до завтра и возьмете взрывчатку сегодня. — Просто. — Верно. Мысль предельно простая. И я решил ее проверить. — Ваши условия? — В деталях обговорим позднее. А в общих чертах — работа под нашим руководством. Разумеется, без обмана. Если немцы вас не пристукнут, значит, будете жить... Кончится война. Законы станут менее суровыми. — Все равно мне дадут большой срок. — Л что делать? — Вам — я не знаю:.. А мне — пустить себе пулю в лоб. — Красивая фраза. — Фраза, может, и красивая... Только вот надоело все, опротивело... Всю жизнь, как прокаженный, от людей таился, под страхом жил. — Когда завербовали? — Давно. В Японии. В девятьсот пятом я в плен попал... — Тщательно скрываемый биографический факт. — Велели. — Японцы? — Немцы. — Ладно, предадимся воспоминаниям в другом месте. А сейчас лишь скажите, кто разрешил выйти на контакт с Дорофеевой. Судя по всему, вас оберегали тщательно. — Таков приказ центра. Когда я сообщил, что Клара не отзывается, они запретили мне пользоваться почтовым ящиком. — Где он? — В доме пять на улице Фрунзе. — Продолжайте. — Велели подыскивать человека с нефтеперегонного завода. Они давно просили это сделать. И я предложил им одного. В довоенные годы воровал он. Кличка у него была Ноздря. И шрам через лицо. — Знаю, — ответил Каиров. — В бытность начальником милиции приходилось сталкиваться. — Вчера они одобрили его кандидатуру и разрешили иметь дело с Дорофеевой. — Где радиостанция? — У меня на голубятне. Каиров встал. — Хватит, поговорили. Давай оружие. И пойдем. Сованков поднялся с дивана, положил пистолет на стол. — Больше нет? — Обыщите. — Голос безразличный. — Пошли, — Каиров спрятал пистолет Сованкова в карман. Глаза привыкли к полумраку. Каиров, разглядывая Сованкова, видел, что перед ним старый, усталый человек, Походка неуверенная, спина сутулая. Они вошли в прихожую, и вдруг Каиров почувствовал острую боль в груди, головокружение. Сованков был уже на пороге. Каиров хотел остановить его. Но... Речь не повиновалась. Руки и ноги тоже. Через несколько секунд полковник Каиров сполз по стенке и упал поперек прихожей.Дом свиданий — Япония, 1905 год
— Это странная нация, — сказал светловолосый Фриц, отхлебнув из маленькой фарфоровой чашки рисовую водку, подогретую, отвратно пахнущую. — Белый цвет, к примеру, в Японии — цвет печали и траура. Сованков понимающе кивнул. Они сидели на циновках в просторной, но совершенно пустой комнате, перед ними стоял низенький, словно детский, столик, на котором белели три крохотные чашки и удлиненный фарфоровый сосуд с поразительным по красоте рисунком: журавль, черепаха, сосна и бамбук. Сованков уже слышал от Фрица, что рисунок этот символизирует долголетие. — Мы кого-то ждем? — спросил Сованков. — Герра Штокмана, — ответил Фриц. — А женщин? — Вы, русские, крайне нетерпеливы... — усмехнулся Фриц. — А между тем у вас есть умнейшая пословица: сделал дело — гуляй смело. — Глаза у Фрица холодные, как у черепахи, а шея тощая, точно у журавля. Он вновь поднимает чашку. Неторопливо произносит: — Культ любви в Японии имеет древние традиции. Для гетер существует сложная табель о рангах. На вершине его — тайфу, опознавательный знак — золотой веер. Далее тэндзин — серебряный веер... Где-то в конце — хасицубонэ... — Какой опознавательный знак? — Он вам не потребуется. Сегодня вы разделите ложе с тэндзин. Я же, как ваш старший товарищ, с тайфу. — А герр Штокман? — Герр Штокман не спит с женщинами. Он работает. — Верно сказано, Фриц, — произнес по-русски, но с акцентом лысый, низкого роста человек. Он появился в комнате словно из-под земли. — В моем возрасте работа — это одно из немногих доступных удовольствий. Фриц, а за ним Сованков вскочили. — Садитесь, господа. — Он был смешон в своем дорогом костюме, без туфель. Тоже местная традиция! — Человек до конца жизни может не научиться ценить деньги, но о времени, рано или поздно, как это говорят в России, он спохватится. Господин Сованков, я много слышал о вас хорошего от моего друга Фрица. Буду краток... Россия проиграла войну. Япония победила. Но она победила не русский народ, а косную русскую государственную машину. Эта машина, если ее вовремя не заменить, приведет Россию к гибели. Помните, Сованков, сотрудничая с Германией, вы являетесь прежде всего подлинным патриотом своего народа... Завтра вы возвращаетесь в Россию. Поезжайте на Черноморское побережье Кавказа. Осядьте в удобном для вас порту. Купите трактир. И назовите его «Старый краб». Клиентуру выбирайте среди моряков. Наблюдайте, запоминайте. Ничего не записывайте. Однажды к вам придет наш человек и скажет: «Я лучший друг Фрица». Поступите в его распоряжение. — Штокман умолк. Пристально посмотрел на Сованкова: — Вопросы есть? — Может, мне поменять фамилию? — Нет. Будете работать под своей фамилией, с подлинной биографией. Ваша агентурная кличка — Японец. — Почему? — Так нужно. Если вопросов больше нет, до свидания, господа. Приятной вам ночи.Паутина
Герр Штокман знал цену копейке. Не успел Сованков поселиться на Черноморском побережье, как уже через неделю пришел к нему человек с совершенно незапоминающимся лицом и объявил себя другом Фрица. Пробыл он у Сованкова около месяца. Обучил его тайнописи, фотографии, некоторым приемам шпионского ремесла. Затем Сованков устроился учетчиком в управление порта. Немецкую разведку интересовали сведения о товарообороте порта, тоннаже судов, политическом настроении в среде рабочих, интеллигентов, обывателей... В четырнадцатом году, когда началась мировая война, отрабатывать немецкие деньги стало хлопотнее, опаснее. За шпионаж грозила смертная казнь. Между тем в доме Сованкова время от времени появлялись хмурые, молчаливые люди с тяжелыми чемоданами. А потом в порту взрывались суда, горели склады... Осенью 1919 года связь с «друзьями Фрица» прервалась. Сованков женился. Но вскоре жена умерла от сердечного приступа, не оставив ему детей. С тех пор он жил бобылем в своем небольшом доме при запущенном фруктовом саде... Никто не ждет вечно наград или наказаний за совершенный проступок. Проходит время, туманится... И былое кажется сном. Летом 1935 года Сованков увидел возле своего забора семью. Сразу было понятно, что это курортники. Мужчина в соломенной шляпе и белом чесучовом костюме. Моложавая женщина в сарафане. И двое мальчишек дошкольного возраста. Мужчина устало и невесело произнес: — Нам сказали, что вы сдаете комнату. — Никогда этого не делал, — ответил Сованков. — Как же нам быть? — сокрушенно спросила женщина. — У меня подкашиваются ноги. Сованков пожалел ее. Чем-то она напоминала ему покойную жену. — В доме четыре комнаты, — сказал он. — Я живу один. Пожалуйста, поселяйтесь. Только постельное белье стирайте и меняйте сами. Так они и поселились у него, эти люди из Ленинграда. Прожили четыре недели. А в день отъезда мужчина в соломенной шляпе вызвал Сованкова в сад. И тихо, чтобы никто не слышал, сказал: «Петр Евдокимович, знаете, я лучший друг Фрица». Подкосились ноги у Сованкова. Словно лодка, закачался в глазах белый свет. Опустился он на скамейку. Задохнулся... — Вы не волнуйтесь, Петр Евдокимович. Ничего особенного от вас не требуется. Живите как и жили. Пустячная информация. Только информация. Раз в месяц будете посылать письмо по оставленному мною адресу. — Что я должен писать? — То, что и раньше. Сущие пустяки. Какие корабли приходят в порт, какие уходят. Что привозят, что увозят. Характер продукции местных заводов. Станции назначения для грузов... — Я ничего об этом не знаю. — Понимаю... Проявляйте неназойливый интерес. По мере возможностей. — А если я откажусь? Я же тогда по глупости, по молодости... — Не думаю, чтобы вам удалось убедить в этом органы НКВД. Молчал Сованков тяжело, придавленно. Потом сказал: — Уж долго вы не приходили. Свыкся с мыслью, что нормальный человек... — Великолепно! Это лучшее, что может быть. Мы на вас очень рассчитывали. Мне поручено передать вам солидную сумму денег... Это неправда, что деньги не пахнут. Сребреники за предательство пахнут страшнее и отвратительнее, чем самая мрачная свалка. И если иуда не способен использовать их для разгула и сластолюбия, они тяготят его, как трудная, опасная ноша. Пусть бы «друзья Фрица» пришли к Сованкову просто так... Легче было бы на душе. Ой как легче! Две пачки сторублевок в банковской упаковке он спрятал на балке под крышей сарая. Тряпка, в которую были завернуты деньги, покрылась слоем терпкой на запах пыли. И паук-крестовик сплел над ней свою сеть, замысловатую, цепкую. Верящий в сны и приметы Сованков увидел в этом недоброе предзнаменование. Он не прикасался к тряпке с деньгами. Лишь иногда смотрел на нее печально и скорбно, как на могилу. Раз в месяц он аккуратно отправлял письмо, где удручающе одинаково сообщал «племяннику» о состоянии здоровья, о погоде, о видах на урожай фруктов, винограда, овощей. Между строк старческих жалоб и надежд, написанные невидимыми чернилами, к «племяннику» уходили сведения: «В порт прибыл сухогруз «Эллада» с партией марганцевой руды...», «В доках судоремонтного завода находятся три теплохода общим водоизмещением...», «В аптеках города четвертую неделю нет в продаже бинтов и ваты...». «Племянник» мягко благодарил «дядю» за внимание. Интересовался системой работы портовых маяков, воинскими перевозками, противохимической пропагандой среди местного населения. Нужные сведения не всегда шли в руки. Добывать их было хлопотно, а порой и рискованно. Попробуй, допустим, узнать, каким числом противогазов располагают местные власти... На подобные вопросы он обычно отвечал: «Узнать не могу, не по силам это мне, не по способностям...» Как говорится, все гениальное просто. И Сованкову наконец пришла в голову мысль, которая могла прийти ему и месяц, и два, и год назад. Он решил сменить место жительства. Уехать в Среднюю Азию, прихватив, разумеется, деньги «друзей Фрица». А там затеряться в глухомани. При первой возможности достать документы на новую фамилию. И пусть тогда немецкая разведка ищет своего бывшего агента столько, сколько ей угодно! Но уехать вдруг, вот так сразу, бросив все, было нельзя. Внезапное исчезновение привлекло бы внимание уголовного розыска. Там могут подумать, что Сованкова кто-то убил. Начнется следствие и так далее... Помимо всего прочего существует сложность с пропиской, с которой тоже нельзя не считаться. Значит, нужно уволиться с работы, продать дом, выписаться. Проделать все это необходимо без лишней огласки. Кто может поручиться, что в городе нет агентов, докладывающих о каждом шаге Сованкова. С работой просто. От должности отказаться легко, мотивируя возрастом и здоровьем. Сложнее с домом. Без объявления его не продашь... Какой бы выход из положения нашел Сованков, гадать трудно. Началась война... Уже на четвертый день пришел человек с паролем. Он сказал: — В этом чемодане передатчик. Я проживу у вас двадцать дней, двадцать дней буду учить работать на ключе. Потом вы спрячете передатчик. Очень надежно. И станете ждать сигнала. — И еще он сказал: — Вы работали вяло. Думаю, доблестное наступление наших войск вселит в вас энергию, товарищ Сованков. Слово «товарищ» он произнес иронически и даже чуть презрительно. Сованкову стало обидно, и очень пакостно сделалось на душе. И захотелось дать по морде радисту, по гладковыбритой, молодой. И он сделал это с удовольствием. Радист перевернулся вместе со стулом. Врезался в тумбочку трельяжа. Центральное, большое, зеркало вылетело из рассохшейся рамки и упало на голову радисту, расколовшись на куски. — Сопляк! — сказал Сованков. — Я в разведке с девятьсот пятого года... Только минуту он верил в то, что имеет право так сказать. И произносил слова зло и гордо. И этого оказалось достаточно, чтобы желторотый радист оттуда, из-за кордона, признал в нем силу. И, потирая ушибленную спину, почтительно сказал: — Виноват, господин Сованков. Виноват... Освоив работу на рации и выпроводив радиста, Сованков оборудовал тайник в голубятне, под гнездами. Скупые газетные сообщения и строгий голос московского диктора говорили о том, что немцы продвигаются. Сованков слушал радио, и дыхание замирало от удивления: бойко наступали немцы, бойко... Теперь он был заинтересован, чтобы война кончилась скорее, и непременно победой армии Гитлера.Куда же бежать?
Пятно было подвижным, светлым, непрозрачным. Оно возрастало в объеме, грозя заполнить пространство, необъятное и темное, будто вселенная. Веяло холодом, сыростью, гнилью. Подобно пару, пятно вдруг начало таять, и Каиров различил лицо старой женщины, которая внезапно улыбнулась беззубым ртом и сказала: — Возродился, милый... Каиров увидел, что он лежит поперек прихожей. Услышал голос Сованкова: — Мы не перенесли вас в комнату. Я думал, это инфаркт. При инфаркте нельзя тревожить... — Дайте мне руку, — сказал Каиров. Сованков не заставил себя просить дважды. Когда Каиров поднялся, старушка соседка сказала: — Водицы испил бы, родимый... — Нет, ничего... Спасибо, — ответил Каиров. Он был еще слаб, но сознание работало нормально, и дыхание тоже наладилось. — Пошли, — сказал он Сованкову, пропуская его вперед. — А дверь? — удивилась старушка. — Позабыли закрыть дверь. — Да... Заприте, пожалуйста. — Каиров бросил ключи. Сованков остановился. — Ты благоразумный человек, — сказал Каиров. — Я старый и битый человек... Только и всего. Удивляетесь, почему не убежал? — Нет. — И я так думаю... Куда же мне бежать? Навстречу пуле? Старушка вернула ключи. Сованков сказал: — Я звал ваших ребят, но они почему-то не откликнулись. — Дисциплина, — ответил Каиров. Спускаясь по лестнице, он дышал глубоко и спокойно. И тело было легким, послушным. Думать о том, что случилось в темной прихожей, не хотелось. Каиров мог себя заставить не думать о чем-то. Это умение было просто личным счастьем полковника. Однако далось оно не сразу, нет... В 1921 году, посланный в Фергану на борьбу с бандой Муэтдинбека, старший следователь военного трибунала Туркестанского фронта Каиров впервые столкнулся с такой мерой человеческой жестокости, о которой не мог и подозревать. 13 мая 1921 года на Куршабо-Ошской дороге Муэтдин Усман Алиев произвел нападение на продовольственный транспорт, двигающийся в город Ош. Где-то в давних архивах, в пожелтевших папках, до сих пор хранится акт обследования места происшествия, составленный Каировым.«Согласно полученным данным транспорт сопровождался красноармейцами и продармейцами, каковых было, до 40 человек. При транспорте находились граждане, в числе коих были женщины и дети; были как русские, так и мусульмане. Вез транспорт пшеницу — 1700 пудов, мануфактуру — 6000 аршин и другие товары. Муэтдин со своей шайкой, напав на транспорт, почти всю охрану и бывших при нем граждан уничтожил, все имущество разграбил. Нападением руководил сам и проявлял особую жестокость. Так, красноармейцы сжигались на костре и подвергались пытке; дети разрубались шашкой и разбивались о колеса арб, а некоторых разрывали на части, устраивая с ними игру «в скачку», то есть один джигит брал за ногу ребенка, другой за другую и начинали на лошадях скакать в стороны, отчего ребенок разрывался; женщины разрубались шашкой, у них отрезали груди, а у беременных распарывали живот, плод выбрасывали и разрубали»*["14].Трое суток Каиров не мог сомкнуть глаз, трое суток не мог прикоснуться к пище. На четвертые он твердо понял: либо нужно менять прогрессию, либо вырабатывать в себе качества характера, необходимые для борьбы со всякой сволочью, какой бы жестокой и мерзкой она ни была. Расплата, расплата, расплата... Эта мысль вытеснила другие. И была главной для Каирова целых шестнадцать месяцев. Только 26 сентября 1922 года в 11 часов 30 минут на площади Хазратабал в городе Оше полевая выездная сессия военного трибунала Туркестанского фронта, руководствуясь статьями 58, 76 и 142 УК РСФСР, приговорила Муэтдина и его сообщников к расстрелу. Потом было много разных дел. Но это первое свое дело Мирзо Иванович теперь уже не забудет никогда... Сованков, сутулясь, вышел во двор. Каиров следовал на шаг сзади. Вечер был еще светлым. Но первые звезды уже смотрели с неба. И деревья не зеленели, а мерцали тускло, будто укрылись на ночь темным покрывалом. По радио передавали вечернее сообщение Информбюро: наши приближались к Севастополю. Чернота арки осталась позади. Они вышли на улицу. Там было пустынно. Лишь вдалеке стояла машина Каирова и рядом с ней несколько сотрудников особого отдела...
Прощание
— Вот и все! — сказал Каиров в телефонную трубку, прикрывая ее ладонью, потому что люди в кабинете разговаривали громко, кажется, спорили. — Так и не попил я, Нелли, твоего виноградного вина. — А зря, — пожалела Нелли. И похвалилась: — Вино — высший сорт. — Не обделяй им Золотухина. — Он и от воды пьянеет. — Нелли, ты неисправима. Говорить мне так о своем муже! Не забывай, мои предки исповедовали ислам. А в коране прямо сказано: «Мужья стоят над женами за то, что аллах дал одним преимущество перед другими». — Я неверующая, — весело ответила Нелли. Катер уходил до рассвета, около четырех утра, когда ночная мгла лишь начинала рассасываться и свинцовое море не баловалось бликами, а мерцало, словно застывшее, потому что рассмотреть движение волн было невозможно, как нельзя было рассмотреть и берег, различить на нем дома, улицы, деревья. Даже вершины гор, сонные, еще лежали в обнимку с небом, убаюканные посвистом соловьев, да и не только соловьев, но и других птиц, названия которых Каиров просто не помнил. Свежим и чистым был воздух, и дышалось легко, и не приходило ощущение усталости, душное, как тесный воротник. Длинный причал нечеткой чернью рассекал бухту. Из крохотной будки, стоявшей у входа на причал, вышел матрос в бушлате и с винтовкой. Матрос и винтовка показались Каирову очень большими, он с удивлением посмотрел на маленькую будку, покачал головой. Проверив документы у Каирова и Чиркова, матрос отдал честь. Сказал: — Проходите. Доски на причале были влажными. Пахли солью. Соль откладывалась на них годами. Доски почернели, обветшали. А Каиров помнил этот старый причал молодым, пахнущим лесом. Все стареет. Причалы — тоже. Каиров не предполагал уехать так внезапно. Он рассчитывал покинуть город, повидавшись еще с Золотухиным, Нелли, Дорофеевой. Думал побеседовать с шофером Дешиным... Однако радиограмма, вызывающая его в штаб фронта, поступила сразу же после сообщения о завершении операции «Будда». Каирова ждало новое задание, судя по всему, не терпящее отлагательств. — Не забудьте показаться врачу, — напомнил Чирков. — Игрушки все это, сынок. Каиров будет жить до ста лет. У нас род долгий. С тральщика, что пришвартовался с правой стороны причала, санитары выносили раненых. Носилки не были накрыты простынями. Матросы лежали в разорванных тельняшках. И бинты были темными от крови. — Здравствуйте! — Голос Аленки. И сама она в матросском бушлате. Идет рядом с носилками. Мужчины останавливаются. — Это хороший знак, — говорит Каиров. — Увидеть знакомого — все равно что присесть перед дорогой. — Давайте посидим, — предлагает Аленка. — Несколько секунд ведь можно. — Можно, но не нужно. Все будет хорошо, Аленка, — улыбается Каиров. — А вы молчите? — Аленка обращается к Чиркову. — Вы оказались здесь так неожиданно, — смущенно говорит капитан. — Совсем нет... Приехала за ранеными. — Я понимаю. Я выразился неправильно. — Вы все правильно сказали. Я к вам придралась. Чирков спросил: — Что вы делаете Первого мая? — Дежурю. — Да... — Чирков говорит тихо и грустно. — У меня тоже будет какое-нибудь дело. — А если не будет, приезжайте, — приглашает Аленка. — Я дежурю до шести вечера. — Теперь темнеет поздно, — отвечает Чирков. — Весна же... — Аленка поворачивается к Каирову: — Счастливого пути. — Спасибо. А знаешь... Дай-ка я тебя поцелую, дочка. Плечи у Каирова широкие. И голова Аленки исчезает между ними. Катер возле пристани переваливается с борта на борт. Кто-то невидимый размахивает впереди зеленым фонарем, И линии получаются, как большие листья. — Теперь можно отчаливать, — говорит капитан-лейтенант. Каиров протягивает Чиркову руку: — Я тобой доволен, Егор Матвеевич. Рад буду, если еще придется вместе работать. А вообще... Бодрости тебе, лихости, смелости... Только не покоя. Застучали моторы. Метнулись над берегом вспугнутые чайки. Корма катера поползла влево медленно, почти незаметно. Темное пространство воды, хлюпающей о старые сваи, вдруг стало расширяться, вытягиваться, поигрывать скупыми предрассветными бликами. Потом катер осел, замер, стряхнул оцепенение и рванулся к створу портовых ворот. След за ним потянулся широкий, курчавый, белый, словно тополиный пух.В.Владимиров, Л.Суслов Агент абвера
Его настоящее имя — Мокий Демьянович Каращенко. Он — один из бойцов незримого фронта. В годы Великой Отечественной войны советский чекист вел напряженную, полную смертельного риска борьбу с коварными, беспощадными и опытными врагами. Это была безмолвная, но ожесточенная схватка. О ее ходе и результатах гнали лишь непосредственные начальники героя нашей повести. И после войны никто из окружающих этого скромного человека — ни соседи, ни даже родные и близкие — не знали и не догадывались о совершенном им подвиге. Настала пора рассказать о человеке, контрразведывательная работа которого позволила обезвредить многих особенно опасных шпионов и диверсантов, заброшенных фашистской разведкой в нашу страну. События, о которых говорится в повести, происходили более четверти века назад. Однако и сейчас еще нельзя во всех деталях раскрыть характер и методы, все тонкости работы чекистов в тылу врага. Многое еще должно сохраняться в тайне. По этим соображениям имена некоторых действующих в повести лиц изменены, отдельные эпизоды боевой биографии Мокия Демьяновича опущены. Тем не менее авторы, рассказывая о советском контрразведчике, придерживались документальных данных.Глава первая Друг или враг?
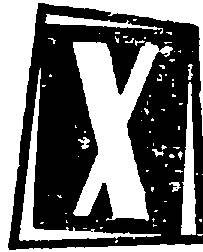 мурым осенним утром 1943 года в приемную начальника контрразведки Ленинградского фронта вошел худощавый, небритый человек в измятой полевой форме советского офицера. На плечах его были капитанские погоны. Узкоплечий, невысокого роста, заметно прихрамывающий на левую ногу, он выглядел чрезвычайно усталым, но бодрился, стараясь сохранить военную выправку. Лицо его решительно и спокойно.
Адъютант начальника контрразведки младший лейтенант Жаворонков, совсем молодой офицер, с нескрываемым любопытством рассматривал незнакомца. Он уже слышал об этом человеке и теперь испытывал двойственное чувство к нему. Жаворонков знал, что Мокий Демьянович Каращенко был уполномоченным особого отдела НКВД в пограничном отряде, но в начале войны попал в плен. Его завербовала немецкая военная разведка — абвер — и после обучения в специальной школе направила в наш тыл со шпионским заданием. Однако работать на гитлеровцев Каращенко не стал. Явился в отдел контрразведки дивизии с повинной и вот теперь доставлен сюда, в Ленинград.
Приглядываясь к Каращенко, младший лейтенант Жаворонков, с невольным уважением отметил выдержку капитала, умение владеть собой. Тот ведь не мог не понимать всей сложности своего положения. Ему, немецкому шпиону, рассчитывать на добрый прием не приходилось. Добровольно перейдя на службу к врагу, он в глазах каждого советского человека стал изменником, предателем Родины. В то суровое время, когда героический Ленинград все еще находился в опасности, с предателями не церемонились. Каращенко не мог не знать об этом. И все же пришел к чекистам и во всем сознался. Он сообщил ценные разведывательные данные. Если доставленные им сведения достоверны, наше командование сумеет глубоко проникнуть в замыслы противника. Но ведь абверовцы могли специально направить своего агента, чтобы он подсунул нам ложные, дезинформирующие сообщения. Кто же он, этот Каращенко, друг или враг?
Даже не поднимая глаз, Мокий Демьянович чувствовал на себе быстрые испытующие взгляды Жаворонкова. Он догадывался, о чем думает этот молодой офицер. Для пего, как и для многих других, Каращенко был вражеским лазутчиком. Попробуй-ка доказать, что и во вражеском стане ты остался советским патриотом, солдатом народной войны.
Терпеливо ожидая вызова к генералу, Каращенко нахохлился в глубоком кресле. В окно били косые струйки дождя, подгоняемые порывистым ветром с Балтики. Шорох водяных капель помогал сосредоточиться, отвлечься от тревожных дум, вызванных неопределенностью положения. Вспомнились далекие годы детства, юности.
…Бедный украинский хутор, разоренный поборами войтов да урядников, сиротская доля. Ласки не видел ни от кого. Зато обид, упреков, побоев — не счесть. Родители умерли рано, пришлось жить у тетки. Ей лишний рот — в тягость. Вот и начал сам на жизнь зарабатывать. Батрачил у кулаков за кусок хлеба, за драную одежонку. А хозяин еще и попрекал:
— Дармоед ты, больше жрешь, чем работаешь!..
Однажды во время уборки свалился с жатки. Устал сильно, не выспался — на работу-то его затемно поднимали, вот и не выдержал, клюнул носом и упал под ножи. А лошади рванули. Истекающего кровью мальчонку хозяин лишь кнутом вытянул:
— Убирайся с поля! А то сдохнешь здесь, так еще отвечать придется…
Как живым до дому добрался — и не помнит. До осени потом хворал. Спасибо, знахарка на ноги поставила, травами выходила. Слабым после болезни себя чувствовал, да отлеживаться долго не пришлось. Голод — не тетка. Устроился поденщиком в имение помещика Каминского за десять копеек в день. Там тоже не жизнь, а мука. Сам помещик в имении не бывал — жил в Варшаве. Все дела вершилуправляющий — жадный и лицемерный шляхтич Домбжецкий. Вес жилы из работников вытягивал, да так ласково, со ссылками на библию, на закон божий.
— Ойтец свенты смутьянов не поважает… Працуй, хлопак, смири гордыню свою — и пан Езус примет тебя в царствие небесное.
“Отправить бы тебя, черта жирного, к папу Езусу”, — думал порою батрачонок, но даже мысли такие старался запрятать поглубже: узнает управляющий — запорет.
Только после Октября бывший батрак увидел свет. Чем только не приходилось заниматься, где только не довелось побывать ему! Отслужил в армии, поработал на транспорте, учился в военном училище, а потом ловил бандитов в Подмосковье, охранял границу в Кавказских горах, подстерегал контрабандистов в Ленинградском порту — всякого пришлось повидать. Трудно было, но и радостно. Бывший неграмотный батрачонок стал образованным человеком, командиром. Война перечеркнула прошлое. Плен, концлагеря, шпионская школа… И вот теперь у своих. Поверят ли? Там, в кабинете начальника, решалась его судьба. Думая об этом, Каращенко вполголоса произнес:
— Скорее бы уж кончилось…
Младший лейтенант Жаворонков удивленно вскинул брови, но промолчал. Каращенко заметил это, подумал: “Ну вот, я и заговариваться начал”. В это время распахнулась дверь кабинета и в приемную вышел коренастый подполковник с большой лысой головой. Раскрасневшийся, возбужденный, он лишь мельком взглянул на капитана и сразу же отвернулся. Каращенко знал его: подполковник Светловидов беседовал с ним накануне. И беседа эта оставила у Каращенко тяжелое впечатление.
— Вызвать машину и конвой, — приказал подполковник. — Старший наряда пусть ожидает распоряжений у дежурного.
— Есть, вызвать машину! — отчеканил Жаворонков и искоса глянул на Мокия Демьяновича.
В лице капитана не было ни кровинки. “Значит, все, — подумал он. — Не поверили…”
Светловидов так же стремительно, как и вышел, возвратился в кабинет генерала и плотно захлопнул за собой дверь. Из кабинета не доносилось ни звука. Но там обсуждался вопрос исключительной важности. От него зависели судьбы тысяч людей, успешное решение задачи стратегического значения.
В январе сорок третьего года советские войска прорвали блокаду Ленинграда и намного улучшили положение города. И все же Ленинград продолжал оставаться фронтовым городом. Советское командование разрабатывало план нанесения нового удара по фашистским войскам, чтобы окончательно отбросить их от Ленинграда. В этих условиях появление Мокия Демьяновича Каращенко с обстоятельными данными о положении дел за линией фронта пришлось весьма кстати.
Контрразведка и штаб фронта тщательно изучали сведения, доставленные Каращенко. Сопоставляя их с данными, полученными из других источников, работники штаба уточняли неясные ранее вопросы, разгадывали замыслы немецкого командования. Наше командование все яснее представляло положение группы армий “Север”.
Сильно потрепанные в предыдущих боях, немецкие дивизии еще не восполнили свои потери. Они не в состоянии были нанести немедленный ответный удар по советским войскам. Упустив инициативу, гитлеровцы с тревогой ожидали нового наступления советских войск и предпринимали лихорадочные меры к тому, чтобы определить направление главного удара и своевременно перегруппировать силы. Судя по имеющимся в штабе фронта сведениям, немцы не знали, куда будет нанесен удар: на Котлы–Кингисепп или через Пулково на Ропшу. Командованию фронта важно было заставить их поверить, будто главный удар будет нанесен на Котлы–Кингисепп, создать видимость концентрации крупных сил на этом участке “Ораниенбаумского пятачка”, чтобы вынудить фашистов переместить сюда свои резервные дивизии.
Штаб фронта заранее подготовил необходимые дезинформационные материалы и поручил разведорганам “подсунуть” их немецкому командованию так, чтобы оно не заподозрило обмана. Руководящие работники контрразведки фронта собрались в кабинете генерала Быстрова, чтобы обсудить, как лучше выполнить это задание. Совещание длилось несколько часов, а достигнуть единого мнения не удавалось.
Выступал полковник Королев. Это был интересный и представительный мужчина. Черные с густой проседью волосы зачесаны назад. Полное лицо полковника было безукоризненно выбритым и свежим, хотя на щеках уже проступали красные прожилки. Он говорил отрывисто, заметно повышая голос, когда хотел подчеркнуть важность высказанной мысли. Прохаживаясь вдоль кабинета, Королев всматривался в лица присутствующих. Его высокая грузная фигура, обтянутая хорошо сшитым мундиром, высилась над сидевшими в мягких креслах людьми. Королев явно любовался собой, говорил “на публику”. Глаза его то прищуривались и искрились улыбкой, то гневно расширялись и горели злым огоньком.
Генерал Быстров, слушая Королева, недовольно хмурился, но не прерывал его.
— Я думаю, — внушительно говорил полковник, — что присутствующие товарищи согласятся с моим мнением. Мы имеем дело с ловкой игрой абвера. Под видом раскаявшегося грешника они направили нам своего агента с сомнительной информацией о Валкской разведшколе. Затем к нам придут и другие агенты с теми же данными и с таким же заданием, что и Каращенко. Расчет немецкой разведки прост: из нескольких явившихся с повинной мы хоть одного да вернем назад. Они, конечно, полагают, что вернем мы их человека не с пустыми руками, а с заданием. Абвер очень интересуется, какое поручение мы дадим его людям. И он предоставляет нам возможность сделать первый ход в той игре, которую намеревается затеять.
Королев сделал паузу и обвел присутствующих взглядом, проверяя, какое впечатление произвели на них его размышления. Все молча, спокойно ожидали продолжения.
— Если теперь мы вручим Каращенко дезинформацию о направлении главного удара нашего фронта, то это будет как раз то, чего хочет абвер, — снова заговорил Королев. — Немцы верят ему. Он, видимо, хорошо зарекомендовал себя. Ведь они спасли этому изменнику жизнь, поставили на ноги! Вспомните, о чем докладывал Невзоров, бывший агент “Абверштелле-Остланд”. Он предупреждал, что Каращенко является самым надежным агентом Валкской разведшколы, что его лечили в госпитале, предназначенном для немецких офицеров. Невзоров долго лежал в лазарете Большого рижского лагеря, где будто бы был и Каращенко. Он чудом остался жив, хотя имел сравнительно легкое ранение. А Каращенко был ранен тяжело. Я консультировался со специалистами. По их мнению, такие ранения, особенно левого предплечья, на девяносто девять процентов кончаются смертельным исходом, если лечение проводится не в идеальных условиях. В лагерном лазарете таких условий, конечно, не было. И потом, немцы не держали наших командиров в лагерном лазарете, он был предназначен для солдат. Зачем же фашистам было делать исключение для Каращенко?
Королев перевел дух, одернул китель и продолжал:
— Можно ли возвратить немцам их агента с нашей дезинформацией? Я считаю, ни в коем случае! Дав разработанные нами сведения в руки вражеского агента, мы раскроем замыслы нашего командования о нанесении главного удара. Изменник, безо всякого сомнения, немедленно доложит немцам, что те данные, которые ему вручили, являются вымышленными. О последствиях можете догадаться сами.
Полковник Королев отошел к своему креслу и сел.
— Есть еще какие-либо предложения, замечания? — спросил Быстров.
— Разрешите мне, товарищ генерал? — поднял руку помощник Королева подполковник Светловидов.
— Прошу.
Светловидов рывком поднялся с кресла. Как всегда, когда он волновался, лицо его покрылось пятнами свекольного цвета. За эту особенность подчиненные называли его между собой “перец”. Сняв пенсне в золотой оправе, Светловидов протер его носовым платком, снова водрузил на переносицу и, не спеша, с интересом оглядев присутствующих, словно только что увидел их, начал:
— Я внимательно слушал содержательное, глубоко аргументированное и весьма убедительное выступление полковника Королева. — Светловидов, чуть заметно улыбнувшись, посмотрел в сторону Королева, и тот в знак благодарности кивнул головой. — Целиком и полностью разделяю точку зрения товарища Королева. Да, мы имеем дело с хорошо подготовленной игрой абвера. В этом сомнения нет. Но, с вашего разрешения, товарищ генерал, я позволю себе пойти несколько дальше чисто военных задач и квалифицировать действия бывшего чекиста Каращенко, опираясь на нормы советского уголовного законодательства. Еще древние римляне говорили: “Суров закон, но — закон”. Опираясь на него, я поведу речь. Как ни сентиментальна с виду история Каращенко, как бы нам ни хотелось видеть в нем не предателя, а честного человека, патриота, с точки зрения закона он — преступник. Работник органов безопасности сдался в плен. Советские воины не могут принять позора плена. Каращенко пользовался медицинской помощью немцев, а он должен был отвергнуть ее! В благодарность за мягкое обращение он предал интересы Родины. Ради спасения своей жизни Каращенко добровольно, подчеркиваю — добровольно пошел на службу в немецкую разведку, окончил школу абвера и согласился выполнить шпионское задание в тылу наших войск. Разве можно верить такому человеку? Одного этого достаточно, чтобы расстрелять его по законам военного времени. Он опозорил почетное звание чекиста! Вину Каращенко усугубляет и еще одно обстоятельство. Он не ограничился тем, что сам пошел на службу в абвер. Он подло склонял на преступный путь других советских военнопленных. Такие действия по закону квалифицируются как тягчайшее государственное преступление, измена Родине и шпионаж. Учитывая это, нельзя допустить, чтобы опасный государственный преступник оставался на свободе, и поэтому по моему приказанию следственный отдел заготовил постановление о возбуждении уголовного дела против Каращенко по признакам, предусмотренным статьями пятьдесят восемь–один “а”, пятьдесят восемь–шесть Уголовного кодекса РСФСР, и постановление об избрании меры пресечения — заключение под стражу. Прошу вас, товарищ генерал, утвердить эти документы.
Светловидов открыл папку, которую все время держал под мышкой, подошел к столу Быстрова и протянул ему документы. Не читая, генерал отложил их в сторону. Да, положение было сложное. Если поверить Каращенко и возвратить его в абвер с дезинформацией или с оперативным заданием, то следует сделать это немедленно, чтобы не дать немцам оснований для подозрений. Если не верить, то нужно найти убедительные доказательства того, что Каращенко — предатель, выполняет задание абвера. А их не было. Одни сомнения, предположения, догадки. Руководствоваться ими в сложившейся ситуации — значит провалить дело.
— Кто еще хочет высказаться?
Поднялся начальник оперативного отдела подполковник Сосницын. Генерал всегда внимательно прислушивался к мнению этого рассудительного и неторопливого человека. Быстрову нравилось, что Сосницын во всяком деле добирался “до косточек”, взвешивал все доводы основательно, без излишней горячности.
— Конечно, формально подполковник Светловидов прав, — рассуждал Сосницын. — Состав, так сказать, преступления налицо. Можно судить. Тем более, что статьи Уголовного кодекса определены и даже документы составлены. Вот только плохо, что составители с самим Каращенко как следует не потолковали.
— Какая необходимость разводить сантименты с преступником, если документы его полностью изобличают?! — взорвался Светловидов. Он раскраснелся, взъерошился, как петух перед дракой, и даже стеклышки его пенсне засверкали недобрым блеском. — Дело Каращенко без задержки пройдет все судебные инстанции, а поговорить с преступником следователь сумеет и тогда, когда тот окажется под стражей! — Светловидов замолчал и победоносно оглядел окружающих.
Быстров постучал карандашом по столу, призывая к порядку. Светловидов недовольно поерзал в кресле.
А Сосницын все так же спокойно и рассудительно продолжал:
— Мы не имеем права размахивать законом, как дикарь дубиной. Надо изучить состав преступления и, самое главное, выяснить характер и личность обвиняемого. А он, это надо прямо признать, человек исключительной стойкости и мужества. Такие не изменяют своей Родине. Подполковник Светловидов не хочет учитывать этого. Я считаю, что товарищу Каращенко можно поручить специальное задание в абвере.
Сразу же после подполковника выступил майор Богданов.
— Человека, которого немцы называют Никулиным, а мы — Каращенко, я знаю давно, еще по довоенной службе. Он испытанный чекист, мой давнишний друг, и мне легче разобраться в особенностях его характера, чем кому-либо другому. Мнение полковника Королева о нем глубоко ошибочно. О какой преданности абверу может идти речь, если Каращенко принес исчерпывающие характеристики на весь состав Валкской разведшколы, переправочного пункта в Сиверском и на тех агентов, которые оттуда засланы или готовятся для отправки в наш тыл? Вам хорошо известны и другие ценные сведения, которые сообщил Никулин. При проверке они подтвердились. Если он шпион, то немцы, выходит, разрешили ему выдать весь агентурный состав школы. На это они не пойдут. Не такие они простаки, как представляют некоторые.
Королев не выдержал. Вскочил с места.
— Не слишком ли вы, товарищ Богданов, расшаркиваетесь перед фашистской разведкой, не слишком ли высоко цените ее сотрудников?
— Мы, товарищ полковник, не раз имели возможность убедиться в том, что абвер — противник сильный, опытный и коварный. Недооценить его — значит разоружить себя. А благодушествовать нам государство не разрешает. Вы это знаете лучше меня.
— Товарищ Богданов, — снова вмешался Королев, — я просил бы вас высказываться корректнее!
Быстров опять постучал по столу карандашом и, не повышая голоса, сказал:
— Спокойнее, спокойнее, товарищи. Всякому полезно выслушать критику в свой адрес. Тем более если она доброжелательная.
— С Мокием Демьяновичем, как я уже говорил, мне приходилось работать на границе. Я не раз видел его в минуты опасности, в трудном деле и могу поручиться, что он честный человек, патриот нашей Родины, — закончил свое выступление Богданов.
Едва майор успел вернуться на место, как Светловидов снова попросил слова и запальчиво заговорил:
— И все-таки я считаю, что мы имеем дело с предателем. Случай исключительный и замазывать его — значит нарушать закон. Уверен, что, если мы отдадим Каращенко под суд, руководство наркомата нас всецело поддержит. Процесс послужит делу воспитания наших чекистов в духе непримиримости к врагу, презрения к смерти.
— Странная логика, — бросил реплику Сосницын. — Судить невинного в назидание другим!
— Да, если хотите, в назидание другим. Тем более что состав преступления есть. Это признал даже сам Каращенко, — настаивал Светловидов.
— Он не в качестве обвиняемого показания давал, а в установленном порядке сообщал о проделанной работе, — возразил Сосницын. — Считай он себя виновным, он бы мог острые углы обойти. Показания и рапорт — вещи разные.
— Разница невелика. Рапорт ляжет в основу обвинения.
Быстров увидел, что спор начал приобретать слишком резкий характер, и прервал его.
— Будем считать, что обмен мнениями состоялся, — сказал генерал и вышел из-за стола. — Я внимательно выслушал выступающих. Решение приму сам. Сообщу о нем в рабочем порядке. Подполковник Светловидов, вы готовы выехать на расследование террористического убийства офицера связи?
— Так точно, — отчеканил обиженный Светловидов. — Машину и конвой я вызвал. Оперативные работники на месте.
— Тогда у меня все, — заключил генерал. — Можете быть свободны, товарищи.
Один за другим офицеры выходили в приемную. Младший лейтенант Жаворонков и Каращенко встали при их появлении. Метнув раздраженный взгляд на Мокия Демьяновича, подполковник Светловидов спросил у Жаворонкова:
— Машина, люди готовы?
— Так точно!
Каращенко хотел было шагнуть вперед, но ноги точно налились свинцом. Он не сомневался, что судьба его уже решена. Обидно было, что не поверили. А он так надеялся…
мурым осенним утром 1943 года в приемную начальника контрразведки Ленинградского фронта вошел худощавый, небритый человек в измятой полевой форме советского офицера. На плечах его были капитанские погоны. Узкоплечий, невысокого роста, заметно прихрамывающий на левую ногу, он выглядел чрезвычайно усталым, но бодрился, стараясь сохранить военную выправку. Лицо его решительно и спокойно.
Адъютант начальника контрразведки младший лейтенант Жаворонков, совсем молодой офицер, с нескрываемым любопытством рассматривал незнакомца. Он уже слышал об этом человеке и теперь испытывал двойственное чувство к нему. Жаворонков знал, что Мокий Демьянович Каращенко был уполномоченным особого отдела НКВД в пограничном отряде, но в начале войны попал в плен. Его завербовала немецкая военная разведка — абвер — и после обучения в специальной школе направила в наш тыл со шпионским заданием. Однако работать на гитлеровцев Каращенко не стал. Явился в отдел контрразведки дивизии с повинной и вот теперь доставлен сюда, в Ленинград.
Приглядываясь к Каращенко, младший лейтенант Жаворонков, с невольным уважением отметил выдержку капитала, умение владеть собой. Тот ведь не мог не понимать всей сложности своего положения. Ему, немецкому шпиону, рассчитывать на добрый прием не приходилось. Добровольно перейдя на службу к врагу, он в глазах каждого советского человека стал изменником, предателем Родины. В то суровое время, когда героический Ленинград все еще находился в опасности, с предателями не церемонились. Каращенко не мог не знать об этом. И все же пришел к чекистам и во всем сознался. Он сообщил ценные разведывательные данные. Если доставленные им сведения достоверны, наше командование сумеет глубоко проникнуть в замыслы противника. Но ведь абверовцы могли специально направить своего агента, чтобы он подсунул нам ложные, дезинформирующие сообщения. Кто же он, этот Каращенко, друг или враг?
Даже не поднимая глаз, Мокий Демьянович чувствовал на себе быстрые испытующие взгляды Жаворонкова. Он догадывался, о чем думает этот молодой офицер. Для пего, как и для многих других, Каращенко был вражеским лазутчиком. Попробуй-ка доказать, что и во вражеском стане ты остался советским патриотом, солдатом народной войны.
Терпеливо ожидая вызова к генералу, Каращенко нахохлился в глубоком кресле. В окно били косые струйки дождя, подгоняемые порывистым ветром с Балтики. Шорох водяных капель помогал сосредоточиться, отвлечься от тревожных дум, вызванных неопределенностью положения. Вспомнились далекие годы детства, юности.
…Бедный украинский хутор, разоренный поборами войтов да урядников, сиротская доля. Ласки не видел ни от кого. Зато обид, упреков, побоев — не счесть. Родители умерли рано, пришлось жить у тетки. Ей лишний рот — в тягость. Вот и начал сам на жизнь зарабатывать. Батрачил у кулаков за кусок хлеба, за драную одежонку. А хозяин еще и попрекал:
— Дармоед ты, больше жрешь, чем работаешь!..
Однажды во время уборки свалился с жатки. Устал сильно, не выспался — на работу-то его затемно поднимали, вот и не выдержал, клюнул носом и упал под ножи. А лошади рванули. Истекающего кровью мальчонку хозяин лишь кнутом вытянул:
— Убирайся с поля! А то сдохнешь здесь, так еще отвечать придется…
Как живым до дому добрался — и не помнит. До осени потом хворал. Спасибо, знахарка на ноги поставила, травами выходила. Слабым после болезни себя чувствовал, да отлеживаться долго не пришлось. Голод — не тетка. Устроился поденщиком в имение помещика Каминского за десять копеек в день. Там тоже не жизнь, а мука. Сам помещик в имении не бывал — жил в Варшаве. Все дела вершилуправляющий — жадный и лицемерный шляхтич Домбжецкий. Вес жилы из работников вытягивал, да так ласково, со ссылками на библию, на закон божий.
— Ойтец свенты смутьянов не поважает… Працуй, хлопак, смири гордыню свою — и пан Езус примет тебя в царствие небесное.
“Отправить бы тебя, черта жирного, к папу Езусу”, — думал порою батрачонок, но даже мысли такие старался запрятать поглубже: узнает управляющий — запорет.
Только после Октября бывший батрак увидел свет. Чем только не приходилось заниматься, где только не довелось побывать ему! Отслужил в армии, поработал на транспорте, учился в военном училище, а потом ловил бандитов в Подмосковье, охранял границу в Кавказских горах, подстерегал контрабандистов в Ленинградском порту — всякого пришлось повидать. Трудно было, но и радостно. Бывший неграмотный батрачонок стал образованным человеком, командиром. Война перечеркнула прошлое. Плен, концлагеря, шпионская школа… И вот теперь у своих. Поверят ли? Там, в кабинете начальника, решалась его судьба. Думая об этом, Каращенко вполголоса произнес:
— Скорее бы уж кончилось…
Младший лейтенант Жаворонков удивленно вскинул брови, но промолчал. Каращенко заметил это, подумал: “Ну вот, я и заговариваться начал”. В это время распахнулась дверь кабинета и в приемную вышел коренастый подполковник с большой лысой головой. Раскрасневшийся, возбужденный, он лишь мельком взглянул на капитана и сразу же отвернулся. Каращенко знал его: подполковник Светловидов беседовал с ним накануне. И беседа эта оставила у Каращенко тяжелое впечатление.
— Вызвать машину и конвой, — приказал подполковник. — Старший наряда пусть ожидает распоряжений у дежурного.
— Есть, вызвать машину! — отчеканил Жаворонков и искоса глянул на Мокия Демьяновича.
В лице капитана не было ни кровинки. “Значит, все, — подумал он. — Не поверили…”
Светловидов так же стремительно, как и вышел, возвратился в кабинет генерала и плотно захлопнул за собой дверь. Из кабинета не доносилось ни звука. Но там обсуждался вопрос исключительной важности. От него зависели судьбы тысяч людей, успешное решение задачи стратегического значения.
В январе сорок третьего года советские войска прорвали блокаду Ленинграда и намного улучшили положение города. И все же Ленинград продолжал оставаться фронтовым городом. Советское командование разрабатывало план нанесения нового удара по фашистским войскам, чтобы окончательно отбросить их от Ленинграда. В этих условиях появление Мокия Демьяновича Каращенко с обстоятельными данными о положении дел за линией фронта пришлось весьма кстати.
Контрразведка и штаб фронта тщательно изучали сведения, доставленные Каращенко. Сопоставляя их с данными, полученными из других источников, работники штаба уточняли неясные ранее вопросы, разгадывали замыслы немецкого командования. Наше командование все яснее представляло положение группы армий “Север”.
Сильно потрепанные в предыдущих боях, немецкие дивизии еще не восполнили свои потери. Они не в состоянии были нанести немедленный ответный удар по советским войскам. Упустив инициативу, гитлеровцы с тревогой ожидали нового наступления советских войск и предпринимали лихорадочные меры к тому, чтобы определить направление главного удара и своевременно перегруппировать силы. Судя по имеющимся в штабе фронта сведениям, немцы не знали, куда будет нанесен удар: на Котлы–Кингисепп или через Пулково на Ропшу. Командованию фронта важно было заставить их поверить, будто главный удар будет нанесен на Котлы–Кингисепп, создать видимость концентрации крупных сил на этом участке “Ораниенбаумского пятачка”, чтобы вынудить фашистов переместить сюда свои резервные дивизии.
Штаб фронта заранее подготовил необходимые дезинформационные материалы и поручил разведорганам “подсунуть” их немецкому командованию так, чтобы оно не заподозрило обмана. Руководящие работники контрразведки фронта собрались в кабинете генерала Быстрова, чтобы обсудить, как лучше выполнить это задание. Совещание длилось несколько часов, а достигнуть единого мнения не удавалось.
Выступал полковник Королев. Это был интересный и представительный мужчина. Черные с густой проседью волосы зачесаны назад. Полное лицо полковника было безукоризненно выбритым и свежим, хотя на щеках уже проступали красные прожилки. Он говорил отрывисто, заметно повышая голос, когда хотел подчеркнуть важность высказанной мысли. Прохаживаясь вдоль кабинета, Королев всматривался в лица присутствующих. Его высокая грузная фигура, обтянутая хорошо сшитым мундиром, высилась над сидевшими в мягких креслах людьми. Королев явно любовался собой, говорил “на публику”. Глаза его то прищуривались и искрились улыбкой, то гневно расширялись и горели злым огоньком.
Генерал Быстров, слушая Королева, недовольно хмурился, но не прерывал его.
— Я думаю, — внушительно говорил полковник, — что присутствующие товарищи согласятся с моим мнением. Мы имеем дело с ловкой игрой абвера. Под видом раскаявшегося грешника они направили нам своего агента с сомнительной информацией о Валкской разведшколе. Затем к нам придут и другие агенты с теми же данными и с таким же заданием, что и Каращенко. Расчет немецкой разведки прост: из нескольких явившихся с повинной мы хоть одного да вернем назад. Они, конечно, полагают, что вернем мы их человека не с пустыми руками, а с заданием. Абвер очень интересуется, какое поручение мы дадим его людям. И он предоставляет нам возможность сделать первый ход в той игре, которую намеревается затеять.
Королев сделал паузу и обвел присутствующих взглядом, проверяя, какое впечатление произвели на них его размышления. Все молча, спокойно ожидали продолжения.
— Если теперь мы вручим Каращенко дезинформацию о направлении главного удара нашего фронта, то это будет как раз то, чего хочет абвер, — снова заговорил Королев. — Немцы верят ему. Он, видимо, хорошо зарекомендовал себя. Ведь они спасли этому изменнику жизнь, поставили на ноги! Вспомните, о чем докладывал Невзоров, бывший агент “Абверштелле-Остланд”. Он предупреждал, что Каращенко является самым надежным агентом Валкской разведшколы, что его лечили в госпитале, предназначенном для немецких офицеров. Невзоров долго лежал в лазарете Большого рижского лагеря, где будто бы был и Каращенко. Он чудом остался жив, хотя имел сравнительно легкое ранение. А Каращенко был ранен тяжело. Я консультировался со специалистами. По их мнению, такие ранения, особенно левого предплечья, на девяносто девять процентов кончаются смертельным исходом, если лечение проводится не в идеальных условиях. В лагерном лазарете таких условий, конечно, не было. И потом, немцы не держали наших командиров в лагерном лазарете, он был предназначен для солдат. Зачем же фашистам было делать исключение для Каращенко?
Королев перевел дух, одернул китель и продолжал:
— Можно ли возвратить немцам их агента с нашей дезинформацией? Я считаю, ни в коем случае! Дав разработанные нами сведения в руки вражеского агента, мы раскроем замыслы нашего командования о нанесении главного удара. Изменник, безо всякого сомнения, немедленно доложит немцам, что те данные, которые ему вручили, являются вымышленными. О последствиях можете догадаться сами.
Полковник Королев отошел к своему креслу и сел.
— Есть еще какие-либо предложения, замечания? — спросил Быстров.
— Разрешите мне, товарищ генерал? — поднял руку помощник Королева подполковник Светловидов.
— Прошу.
Светловидов рывком поднялся с кресла. Как всегда, когда он волновался, лицо его покрылось пятнами свекольного цвета. За эту особенность подчиненные называли его между собой “перец”. Сняв пенсне в золотой оправе, Светловидов протер его носовым платком, снова водрузил на переносицу и, не спеша, с интересом оглядев присутствующих, словно только что увидел их, начал:
— Я внимательно слушал содержательное, глубоко аргументированное и весьма убедительное выступление полковника Королева. — Светловидов, чуть заметно улыбнувшись, посмотрел в сторону Королева, и тот в знак благодарности кивнул головой. — Целиком и полностью разделяю точку зрения товарища Королева. Да, мы имеем дело с хорошо подготовленной игрой абвера. В этом сомнения нет. Но, с вашего разрешения, товарищ генерал, я позволю себе пойти несколько дальше чисто военных задач и квалифицировать действия бывшего чекиста Каращенко, опираясь на нормы советского уголовного законодательства. Еще древние римляне говорили: “Суров закон, но — закон”. Опираясь на него, я поведу речь. Как ни сентиментальна с виду история Каращенко, как бы нам ни хотелось видеть в нем не предателя, а честного человека, патриота, с точки зрения закона он — преступник. Работник органов безопасности сдался в плен. Советские воины не могут принять позора плена. Каращенко пользовался медицинской помощью немцев, а он должен был отвергнуть ее! В благодарность за мягкое обращение он предал интересы Родины. Ради спасения своей жизни Каращенко добровольно, подчеркиваю — добровольно пошел на службу в немецкую разведку, окончил школу абвера и согласился выполнить шпионское задание в тылу наших войск. Разве можно верить такому человеку? Одного этого достаточно, чтобы расстрелять его по законам военного времени. Он опозорил почетное звание чекиста! Вину Каращенко усугубляет и еще одно обстоятельство. Он не ограничился тем, что сам пошел на службу в абвер. Он подло склонял на преступный путь других советских военнопленных. Такие действия по закону квалифицируются как тягчайшее государственное преступление, измена Родине и шпионаж. Учитывая это, нельзя допустить, чтобы опасный государственный преступник оставался на свободе, и поэтому по моему приказанию следственный отдел заготовил постановление о возбуждении уголовного дела против Каращенко по признакам, предусмотренным статьями пятьдесят восемь–один “а”, пятьдесят восемь–шесть Уголовного кодекса РСФСР, и постановление об избрании меры пресечения — заключение под стражу. Прошу вас, товарищ генерал, утвердить эти документы.
Светловидов открыл папку, которую все время держал под мышкой, подошел к столу Быстрова и протянул ему документы. Не читая, генерал отложил их в сторону. Да, положение было сложное. Если поверить Каращенко и возвратить его в абвер с дезинформацией или с оперативным заданием, то следует сделать это немедленно, чтобы не дать немцам оснований для подозрений. Если не верить, то нужно найти убедительные доказательства того, что Каращенко — предатель, выполняет задание абвера. А их не было. Одни сомнения, предположения, догадки. Руководствоваться ими в сложившейся ситуации — значит провалить дело.
— Кто еще хочет высказаться?
Поднялся начальник оперативного отдела подполковник Сосницын. Генерал всегда внимательно прислушивался к мнению этого рассудительного и неторопливого человека. Быстрову нравилось, что Сосницын во всяком деле добирался “до косточек”, взвешивал все доводы основательно, без излишней горячности.
— Конечно, формально подполковник Светловидов прав, — рассуждал Сосницын. — Состав, так сказать, преступления налицо. Можно судить. Тем более, что статьи Уголовного кодекса определены и даже документы составлены. Вот только плохо, что составители с самим Каращенко как следует не потолковали.
— Какая необходимость разводить сантименты с преступником, если документы его полностью изобличают?! — взорвался Светловидов. Он раскраснелся, взъерошился, как петух перед дракой, и даже стеклышки его пенсне засверкали недобрым блеском. — Дело Каращенко без задержки пройдет все судебные инстанции, а поговорить с преступником следователь сумеет и тогда, когда тот окажется под стражей! — Светловидов замолчал и победоносно оглядел окружающих.
Быстров постучал карандашом по столу, призывая к порядку. Светловидов недовольно поерзал в кресле.
А Сосницын все так же спокойно и рассудительно продолжал:
— Мы не имеем права размахивать законом, как дикарь дубиной. Надо изучить состав преступления и, самое главное, выяснить характер и личность обвиняемого. А он, это надо прямо признать, человек исключительной стойкости и мужества. Такие не изменяют своей Родине. Подполковник Светловидов не хочет учитывать этого. Я считаю, что товарищу Каращенко можно поручить специальное задание в абвере.
Сразу же после подполковника выступил майор Богданов.
— Человека, которого немцы называют Никулиным, а мы — Каращенко, я знаю давно, еще по довоенной службе. Он испытанный чекист, мой давнишний друг, и мне легче разобраться в особенностях его характера, чем кому-либо другому. Мнение полковника Королева о нем глубоко ошибочно. О какой преданности абверу может идти речь, если Каращенко принес исчерпывающие характеристики на весь состав Валкской разведшколы, переправочного пункта в Сиверском и на тех агентов, которые оттуда засланы или готовятся для отправки в наш тыл? Вам хорошо известны и другие ценные сведения, которые сообщил Никулин. При проверке они подтвердились. Если он шпион, то немцы, выходит, разрешили ему выдать весь агентурный состав школы. На это они не пойдут. Не такие они простаки, как представляют некоторые.
Королев не выдержал. Вскочил с места.
— Не слишком ли вы, товарищ Богданов, расшаркиваетесь перед фашистской разведкой, не слишком ли высоко цените ее сотрудников?
— Мы, товарищ полковник, не раз имели возможность убедиться в том, что абвер — противник сильный, опытный и коварный. Недооценить его — значит разоружить себя. А благодушествовать нам государство не разрешает. Вы это знаете лучше меня.
— Товарищ Богданов, — снова вмешался Королев, — я просил бы вас высказываться корректнее!
Быстров опять постучал по столу карандашом и, не повышая голоса, сказал:
— Спокойнее, спокойнее, товарищи. Всякому полезно выслушать критику в свой адрес. Тем более если она доброжелательная.
— С Мокием Демьяновичем, как я уже говорил, мне приходилось работать на границе. Я не раз видел его в минуты опасности, в трудном деле и могу поручиться, что он честный человек, патриот нашей Родины, — закончил свое выступление Богданов.
Едва майор успел вернуться на место, как Светловидов снова попросил слова и запальчиво заговорил:
— И все-таки я считаю, что мы имеем дело с предателем. Случай исключительный и замазывать его — значит нарушать закон. Уверен, что, если мы отдадим Каращенко под суд, руководство наркомата нас всецело поддержит. Процесс послужит делу воспитания наших чекистов в духе непримиримости к врагу, презрения к смерти.
— Странная логика, — бросил реплику Сосницын. — Судить невинного в назидание другим!
— Да, если хотите, в назидание другим. Тем более что состав преступления есть. Это признал даже сам Каращенко, — настаивал Светловидов.
— Он не в качестве обвиняемого показания давал, а в установленном порядке сообщал о проделанной работе, — возразил Сосницын. — Считай он себя виновным, он бы мог острые углы обойти. Показания и рапорт — вещи разные.
— Разница невелика. Рапорт ляжет в основу обвинения.
Быстров увидел, что спор начал приобретать слишком резкий характер, и прервал его.
— Будем считать, что обмен мнениями состоялся, — сказал генерал и вышел из-за стола. — Я внимательно выслушал выступающих. Решение приму сам. Сообщу о нем в рабочем порядке. Подполковник Светловидов, вы готовы выехать на расследование террористического убийства офицера связи?
— Так точно, — отчеканил обиженный Светловидов. — Машину и конвой я вызвал. Оперативные работники на месте.
— Тогда у меня все, — заключил генерал. — Можете быть свободны, товарищи.
Один за другим офицеры выходили в приемную. Младший лейтенант Жаворонков и Каращенко встали при их появлении. Метнув раздраженный взгляд на Мокия Демьяновича, подполковник Светловидов спросил у Жаворонкова:
— Машина, люди готовы?
— Так точно!
Каращенко хотел было шагнуть вперед, но ноги точно налились свинцом. Он не сомневался, что судьба его уже решена. Обидно было, что не поверили. А он так надеялся…
Глава вторая Люди и звери
Славное лето выдалось в Прибалтике. Июньское солнце ласкало сады, омытые грозами. На заре стелились туманы над лугами, над реками, и солдаты, уходившие в наряд ночью, возвращались по пояс мокрыми от росы. Тишина стояла над Вентой, над берегом моря, по которому часто прогуливался старший лейтенант Мокий Демьянович Каращенко. Неладно было у него на душе. Все данные, поступившие от агентурной разведки к июню сорок первого года, свидетельствовали о приближении войны… Неясная тревога, охватившая Мокия Демьяновича, усилилась за те три дня, которые он провел в Лиепае на совещании работников госбезопасности Латвии. Чекистов предупреждали о необходимости повысить бдительность, готовиться дать отпор врагу, но тут же приказывали выжидать, не поддаваться на провокацию, проявлять высокую выдержку, стойкость. Немцы подтянули к нашим рубежам войска, засылают шпионов и диверсантов. Как в такой обстановке разобрать — враг начал войну или просто провоцирует нас? И кто будет определять это? На совещании Мокий Демьянович встретился со своим давним другом уполномоченным особого отдела НКВД Николаем Богдановым. Когда-то они оба начинали солдатами службу в армии, вместе пошли учиться в школу младших командиров, в военное училище. Затем Богданова направили на работу в органы госбезопасности. Стал чекистом и Мокий Демьянович. Он получил назначение в Вентспилс, а Богданов служил в Риге. Они встречались редко, но зато каждая встреча приносила им большую радость. У них было много общего, и друзья вели долгие задушевные разговоры. Мокий Демьянович уважал Богданова, прислушивался к его мнению. Подойдя к Богданову во время перерыва, Каращенко спросил: — Николай, ты понимаешь, что происходит? — Что тут понимать! Одно ясно — немцы собираются перейти границу. Войны не миновать. — Я тоже так думаю. Впрочем, мы с тобой вояки старые, не подведем, если что. Но вот как можно защищать границу, не отвечая на провокации? Не пойму. В глазах Богданова мелькнула неясная тень тревоги. Что он мог ответить другу, если сам знал не больше его? — Сидеть сложа руки, Мокий, нам нельзя. Это ясно. Да, откровенно говоря, если немцы перейдут границу, поздно будет разбираться, провокация это или нет. Начнется бой. К этому и надо готовиться. В конце концов, и провокаторов бить надо. В этом я убежден. — Так-то так, — ответил Каращенко, — только нервируют эти предупреждения “не поддаваться на провокацию”. Ведь немцы просто обнаглели. — Ребята в Риге мне говорили, что обстановка с каждым днем обостряется, — в раздумье произнес Богданов. — На границе то и дело стычки. Немцы войска подтягивают… Быть большой грозе — не иначе. — Ничего, выстоим, — твердо произнес Каращенко и шутливо добавил: — Не зря же мы с тобой из одного котелка щи хлебали! — Не зря, — серьезно ответил Богданов. Вечером двадцать первого июня вместе с группой чекистов старший лейтенант Каращенко и капитан Богданов выехали из Лиепаи в Ригу — там их ждали дела. Офицеры молчали. Лица их были суровыми, озабоченными. Не слышалось ни привычных шуток, ни смеха. Минула ночь. Несмотря на все опасения и догадки, никто из чекистов и не подозревал, что самое страшное началось. В тот ранний предутренний час, когда они подъезжали к Риге, в пограничной тишине уже прогремели первые выстрелы Великой Отечественной… О начале войны офицеры узнали лишь в городе. — Видишь, как быстро началось, Николай, — сказал Каращенко, прощаясь с Богдановым. — Когда еще увидимся теперь? Ну, не поминай лихом. — Да, началось. Ждали провокации, пришла война. Что ж, до свидания, до скорой встречи после победы. Друзья пожали друг другу руки, обнялись и разошлись. Мокий Демьянович быстро покончил с делами и выехал в Вентспилс. Там уже полыхали пожары. В военном городке было пустынно и тихо. Подразделения заняли оборону на подступах к городу. Немногочисленный Вентспилсский гарнизон оказался в сложной обстановке. Немцы основной удар направили на Ригу. Быстро продвигаясь на восток, они хотели отрезать нашим войскам пути отхода из города. Вскоре стало известно, что фашистские войска прорвались к столице Латвии. Оставаться на месте значило неминуемо попасть в окружение. Начальник гарнизона решил соединиться с частями, защищавшими Ригу. Подразделения тронулись в путь и тридцатого июня подошли к Риге. Враг встретил сильным минометным и пулеметным огнем. Пришлось обходить город с юга. Шли всю ночь. Наступил робкий серый рассвет. Хмурилось небо. Колонна усталых, измотанных долгим переходом людей медленно тянулась по узкой, вьющейся среди торфяных болот дороге. Грузовики забуксовали на топком месте. Неподалеку чернел лес. Справа и слева от дороги, куда ни глянь, — топь, поросшая кустарником, травой. И вокруг — безмолвие. — Завтракать! — разнеслось по колонне. Кто прилег на мокрую траву и тут же уснул, не дожидаясь еды, кто потянулся к кухне. Но не успели люди наполнить котелки кашей, как из-за болота, метров с трехсот, по колонне шквальным огнем ударили минометы и пулеметы. Мины гулко рвались в гуще колонны, заглушая крики раненых, ржание лошадей. — Артиллерию вперед! — приказал командир полка. Но полк остановился в месте, неудобном для обороны. Орудия попали в трясину, и бойцы, развернувшиеся в цепь, остались без огневой поддержки. Батальоны залегли. К вечеру стало ясно, что полк больше не может сдерживать врага. Почти все офицеры погибли. Уцелевшие бойцы с оружием в руках пробивались из окружения. Тяжелое ранение получил и Мокий Демьянович. Осколки мины перебили предплечье левой руки, повредили ноги. Старшина Гречко и рядовой Попов забинтовали Каращенко раны, посадили его в седло, сами вскочили на коней и поскакали в лес. Они хотели добраться до Даугавы, переплыть ее — и к своим. Но — не повезло. Фашистские мотоциклисты уже разъезжали по дорогам. Едва завидев всадников, немцы обстреляли их из пулеметов. — Надо коней бросать, товарищ старший лейтенант, — устало проговорил старшина Гречко. — Верхом незаметно не проберешься. — Хорошо, расседлайте лошадей и оставьте в лесу, — согласился Мокий Демьянович. Шли не спеша, чутко прислушиваясь и оглядываясь: каждую минуту можно было наскочить на засаду. Где-то неподалеку угадывалась Даугава. Но на пути к ней все чаще встречались вражеские колонны. Приходилось прятаться в придорожных кустах, канавах, а то и отстреливаться от немецких мотоциклистов. Во время одной из стычек близ Каращенко разорвалась граната. Он потерял сознание. Когда очнулся, рядом с ним никого не было. Гречко и Попов, видимо, сочли его убитым, забрали из карманов гимнастерки документы и ушли дальше. Каращенко остался один. Ослабевший от голода и потери крови, смертельно уставший, он девять дней блуждал по лесу. Возле какого-то лесного хутора на него навалились невесть откуда появившиеся айзсарги*["15]. — Коммунист, комиссар? — плохо выговаривая русские слова, спросил угрюмый рослый мужчина и, не дожидаясь ответа, выразительно провел пальцем по шее, кивнув на ближайшую березу. — Я строевой командир, — возразил Каращенко, указывая на рукав гимнастерки. — Смотрите, у меня на рукаве нашиты угольники. Айзсарги заколебались. По правде говоря, они совсем не разбирались в знаках различия. Решили показать пленного начальству. Вскоре на автомобиле подкатил офицер-айзсарг. Выслушав доклад старшего группы, он усадил Мокия Демьяновича в машину и привез в какое-то местечко. В просторном доме, где помещалось не то волостное правление, не то штаб айзсаргов, его накормили, дали попить. Офицер приказал вызвать врача, чтобы перевязать воспалившиеся раны пленного, и вышел. Рослый молчаливый парень, все время дремавший сидя на скамье у двери, остался караулить. Искоса поглядывая на него, Мокий Демьянович потихоньку подвигался к открытому окну. Сразу за домом начинались заросли кустарника, а за ними — густой лес. Выскочишь из окна — и поминай как звали! Каращенко уже положил было руку на подоконник, но парень, не вставая с места, вскинул винтовку, зло крикнул: — Назад! Стрелять буду! В это время дверь отворилась. В комнату вошел офицер. За ним, низко кланяясь и подобострастно улыбаясь, семенил низкорослый щуплый старик аптекарь, которого здесь именовали врачом. Услужливый и робкий, он развязал грязные, окровавленные бинты, горестно покачал головой и принялся обрабатывать раны. Нестерпимая боль обожгла все тело. — Осторожнее! — попросил Мокий Демьянович. — Молчать! — приказал офицер-айзсарг. — Перевязку нам делает еврей. Разговаривать с ним запрещается. Закончив перевязку, старик пошел к выходу. — Ну вот. А теперь вас повезут в Ригу, в лагерь для военнопленных, — сказал айзсарг. — Там будет хорошо. Вас будут лечить… — В Ригу так в Ригу, — устало ответил Мокий Демьянович. — Мне все равно. Последние силы оставляли его. Он откинулся на спинку стула и потерял сознание. …В Риге, в глубине одного из переулков, отходящих от улицы Пернавас, есть квартал многоэтажных домов, примыкающий к железной дороге. Здесь, вблизи завода ВЭФ, находился созданный гитлеровцами Большой рижский концлагерь — одно из многочисленных мест истребления военнопленных. Колючая проволока, сторожевые вышки с пулеметами, несколько старых казарм, шесть сколоченных в одну доску бараков… В помещениях для узников — трехъярусные нары, тесные, как гробы. Поближе к выходу из лагеря, у самой ограды, располагался лазарет. Он ничем не отличался от обычных бараков. Только был меньших размеров да воздух в нем до густоты пропитался тошнотворным запахом крови и пота. Военнопленные врачи и фельдшеры, обслуживающие лазарет, как могли, старались облегчить страдания раненых. В лазарете работал и фельдшер пограничного отряда Виктор Ресовец, хороший знакомый Каращенко. Во время сортировки раненых пленных он узнал старшего лейтенанта. Тот тоже заметил Виктора, но сделал ему знак молчать. Улучив момент, когда немец, наблюдавший за пленными, отошел, Каращенко быстрым шепотом произнес: — Называй меня Никулиным Николаем Константиновичем. Понял? — Чего не понимать, — кивнул головой Виктор. — Из нашего отряда здесь несколько человек. Живем дружно, в обиду не дадим. Так Каращенко стал Никулиным. Он понимал, что фашисты в первую очередь будут расправляться с комиссарами, чекистами, членами партии, комсомольцами. Но то, что сказал Ресовец, лишний раз напомнило ему о другой опасности, которая подстерегает на каждом шагу. Надо быть осторожным. — Если увидишь в лагере кого-нибудь из тех, кто меня знает, сообщи мне, — попросил Николай Константинович Ресовца. — Сделаю. Есть у нас тут майор Дудин, ты его знаешь, он в отряде начфином был. Еще человек пять пограничников. Все надежные и проверенные люди. Кое-кто тоже скрыл свою фамилию. Я оповещу всех. Так что жди. Но и сам в случае чего будь осторожен, не нарвись на провокатора. Здесь, в лазарете, размещают только рядовых. Я скрыл, что ты офицер, а сопроводиловку выбросил. Им сейчас в тонкостях разбираться некогда, а дальше видно будет. Этот разговор несколько прояснил положение дел в лагере. Выходит, немало людей живет здесь, как и он, под чужой фамилией. Но есть и такие, которые рассказали врагу о себе всю правду. Кто они? Честные ли люди? Каждое новое знакомство опасно. В проходе послышались шаги. К вновь прибывшим раненым подошел высокий, хмурый человек — военнопленный врач Пирогов. Фашисты поставили его старшим над лазаретом. “Капитан, и форму носит, не снял, — отметил про себя Николай Константинович, увидев “шпалу” в петлице подошедшего. — Интересно, что он за человек? Наш или продался?” — Покажите Никулину его место, перебинтуйте, — сухо приказал фельдшеру Пирогов, отметил что-то в списке и вышел. — Остерегайся этого человека, — предупредил Виктор. — С немцами услужлив, с полицаями ладит. Не ровен час — и продаст. Ресовец принялся перебинтовывать раны Никулина. Тот еле удерживал рвущийся из груди крик. Холодный пот выступил на лице, спутавшиеся волосы прилипли ко лбу, на закушенной губе показалась кровь. Николаю Константиновичу казалось, что снимают с него не бинты, а кожу. Несколько раз он просил Ресовца дать передышку. Осматривая рану, фельдшер сочувственно протянул: — Да-а. Тут, конечно, дело сложное. Придется позвать Пирогова, пусть придет, посмотрит. — Зачем его сюда? — еле выдавил Никулин. — Надо. Тебе серьезное лечение требуется, а не просто перевязки. Может, он чем поможет. Посиди. Ресовец ушел, а Николай Константинович закрыл глаза и стал ждать. Теперь ему было уже безразлично, кто его будет смотреть и что с ним будут делать. Последние силы, кажется, оставляли его. Пирогов вопреки опасениям Виктора без лишних слов подошел к Никулипу. Тот лежал в беспамятстве. Оглядев воспаленные раны, врач равнодушно буркнул: — Этот не жилец. Крови много потерял, ослаб. Медикаменты мало что дадут. Хорошее питание, покой нужны, чистота. А где тут?.. — А может, выходим? — с надеждой спросил Ресовец. — Что он тебе — сват, брат? — Да нет, просто знакомый… — Знакомый… Подумаешь, одним больше, одним меньше. Сегодня — он, а завтра — ты. Все на том свете будем, так что беспокоиться из-за каждого? А впрочем, как знаешь. С того дня Ресовец, как терпеливая нянька, ухаживал за раненым, доставал ему то кусочек маргарина, то немного картошки, лишний ломоть хлеба, лекарство. Однако поправлялся Никулин медленно. Немало времени прошло, прежде чем больной смог подниматься с постели. — Ну и жилистый ты, — говорил Ресовец, когда опасность миновала. — Теперь жить будешь. Если бы услышал от кого про такое, ни за что бы не поверил. — Не хвали, Виктор, зазнаюсь. Тебе спасибо, что выжить помог. С этого времени Никулин стал ждать гостей. Он перебирал в памяти каждую услышанную от Ресовца фамилию. Знает ли он что-либо об этих людях? Вот начфин майор Дудин — давний знакомый. Впервые встретился с ним в тридцать седьмом году. Дудину тогда круто пришлось. Как бывшего офицера царской армии, дворянина, чересчур “бдительные” люди взяли на подозрение. Большие неприятности угрожали Дудину, но Каращенко сумел его тогда отстоять. Дудин был честным человеком. Вскоре Дудин появился в крохотной каморке Ресовца, которую тот громко величал “аптекой”. Приглядевшись к нему, Никулин с трудом узнал в осунувшемся, заросшем седой щетиной человеке прежде щеголеватого майора. Дудин тоже долго и пристально рассматривал своего собеседника, будто стараясь припомнить что-то. — Не узнаете? — поинтересовался Никулин. — Неужели так трудно своего старого знакомого узнать. — После такого курорта вас бы и родная мать не сразу узнала. Но все же вы живы. А это главное. Как говорится, были бы кости… — Что и говорить. Не добили немцы сразу и на том спасибо. — Не расстраивайтесь, не падайте духом. Мы вас подлечим, подкормим… — Подлечим, подкормим, — иронически усмехнулся Николай Константинович. — А у самого небось в животе пусто. — Не спорь, — вмешался Виктор Ресовец. — Наш начфин тут у немцев в “больших чинах” ходит: что-то вроде каптенармуса. Одним словом, он хлеб, баланду в бараке распределяет. Понятно? Никулин невесело кивнул. Он уже достаточно побыл в лагере, чтобы узнать сложную и опасную механику такой помощи. Заключенные умирали очень часто, и получить несколько лишних кусков хлеба на умерших, как на живых, порою удавалось. Но немцы придирчиво следили за теми, кто распределял пайки. Малейшая оплошность — и заподозренному в обмане не избежать виселицы. Однако советские люди шли на риск. Они знали, как важно поддержать человека в трудней момент добрым словом, куском хлеба, личным примером. Иногда это спасало от падения. — Все, что я приносил тебе во время болезни, доставал майор Дудин, — продолжал Ресовец. — Без него бы тут не выжить. Никулин искренне поблагодарил Дудина: — Спасибо. Я в долгу не останусь. — Не стоит говорить об этом. Будем думать, что дальше делать. Проследи, пожалуйста, чтобы никто не вошел, — обратился Дудин к Ресовцу. — Поговорить нужно. — Нас охраняют надежные люди. Я позаботился об этом, — ответил Ресовец. — Узнай немцы, кто вы на самом деле, вы бы и дня не прожили, — сказал Дудин Николаю Константиновичу. — Наши пограничники, которые здесь в лагере, не выдадут. А за других поручиться не могу. Сами присматривайтесь. Если встретите кого-либо, кто знал вас прежде, сообщите. Поинтересуемся и скажем, как ведет себя этот человек здесь. Одним словом, нужно быть особенно осторожным. Подлецов здесь немало. — Мною ли, мало ли, но есть, — вставил Ресовец. — А чтобы схлопотать немецкую пулю в лоб, достаточно одного негодяя. — Я иногда думаю, — продолжал Дудин, — откуда только такая погань взялась среди нас. Хотя Виктор прав, предателей не так уж и много. Те, которые покрупнее, давно уже показали себя, верой и правдой служат немцам. Я имею в виду начальника лагерной полиции Чертолысова, Казака и других. Но ведь есть и такие, что хотят порядочными людьми себя показать, но присмотришься к нему — тошно становится. — И все же порядочных людей в лагере большинство, — заключил Никулин. — Но по своей или по чужой вине боец в плен попал, положение его позорное. Вину свою перед народом мы должны искупить… даже ценой жизни. Надо бороться, товарищи. Вы согласны? — Согласны, — коротко ответил Ресовец. Дудин сообщил, что пограничники готовятся к побегу из лагеря. — А есть возможности для побега? — поинтересовался Николай Константинович. — Дело очень трудное. С ходу, конечно, мало что сделаешь. А рискнуть можно. — Ну что ж, смелость города берет. Но рисковать попусту, по-моему, ни к чему. Надо делать наверняка, а для этого требуется основательно подготовиться. Жаль, что в нынешнем моем положении я при побеге только обузой буду. — Ну, нет, — запротестовал Ресовец. — Мы этот вопрос уже обсуждали. Бежать — так вместе. Тебя здесь помирать не оставим. — Подожди, — вмешался Дудин. — Не торопись. Никулин прав. Будем готовиться. А там, смотришь, и он на ноги встанет. А если кто раньше нас ухитрится сбежать — пожелаем ему счастья. Так, что ли? — Правильно, — кивнул головой Никулин. На том и порешили. Оставшись один, Николай Константинович с облегчением вздохнул. Он был рад, что товарищи поделились с ним своими мыслями, надеждами, значит, доверяют. Николай Константинович понимал, почему рассказали ему о подготовке к побегу. Ведь до войны он занимал пост, на котором советские люди привыкли видеть бойцов несгибаемой воли, беззаветно преданных своему народу, Родине. Вот и теперь от него ждали доброго совета, деловой помощи. Это обязывало действовать, оправдать доверие товарищей. …Тянулись унылые и страшные лагерные будни. Тайком прибегал Дудин, приносил то кусочек хлеба, то брюкву или картошку. Пленный майор, назвавшийся Поповым, бывшим помощником начальника штаба полка, совсем незнакомый Николаю Константиновичу человек, работал на вещевом складе. Он принес как-то солдатскую шинель, гимнастерку, ботинки. Мысль о побеге не оставляла Николая Константиновича и его друзей. С помощью товарищей, которых Ресовец вместе с ним укрывал в лазарете, Никулин организовал наблюдение за охраной. Они отмечали порядок и время смены караулов, патрулей. Никулин прощупал взглядом каждый метр ограды. Три ряда колючей проволоки, с внешней стороны — будки с часовыми, вооруженными автоматами, ручными пулеметами. Торчат пулеметы и на сторожевых вышках, установленных через каждые полсотни метров. Между рядами колючей проволоки бегают собаки. От будки к будке прохаживаются патрули. Ограда по ночам освещается мощными прожекторами. При малейшей попытке приблизиться к ней охранники открывают огонь. И все же люди мечтали о побеге. Однажды в лазарет зашел бывший помощник коменданта одной из погранкомендатур. Он был зарегистрирован как рядовой, под вымышленной фамилией. Еще молодой, сравнительно сильный и бодрый человек, он жил мыслью о побеге. — Я записался в рабочую команду, — возбужденно рассказывал он Николаю Константиновичу. — Нас водят через город. Есть возможность бежать. Давайте попытаемся? — Пока не могу, — грустно ответил Никулин. — Придется ждать, только начал ходить, и опять открылись раны. А ты — беги. Желаю удачи. Только подготовился хорошо? — Какая там подготовка! Тут на случай надеяться надо. Когда он еще представится. Если сейчас не решишься, так и останешься здесь навсегда. Больше пограничник в лагерь не вернулся. Что с ним случилось, никто не знал. Хотелось верить, что встретил добрых людей, которые помогли найти своих, стал в ряды вооруженных борцов с фашизмом. Но могло быть и по-иному. …Приближалась весна 1942 года. Огромный двор Большого лагеря был покрыт холодной жижей — по тонкому ледку, сковавшему землю ночью, с утра топтались тысячи обутых в рваные сапоги, стоптанные валенки, обмотанных тряпками или даже босых ног, и лед не выдерживал, таял. Хмурилось небо. То дождь моросил, то срывался мокрый снег. Военнопленных выгоняли во двор на уборку. Сгребали снег кто чем мог — дощечкой, обломком фанерного ящика, а то и просто ногой. Снег таял, ледяная вода пропитывала одежду. Вернувшись в холодный барак, люди теснее жались друг к другу, стараясь согреться теплом собственных тел. Изо всех углов доносился глухой кашель. Каждую ночь кто-нибудь умирал. Низкое серое небо, изможденные, шатающиеся фигуры, медленно бредущие по грязи, по лужам, крики полицаев, звук ударов, стопы, лай собак — все это казалось нереальным, будто виделось и слышалось не наяву, а в кошмарном горячечном сне. А пленные все прибывали. В бараках уже не хватало мест. Кто сумел попасть под крышу, тот получал какой-то шанс выжить еще одну длинную морозную ночь. Неудачники дрогли и коченели на леденящем ветру. Впрочем, нередко и в самих бараках по утрам вырубали топорами из ледяной корки труп человека, уснувшего на полу. Несколько немецких армейских повозок — длинных фур, закрытых крышками, — с утра до ночи вывозили трупы из лагеря. Нередко на зловещие фуры попадали еще живые, но ослабевшие люди. Они тщетно пытались выбраться из повозки. Ездовые спокойно и равнодушно заталкивали их обратно под крышку подвижного гроба. Так живьем и закапывали. Внешнюю охрану несли немцы. Они без особой нужды не заходили на огороженную территорию: опасались насекомых, заразных болезней, которые свирепствовали среди заключенных, особенно с наступлением теплых дней. А внутри лагеря хозяйничали полицаи. Оборванные, заросшие, голодные пленные находились в их полной власти. Лагерные капо могли безнаказанно убить, отобрать скудную пайку хлеба. Один из изменников знал Николая Константиновича по довоенной службе. Об этом случайно проведал Дудин. Вместе с Ресовцом он поспешил к Никулину, с которым успел сдружиться. — Ты не помнишь такого Вишневского? Он к немцам перебежал. Тобою интересовался. Хочет в лазарет прийти. — Вишневский? Не знаю такого… Тренированный мозг Никулина усиленно заработал. Интуиция чекиста подсказывала: близится опасность. Как ее отразить? Ни с одним человеком, носящим фамилию Вишневского, Николай Константинович знаком не был. Откуда же тот мог знать Никулина? — Ничего, друг, не волнуйся, — тихо проговорил Дудин, заметив тревогу на лице Николая Константиновича. — В случае чего Вишневский из лазарета не выйдет. Правильно, Виктор? Ресовец утвердительно кивнул головой. Теплое чувство охватило Никулина. Вот она, настоящая дружба! Такую и смерть не возьмет. — Спасибо, ребята, — охрипшим вдруг от волнения голосом проговорил он. — Только горячки пороть не надо. Посмотрим, что за тип этот Вишневский. Вскоре в лазарете появился высокий брюнет лет тридцати–тридцати пяти. Он был чисто одет, хорошо выбрит. Подойдя к Николаю Константиновичу, отрекомендовался: — Вишневский. — Никулин, — ответил Николай Константинович, не сводя глаз с лица собеседника. Теперь он знал, с кем имеет дело. С этим человеком ему действительно приходилось встречаться до войны. Близко знакомы они не были, но видели друг друга часто. Тогда брюнет служил в одной из частей гарнизона, правда, фамилию носил другую. В лагере, видно, сменил. — Никулин так Никулин, — охотно подхватил Вишневский. — Бывает и такое. Ну, как живешь, Никулин, чем занимаешься? — Живу, пока живется, — неопределенно ответил Николай Константинович. — Здоровье у тебя, видать, не ахти какое, — словно не замечая сдержанности собеседника, продолжал Вишневский. — Надо харчиться получше, а то долго не протянешь. Промыслом каким занимаешься или нет? — Какие уж тут промыслы, еле ноги волочу. — Ладно, помогу тебе по знакомству. Если хочешь, организую встречу с одним влиятельным человеком го лагерной комендатуры. Может, слышал, Плетнев его фамилия. Мне вот он помог устроиться — живу неплохо. И ты так сможешь. Твой опыт контрразведчика пригодится. Да и немцы будут довольны, если я тебя с ними познакомлю. Сам понимаешь. Не советую упрямиться. Был тут один очень идейный. Не согласился с немцами работать, его шлепнули. Вот и посуди сам, подумай. Надумаешь, скажешь. Только шевели мозгами быстрее. Жду. — Подлечусь, а там видно будет, — уклончиво ответил Николай Константинович. Лицо его было спокойно. Но в душе все клокотало. Никулин понимал, что Вишневский в лагере разыскивает людей, которых можно использовать в качестве провокаторов. Предатель надеется заработать, завербовав бывшего советского контрразведчика. По-видимому, вербовка провокаторов и была тем “промыслом”, которым занимался Вишневский. Уж слишком много предоставлялось ему таких льгот, какие были немыслимы для обычного заключенного. Вишневский свободно уходил с территории лагеря, приходил, когда вздумается, иногда пропадал по нескольку дней. И эта дружба с “влиятельным человеком” Плетневым… — Вот что, друзья, — сказал Николай Константинович, когда Вишневский ушел из лазарета. — Этого подлеца нужно убрать. И как можно скорее. Есть у нас смелые хлопцы? Вас-то он видел и будет остерегаться. — Найдутся, — подумав, ответил Дудин. — Но как вынести труп за ограду? Оставлять в лагере его нельзя. Немцы за своего холуя десятки хороших людей изведут. — Нужно будет переодеть его в лагерное тряпье, в грязиповозить, номер чужой пришпилить — ив черную фуру. Главное, чтоб убить гада без всякого шума. Нельзя его живым оставлять. — Сделаем, — твердо ответил Дудин. В тот же вечер, когда Вишневский направился к проходной, чтобы выйти в город, к нему подошел худощавый низкорослый паренек и вежливо спросил: — Прошу извинить, не вы ли будете господин Вишневский? — А вам что за дело, кто я? — Видите ли, Николай Константинович Никулин велел мне срочно разыскать и пригласить к нему господина Вишневского. Судя по его описанию… — Да, я Вишневский. А что Никулину нужно? — Он говорит, что хочет сообщить что-то интересное для вас. И просит вас непременно зайти к нему и как можно скорое. Дело срочное. Вишневский досадливо поморщился. У него были свои планы на вечер. Но и Никулиным пренебрегать не годилось. Вот только стемнело уже. За бараками такой мрак, что жуть берет. Вишневский покосился на собеседника. Нет, этого паренька, пожалуй, можно не опасаться. Узкоплечий, малорослый, вдобавок исхудавший так, что кости выпирают. Его разок толкни — рассыплется. Да и часовые кругом, полицаи везде ходят. Успокоив себя, Вишневский решился: — Пошли! Быстро миновав крайние бараки, спутники повернули направо, к лазарету. Его стена, обращенная к ограде, была освещена. Вишневский окончательно успокоился. — Сюда, сюда, пожалуйста, — приветливо пригласил его паренек, распахивая одну из дверей барака. — Что-то, помнится, я в другую дверь заходил к Никулину, — засомневался было Вишневский. — Так его начальник лазарета Пирогов по указанию господина Казака перевел в более удобное помещение. — Ах, вот как, — успокоенно проговорил Вишневский и, слегка пригнувшись, шагнул через порог. И сразу же удар страшной силы обрушился на его голову. Иван Байбуров, бывший моряк-балтиец, взятый в плен под Лиепаей, со всего маху хватил изменника обмотанной в тряпье кувалдой. Вишневский даже не охнул. В мгновение ока его переодели в рванину и, убедившись, что предатель не дышит, выбросили на свалку. — Не заинтересовались бы фрицы, почему у него черепок, как тыква, расколот, — обеспокоенно проговорил паренек, который привел Вишневского в барак. — Начнут интересоваться, по лицу опознают. — Не бойся, — успокоил Байбуров. — Я его по уши грязью заляпал. От лагерников не отличишь, покойник как покойник. Да и в лагере его сегодня не хватятся. Он ведь отпросился в город. Так что все будет хорошо. И действительно. Ни на другое утро, ни через месяц никто не поинтересовался, куда пропал Вишневский. Немцы, конечно, обнаружили, что их агент бесследно исчез. Но никого из пленных о нем не расспрашивали. На следующее утро Дудин известил Николая Константиновича, что провокатор уничтожен. Внимательно присматривался Никулин к начальнику лагерной полиции Казаку. О прошлом этого человека никто ничего не знал. Поговаривали, будто служил он в Красной Армии не то сержантом, не то лейтенантом, по все это были лишь догадки. Даже ближайшие подручные Казака не знали, как он появился в лагере. Высокий, плечистый, внешне красивый парень оказался сущим зверем. Во главе шайки “блюстителей порядка” Казак без устали шнырял по территории лагеря, и горе тому, кто попадался ему на глаза. Окрепнувший Никулин детально изучил обстановку в лагере и принялся тщательно готовить побег. Учитывая относительно привилегированное положение Дудина, Николай Константинович попросил его сблизиться с Казаком, расположить этого негодяя к себе и добиться, чтобы на работы за пределами лагеря он назначал членов патриотической группы. Нужно было в рабочие команды включить своих людей, чтобы они хорошо изучили обстановку за чертой лагеря, выяснили маршруты возможного побега. Дудин взялся за дело. И постепенно его самого и других пограничников Казак все чаще стал посылать в город. Дудин ликовал: — Клюнул Казак на подарки, что мы ему подносим. Уже отличает “своих”. Знаешь, Николай, ведь мы можем создать команду из одних наших людей. — Только не надоедай Казаку своими просьбами и предложениями. Это может вызвать подозрение. Действуй постепенно, осторожно. И Дудин действовал. Возвращаясь из города, приносил Казаку водку, папиросы, деньги. Казак “подобрел”, он даже предложил Дудину пойти в полицаи. Вместо этого майор попросился старшим рабочей бригады. Казак одобрил такую инициативу — рассчитывал хорошо поживиться от “своего” человека. Теперь уже сам Дудин отбирал людей в город на работу. Все шло, как и предполагалось. — Уже можно бежать, — торопил Дудин. Его поддерживал Ресовец. Но Николай Константинович не соглашался. — Бессмысленно, — доказывал он. — Далеко ли убежишь? Языка латышского никто из нас не знает. Надежных людей, которые могли бы укрыть, переодеть, провести к фронту, тоже нет. Нам же надо не просто бежать куда глаза глядят, а в боевой строй возвратиться. — Что же, нам теперь латышский язык изучать? — иронизировал Ресовец. — Так ведь в лагере преподавателей не найдешь, да и немцы школу открыть не позволят. — Ну ясно, не разрешат, — спокойно отвечал Николай Константинович. — Но и мы разрешения у них спрашивать не будем. Надо найти в лагере людей, которые и язык местный знают, и родственников или знакомых имеют в Латвии. Предложим им бежать вместе с нами. Они за проводников будут. Сумеешь подыскать нужных людей. Дудин? У тебя ведь широкие знакомства. Дудину не нужно было повторять задание. Он молча кивнул головой. И вот через некоторое время в лазарете появился еще один солдат, доведенный условиями в лагере до истощения. Его привел в лазарет Казак. — Возьми эту падаль, — грубо приказал он Пирогову. — Поставь на поги. Понадобится еще. Появление нового больного обеспокоило Николая Константиновича. Почему его привел Казак? Может, его подсадили как провокатора? Но тогда зачем же делать это так грубо? Немцы не настолько глупы, чтобы послать своего агента в лазарет в сопровождении Казака. Всякого, кто с ним знается, военнопленные ненавидят и презирают. Не случайно жаловался Дудин, что, сблизившись с Казаком, он теряет прежних друзей среди пленных. Николай Константинович попросил Ресовца пригласить Дудина в лазарет. Через несколько дней друзья встретились в “аптеке”. — Прости, Николай, не смог тебя своевременно предупредить, — сказал Дудин. — Работы у меня сейчас по горло. “Дружба” с Казаком нелегко мне достается. Волчком кручусь. А солдата этого я по твоей просьбе разыскал. Фамилия его Петров. Он сам житель Резекненского уезда. Там у него и родственники есть. Латвию знает прекрасно. — Почему же его сюда Казак привел? — поинтересовался Никулин. — А я было уже забеспокоился. Шутка ли? Сам Казак! Чего только не подумаешь! — Казак просто тупица. Он от своих бесчинств да попоек совсем разум потерял. Я ему как-то сказал, что нам никак нельзя без переводчика. Чтобы выменять или купить что-либо у местного населения, нужно латышский язык знать. Попросил подыскать нам в команду солдата, который хорошо бы знал латышский и русский языки. Казак сразу смекнул — выгодно! Давай, говорит, искать вместе. А у меня уже был такой на примете. Попросил Казака направить его в лазарет. — Жаль, что парень ослабел совсем, — заметил Ресовец. — Целыми днями молчит. Спросит что-либо и снова замолчит. Но, думаю, скоро поправится. Я его выхожу. — Присмотрись к нему, Николай, — предложил Дудин. — Военнопленные о Петрове отзываются хорошо. Недельки через две, когда станет на ноги, возьму в город. Ну, а годен он для нашего дела или нет — решай сам. — Ладно, договорились. Дудин ушел, а Николай Константинович долго думал о нем. Знал он Дудина по совместной службе уже давно. Ничем особенным от других никогда не отличался, разве биографией своей дворянской. Характер имел сдержанный, даже замкнутый. Казалось, мало чем интересовался, кроме финансовых дел. Только в дни выдачи денежного содержания, когда в небольшую комнату финчасти собирались люди, Дудин оживлялся. То пошутит, то анекдот расскажет. В части все знали, что начфин недолюбливает общественные поручения и большую часть свободного времени проводит в семье. “Сухой человек, отсталый”, — отзывались о нем. Но если Дудина удавалось уговорить сделать что-то, он делал добросовестно, с присущей ему педантичностью. Кто мог подумать тогда, что Дудин в самой сложной обстановке сумеет действовать столь решительно и самоотверженно? И вот теперь в лагере раскрылся настоящий характер человека! Открывая в Дудине незаурядные способности подпольщика-организатора, Николай Константинович все больше проникался уважением к нему. Присланный им солдат оказался очень нужным человеком. Он сумел установить дружеские связи с рабочими топливного склада, найти среди них настоящих патриотов, которые согласились помочь военнопленным бежать из немецкого лагеря, укрыть и переодеть, проводить в лес к партизанам. Дудин в эти дни ходил от радости сам не свой. Как-то он, потеряв обычную сдержанность, весело сказал Николаю Константиновичу: — Теперь-то успех обеспечен. Скоро на свободе будем. Только бы выбраться за проволоку, а там — поминай как звали. Тебе спасибо, надоумил, как действовать. — Погоди благодарить, надо дело сначала сделать. Самое трудное еще впереди. — Все, все верят, что побег удастся. Ты посмотрел бы на наших людей. Они ведь просто горят от нетерпения. — А вот показывать этого не следует, — предупредил Николай Константинович. — А то как бы в самом деле не “сгорели”. Во всем осторожность нужна. Малейший промах — и все прахом пойдет. — Ждем твоего сигнала. Я все подготовил. Как только уйдешь из лазарета, Казак направит тебя в нашу рабочую бригаду и тогда… Казалось, до малейшей мелочи разработал Никулин план побега, все предусмотрел. Но побег не удался. Помешал предатель. В лазарете на должности санитара работал парень из вольнонаемных — Семен Бедунов. Белобрысый и голубоглазый, тихий, ласковый, он бесшумно проходил между нарами, частенько спрашивал у Никулина: — Может, водицы, хотите испить, дядя Коля? Или принести чего? “Дядями” паренек величал всех раненых старше его возрастом. Особенно он старался угодить Дудину и Ресовцу. Но военнопленные сторонились санитара, видя в нем ненадежного, трусоватого человека, а может быть, и немецкого агента, приставленного наблюдать за теми, кто находится в лазарете. Николай Константинович давно предупредил своих друзей, чтобы они избегали вести серьезные разговоры при Семене Бедунове. Но однажды произошло непредвиденное. В лагере было несколько подростков, воспитанников музыкальных взводов. Их содержали наравне со взрослыми военнопленными. Один, из них был схвачен при попытке похитить краюху хлеба. Полицаи набросились на него, били дубинками, топтали ногами. Из окна лазарета это увидел кто-то из раненых. — Не могу терпеть больше, не могу! — во весь голос заговорил он, дрожа от ненависти. — Надо что-то делать. Ведь мы — советские люди. Командиры, коммунисты! Понимаете? Мы обязаны действовать! Неужели мы не придумаем, как отомстить проклятым фашистам?! Нельзя молчать! Не могу больше!.. — Прекрати истерику! — прикрикнул Николай Константинович. — У нас, думаешь, душа не болит? Раненые зашумели. В их гневных голосах звучало долго сдерживаемое негодование. Они проклинали фашистов. И никто в этот момент не обратил внимания на притаившегося в углу Семена Бедунова. Он давно следил за Николаем Константиновичем и его друзьями, а сейчас, видимо, решил, что заветный час настал. Змеей скользнув за дверь, предатель подошел к одному из полицаев. — В лазарете лечатся не только солдаты, но и офицеры, есть даже коммунисты, — угодливо проговорил он. — Я только что узнал об этом. Их фамилии… Полицейский мигом сообразил, что эта новость заинтересует немцев, и побежал к своему начальнику. Уже вечером стало известно, что всех заподозренных переводят в другой лагерь. В лазарет пришел переводчик комендатуры и пояснил: — О, наш лагер не для официрен. Мы не можем заставляйт вас арбайт. Поедете в Саласпилс. Там офицерский дулаг. Там есть карашо. Он одобрительно похлопал санитара по плечу, сунул ему в руку сигарету и, покровительственно улыбнувшись, вышел. Пленные переглянулись. Сюда уже дошли слухи о Саласпилсском лагере. Все поняли, что им предопределена участь смертников. Едва переводчик вышел, раненые повернулись к Бедунову. Тот испуганно забился в угол. Искаженные ненавистью лица красноречивее слов говорили предателю, что его ждет… В бараке воцарилось зловещее молчание. Но тут распахнулась дверь и на пороге появился Казак. За ним толпились полицаи, поодаль стояли вооруженные немецкие солдаты. — А ну, выходи все! — скомандовал Казак. Полицейские вывели Дудина, Никулина и их товарищей во двор и там построили. Немецкий офицер объявил: — Вы переводитесь в офицерский лагерь в Саласпилс. Там для вас создадут хорошие условия, не будут посылать на работы. Пленные угрюмо молчали. Никто по верил в “доброту” фашистов. Николай Константинович внимательно оглядел своих товарищей. Люди спокойно, не отводя взора, смотрели на чекиста. Они были готовы к борьбе. А через несколько недель вся рабочая бригада, которой когда-то руководил Дудин, не вернулась с топливного склада. Убив конвоиров, пленные с помощью латышских рабочих бежали к партизанам. Труд, вложенный Дудиным и Никулиным в подготовку побега, не пропал. Двенадцать военнопленных обрели свободу. Эта весть быстро разнеслась по лагерю. Не знали о ней только организаторы смелого побега — майор Дудин и капитан Никулин.Глава третья Поединок
Крытые грузовики, длинные, как вагоны, прогрохотали по улицам Риги, выехали на шоссе, ведущее к Даугавпилсу. Люди сидели молча в переполненных кузовах. Будущее рисовалось им в самых мрачных красках. Мартовский свежий ветер, проникая в щели старого кузова, ножом впивался в полуобнаженные спины пленных. Вооруженные до зубов охранники зорко следили за каждым их движением. Злобно рычали натренированные немецкие овчарки. Николай Константинович не представлял, большое или малое расстояние проехали машины. Время тянулось томительно медленно, но желания поторопить его не было. Наконец грузовики остановились. — Вег, вег! — кричали гитлеровцы, прикладами сгоняя пленных в колонну. Залаяли собаки, набрасываясь на людей. Направо и налево с маху били дубинками солдаты из охранного батальона. И вскоре скорбная процессия, вытянувшись длинной колонной, двинулась в путь по сырой, заболоченной земле к самому страшному из лагерей смерти, созданных гитлеровцами на территории Латвии. Колонну пленных пригнали в густой лес. Узники увидели несколько дощатых домиков, большую поляну, окруженную проволокой в три ряда, и вышки с пулеметами. Охрану несли эсэсовцы. Всякая связь с внешним миром была прервана. С территории лагеря никого никуда не выпускали. — Теперь все, — грустно проговорил Дудин, — отсюда не выберешься. — Надо выбраться, — ответил Никулин, хотя и сам содрогнулся, увидев, как в песчаных ямах, вырытых руками пленных, копошились живые и умирающие, лежали гниющие трупы. Их никто не убирал. Изможденные люди ползали по земле, выискивая пожухлые травинки, и тут же поедали их. Несколько берез, росших посреди поляны, были обгрызаны выше человеческого роста, а пленные все старались взобраться по стволу, оторвать кусочек коры — и падали, обессилевшие. Прибывших разместили по разным блокам. Никулин и Дудин хотя и оказались в одном блоке, но некоторое время не встречались. Чтобы не привлекать к себе внимания, они делали вид, что не знают друг друга. Хотелось думать, что их перевели в Саласпилсский лагерь лишь как офицеров, которых выдал санитар. Но каждый допускал, что немецкая контрразведка могла напасть на след организаторов побега. Ведь как ни конспирировались Никулин и Дудин, все же пришлось привлечь к делу многих. Знали о нем и те, кто должен был бежать, знали и те, кто готовил и обеспечивал дерзкий побег. А при таком широком круге посвященных всегда существует опасность провала. Шло время. Каких-либо запросов о Дудине и Никулине в лагерь, видимо, не поступало. Их не трогали. Приятели начали чаще встречаться, немного успокоились. И тут Дудина потребовали в комендатуру лагеря. Вызов был настолько неожиданным, что он не успел предупредить Николая Константиновича. Пришлось немедленно последовать за полицейским. Вернувшись к вечеру в свой блок, Дудин разыскал. Никулина и отозвал в сторону, чтобы без помех побеседовать. — Похоже, Николай, наши бежали, — довольно улыбаясь, заговорил вполголоса Дудин, убедившись, что никто не подслушивает. — Мне, конечно, об этом не говорили. Все расспрашивали о людях, связанных с рабочими командами Большого рижского лагеря, про Казака допытывались. Кто да что, да почему? Подозревают, видно, что Казак помог пленным бежать. Я, конечно, понял, откуда и куда дует ветер, постарался побольше наговорить на Казака. Пусть мерзавцу влетит от немцев. — Не радуйся преждевременно. Смотри, как бы нам с тобой не влетело. — На этот раз, кажется, пронесло, — улыбнулся Дудин. — Обманули церберов. От души рад за наших ребят. Николай Константинович понимал его и тоже радовался удаче. — Эх, если бы мне удалось бежать! — продолжал Дудин. — Я показал бы фрицам, кто такой начфин Дудин. За все свои муки, за позор свой рассчитался бы сполна… Дудин тяжело дышал. Его давил хриплый прерывистый кашель. — Что с тобой, дружище? — спросил Николай Константинович. — Уж не заболел ли? — Горит все внутри, простудился наверняка. Да и не удивительно. Всю зиму мерзли в Рижском лагере. Теперь весна, а лучше не стало: холод собачий, сырость. Боюсь, как бы не свалиться. Николай Константинович молча стянул с себя весь изодранный грязный шерстяной свитер и подал товарищу. — Ты что?! — отшатнулся Дудин. — Надень, говорят тебе. С меня и шинели хватит. — Не возьму. — Не упрямься, — настаивал Никулин. — Потом отдашь. — Ну хорошо, — согласился Дудин после некоторого колебания. Он надел свитер и, виновато улыбаясь, заметил: — Смотри, как будто и теплее стало. Хоть и лохмотья, а греют… — Теперь давай о деле потолкуем, — продолжил разговор Никулин. — Тебя, значит, о побеге прямо не спрашивали? Выходит, прямых улик против тебя нет, но ты теперь на подозрении. Помни об этом. Чуть что не так — и с тобой церемониться не станут. Будь осторожен… А весна брала свое. Все реже шли дожди, не дули больше холодные ветры, дни становились теплыми, солнечными. Приближалось лето. И люди в лагере все чаще говорили о побеге. Пленные держались небольшими группами. Собирались земляки, однополчане или просто товарищи, которых накрепко сдружила тяжелая лагерная доля. Николай Константинович тоже ломал голову в поисках путей на волю. Но ничего сулящего успех не находил. Немцы надежно охраняли свои жертвы. Приглядываясь по профессиональной привычке к людям, Никулин мысленно оценивал их, подбирал товарищей для побега. Многие ему пришлись по душе, в отношении других чекист колебался, а были и такие, которые с первого взгляда внушали подозрение. Как-то Дудин рассказал о своем знакомстве с Сыромятым, который до плена якобы был чекистом. — Твой коллега, Николай Константинович. — Давай познакомлю. Может, пригодится. Как думаешь? — Познакомиться можно, но откуда ты узнал, что он чекист? — Так он сам об этом сказал. — Вот как? Интересно. Одному тебе сказал или перед всеми открылся? — Не знаю. Мне, во всяком случае, говорил. — Чем же вызвана такая откровенность? — Разговорились как-то по душам, вот он и рассказал. — Познакомиться можно. Но ты с ним не откровенничай, будь осторожен. И обо мне — ни слова. Возможно, это провокатор. Сообщение Дудина настораживало. Не мог настоящий чекист действовать так неосмотрительно. Тут не простой неосторожностью попахивает. Дня через два Дудин подошел к Николаю Константиновичу с незнакомым конопатым парнем и сказал: — Знакомься, Никулин, это Сыромятый. Николай Константинович молча пожал протянутую руку, окинул быстрым взглядом Сыромятого. Бегающие глаза, утонувшие в глазницах под выдающимися вперед надбровными дугами, скошенный лоб, наглый и одновременно трусоватый взгляд. “Типичный уголовник”, — отметил про себя Никулин. — Чего молчишь, парень, ай жистью недоволен? — прохрипел Сыромятый. — Держи хвост пистолетом. У нас, у энкаведешников, такой закон — хоть кишки вон, а держи фасон. Слушая разглагольствования Сыромятого, Николай Константинович окончательно убедился: перед ним — провокатор. Чекист не мог так держаться, так разговаривать. Это — привычка старого уголовника, бандита. — Так ты, говоришь, в НКВД служил? — осторожно оглянувшись, шепотом проговорил Никулин и придвинулся к Сыромятому. Тот воспринял это как знак доверия и утвердительно кивнул. — Так почему же тебя до сих пор не расстреляли, гад! А ну, признавайся, сколько наших душ загубил, сколько в “сибирскую академию” сплавил? Сыромятый испуганно отшатнулся: — Ты что, с ума сошел? — А вот пойду к коменданту, он разберется, кто из нас с ума сошел. — Ты не кипятись зря, чего на своих гавкаешь, — миролюбиво заговорил Сыромятый. — Никакой я не чекист. Это только так, для авторитету. — Для авторите-ту-у, — передразнил Николай Константинович. — Вот вздернут тебя на виселицу, дурака такого, и поделом будет. Давай, вали отсюда, пока я добрый. Тот поспешил удалиться, радуясь, что его не раскусили. А Никулин укоризненно поглядел на Дудина: — Эх, друг, друг! Как же ты гестаповского агента не разглядел? — Какой там гестаповец, — отмахнулся Дудин. — Сыромятый — общительный парень, отзывчив, неплохой товарищ, хотя и с блатным душком. Но это он на себя больше напускает. Мне, мол, все нипочем. А душой, я верю, он наш человек. — Хочешь проверить? — Давай. Но как? — Нужно подумать. Через некоторое время Николай Константинович пригласил Дудина в дощатый сарайчик для хозинвентаря. Туда никто из немцев и их прислужников никогда не заглядывал. В сарайчике хранились бочки из-под горючего, банки из-под краски, различная ветошь, тряпье. Крупными печатными буквами Никулин написал на стене несколько антифашистских призывов и тут же слегка замазал их остатками черной краски. Сарайчик закрыли на замок. Он защелкнулся, а ключа от него не было. Несколькими днями позже приятели встретились с Сыромятым. Беседуя о лагерных новостях, Никулин с возмущением сказал: — Мы тут с Дудиным случайно зашли в сарай для инструмента и на стене увидели большевистские лозунги. Попробовали их затереть, по не хватило краски все как следует замазать. Найти бы этого агитатора. Он пишет, а отвечать-то в случае чего всем нам! А кому охота безвинно страдать? Мне еще жить хочется… Сыромятый слушал невнимательно, даже отвернулся и зевнул, будто новость не представила для него никакого интереса. Потом сказал: — Трусоват ты. Никулин, дрожишь за свою шкуру. А я думал, ты парень хват. Ну, прощевай, покедова, пойду. — Вот видишь, я же говорил тебе, наш это человек, — перебил Дудин Николая Константиновича. — Как он тебя отчитал здорово! Провокатор сразу бы прицепился. — Не спеши с выводами, — прервал Никулин приятеля. — Посмотрим, что дальше будет. Прошло два дня. У сарайчика все оставалось без изменений. А на исходе третьего наблюдавшие издалека Дудин и Никулин увидели там двух полицейских. Чертыхаясь, те взламывали замок. Сквозь открытую дверь было видно, как они старательно замазывали надписи. Расчет оправдался. Сыромятый и его хозяева попались на самую немудреную хитрость. — Ну как, теперь веришь? — укорял Николай Константинович Дудина. — В сарае никого, кроме нас, не было. Мы написали, мы закрыли на замок. Сказали о надписях только Сыромятому. Выводы делай сам. — Ах, иуда! — процедил, сквозь зубы Дудин. — Убить провокатора надо — вот что. — Этого еще только не хватало! Наоборот, пусть пока живет. И отталкивать его не надо. Но к делам нашим, разумеется, и близко не подпускать. Разыгрывай перед ним смиренного простака — и все. Предупредим товарищей, кто он такой и почему его не убили. Разоблаченный враг может еще пригодиться, как тот же Козак в Рижском лагере. Зачем открывать немцам, что мы знаем их козыри? — Так и хочется этому “козырю” в зубы дать. — Потерпи, успеем. Дудин требовал расправы над провокатором, земляки-ленинградцы офицеры Подияров, Курынов — тоже. Николай Константинович стоял на своем: лучше знать предателя и водить его за нос, чем гадать, кого еще подсунет немецкая контрразведка. Ему удалось убедить товарищей. И все же у всех, в том числе и у самого Никулина, при каждой встрече с предателем чесались кулаки. Здороваясь с ним, каждый чувствовал, что прикоснулся к чему-то очень гадкому. Хотелось тут же вымыть руки. Но зато разоблачение Сыромятого позволило Николаю Константиновичу сблизиться с Подияровым и Курыновым. Они стали часто встречаться, подолгу и задушевно беседовали. Капитан Ран, первоклассный летчик люфтваффе, легко оторвал самолет от земли. Набрав высоту, он развернул машину и, слегка накренив ее на правое крыло, повел по кругу над варшавским аэродромом. Внизу виднелась группа провожавших адмирала Канариса офицеров. Ран отметил про себя, что стоят они не шевелясь, словно в строю. Лишь головы поворачивали в сторону пролетавшего самолета. “Шеф умеет поддерживать дисциплину, — подумал Ран. — Пока самолет не скроется, они не уйдут с аэродрома”. Сделав традиционный круг, Ран повел самолет над Варшавой. Летел низко-низко. Хотел, чтобы шеф посмотрел польскую столицу с высоты птичьего полета. Капитан Ран строго следовал установившейся традиции — показывать адмиралу Канарису столицы европейских государств с воздуха. Так он демонстрировал своему шефу с воздуха Мадрид, Лиссабон, Париж, Вену, Белград, Софию, Бухарест, Брюссель. В одни города Канарис прибывал с официальными визитами, в другие — с тайными, в третьих появлялся как завоеватель. Ран надеялся осенью сорок первого года показать своему шефу с воздуха и столицу Советской России — Москву, ее старинный Кремль, Красную площадь. Но этой надежде не суждено было сбыться. За долгие годы между Раном и его шефом установились такие отношения, когда подчиненный о своем начальнике знает даже больше, чем положено, и умеет с первого взгляда определять его настроение. От внимательного взгляда Рана не ускользнуло, что адмирал весьма холодно попрощался на варшавском аэродроме с провожавшими его офицерами, что с момента вылета из Берлина он чем-то взволнован, что-то глубоко переживает… Погруженный в раздумье, адмирал Канарис не заметил, как оказался над Ригой. Под крылом самолета проплыл лабиринт улиц Старого города. По мостам через закованную в лед и припорошенную снегом Даугаву изредка пробегали машины, не спеша ехали извозчики, кое-где виднелись пешеходы. Наблюдая за улицами, Канарис не видел оживленного движения, столь характерного для больших городов. Улицы Риги были полупустынны. Сколько раз адмиралу приходилось видеть подобное в оккупированных городах Запада! Покоренные города с приходом немцев словно впадали в тяжелый сон. Капитан Ран плавно приземлил самолет. Машина на какой-то миг повисла в воздухе, словно раздумывая, продолжать или прекратить полет, затем коснулась колесами грунта и побежала по заснеженному полю, постепенно сбавляя ход. Погасив инерцию, Ран подвел самолет к стоянке. Еще не выходя из кабины, Канарис заметил, что встречать его прибыл лишь начальник базирующегося на территории Прибалтики разведоргана “Абверштелле-Остланд” полковник Неймеркель, и про себя отметил его предусмотрительность. Сейчас было не до пышных встреч. Адмирал предпочитал прибыть в Ригу незамеченным, чтобы, не привлекая внимания посторонних, провести деловое совещание с руководителями местных органов абвера. Канарис сел в роскошный “оппель-адмирал” полковника Неймеркеля и коротко приказал: — Завтра же соберите офицеров вашего аппарата. Затем он замолчал и всю дорогу до штаба не открывал рта. …Стояло ясное морозное утро. По заснеженным улицам Риги одна за другой мчались машины с офицерами “Абверштелле-Остланд”, руководителями армейских разведорганов, команд, групп, разведшкол северной группировки немецких войск. Все они направлялись к зданию на углу нынешних улиц А.Пумпура и Ю.Алунана, где до войны находилось одно из иностранных посольств. Небольшой двухэтажный особняк, облюбованный под штаб руководителями “Абверштелле-Остланд”, находился в самом аристократическом районе Риги, на тихой улице, застроенной красивыми старинными зданиями. К дому примыкал небольшой дворик, обнесенный высокой каменной стеной. У подъезда здания и у ворот неподвижно стояли часовые. Сюда и направлялись офицеры абвера. Выходя из машин, они поспешно скрывались во дворе. К назначенному сроку все были в сборе. Разместились в небольшом, но уютном, со вкусом обставленном кабинете Неймеркеля. Адмирал Канарис начал совещание с краткого обзора положения на Восточном фронте, затем перешел к оценке действий абвера. Из его выступления слушателям стало ясно, что рассчитывать на легкую и скорую победу в войне не следует. Нужно готовиться к серьезным и длительным сражениям, в которых разведке придется сыграть немаловажную роль. — Нам необходимо, — говорил Канарис, — начать тотальную разведку русских, забросить в их тыл тысячи агентов. Белоэмигранты себя не оправдывают. Они потеряли связь с Россией, не знают теперешнего образа жизни и легко становятся добычей советской контрразведки. Нужно менять тактику. Рекомендую обратить внимание на лагеря русских военнопленных, — продолжал адмирал. — До сих пор офицеры абвера больше занимались допросами пленных и перебежчиков. Сейчас нужно направить вербовщиков в лагеря военнопленных, чтобы там искать агентов. Уверен, что они найдут тех, кто желает служить Великой Германии и нашему фюреру. Лица некоторых офицеров выражали явное сомнение. Адмирал не увидел в этом ничего удивительного. В зале сидели опытные разведчики. Они имели свои, обоснованные, испытанные на личном опыте взгляды на подготовку агентуры. Канарис спокойно спросил: — Кажется, есть вопросы, господа? — Да, есть, — поднялся из-за стола начальник “Абверкоманды-104” подполковник Шиммель. — Если я правильно понял вас, речь идет о массовой вербовке агентуры в лагерях военнопленных для дальнейшего обучения в разведшколах? — Правильно. — Но, господин адмирал, многие русские военнопленные могут воспользоваться удобным случаем, чтобы вырваться из плена и перейти к своим. — Вполне возможен и такой вариант. Поэтому следует внимательно подбирать кадры. Ориентируйтесь прежде всего на тех, кто пострадал от Советской власти, недоволен ею и готов вести борьбу с большевиками. Пошлите в лагеря опытных вербовщиков, и они найдут нужных людей. — Приглядывайтесь к тем, кто нал духом. В лагерях не санаторный режим. Вы это знаете. Германия не обязана кормить своих врагов и заботиться об их благополучии, Кто не хочет страдать от голода и неудобств, пойдет к нам. Постарайтесь запугать, скомпрометировать их перед Советами. Поставьте в такое положение, чтобы они поняли: отступать некуда, пути отхода отрезаны, мосты сожжены. Впрочем, вас учить таким прописным истинам нет необходимости. Канарис на мгновение замолчал. В глубине души он понимал, что организовать массовую вербовку русских военнопленных в абвер будет нелегко. Предатели, конечно, найдутся. Но много ли их будет? Немецкая армия, как он сам убедился, столкнулась с сильным противником. Русские солдаты и офицеры стойко сражаются до последнего патрона в самых невыгодных для себя условиях. А последним выстрелом нередко кончают с собой, предпочитая смерть позору плена. Адмирал сам видел таких воинов и удивлялся их храбрости и самоотверженности. Скрывая свои сомнения под ласковой улыбкой, Канарис обвел всех зорким, чуть насмешливым взглядом и доверительным тоном продолжал: — Между нами говоря, если русские действительно расстреляют кого-либо из тех, кто перебежит к ним с повинной, великая Германия и фюрер потеряют немного. Разве что время, затраченное на их подготовку. Не нужно жалеть агентов. Нам гораздо дороже сведения, собранные ими. Все равно, когда, они сделают свое дело, им придется уйти. По залу прошелестел негромкий смех, послышался гул одобрения. Присутствовавшие зашевелились, под ними заскрипели кресла. Абверовцы поняли, что за расход “людского материала” строго спрашивать не будут, стало быть, можно действовать без боязни. — Перед вылетом к вам я был у фюрера, — сказал в заключение своей речи Канарис. — Он недоволен работой абвера и считает нас виновными в поражении под Москвой. Верховное командование готовит решающее наступление на Восточном фронте. Мы возьмем реванш за Москву, господа! В этом никто не смеет сомневаться. И путь к победе нашим войска” проложите вы — офицеры абвера. Фюрер дал нам полную свободу действий. Смелее в бой! Совещание в “Абверштелле-Остланд” в Риге продолжалось долго. Канарис принял всех руководителей разведывательных органов, разведшкол. Перед каждым ставил конкретную задачу по подготовке широкого агентурного наступления. Разведчики не медля приступили к делу. Особо доверительную беседу Канарис имел с начальником Валкской и Стренченской разведшкол майором фон Ризе. — Ваши учебные заведения будут готовить агентов для всех разведорганов группы армий “Север”, — наставлял Канарис майора фон Ризе. — Доверие оказываем вам большое, учтите это. В помощь вам дали опытного специалиста по Прибалтике капитана Шнеллера. Настоящее его имя — барон фон Шиллинг. Порою это баронство кружит капитану голову, но я уверен, что вы сумеете держать его в руках и хорошо сработаетесь. Канарис внимательно посмотрел на вытянувшегося перед ним офицера и очень тихо, но значительно добавил: — Учтите, я сам буду контролировать вашу работу. Это прозвучало почти как угроза. Майор фон Ризе побледнел. Он достаточно хорошо знал характер всемогущего руководителя абвера, чтобы понять: спуску не будет. Спросят за малейший промах. И горе ему, если не сумеет добиться успеха. Канарис, до этого стоявший у окна, вернулся к столу, сел в кресло и махнул рукой, давая понять, что разговор — закончен. Майор фон Ризе щелкнул каблуками, круто повернувшись, вышел из кабинета. Спустившись на первый этаж, он взял в канцелярии досье на Шнеллера. Барон фон Шиллинг, получивший в абвере псевдоним “капитан Шнеллер” (Быстрый) за крайне медленное продвижение по службе, родился в Прибалтике и имел родовое поместье под Либавой. После первой мировой войны Шиллинги репатриировались в Германию. Когда гитлеровцы захватили власть, фон Шиллинг, как знаток Прибалтики, был приглашен сотрудником в абвер. Он с радостью взялся за дело, сулящее большую карьеру. Но старания Шнеллера не были замечены. Другим и за более скромные успехи давали чины, ордена, а он в свои пятьдесят лет так и оставался рядовым работником абвера. “Н-да, с этим обиженным придется быть настороже, — размышлял майор фон Ризе. — Он попытается подсидеть меня”. Фон Ризе не боялся внезапно появившегося соперника. Нет, он умел делать карьеру, имел связи в верхах и занимал прочное положение, ему прочили большое будущее. Но все же выполнять ответственное задание, ежеминутно ожидая подвоха от своего помощника, — это очень неприятно. И еще не познакомившись со Шнеллером лично, фон Ризе невзлюбил его. В самом скверном состоянии духа майор выехал из Риги и в Валке принял Шнеллера с большой неприязнью.Глава четвертая “Солдат фюрера”
Когда наступили теплые погожие дни, в лагере появился новый человек. Рослый, упитанный, пышущий здоровьем и силой. На смуглом холеном лице — выражение брезгливой внимательности. Одет в отличный гражданский костюм, в белоснежную сорочку с галстуком. — Это что еще за франт сюда пожаловал? — недоумевали пленные. — Видать, начальство какое-то прикатило… — А чего ему, начальству, смотреть здесь? Как люди заживо гниют, поглядеть хочется? Ну, пусть походит, понюхает… — Тихо вы! Это из международного Красного Креста представитель. Обследовать будет… — Как же, обследовал один такой. Сам не захочет, да и немцы не пустят… Долго толковали заключенные, стараясь понять, чем вызвано появление франтоватого господина, но вскоре все разъяснилось. Полицейские согнали пленных к столу, за которым расположился незнакомец, и тот без обиняков сообщил: — Моя фамилия Плетнев. Я — бывший капитан Красной Армии. Ненавижу коммунистов и Советскую власть, поэтому перешел на сторону русской освободительной армии, которой командует генерал Власов. С помощью непобедимых германских войск мы разобьем большевиков, и тогда тот, кто был с нами в этой борьбе, получит все, что захочет. — Гад, фашистам продался! — полоснул истошный крик из толпы. — Не продался, а перешел на службу, — невозмутимо возразил Плетнев. — И не к немцам, а в нашу русскую армию, которая несет новый порядок в Россию! — Муки и слезы несешь ты России! — не унимался все тот же голос. Плетнев кивнул полицаю, и тот ринулся в толпу. Но люди лишь плотнее прижались друг к другу. Тогда на них со всех сторон налетели охранники. Замелькали дубинки, посыпались удары… Вскоре перед Плетневым стоял совсем еще молоденький младший лейтенант с залитым кровью лицом. С минуту поглядев на него, Плетнев сказал: — Вот так и мутят вас евреи да комиссары. Но с новой властью шутки плохи. Увести его! Затем как ни в чем не бывало Плетнев продолжал разглагольствовать о различных благах, которые получит тот, кто согласится стать пособником гитлеровцев. Толпа пленных угрюмо молчала. — Вы гниете здесь заживо, и ничто не спасет вас, — надрывался Плетнев. — Сами не сдохнете, так немцы убьют. А во имя чего? Покойнику идеи ни к чему. Вот поглядите на меня. Шиву как человек, а после победы еще лучше шить буду. Немцы Москву взяли, Ленинград у них, к Волге подходят. На что вам надеяться? До своих не добежите, а если и добежите — так лучше не будет, все равно расстреляют за измену. Докажи там, что не добровольно в плен сдался. А я вам жизнь предлагаю. Да еще какую! Водки, баб, жратвы — всего вволю будет. А ну, кто желает жить весело, сытно, подходи! Дудин с ненавистью и омерзением слушал предателя. Он хорошо и давно знал Плетнева, тоже бывшего царского офицера, с которым когда-то учился в инженерном училище. Сын надзирателя царской тюрьмы, он с детства привык угождать власть имущим, презирать “черный люд”. Получая погоны, Плетнев клялся на верность царю. А в октябре семнадцатого года ему показалось выгоднее стать на сторону победившего народа. Поступив на службу в Красную Армию, Плетнев всячески открещивался от своего прошлого. Но в душе он оставался все тем же — человеком без стыда и совести, растленным и беспринципным. Дудин знал, что Плетнев был с позором выгнан из Красной Армии за какой-то неблаговидный поступок. А теперь вот объявился, немецким прислужником стал. И Дудин не выдержал. — Вопрос есть, — громко сказал он, не выходя из толпы. — Давай, — откликнулся Плетнев. — Ты, собственно, какую работу предлагаешь? К Власову идти или в полицейские? — Глухой, что ли? Не слышал, что я говорил: в русскую освободительную армию. Полицаев и без вас хватит. Вы же все офицеры, военная косточка. Будете и у нас командовать, а покажете себя — особое доверие оказано будет. — Какое еще такое особое доверие? — настаивал Дудин. — Ты говори толком. Куда людей вербуешь? — Вот приходи ко мне вечером, там и потолкуем не спеша. На людях о таких делах не кричат. — Вот теперь мне ясно, — спокойно заключил Дудин. — Раз на людях говорить стесняешься, понятно, куда зовешь, каким хозяевам служишь. В толпе военнопленных раздался дружный хохот. Плетнев злобно посмотрел на Дудина, а затем, обращаясь к присутствующим, закричал во весь голос: — Не слушайте этого типа! Он плохо кончит! Я говорю вам серьезно! Пленные молчали. Но призывы Плетнева все же оказали действие. То один, то другой отчаявшийся человек, бывший воин, пряча глаза, перебегал под ненавидящими взглядами окружающих к кучке отщепенцев. “Так вот ты какой, Плетнев”, — думал Николай Константинович. Он отвернулся, ища взглядом Дудина. Тот посмотрел на Никулина. Они без слов поняли друг друга. Вечером в барак пришли двое лагерных полицейских и увели Дудина: “за подстрекательство и наглость” его посадили на неделю в темную одиночную камеру. А когда в лагерь вернулись те, что пошли к Плетневу, среди военнопленных распространился слух: Плетнев вербует в немецкую разведку — абвер. Ночью Николай Константинович не спал. Появление вербовщика абвера в лагере военнопленных натолкнуло его на мысль, что немцам приходится не сладко, коли они прибегли к вербовке агентуры среди военнопленных. Очевидно, им нужна массовая агентура. Николай Константинович, зная особенности разведывательной работы, понимал, что если бы фашистские войска вели успешное наступление, то абвер не стал бы забрасывать массовую агентуру для разведки фронтового тыла. Однако абвер, видимо, объявил “тотальную мобилизацию”. Вербовщик тянет всех подряд, а не отбирает наиболее подходящих принятыми в разведке методами. Да, конечно, ему нужна массовая агентура, которая, как правило, годна лишь для заброски в ближний тыл противника. Агентуру другого класса готовят годами. Фашисты все время твердили, что войне скоро конец. Теперь они, как видно, остановлены и вынуждены пристально изучать оборону. Вывод: сообщения немецкой пропаганды об успехах немецкого оружия — ложь. Красная Армия сорвала планы “молниеносной войны”, она готовится к наступлению. Размышляя о причинах появления Плетнева, Николай Константинович сделал для себя еще один вывод. Если немцы спешат с вербовкой агентуры, значит, она им позарез нужна для заброски за линию фронта, в тылы наших войск. Следовательно, возникает реальная возможность попасть к своим, вырваться из лагерного ада, снова стать в ряды активных борцов с гитлеровцами. Об этом стоило поразмыслить. Можно подсказать надежным людям такой путь. Ему же, как контрразведчику, будет полезно попасть в разведшколу, где он может узнать и попытаться обезвредить пособников врага. Это, разумеется, сложно, тяжело и опасно. Но может ли он,чекист, бездействовать в лагере, ожидая неизбежной смерти от голода? Не лучше ли попытаться пробраться в стан врага и бороться, бороться, бороться? Чем больше Никулин думал о возможности проникнуть в абвер, тем яснее представлял себе трудности и опасности предстоящего пути. В глазах советских людей он станет изменником, отщепенцем, для которого одна кара — позорная смерть. При малейшем подозрении в двойной игре его убьют сами немцы. Да и не только его, а всех, кто будет уличен в связях с ним. Риск очень большой, но Николай Константинович решил рискнуть. …Вечерело. Песок, нагретый солнцем за день, быстро остывал. Из леса потянуло сыростью. Стало темно, холодно. Пополз над землей болотный туман, и пленные, стараясь сохранить хоть каплю тепла в иззябших, истощенных телах, сбивались в тесные кучки. Своя кровь уже не грела этих людей, похожих на скелеты, обтянутые кожей. На пригорке, прижавшись друг к другу и накинув на исхудавшие плечи потрепанные шинели, сидели Никулин и Дудин. Николай Константинович негромко говорил о своих выводах и предположениях. Дудин слушал внимательно, изредка задавая вопросы. — Значит, думаешь, не от хорошей жизни пошли немцы на вербовку шпионов среди лагерников? — наконец спросил он. — Нужда заставила. — Понятно. Конечно, найдутся иуды, которые верой и правдой станут служить фашистам. — Найдутся. На подлецов они в первую очередь и рассчитывают. — Немедля расскажу об этом ребятам. Плетневу надо испортить обедню. Да и подлецов всяких припугнуть полезно, чтобы не вздумали инициативу проявлять. — Не торопись, — прервал его Николай Константинович. — У меня тут такая думка есть. Слушай внимательно. Отбить охоту проявлять инициативу кое у кого, конечно, давно пора. Немецких холуев в тылы нашей армии пускать нельзя. Будем стараться, чтобы тех, кого мы знаем как предателей, не допустить на службу в абвер. Одного припугнем: мол, и здесь он получит свое, если не угомонится. Другому расскажем, что ожидает шпиона в тылу наших войск. Авось задумаются. — А с другой стороны, — продолжал Никулин размышлять вслух, — было бы полезно иметь в немецких разведшколах честных советских людей. Пусть абвер тратит время на подготовку таких “шпионов”, которые никогда не выполнят его заданий. Заставить немецкую разведку работать впустую — это мысль! Пусть к Плетневу идут наши люди. Дудин долго молчал, обдумывая план Никулина. Да, тот был прав. — Неплохо придумано. Только удастся ли обмануть немецкую разведку. Там же не дураки сидят, я полагаю. — Смотря как готовиться будем. — Кого пошлем к Плетневу? — Надо поговорить с Подияровым и Курыновым. Если удастся, то сами пойдем. — Нет, мне нельзя, — после некоторого раздумья ответил Дудин. — Меня Плетнев приметил. Сразу раскусит, что к чему. Да и потом, в связи с побегом я у немцев на подозрении. Обо мне и разговора быть не может. Я теперь “меченый”. А вот тебе и товарищам помогу. Да и здесь, в лагере, без дела не останусь. Буду, так сказать, готовить кадры для абвера, подбирать стоящих ребят и посылать их к Плетневу. Сделаю это с большим удовольствием. Можешь быть уверен. — Верю. Никулин успел хорошо изучить Дудина и не сомневался, что, если потребуется, тот способен броситься на колючую проволоку, чтобы по нему, как по мосту, ушли на свободу товарищи. Больно было и подумать о расставании с таким человеком, зная, что в Саласпилсском лагере он остается почти на верную смерть. На следующий же день друзья начали осуществление разработанного плана. Первым к Плетневу направился Курынов. Возвратившись в лагерь, он рассказал, что Плетнев принял его неплохо, был доволен и обещал доложить о нем. Действительно, дня через два Курынов уехал. Очевидно, в разведшколу. Никулин хорошо проинструктировал его и был уверен, что он не подведет. Следующим к Плетневу направили Подиярова. И тот был принят. Дудин торопил Николая Константиновича: — Иди ты. Твоя очередь. Но Никулин не спешил. Сделано еще мало. Он хотел сколотить вокруг Дудина группу надежных людей, изучить каждого из них, чтобы быть уверенным в их честности и преданности. Допустить в этом деле малейшую неосторожность — значит погубить всех. В течение недели Никулин и Дудин направили к Плетневу еще двух человек. И на этот раз все сошло удачно. — Ну что ж, пришла и мне пора собираться, — сказал наконец Николай Константинович. — Пойду попытаю “счастья”. Плетнев принял Никулина вежливо, но холодно. Он безо всякого стеснения пристально разглядывал невысокого человека в изодранной солдатской шинели, стоящего перед ним навытяжку. Никулин старался держаться прямо, не припадая на раненую ногу. Он понимал, что своим внешним видом выгодного впечатления на Плетнева не произведет. В свои тридцать пять после всех перенесенных невзгод Николай Константинович выглядел пятидесятилетним. А фашистам для заброски в советский тыл нужны были молодые, физически крепкие люди. Но чекист знал, как завоевать расположение типов, подобных Плетневу. — Что тебе надо? — спросил Плетнев. — Господин капитан, я очень внимательно слушал ваше выступление перед военнопленными в лагере. Должен сказать, что оно произвело на меня сильное впечатление. Плетнев самодовольно улыбнулся. По его лицу было видно, что Николай Константинович попал в точку. Лесть явно нравилась предателю. Никулин решил и дальше играть на его самолюбии. От Плетнева сейчас зависело все — быть в разведшколе или нет, оставаться в лагере или попасть к своим. Приходилось ради осуществления задуманного притворяться и льстить такому человеку, которого при других обстоятельствах с удовольствием собственноручно вздернул бы на первой осине. — Надеюсь, вы согласитесь, господин капитан, — проникновенно продолжал Никулин, — что в лагере невольно начинаешь опускаться, теряешь способность трезво оценивать обстановку. И вот тут-то достаточно одного слова умного человека, который умеет видеть дальше тебя, чтобы окончательно определить свой путь. Ваше выступление открыло мне глаза, указало, куда идти и что делать. Может быть… — Очень рад, что ты понял меня, — прервал Плетнев. — Я от души хотел помочь соотечественникам, но среди вас попадаются типы, которые мутят воду. Что нам до них! Пусть подыхают за колючей проволокой. Спасать не стану. Николай Константинович почувствовал, как забилась в жилах кровь. “Задушить подлеца!” — пронеслось в голове. Но он сдержал себя. Этим делу не поможешь. — Так что же ты хочешь? — спросил Плетнев. — Хотел просить, чтобы вы, господин капитан, порекомендовали меня германскому командованию. Я оправдаю доверие. Еще в Большом рижском лагере Вишневский наказывал мне в случае чего обратиться к вам, так как вы всегда бескорыстно помогаете соотечественникам. — Ты разве знаком с Вишневским? — Так точно. Часть, в которой я служил, располагалась по соседству. Там мы и познакомились, подружились… — М-да… Вишневский… — промычал Плетнев. Он хотел было рассказать Никулину о том, что Вишневского нашли с проломанным черепом на лагерной свалке, но потом спохватился и продолжал: — Вишневский хорошо зарекомендовал себя. То, что вы с ним друзья, меняет все дело. Садитесь, пожалуйста. Николай Константинович сел. Он сидел прямо, готовый в любой момент вскочить, принять стойку “смирно”, и ел глазами начальство. Все это льстило Плетневу. Находясь на побегушках у немцев, он старался хоть тут строить из себя барина, большого начальника. И подобострастие пленного тешило его самолюбие. Чувствуя нечто вроде симпатии к почтительному, скромному человеку, сидящему перед ним, Плетнев продолжал расспрашивать. Николая Константиновича о жизни, о причинах, побудивших его проситься на службу к немцам. Никулин понимал, что, несмотря на, благожелательный тон, Плетнев ведет разговор не из любезности, а проверяет, прощупывает его, и поэтому отвечал на вопросы, обдумывая каждое слово: — Почему, говорите, захотел служить великой Германии? Долго рассказывать об этом. Такое решение я не вдруг принял. Думал об этом с самого начала войны. Вам, господин капитан, первому откроюсь. — Я слушаю вас, продолжайте, пожалуйста, — с готовностью откликнулся Плетнев. Никулин не спеша, как бы делясь сокровенным, говорил: — Отец у меня до революции коммерсантом был, имел большой магазин. Все богатство у нас отобрали. Папашу в тридцатых годах выслали. Пришлось мне казанской сиротой прикинуться. Но в Красной Армии настороженно относились. Сами понимаете, прошлое забыть не могли. Мне скоро сорок стукнет, а я выше капитанских чинов так и не поднялся. Чего ж мне за большевиков держаться? — Не любишь их, выходит? — поинтересовался Плетнев. — Выходит, так, господин капитан. — Вот и прекрасно, — одобрительно проговорил Плетнев, с интересом поглядывая на собеседника. Серьезный, видно, мужик попался. Немцы будут довольны. — Ну что ж, господин Никулин, — поднялся со стула Плетнев, давая понять, что разговор окончен, — я запишу вас. И если только возраст не помешает, вы будете приняты на службу великой Германии. Уходя от Плетнева, Николай Константинович вспоминал каждую свою фразу. Не вызвал ли он подозрения, не сказал ли чего лишнего? Проверки он не боялся. Был уверен, что фашисты не дойдут до подмосковного поселка Кусково, который он назвал своей родиной. А посылать специального агента за линию фронта для проверки его биографических данных немцы не станут. Слишком он мелкая фигура для этого. Таких Никулиных не так уж мало. Каждого не проверишь. Сунут в мясорубку — и будь здоров. Уцелеешь — твое счастье, а убьют — так тоже беда невелика. Немцы своими солдатами не дорожат, а уж русскими — и подавно. В тот же день Николай Константинович разыскал Сыромятого и как бы невзначай разговорился с ним. “Дружески”, “задушевно” поделился мыслями о своей дальнейшей судьбе. Рассказал ему свою вымышленную биографию в том виде, как излагал ее Плетневу, нелестно отозвался о действиях “дерзких” военнопленных и попросил совета, как быть, если немцы не возьмут его на службу. Николай Константинович хорошо знал, что каждое сказанное им слово Сыромятый немедленно доложит своим хозяевам. Плетневу, во всяком случае, будет все известно. И не ошибся. Через некоторое время Плетнев уже получил подробное сообщение “конопатого” о Никулине. Характеристика была в высшей степени положительной. Сыромятый все-таки пригодился. После беседы с Плетневым прошло дней десять. Никто не вызывал Николая Константиновича, не спрашивал ни о чем. Прежние друзья начали сторониться его. Только сейчас Никулин почувствовал, каково быть в шкуре предателя. Решаясь на этот шаг, он предполагал, что многие отойдут от него, но переносить презрение товарищей оказалось очень тяжело. Не скажешь же им, что идешь к немцам не служить, а вредить, бороться с проклятым фашизмом. Раньше, бывало, Николая Константиновича охотно встречали в тесном кругу беседующих вполголоса. Сейчас он остался один. Узнав о том, что Никулин ходил к Плетневу, один из военнопленных в присутствии других офицеров, смерил его взглядом, полным презрения и гнева, и зло сказал: — Эх ты, иуда!.. Хотелось броситься к товарищу, рассказать о том, что он не изменник, что он старается проникнуть в самое логово врага и там работать для своей Родины. Ведь он же чекист и обязан воспользоваться подвернувшейся возможностью. Для этой цели людей на парашютах перебрасывают за линию фронта! Но Николай Константинович хорошо знал, что в том опасном поединке с абвером, в который он вступал, даже выражением глаз нельзя было выдать себя. Фашисты должны быть безоговорочно уверены в нем. Иначе все пойдет прахом. Дудин, как и уговорились, тоже полностью отошел от Никулина и даже поддерживал недоверие военнопленных к нему, не переходя границ, за которыми неприязнь перерастает в ненависть. Николай Константинович случайно услышал разговор Дудина с одним из военнопленных, за который в душе поблагодарил его. — Как ты думаешь, Никулин в самом деле к гитлеровцам переметнулся? — спрашивал Дудина военнопленный. — Не знаю. Ничего не знаю, — устало отвечал Дудин. — Только с какой бы целью он к фашистам ни шел, все равно видеть его не могу. — Как бы то ни было, а пока он еще у нас в руках, — заметил военнопленный. — Он у нас или мы у него, поди, угадай. Поживем, увидим… Плетнев, конечно, не забыл своего разговора с Николаем Константиновичем. Выждав некоторое время, чтобы не выказать нетерпения, он вызвал его к себе. — Я разговаривал о вас, Никулин, с кем следует. Думаю рекомендовать вас в абвер, военную разведку. Вы согласны? — Конечно, господин капитан! — Тогда собирайтесь, поедете в другой лагерь. Вас признали годным для службы в немецкой армии. Однако прежде чем стать солдатом фюрера, необходимо пройти проверку. Таков порядок. В тот же день вместе с Плетневым Николай Константинович п еще несколько военнопленных, завербованных немецкой разведкой, выехали в Ригу. Не впервые Никулин видел Ригу, но невольно залюбовался ею, проезжая по городу. Даже в суровую военную весну сорок третьего года Рига была прекрасна. Шелестели молодой листвой каштаны, зеленели газоны, тут и там пестрели цветы… Но полупустынные улицы напоминали о тяжелом военном времени. Глядя на них, Николай Константинович с тоской вспоминал довоенную Ригу. — Что загрустил, Никулин, — окликнул Плетнев Николая Константиновича, заметив тень печали на его опаленном, обветренном лице. — Устал небось? Ничего, скоро в Задвинье приедем, там отдохнешь. Никулин промолчал. Наигранный оптимизм Плетнева не мог обмануть его. Он достаточно насмотрелся, как обращаются гитлеровцы со своими прислужниками, и на человеческое отношение не рассчитывал. Машина прогрохотала по понтонному мосту, свернула в узкий переулок, потом в другой и вскоре остановилась. Никулин прочел на ржавой табличке название улицы: Даугавгривас, 25. Тут размещался так называемый Гуцаловский лагерь, который абвер использовал как сортировочный пункт. Здесь завербованных агентов изучали, определяли их пригодность для той или иной специальности, отсюда направляли в разведшколы. Николай Константинович выпрыгнул из машины, осмотрелся. В глубине небольшого двора стоял над крутым обрывом двухэтажный деревянный особняк с четырьмя деревянными же колоннами, поддерживающими балкон над входом. Когда-то дом был выкрашен в темно-бурый цвет, но теперь краска местами осыпалась, обнажив почерневшие трухлявые доски. Маленькие окошки были покрыты пылью. Рассмотреть, что делается внутри дома, не удавалось даже с близкого расстояния. “Особняк-то, видимо, какой-нибудь богатей для себя строил, — подумал Никулин. — Два этажа, колонны — все как в помещичьей усадьбе”. Сразу за домом щедро цвела сирень, раскрылись нежные листики на ветвях могучей липы. Внизу под обрывом, куда ни глянь, чернели огородные грядки. На них кое-где уже пробивалась яркая зелень молодых побегов. За огородами узкой лентой струилась вода, стояли небольшие буксиры, лодки. Под горой Николай Константинович увидел большой многоэтажный дом. Из его двери выходили люди в измазанной известью одежде. “Военнопленные”, — безошибочно определил Никулин, наблюдая, как привычно они строятся, равняются, как послушно выполняют команды старшего. — Никулин, идите сюда, — позвал Плетнев. — Сейчас обедать будете! Столовая помещалась во дворе перед домом. В землю были врыты столбы, к ним прибиты щиты из неструганых досок. Получились длинные столы. К ним бросились вернувшиеся с работы военнопленные. Обед показался изголодавшемуся Никулину довольно хорошим. Ломтик настоящего, хотя и липкого, плохо пропеченного хлеба. Вместо лагерной баланды — овсяный суп с волокнами мяса. На второе — тушеная брюква. Стараясь есть не спеша, Николай Константинович внимательно оглядывал соседей по столу. Справа от него сидел угрюмый верзила с плоским, как блин, лицом. Широкий, почти без переносицы нос, огромный рот, маленькие, глубоко посаженные глазки неопределенного цвета, из ушей торчат пучки рыжих волос. Неприятная личность. Верзила методично, с хрустом крушил челюстями попадающиеся в супе хрящи. Почувствовав отвращение, Николай Константинович поспешил отвести глаза в другую сторону. По левую руку человек за десять от Никулина за обеденным столом сидел Курынов. Николай Константинович заметил его, как только Курынов потянулся за миской с брюквой. Сразу потеплело на душе, и он едва не окликнул приятеля, но вовремя сдержался. После обеда к Никулину подошел сухощавый старик в немецком солдатском мундире без знаков различия и, пристально вглядываясь в лицо сквозь стекла пенсне, прокартавил: — Я — комендант лагеря. Прошу пройти в дортуар. Я укажу ваше место. “Из бывших, видно”, — думал Николай Константинович, взбираясь вслед за комендантом по скрипучей лестнице на второй этаж. С лестничной площадки Никулин попал в коридор. В него выходили четыре двери. Комендант пояснил: — Первая комната — моя. В следующей живут господа немецкие солдаты, мои помощники, — с достоинством подчеркнул он. — А в двух остальных — курсанты… Вот ваша постель, — указал комендант на один из набитых соломой матрацев, лежавших на длинных дощатых нарах, устроенных вдоль стен комнаты. Матрацы лоснились от грязи, пахли сыростью, прелью. Но все-таки это не голые доски! — Где же можно получить одеяло и простыни? — спросил Никулин. Брови старика удивленно поползли вверх: — Здесь не курорт, а казарма! Может, перину прикажете расстелить? Стоять смирно, хам! Разгневанный комендант вышел, а Никулин в душе выругал себя. И надо же ему выскочить с дурацким вопросом! Теперь небось доложит кому следует: недовольство, мол, проявил. В Гуцаловском лагере жилось куда вольготнее, чем в Саласпилсе. Не избивали, питание было получше. Работать, правда, здесь заставляли с утра до ночи. Едва забрезжит рассвет, обитатели Гуцаловского лагеря строились на работы. Приходили немцы-подрядчики, отбирали людей и уводили в город. Будущие шпионы штукатурили дома, рыли канавы, таскали мешки. Ходили пленные теперь без конвоя, но строем, под командой старшего. Дисциплина поддерживалась строгая. Немцы сфотографировали каждого обитателя лагеря, сняли отпечатки пальцев. Так что, попытайся кто-нибудь бежать, разыскать его будет не так уж трудно. Курынов рассказал Николаю Константиновичу, что лагерь назван по фамилии его основателя — бывшего военного моряка Гуцалова. Он долгое время пользовался у немцев почетом и полным доверием. Но потом гитлеровцы расстреляли своего приспешника. Кто говорит, что надежд не оправдал, а кто подозревает, что чекистами подослан был. Всякое болтают люди. Николай Константинович внимательно выслушал Курынова и усмехнулся: — С такими солдатами фюрер долго не повоюет! Дни, до предела заполненные работой, летели быстро. Но Никулин успел изучить многих обитателей дома с колоннами. Опыта в этом отношении у него было несравненно больше, чем у его лагерных начальников. Цепкая память контрразведчика прочно удерживала десятки имен, фамилий, особых примет всех, с кем приходилось близко общаться. Это могло пригодиться, если удастся выбраться к своим. В Гуцаловский лагерь время от времени наезжали инструкторы из разведывательных школ. Одна из них размещалась в Риге, на берегу озера Балтэзерс. Там готовили диверсантов-подрывников. Вторая находилась в Валке и готовила агентурных разведчиков. Куда и кого из курсантов направить — решали сами немцы. Наступил день, когда для отбора кадров в лагерь приехал майор, начальник школы. Называть его было велено герр Рудольф. — Никулин! — вызвал переводчик. Николай Константинович вошел в кабинет, стал навытяжку перед начальством. Герр Рудольф, высокий блондин с голубыми глазами и красивыми, правильными чертами лица, молча курил сигарету и рассматривал Никулина. Казалось, он вовсе не слушал доклада Плетнева. — Никулин дисциплинирован, исполнителен, трудолюбив, — говорил Плетнев, — ни в чем предосудительном не замечен. — Откуда вы родом, Никулин? — неожиданно спросил майор. Все, что могли сообщить Плетнев или комендант лагеря, ему уже было известно. Майор хотел сам поговорить с кандидатом в разведшколу. Плетнев моментально замолчал, а Николай Константинович постарался придать своей позе еще больше почтительности. “Вот она проверка, — молнией пронеслась мысль. — Это тебе не Плетнев. Тут ухо востро держи”. И Никулин ни на секунду не замедлил с ответом: — Из Подмосковья, господин майор, есть такой там поселок Кусково. Там родился, там и жил. — О, я хорошо знаком с этим городишком, — оживился майор. — Мне часто приходилось бывать там. По-русски майор говорил легко и чисто. Николай Константинович догадывался, что перед ним опытный немецкий разведчик, специально подготовленный для работы в Советском Союзе. Такого легко вокруг пальца не обведешь. И он был прав. С Никулиным беседовал начальник Валкской разведывательной школы, известный подчиненным, обучавшимся в разведшколах, под псевдонимом “Рудольф”. Конспирация вынуждала майора довольно часто, в зависимости от обстановки, менять фамилии, имена, звания. Но в руководящих кругах абвера хорошо знали его настоящие имя и фамилию: Адольф фон Ризе (Ризен). Николаю Константиновичу было бы интересно узнать, что его собеседник родился и вырос в Москве. Отец его, преуспевающий в царской России делец, не препятствовал сыну общаться с русскими людьми, изучать их язык, характер и обычаи. Однако, когда юноша подрос, родители увезли его в Германию. Здесь юный фон Ризе окончил университет и еще одно специальное учебное заведение, которое позволило ему занять пост видного сотрудника германского посольства в Москве. Правда, на дипломатической работе кадровый разведчик немецкого абвера Адольф фон Ризе ничем не проявил себя. Но он свободно владел русским языком, прекрасно знал Москву и Подмосковье. И начальство ценило его. Пятнадцать лет скрывался под маской дипломата фон Ризе. И все это время он занимался шпионажем, сбором разведывательных данных о Советском Союзе и Красной Армии. — Где в Кускове стоял ваш дом? — допытывался Рудольф. Никулин и на этот раз не замедлил с ответом: — По улице Зеленой, дом три, господин майор. — Зеленая, Зеленая… Это там, где кинотеатр новый построили? Как он называется, не помните? Николай Константинович внутренне насторожился. Тот, кто жил в Кускове, не мог не знать, что кинотеатр построили не на Зеленой улице, а на Подгорной, которая расположена в противоположном конце городка. Значит, майор не знает, поселка или знает, но плохо. Возможно, побывал проездом. Но если немец хорошо знаком с Кусковом и все же проверяет, пытается спровоцировать, — не означает ли это, что он играет с Никулиным, как кошка с мышкой? Может, он давно навел необходимые справки и узнал что-нибудь о настоящем Никулине? Тот действительно жил когда-то в поселке Кусково. Что, если немцы послали агента в Кусково и тот установил личность Никулина? Ведь мог же он вернуться в родной дом. Напрягая всю волю, чтобы не выдать своей тревоги взглядом, мимикой, жестом, Никулин медленно произнес: — У нас в поселке все время клуб был — нардом — народный дом, значит, а перед войной построили кинотеатр “Ударник”. Только он не на Зеленой, господин майор, а на Подгорной улице стоит. Знаете, которая к базару идет? Мосточек там такой через ручей, аптека неподалеку. А на Зеленой новую почту строить начали, да война помешала. — Да, да, правильно. А я было позабыл. Кинотеатр действительно построили на Подгорной. Ты прав. Николай Константинович заметил мимолетную тень на лице майора, погасли огоньки в его глазах. Видимо, ответ Никулина его разочаровал. Майор убедился, что тот действительно знает Кусково, и обдумывал следующий вопрос. Поселком он больше не интересовался, да и продолжать разговор о нем дальше было рискованно. Рудольф был в Кускове раза два, прошелся по улицам и, естественно, не мог запомнить всех тех особенностей поселка, которые хорошо известны старожилам. Никулин мог догадаться, что его проверяют. Нельзя позволять русскому выйти победителем даже в таком мимолетном поединке. Рудольф поспешил сменить тему разговора: — А в Москве бывать приходилось? — Приходилось, но редко. — Люблю Москву, — улыбнулся майор. — Красивый город. Как это у вас поется: “Ты самая любимая…” Николай Константинович сочувственно покивал. А майор продолжал расспрашивать. — Вам, конечно, не говорили еще, кто я такой и куда набираю людей? — Никак нет, господин майор. — Я являюсь начальником разведшколы абвера. Хотите ли вы пойти к нам учиться? — Конечно, хочу. С большим удовольствием. — А почему это вдруг? Никулин начал рассказывать вымышленную историю, которую впервые поведал Плетневу. Он понимал, что задан не праздный вопрос — это продолжение проверки. Отступи Николай Константинович хоть в чем-нибудь от своих прежних слов — и его сразу прижмут к стене. Но майор, видимо, удовлетворился ответом. Он не стал слушать до конца и прервал речь Никулина: — В России установится новый порядок! Все верные слуги фюрера будут вознаграждены. — Беседуя с начальником школы, Николай Константинович старался не “переборщить”. Слишком горячие уверения в преданности немцам, слишком резкое недовольство Советской властью одинаково могли показаться подозрительными. Он говорил не только о недостатках, отмечал и положительные стороны. Советская власть дала большие блага простому народу. Но что ему, Никулину, простой народ, когда революция лишила его богатого наследства, уравняла с последним мужиком? Это был тонко рассчитанный ход. Начни Никулин хаять все подряд, немцы решили бы, что он или неискренен, лицемерит перед ними, либо просто глуп. В том и другом случае человек не годится для работы в абвере. Рудольф остался доволен Николаем Константиновичем. — Очень приятно слушать вас, господин Никулин. Вижу, что решение служить великой Германии является серьезным и хорошо продуманным актом в вашей жизни. Желаю успеха в учебе. Хайль Гитлер! — Хайль! — ответил Николай Константинович и с разрешения майора вышел. Рудольф перелистал материалы, которые Плетнев собрал на Никулина. — Интересный экземпляр, — сказал он. — Хотя бы тем, что разумно и рассудительно смотрит на жизнь. — Человек в годах, жизненный опыт имеет, — вставил Плетнев. — Да, это так. Он потерпел от большевиков, многое повидал и пережил. Он был бы хорошим офицером для генерала Власова, но может оказаться и незаурядным разведчиком. Как вы считаете, господин Плетнев? — Вы, как всегда, правы, господин майор. Никулин производит впечатление способного человека. Все собранные мною сведения говорят в его пользу. А я был очень требователен. Я помню ваш инструктаж. — Плетнев расплылся в подобострастной улыбке. Никулин понравился майору, и Плетнев не жалел похвал для него, тем более что сам готовился к худшему и решился отстаивать своего кандидата, всеми доступными средствами. Каждый завербованный военнопленный укреплял положение вербовщика. Не выполнит он план поставки агентов для разведшколы — и немцы могут послать его самого со шпионским заданием за линию фронта. Направляя Плетнева в лагерь военнопленных, Рудольф предупредил его об этом. А попасть на советскую землю предатель хотел меньше всего. За ним числилось столько преступлений, что и сотой доли их было бы достаточно для самого сурового приговора. Нет, за линию фронта изменнику никак нельзя было попадать. Приходилось стараться. И вот ему повезло. Хозяин заметил его старание и одобрил. Плетнев решил “оседлать” фортуну. — Господин майор, — вкрадчиво говорил он. — Я старался как можно глубже изучить Никулина. Много раз беседовал с ним в лагере. Проверял через агентов. Думаю, что это надежный человек и задание выполнить сумеет. — Что ж, вы поработали хорошо. Благодарю вас. — Рад стараться, — вытянувшись перед Рудольфом, выпалил Плетнев. — Отправляйте Никулина в Валкскую разведшколу. Так была решена судьба Николая Константиновича. Рано утром новоиспеченного “солдата фюрера” посадили в поезд и в сопровождении одного из помощников коменданта Гуцаловского лагеря отправили в Валку. …Жители латвийской Валки и эстонской Валги не раз, очевидно, проходили по мосту, соединяющему оба города. Но не многие знают, что в годы войны здесь, в домах, расположенных по обе стороны улицы, ведущей от моста к центру Валки, находилось шпионское гнездо. Здесь все было как в настоящем учебном заведении — свои аудитории, “профессора” и “студенты”, общежития, почта, санчасть. Для господ немецких “специалистов” был оборудован госпиталь. Большое каменное здание неподалеку от почты фашисты отвели под классы для занятий. Занятия велись ежедневно по восемь часов, исключая воскресенье. Будущих шпионов обучали методам сбора сведений и распространения ложных слухов, показывали им, как обращаться с различным оружием, как бесшумно убить человека ножом, а то и голыми руками. И, конечно, усердно культивировали ненависть ко всему советскому. Первым, с кем познакомился Никулин в Валке, был капитан Шнеллер. Высокий, полный, с выдающимся вперед большим животом, он, несмотря на свои пятьдесят с лишним лет, буквально носился по зданиям, которые занимала школа. Тучная фигура капитана то и дело появлялась на занятиях в классах, в общежитии, в столовой. Шнеллер хотел лично знать каждого агента. Он вел с ними долгие разговоры, стремясь выяснить, надежны ли его ученики. Николая Константиновича прямо с поезда отвели в кабинет Шнеллера. Усадив Никулина за стол и прочитав заполненную им анкету, Шнеллер кивнул на карточку с отпечатками пальцев: — Испачкали пальчики? Ничего, со временем отмоются. Все это — необходимая формальность. Мы — солдаты и должны повиноваться. — Я понимаю порядок, господин капитан. — Очень хорошо. Приятно иметь дело с умным человеком. Расскажите мне подробно о себе, о своем прошлом, как вы представляете себе службу на благо великой Германии. Шнеллер говорил быстро, проглатывая окончания отдельных слов, изредка заикался. Душевное напряжение, которое испытывал Николай Константинович в беседе со Шнеллером, обострялось усталостью, необходимостью быстро разобраться в вопросах, которые так невнятно задавал его собеседник. — Майор Рудольф весьма лестно отзывался о вас, господин Никулин, — шепелявил Шнеллер. — Так же хорошо характеризовал вас и господин Плетнев. — Я благодарен им за доверие, — ответил Николай Константинович. — Для меня это большая честь и счастье. — Совершенно верно, — подтвердил Шнеллер. — Доверие немецкой разведки — это исключительно большая честь для каждого ее агента. Вы совершенно правильно сказали, господин Никулин. Каждый агент должен хорошо понимать, что выполнять задания абвера для него великое счастье. Мы с вами, господин Никулин, уже немолоды, — продолжал Шнеллер. — За спиной у каждого много трудных лет. Не так ли? — Вы правы, господин капитан. — Вот-вот. И я надеюсь, что жизненный опыт поможет нам найти общий язык… “Чего он хочет от меня? — настороженно размышлял Николай Константинович. — Раз прямо сказать не решается, значит, какое-то пакостное дело придумал”. А Шнеллер буквально изводил Никулина вопросами, прощупывал его со всех сторон, старался сбить с толку. Капитан испытывал острое недоверие к агентам из военнопленных. Кто их разберет, этих русских! Вот сидит тихий, почтительный, а перебрось его через линию фронта, что он там натворит? Выполнит задание или нет, вернется назад или побежит к чекистам с повинной? Поди угадай. Недавно двое не вернулись, были арестованы советской контрразведкой, так не только в “Абверштелле-Остланд” пришлось иметь неприятный разговор. Из “штаба Валли” отчета потребовали. Им, конечно, не русских жалко, а тех сведений, которые собрали агенты. Но причем здесь он, Шнеллер? Немец сердито посмотрел на Никулина, как будто тот был виноват в его невзгодах, но внезапно успокоился. Серьезное и умное лицо Николая Константиновича невольно внушало доверие. Отвечал он на все вопросы толково и обстоятельно. Говорил без подобострастия, но уважительно. Не запинался, не пытался увильнуть от ответа. Так говорят лишь правдивые, обладающие чувством собственного достоинства люди. “Похоже, что на этого русского можно положиться”, — подумал Шнеллер и покровительственно сказал: — Ну что ж, я доволен, господин Никулин. Рад, что познакомился с вами. Вижу, великая Германия в вашем лице приобрела верного друга, на помощь которого всегда можно рассчитывать. — Рад стараться, — ответил Николай Константинович, став по стойке “смирно” перед Шнеллером. Но Шнеллер не торопился заканчивать беседу. — Садитесь, садитесь, господин Никулин. В ногах, как говорят русские, правды нет. Николаю Константиновичу пришлось снова усесться в кресло. Еще до вызова Никулина к себе в кабинет Шнеллер ознакомился со всеми материалами о нем, которые привез от Рудольфа помощник коменданта — Гуцаловского лагеря. Сообщения Сыромятого, Казака, Плетнева, тайной агентуры лагеря, наконец, мнение Рудольфа свидетельствовали о том, что Никулин знает себе цену и умеет постоять за себя. Это серьезный и степенный человек, со сложившимися взглядами на жизнь. Он может оказаться хорошим, перспективным агентом. Рудольф именно так и написал: “перспективный”. Шнеллер понимал, что Рудольф считает своей заслугой вербовку Никулина. Майор редко выезжал в лагеря для изучения агентов, так как опасался заразных болезней, свирепствовавших среди военнопленных. Но если уж делал он такой выезд, то об этом обязательно становилось известно начальству. Рудольф умел показать себя с наилучшей стороны. Доложив руководству, что он лично подобрал и изучил такого-то агента, Рудольф старался расхвалить его выдающиеся качества. Затем пристально следил за учебой и работой своего подопечного. В случае успеха агента о Рудольфе неизменно вспоминали в верхах, и он не оставался без награды. Так случилось и с Николаем Константиновичем. Рудольф, познакомившись с нипм, сообщил в “Абверштелле-Остланд”, что завербован агент с большим будущим. После беседы с новичком Шнеллер почувствовал, что этот русский сумеет завоевать расположение своих соотечественников и проникнуть в их замыслы. Шнеллер решил сделать Никулина своим агентом, так как лично отвечал за контрразведывательную работу в Валкской школе. — Я решил, господин Никулин, предложить вам поработать на фюрера здесь, в Валке, — сказал Шнеллер, испытующе посмотрев на Николая Константиновича. — Каким образом? — невозмутимо спросил тот. — Меня и майора Рудольфа как руководителей школы кое-что беспокоит. Некоторые агенты, которых мы направляем за линию фронта, являются с повинной к русскому командованию. Шнеллер ощупывал глазами буквально каждый мускул на лице Никулина, желая подметить, как он будет реагировать на такое сообщение. Но Никулин спокойно выдержал взгляд начальника и с сочувствием в голосе ответил: — Это плохо, господин капитан. Больше того — опасно. — Именно опасно, господин Никулин. Опасно! Для немецкой армии, для фюрера, для нашей с вами победы. “Ну, для нашей победы, победы советских людей — это совсем неплохо”, — мысленно отметил Николай Константинович, а вслух сказал: — Видимо, в школе неважно поставлена воспитательная работа, господин капитан. — Дело не в этом. Мы недостаточно изучаем своих курсантов. С вашей помощью я падсюсь г.ыявлять тех агентов, которые намереваются перейти к русским. Мы должны ыавести образцовый порядок в школе. Я надеюсь на вас. В сложное положение попал Николай Константинович. Он зпал, что немецкая разведка считает компрометацию агента совершенно необходимой. Заставить человека совершить преступление перед Советским государством — значит закрыть ему дорогу назад, накрепко пристегнуть к колеснице абвера. Вот и его хотят скомпрометировать, предлагают стать провокатором, выдавать патриотически настроенных людей. Шнеллер видел, что Никулин задумался и не торопил его с ответом. Немецкому разведчику, завербовавшему на своем веку немало агентов, приходилось видеть всякое. Одни сами предлагали свои услуги. Других не требовалось долго уговаривать. Третьи предложение работать на контрразведку встречали с негодованием, пока их не припирали к стенке компрометирующими фактами. Но в конце концов почти все кандидаты становились агентами. Вот и с этим так будет. Интересно только, о чем он сейчас думает? Жаль, нельзя заглянуть ему в душу. Шнеллер вздохнул и сказал: — Я не тороплю вас, господин Никулин, с ответом. Знаю, что вам приходится решать серьезный вопрос. Но, откровенно говоря, не понимаю вашего колебания. Мы все должны верно служить фюреру на том посту, куда нас поставят. Николай Константинович лихорадочно обдумывал положение. Согласившись стать агентом Шнеллера, он будет знать, кем тот интересуется, кого подозревает и кого следует предупредить о грозящей опасности. Это даст возможность путать ему карты. Но игра будет чересчур опасная. Рано или поздно Шнеллер потребует настоящей работы. Что же делать? Где найти правильный выход? — Я вижу, вы взволнованы, господин Никулин? — спросил Шнеллер. — Понимаю. Просто не были подготовлены к такому предложению. Не стоит переживать. Дело не сложное, обычное. Николай Константинович молчал. Он понимал, что пауза недопустимо затянулась, но не мог выдавить из себя ни слова. Он напряженно размышлял, как отказаться от предложения Шнеллера, чтобы не вызвать у него подозрения, по дать разоблачить себя? Один за другим отбрасывал Никулин различные варианты. Наконец решился. — Господин капитан, вы сами сказали, что мы уже немолоды и можем понять друг друга. Я внимательно выслушал ваше предложение, взвесил его и решил, что не могу принять его. Я хочу получить серьезное задание, которое принесло бы ощутимую пользу великой Германии. Вы предлагаете мне стать вашим агентом. Я понимаю всю важность этой работы, но я не подготовлен к ней и по складу своего характера к ее исполнению не гожусь. Шнеллер такого ответа не ожидал. Все материалы, имевшиеся у него на Николая Константиновича, давали основание полагать, что отказа не последует. Да и как можно отказываться этому Никулину? Неужели он не понимает, что подписывает себе смертный приговор? Или надеется на поддержку Рудольфа? Если так, то господин Никулин действительно знает себе цену. Начальник школы наверняка заступится за своего подопечного. — Хвалю за откровенность, господин Никулин, — сухо произнес Шнеллер. — Лучше сказать “нет” сразу, чем потом водить за нос. Вы представляете, чем все это может кончиться? — Представляю, господин капитан, — ответил Николай Константинович. — Но обманывать вас не намерен. — Очень хорошо. Разговор на этом закончим. Но я должен напомнить вам, господин Никулин, что каждый солдат фюрера обязан немедленно доносить о тех, кого подозревает в намерении нанести вред великой Германии. Эта обязанность ложится и на вас. — Господин капитан, я это знаю. — Не вижу, Никулин. Можете идти. Николай Константинович немало дней размышлял о возможных последствиях беседы со Шнеллером. Ясно было, что отказ может кончиться возвращением в лагерь, по сути, смертным приговором. Другого исхода Никулин пока не видел. Однако Шнеллер вел себя так, как будто ничего не случилось, словно и разговора того не было. Никулин чувствовал, что каждый его шаг находится под пристальным наблюдением. Николай Константинович не знал, что в решении его судьбы в Валкской разведшколе немалую роль сыграла неприязнь Рудольфа к Шнеллеру. Шнеллер прежде всего доложил начальнику о беседе с Николаем Константиновичем. — Господин майор, я считаю, что Никулин может перейти к русским. Он до сих пор ничем не скомпрометирован перед ними и старается избежать этого, отказывается от выполнения наших заданий. Рудольф внимательно слушал своего помощника. На лице его появилась брезгливая гримаса. — Господин Шнеллер, — с открытым недовольством произнес Рудольф, — с каких это пор мое мнение для вас ничего не значит? Я лично проверял Никулина. На месте. Понимаете? Разговаривал со своими агентами и высказал мнение о пригодности Никулина к выполнению серьезных заданий абвера. Я не сомневаюсь в нем. Это ценный для нас человек. — Но, господин майор, Никулин не проверен ни на одном задании. Надо сделать это, пока он у нас в руках. — Я вижу, вы считаете, что человек, решивший связать свою судьбу с абвером, обязательно должен стать провокатором? Уж если на то пошло, так Никулин достаточно скомпрометировал себя согласием пойти на выполнение разведывательного задания. Русские, кстати, называют это шпионажем, а-шпионов они расстреливают. Разве этого мало? — Многие соглашаются выполнять наши задания, но приходят с повинной, и их прощают, — продолжал стоять на своем Шнеллер. — Если Никулин вздумает прийти с повинной, ему не простят. И он это хорошо понимает. Слишком уж подозрительно выглядят обстоятельства его пленения. Сами подумайте. Самостоятельно выходил из окружения, был тяжело ранен, вылечился почти без медицинской помощи в каком-то лазарете для военнопленных. Кто в это поверит? Логичнее предположить, что он был на излечении в немецком госпитале как наш работник. Если Никулин не дурак, то он и не подумает являться с повинной. — У меня сложилось впечатление, что человек он толковый и серьезный, — заметил Шнеллер. — Потому я и завербовал его. К тому же я предпринял кое-что для дальнейшей компрометации Никулина. “Абверштелле-Остланд” направит своего агента на другом участке фронта в тыл к русским для явки с повинной. Он даст показания, что в лагерном лазарете никакого Никулина никогда не было. Пусть попробует после этого рассказывать о своем лечении в лазарете. Пути отступления ему отрезаны. Рудольф отстаивал Николая Константиновича, руководствуясь прежде всего личными соображениями. Возвратить Никулина в лагерь после доклада о нем как о перспективном агенте — значит ударить по собственному авторитету, поставить себя в смешное положение. И это в тот момент, когда так удачно складывается карьера? Только накануне в Риге майору Рудольфу сообщили, что в разведывательный центр “Марс” северной группировки немецких войск вернулись триагента, выполнивших задания. Успешно действует группа, выброшенная в глубокий тыл, за Волгу. С нею поддерживается радиосвязь. Недавние выговоры, полученные от руководства абвера за участившиеся провалы агентуры, стали забываться. В “Абверштелле-Остланд” поговаривают о представлении его, Рудольфа, к награде. А Шнеллер хочет, чтобы он сам помешал этому? Нет, барон положительно сошел с ума, закрутив дело вокруг Никулина. А может, решил подставить ножку? Эта мысль ожесточила Рудольфа, и он резко прервал Шнеллера, который пытался высказать еще какие-то подозрения в отношении Никулина. — Довольно. У меня сложилось твердое мнение о Никулине, и потрудитесь с ним считаться. Оставим этот разговор. Чтобы избавиться от сомнений, организуйте за Никулиным наблюдение. Есть у вас кто-либо, способный проследить за ним? — Есть. Сюганов. Он тоже был в Рижском лагере и должен знать Никулина. — Вот это уже другое дело. Николай Константинович не зря опасался. В Валкской школе можно было ожидать всего. Ознакомившись с обстановкой, присмотревшись к обитателям абверовской школы, он порой удивлялся — кого только здесь не было? В преподавательской среде рядом с белоэмигрантами-монархистами, выброшенными из России в годы революции, жили те, кто изменил Родине в первые же дни Великой Отечественной войны. За одним столом порой собирались бывшие графы, князья и сыновья кулаков, добровольно сдавшиеся немцам, “идейные” противники Советской власти и просто трусы и предатели. Вопросами пропаганды ведал белоэмигрант, известный в школе по кличке Владимир. Сын крупного украинского помещика, штабс-капитан белой армии, он с оружием в руках выступал против молодой Республики Советов в годы гражданской войны. Владимир не мог да и не хотел забыть “добрые старые времена”. На лекциях и в частных беседах он превозносил государственный строй царской России, вспоминал “обожаемого монарха”, мечтал дождаться возвращения царя в Россию. Николай Константинович с трудом переносил демагогический бред этого полусумасшедшего монархиста. Но что поделаешь? Приходилось терпеть. В числе обучающихся тоже были самые различные люди — полицейские из лагерей военнопленных, каратели, тайные агенты гестапо, СД, а то и просто бандиты и воры-рецидивисты. Вся эта свора предателей в руках немецкой разведки представляла серьезную опасность для Родины. Никулин видел, что офицеры абвера умеют держать весь этот сброд в руках. Часть агентов уже выполнила по нескольку заданий в тылу советских войск и удачно возвратилась назад. Их наградили, обласкали, определили на работу при школе. Но среди отщепенцев попадались и порядочные люди, которые тяготились своим положением фашистских приспешников. В Валке Николай Константинович встретился со своими друзьями Подияровым и Курыновым. — Разрешите доложить, товарищ капитан, — сияя улыбкой, начал Курынов. — Первую часть вашего задания выполнили. Оба мы в школе наших врагов, успешно осваиваем “науку” и готовы перейти к своим. — Рад за вас, друзья мои. Безмерно рад! Рассказывайте, рассказывайте о себе! Как прошли испытания, проверку? Друзья сидели вечером на берегу реки Валки. Тихо плескалась вода у самых ног. Распевали птицы, прощаясь с заходящим солнцем. В траве стучали кузнечики. Ничто здесь не напоминало войну. Счастливые встречей с Николаем Константиновичем, Курынов и Подияров, перебивая и дополняя друг друга, рассказывали о себе, о тех, кого они уже успели узнать, к кому присмотрелись. Они предупреждали Никулина, кого следует опасаться, кому можно в какой-то мере доверять. — Нас, саласпилсских да рижских лагерников, организовал преподаватель физкультуры Сюганов. Будь осторожен с ним, — предупреждал Подияров. — Ты-то его знаешь. Одно время в Рижском лагере был полицаем. А здесь играет роль старшего. Это его затея — держаться вместе. Вроде однополчан… — Хм, однополчане, — подхватил Курынов. — Только в лагерях мы что-то разные места занимали. Наш брат с голоду подыхал, а Сюганов от жратвы чуть не лопался. А теперь, видишь, однополчане! — Понимаю, друзья, противно все это, — серьезно сказал Николай Константинович. — Но надо терпеть. Сюганов теперь видит в пас своих единомышленников. И пусть так считает! Это нам только на руку. — Я вот что думаю, — заметил Подияров. — Сюганов неспроста держит нас всех вместе. Присматривает за нами, мысли наши вынюхивает. — Он ведь повышение по службе получил, — вставил Курынов. — В лагере полицаем был, а теперь — преподаватель. — Что ж, друзья, спасибо за предупреждение, — поблагодарил Никулин. — Мне все это понятно. Предателей нужно остерегаться. Но не о них только речь. Надо хороших людей искать. Тех, кого можно направить к нашим с повинной. Присматривайтесь к людям, изучайте их и докладывайте мне. Пора действовать. Курынов и Подияров назвали несколько человек, с которыми не мешало бы познакомиться поближе. Николай Константинович поручил внимательно изучить их настроение, поинтересоваться, с охотой ли они идут выполнять задание немецкой разведки. — Ну, а у вас как учеба идет? — спросил Никулин, окончив разговор о неотложных делах. — Чему учитесь? — Меня в радисты определили, — сказал Курынов. — А меня в разведчики, — ответил Подияров. — Что же, это неплохо. Значит, ты, — обратился Николай Константинович к Курынову, — пойдешь не один, а в группе. Тебе важно хорошо знать своих напарников. Если можно, то уже здесь подготовить их к явке с повинной. А если нельзя, то сделать это там, за линией фронта. Тебя уже спаровали с кем или нет? — Пока нет. Может быть, попросить Шнеллера, чтобы дали напарника? — Ни в коем случае. Он это сделает сам без твоего напоминания. А теперь, друзья, пора возвращаться. Нам с вами нельзя оказаться в недисциплинированных. Никулин попрощался с друзьями. Разными дорогами они возвратились в казарму. Учиться Николаю Константиновичу в разведшколе было до тошноты противно. Утро здесь начиналось с пения гимна “Боже, царя храни”. Ярые монархисты, эмигранты и в немецких мундирах выставляли себя патриотами земли русской, борцами за “Русь святую”. Они пичкали курсантов сказками о том прекрасном будущем, которое ожидает Россию после свержения Советской власти, о ее грядущем величии при самодержавном монархе. Гитлеровцы вначале снисходительно смотрели на эти “чудачества” своих лакеев. Готовили бы побольше диверсантов и шпионов, а болтать могут о чем угодно. Все равно судьбу русских уже предопределил фюрер. Кто не будет уничтожен, тот станет рабом. Русская земля вплоть. до Волги будет немецкой. И не услыхать белокаменной столиц© церковного перезвона при въезде самодержца. Фюрер сотрет ее с лица земли. Не для того он вел войну с Россией, чтобы вернуть ей монарха. Но это холуям станет известно позже. А пока пусть тешат себя несбыточными мечтами. Руками глупцов удобно таскать каштаны из огня! Однако вскоре терпение руководителей школы лопнуло. Чересчур уж активно вели эмигранты монархическую пропаганду. Шнеллер вызвал к себе Владимира и язвительно сказал: — Послушайте, господин Владимир. Я внимательно прочитал некоторые ваши лекции, и у меня создалось впечатление, будто вы настолько любите своего монарха, что поворачиваетесь к великому фюреру спиной! Владимир побледнел. Он хорошо знал, чем пахнет подобное обвинение. — Простите, господин Шнеллер, — выдавил из себя бывший штабс-капитан, — но я не имел намерения в своей лекции умалять величие нашего фюрера. Наоборот, я всячески подчеркивал его роль в освобождении России от большевизма. — Вы достаточно грамотны, господин Владимир, чтобы понимать ту простую истину, — продолжал распекать подчиненного Шнеллер, — что мы готовим агентов для немецкой разведки и ваша обязанность воспитывать их в духе любви к нашему фюреру, а не к какому-то несуществующему монарху. Потрудитесь немедленно перестроить свои лекции. Конспекты представьте мне на просмотр. Владимир долго возился над переделкой конспектов. Впервые ему предельно ясно дали понять, что отношение фашистов к белоэмигрантам изменилось. В начале войны и в ходе подготовки к ней немецкая разведка заигрывала с белоэмигрантами. Адмирал Канарис в сороковом — сорок первом годах встречался с украинскими националистами Скоропадским, Мельником, Бандерой. Абверовцы вели переговоры и с бывшими членами Государственной думы. Белоэмигранты почувствовали, что они нужны немцам, предвкушали долгожданную радость победного возвращения в Россию. В эмигрантских кругах велись нескончаемые разговоры о скором конце большевиков, каждый молил бога ниспослать чудо и вернуть бывшим господам их владения и привилегии. Когда фашисты напали на Советский Союз, многие белоэмигранты отправились в поход вместе с ними. Но шло время, гитлеровцы захватывали советские земли и чем дальше, тем меньше считались со своими пособниками. К власти их не допускали, держали в черном теле. Шнеллер ясно дал понять Владимиру, что и в будущем им рассчитывать не на что. В школе процветала система слежки, доносов. “Свобода”, которую получили курсанты, на самом деле служила целям дальнейшей проверки. Уже в первые недели учебы Рудольфу и Шнеллеру стали известны все те, кто ходил в самоволку, кто не выполнял указаний преподавателя. За такими слушателями устанавливался особый надзор. Они попадали под подозрение. А Никулину необходимо было завоевать авторитет и полное доверие руководителей школы. Поэтому он везде старался вести себя так, чтобы не вызвать ни малейших нареканий. Чтобы быстрее вырваться, получить задание и перебраться к своим, он учился, не шалея сил, строго соблюдал все установленные немцами правила и неизменно удостаивался высших баллов. Никулин был в меру любознателен, корректен. Порою проявлял инициативу, делал вид, что весьма старательно осваивает новую специальность. Методика преподавания, организация школы, ее назначение, способы переброски агентов за линию фронта — все это для Николая Константиновича было делом давным-давно известным. Организацию и методы работы абвера чекисты изучали еще до войны. Так что все свое внимание он обратил на изучение “сослуживцев”. Кто они, какие причины толкнули их на путь измены Родине, нот ли среди них честных людей, думающих о возвращении домой? Разобраться в этом было нелегко. Беседуя с курсантами школы, Николай Константинович был очень осторожен и сдержан, но приглянувшимся ему людям словно невзначай подсказывал правильный путь. — Ты думаешь, мне Гитлер нравится? — разговорился однажды Иван Романов, которого Никулин взял под свою “опеку” едва ли не с первых дней пребывания в Валке. — Да по мне, всех фашистов передушить надо. Сколько горя, изверги, народу причинили. Этим гадам я ни в жизнь служить не буду. Дай только через фронт махнуть, а там ищи-свищи. — Не побоишься? — А чего мне бояться? У меня к Советской власти претензий нет. — Говорят, отца твоего в Сибирь загнали? — Было такое. До тридцатых годов мои старики богато шили. Батраков имели. Вот их и выселили, как кулаков. А я в Москве шил, сам работал, на других не наживался. Мне что? Сын за отца не ответчик! Разговаривая, Иван Романов оживился. Лицо его, белое, чистое, порозовело. В карих глазах зажглись огоньки, он начал энергично рубить воздух ладонью. “Красивый парень, — размышлял Никулин, разглядывая своего собеседника. — Ему бы жить да жить, а он в такую яму попал. Эх, война-война!” Заметив, что собеседник над чем-то задумался, Романов вдруг вскочил на ноги и энергично шагнул в его сторону. — Ты смотри, Никулин, — зло сказал он. — Болтать обо мне будешь, не сносить тебе головы! Своими руками задушу. — А чего мне болтать, — невозмутимо ответил Николай Константинович. — Я сам по себе, ты сам по себе. Не маленький. А болтаешь ты побольше моего. Не обессудь. На том и расстались. У Никулина сложилось впечатление, что Романову можно довериться. Нужно лишь выждать время, поближе присмотреться к нему. В первые же дни по приезде в Валку Шнеллер привел Никулина к местному фотографу Лайминьшу. Как и каждого курсанта школы, его сфотографировали в присутствии Шнеллера. Когда карточки были готовы, Шнеллер забрал их вместе с негативами. Испорченные снимки приказал сжечь. Приглядываясь к Лайминьшу, Никулин заметил, как тот метнул в спину барона острый, испепеляющий взгляд. “Ого, — подумал Никулин, — а у тебя особой любви к фашистам нет!” И он решил воспользоваться этим. Николай Константинович стал встречаться с Лайминьшем, подолгу беседовал с ним и, постепенно убедившись, что действительно имеет дело с честным, преданным Советской власти человеком, решил привлечь его к работе против гитлеровцев. Однако события развивались так быстро, что Никулину не удалось в этот раз выполнить своего намерения. Шнеллер больше не вызывал Никулина, оставил его в покое. Зато раза два с ним беседовал Рудольф. Говорил мирно и доброжелательно, но Никулин заметил, что слежка за пим продолжалась. Вещи в чемодане периодически просматривались, кто-то интересовался личными записями, которые Никулин специально оставлял в жилой комнате. В близкие друзья навязывался Сюганов. Опасаясь провала, Никулин ограничил встречи с Подияровым и Курыновым, перестал посещать Лайминьша, еще раз предупредил своих знакомых об осторожности. Но продолжать агитацию среди агентов, склоняя их к явке с повинной, было необходимо. Приходилось рисковать. И Никулин рисковал. Через два месяца он мог рассчитывать еще на двух человек. Одним из них был Романов. Николай Константинович не упустил его из виду. Обстановка на фронте осложнялась. Советские войска громили немецкие дивизии. Абверу с каждым днем требовалось все больше подготовленных агентов. Однажды в разведшколу поступило указание направить в распоряжение “Абверкоманды-104”, условно именовавшейся “Марс”, хорошо подготовленного разведчика, способного выполнить важное задание в тылу советских войск на участке Ленинградского фронта. Подполковник Шиммель просил выслать агента как можно быстрее прямо на переправочный пункт в поселок Сиверский. Рудольф решил послать Николая Константиновича и поручил Шнеллеру заняться этим. Вызвав к себе Никулина поздно вечером, Шнеллер сказал: — Никулин, как только будут готовы документы, вы поедете в Сиверский. Руководство абвера доверяет вам выполнить важное задание в тылу русских. О деталях сообщит сам подполковник Шиммель. Это большая честь! Николай Константинович почувствовал, как учащенно забилось сердце. “Наконец-то. Скоро вырвусь из этого ада. Скоро — у своих”. Но он не показал своей радости, почтительно заявив, что готов выполнить долг перед фюрером. — Сейчас вам принесут обмундирование. Переоденьтесь, — благосклонно сказал Шнеллер, выслушав Никулина. Трудно передать волнение, которое охватило Никулина, когда он надел родную форму советского офицера. Сбросить потертый, душный мундир солдата буржуазной латышской армии, который носили курсанты Валкской школы, надеть простую и удобную хлопчатобумажную гимнастерку с портупеей было настоящим счастьем. К горлу подкатил предательский комок, на глаза наворачивались слезы радости. Николая Константиновича удивило лишь, что на гимнастерке были погоны, похожие на те, которые носили офицеры старой русской армии, и не было петлиц с “кубиками”. — В чем дело? — поинтересовался Никулин. — О, ваши соотечественники произвели небольшую реформу в армии. Как будто это спасет их от поражения! Никулин промолчал. Ему потребовалось немало усилий, чтобы скрыть свои чувства от Шнеллера. — Хорош, хорош советский офицер, — довольно хихикал Шнеллер. — Совсем как настоящий. Даже выстрелить в него хочется. — Очень он чистый, — сокрушенно вздохнул один из инструкторов. — О да! Это недопустимо, — подхватил Шнеллер. — Придется вам поползать по росе, по песочку. Надо, чтобы у вас был вид фронтовика, а не тыловой крысы. Как можно меньше привлекать внимание! Шнеллер не был бы Шнеллером, отпусти он агента из школы без нравоучения. — Вам оказано большое доверие, — говорил он. — Учтите это. И помните, что за выполнение задания вас ожидает награда. Фюрер умеет ценить своих храбрых солдат Николай Константинович прикинулся растроганным. Он хорошо знал, что гитлеровцы не скупились на поощрения для своих наемников. Для них были учреждены специальные медали. Наиболее отличившимся присваивалось звание “почетный гражданин Германии”. Удачливый агент мог дослужиться до чина фельдфебеля немецкой армии. Хорошо проявившим себя агентам разрешали жениться и жить вне лагеря, поступать вольнонаемными работниками в немецкие учреждения и войсковые части. Все это преследовало одну лишь цель — закрепить за собой агентов, пробудить в них желание вернуться назад из-за линии фронта. Гитлеровцы не без оснований считали, что тот, кто обзавелся семьей, постарается сохранить домашний очаг. — Только большевики призывают отдать жизнь за идею, — говорил между тем Шнеллер Николаю Константиновичу, — а мы считаем, что солдат должен сражаться за ощутимые вещи — богатство, славу, власть. Хорошенько поработайте — и вы станете гражданином великой Германии. Вам будет принадлежать весь мир! Основательно наговорившись, Шнеллер повел Никулина в столовую угостить прощальным ужином, приготовленным специально по этому случаю. За столом они сидели вдвоем. Шнеллер и здесь что-то говорил, но Николай Константинович слушал его плохо. Мыслями он был далеко от Валки, среди своих. Как-то они отнесутся к его появлению? Что скажут? Поверят ли? — Переживаете? — спросил Шнеллер, положив свою массивную потную руку на плечо Никулина. — Не волнуйтесь. Дело, конечно, серьезное, но не так страшен дьявол, как его изображают. Нужна выдержка и смелость. Главное — решительность и напористость. В этом вся соль. Мы с майором Рудольфом на вас надеемся, господин Никулин. Это майор Рудольф вас рекомендовал. — Очень ему благодарен, — искренне, от души сказал Николай Константинович. Сказал и осекся. Не слишком ли проникновенно прозвучала эта фраза? Шнеллер заметил искренность в голосе Никулина и расценил ее по-своему: “Видно, у этого русского действительно хорошее взаимопонимание с майором. Значит, Рудольф прав и Никулину стоит верить?” Закончив ужин, Николай Константинович с группой агентов в сопровождении офицера и солдата в закрытой машине отправился в поселок Сиверский, Ленинградской области. Немецкий офицер-разводчик давал последние указания: не проявлять излишнего любопытства в разговорах, стараться не показывать, что местные условия неизвестны. Если нужно — быть решительным и дерзким. Ехали молча, курили. Офицер любезно угощал немецкими сигаретами. Советские папиросы, которыми снабжали агентов, приходилось экономить. В Пскове остановились отдохнуть на конспиративной квартире, неподалеку от аэродрома. Ее хозяин, угрюмый мужик лет сорока, верно служил гитлеровцам. — Принимай, Быков, гостей, — сказал ему офицер, сопровождавший группу. — Милости просим, — поспешно отозвался хозяин и приказал жене: — Приготовь чего поесть да за самогонкой сходи. На следующий вечер Никулина посетил начальник “Абверкоманды-104” подполковник Шиммель. Николай Константинович впервые увидел руководителя разведки, о котором часто упоминали в школе. В дом вошел невысокий, несколько располневший мужчина лет пятидесяти. Холеное продолговатое лицо, гитлеровские усики, длинный тонкий нос с горбинкой и большие чуть навыкате серые глаза. Ходил Шиммель сгорбившись, шаркая ногами, как сильно уставший от работы и беспрерывных забот старик. “Так вот ты какой, подполковник Шиммель!” — мелькнуло в голове Никулина. После непродолжительных расспросов о самочувствии, здоровье, настроении Шиммель начал: — Вам надлежит перейти фронт на “Ораниенбаумском пятачке”. Переправят наши люди. Задание: под видом капитана Красной Армии проникнуть в указанные вам воинские части. Цель — узнать номера двух новых дивизий, прибывших на “пятачок”, их состав и численность, имена командиров. Став на довольствие по аттестату, определить номера воинских частой. Разведать, как снабжаются части, какое вооружение, где находятся стыки между ними, есть ли свободные проходы, каково настроение войск. Командование чрезвычайно заинтересовано в сведениях с “пятачка”. За выполнение задания представлю к награде. Шиммель подробно разъяснил обстановку, в которой придется переходить фронт. Рассказал, о чем пишет советская печать, что сообщает Совинформбюро, как обстоят дела в стране со снабжением, каково настроение людей. Затем вручил Николаю Константиновичу удостоверение личности на имя капитана Никулина, командира отдельного батальона, пистолет ТТ с запасной обоймой, советскую планшетку с картой, на которой была нанесена обстановка на фронте в день перехода, продовольственный аттестат, командировочное предписание. Дал даже две свежие московские газеты. — Ну вот и все, — окончил инструктаж Шиммель. — Теперь вас отправят в Сиверский к капитану Фишу. Он организует переправу через фронт. Шиммель пожал руку Николаю Константиновичу, пожелал счастливого возвращения и уехал.Глава пятая Особое задание
В лесу было тихо. Стоял таинственный предрассветный полумрак. Сырой туман выползал из оврагов, клубясь между деревьями. Тихо перешептывались сосны. У солдат, пробиравшихся лесом, пошаливали нервы. Они то и дело вскидывали автоматы, с трудом удерживая рвущийся с губ окрик: “Кто идет?” За лесом проходила нейтральная, “ничейная” земля между немецкими и русскими позициями. Лейтенант Бруно-Михкель, возглавлявший группу немецких разведчиков, скомандовал: — Марш! Солдаты тронулись в путь. Двое из них вышли вперед, другие прикрывали разведчиков с флангов и тыла. Офицеры шли в центре. Долго пробирались кустарником, ползли по полю, пока проводник группы не доложил: — Можно переходить. — С богом, Никулин, — проговорил Бруно-Михкель. — Идите осторожно, не нарвитесь на минное поле. Их тут до черта. Обратно будете возвращаться здесь же. Помахайте пилоткой над головой. Вас встретят. Торопясь до рассвета выйти за линию фронта, Никулин шагал быстро, почти бежал. В росистой траве он промок, но холода не чувствовал. Когда встало солнце, сзади послышались выстрелы. Зачастил пулемет, рявкнули пушки. Передовая осталась позади. Теперь он снова стал свободным советским человеком. Наконец-то можно снова вспомнить, что он — Мокий Демьянович Каращенко, а не какой-то Никулин, завербованный немцами в абвер. Лес медленно пробуждался ото сна. Распевали пичуги в густых кронах деревьев. Иногда пробегала проворная белка. Будто и нет никакой войны. Но война шла — суровая, жестокая. О ней напоминал и завал на лесной дороге, и тщательно замаскированные землянки неподалеку от него. Каращенко вошел в одну из землянок. В ней отдыхали солдаты. Кто спал, кто латал изодранное обмундирование, кто писал домой заветные “треугольники”. Вглядываясь в полумрак землянки, Мокий Демьянович спросил: — Командир где? — В штабной землянке, слева вторая, — равнодушно ответили ему. Никто не поглядел на незнакомого офицера. “Вот черти беспечные, — ворчал про себя Каращенко. — А вдруг к вам диверсант заглянул?” Командир роты, совсем еще юный лейтенант, очень почтительно встретил незнакомца, но не преминул проверить документы. — Все-таки фронт, — как бы извиняясь, сказал он и громко прочел: — “Капитан Никулин Николай Константинович, войсковая часть…” Документы оказались в полном порядке, и лейтенант без прежней настороженности поинтересовался, чем может быть полезен. — Проводите меня к работнику контрразведки, — попросил собеседник. Лейтенант удивленно поднял брови, как бы недоумевая, зачем командированному капитану понадобился чекист, шевельнул губами, явно намереваясь задать вопрос, но потом, видимо, передумал и начал энергично крутить ручку полевого телефона, надрывно выкрикивая в трубку: — Фиалка, дай Козодой!.. Козодой? Козодой, мне Скребницу… Скребница? Тьфу, черт, прервали. Сейчас еще позвоню. Потратив минут пятнадцать на вызов Скребницы, лейтенант вдруг махнул рукой: — А, дьявол их побери. Там, видно, позасыпали все под утро, не добудишься. Быстрее сами дойдете. Это же совсем рядом. Штаб бригады отсюда километрах в двух, за березовой рощей. Там и начальник контрразведки. Нашего контрразведчика вчера тяжело ранило. Хороший был парень. Просто жаль. А вместо него никого пока не прислали. Так я вас направлю к их начальнику. Во время разговора лейтенант продолжал держать трубку в руке, и Мокий Демьянович услышал, как щелкнула мембрана, недовольный мужской голос просипел: — Я Скребница, кто звонит? — Что сказать о вас? — спросил лейтенант. — Скажите, что командир отдельного батальона капитан Никулин хочет видеть начальника по срочному делу. Закончив телефонный разговор, лейтенант приказал своему связному сопровождать приезжего офицера и пожелал счастливого пути. Выходя из землянки, он посмотрел на одежду нового знакомого и добавил: — Да вы промокли-то как! Возьмите мою плащ-накидку. Не очень греет, но хоть от ветра защитит. Только сейчас Каращенко почувствовал озноб во всем теле. Сапоги и брюки промокли, ноги сводило судорогой. Он поблагодарил лейтенанта, взял плащ-накидку, закутался в нее и пошел за солдатом. Шли быстро. Простреливаемые места перебегали пригнувшись или переползали по-пластунски. Полтора — два километра показались Каращенко очень длинными. Он сильно устал. Сказалось большое нервное напряжение последних дней, переход линии фронта. — Отдел контрразведки в этой землянке, — указал наконец солдат. — Мне разрешите вернуться? — Возвращайтесь. Возьмите вот плащ-накидку и передайте лейтенанту мою благодарность за нее. Крепко выручила. Каращенко попросил часового, стоявшего у входа в землянку, доложить о нем и, когда тот, вернувшись, предложил ему войти, решительно сбежал по ступенькам вниз, подошел к двери и постучал. Никто не отозвался. Тогда он распахнул дверь и остановился у входа. — Что за церемонии? Входите… — услышал Мокий Демьянович знакомый голос из глубины землянки. Он не поверил ни ушам, ни глазам своим, увидев за маленьким походным столом старого закадычного друга Богданова. На плечах его были майорские погоны. Всмотревшись в вошедшего, Богданов поднялся из-за стола и, раскинув для объятия руки, пошел навстречу. — Дружище, дорогой! Вот это встреча! Майор схватил друга в объятия, приговаривая: — Откуда? С того света? Ну, чертушка, удивил. Каков молодец! Не ожидал. Вот обрадовал, так обрадовал! Садись же, рассказывай. Каращенко долго не мог ничего ответить другу. Так неожиданна была для него встреча с Богдановым, что он растерялся, не знал, как вести себя. А тот допытывался: — Что ты молчишь, будто язык проглотил? Ну, говори же! Мокий Демьянович тяжело опустился на стул. Напротив на табуретке уселся Богданов. Не дождавшись ответа, он заговорил сам: — Ты знаешь, я ведь тебя уже похоронил. Сказали ребята, что Вентспилсский гарнизон попал в окружение и оттуда почти никто не вышел живым. Я тебя искал и надежду потерял. А ты — вот он, живой, невредимый! Вот здорово! — Выслушай меня, Николай, — собрался наконец с духом Каращенко, — со мной такая катавасия приключилась, что ты, может, и не рад будешь нашей встрече. — Брось глупить! Расскажи лучше, где был, как жил? Как оказался здесь, где служишь? Мокий Демьянович начал рассказывать о себе. Богданов слушал внимательно, и на его лице то отражалась тревога, когда речь шла о тяжких испытаниях, которые выпали на долю друга, то появлялось выражение радости, когда тот рассказывал о своих успехах в борьбе с гитлеровцами. — И вот я здесь, перед тобой, — закончил рассказ Каращенко. — Кем бы меня ни посчитали — предателем или честным солдатом, патриотом — все равно я дома. — Да, положение твое сложное. Все зависит от того, кто чему больше поверит. Могут оправдать, а могут засудить. Как подойти. Не стану тебя утешать, да ты в этом и не нуждаешься. Но скажу откровенно: нелегко придется. Найдутся такие, которые в этой истории увидят только теневые стороны, а все хорошее, что ты сделал, выбросят за борт. Но я надеюсь, что не они решат твою судьбу. — Буду и я надеяться, что разберутся объективно, — вздохнул Каращенко. — А ты мне поверь, в той обстановке, где я находился, поступить как-либо иначе просто не мог. Если те сведения, которые мне удалось собрать, принесут пользу Родине, буду счастлив, пусть даже понесу наказание за все остальное. Долго беседовали друзья. Богданов подробно расспрашивал Каращенко, отыскивая все новые доказательства того, что тот действовал правильно. — А теперь, — попросил Каращенко, когда все было обговорено, — докладывай по команде. Действуй так, как требует служба. Вот тебе мои документы, оружие… — Погоди ты с этим, — отмахнулся Богданов, — сейчас свяжусь со своими начальниками и попрошу разрешения прибыть вместе с тобой. Верю тебе и буду защищать как смогу. Мокий Демьянович с большим чувством пожал горячую и сильную руку Богданова. Дальнейшие события разворачивались со стремительной быстротой. Генерал Быстров приказал немедленно доставить Каращенко в Ленинград. Здесь Мокий Демьянович написал рапорт и получил разрешение отдохнуть. …Мокий Демьянович бывал в Ленинграде и раньше. В тридцатом году он учился в Ленинградской школе ГПУ. Тогда по булыжным “прошпектам” города громыхали старинные трамваи, а на стенах кое-где просвечивали сквозь побелку рекламные надписи поставщиков “Двора Его Императорского Величества”. Еще существовала карточная система. У хлебных магазинов стояли длинные очереди. Но город жил, смеялся, пел. Особенно красив был Ленинград в сороковом предвоенном году. В пышной зелени бесчисленных садов и бульваров, сияющий позолотой церквей и знаменитой адмиралтейской иглы, город то нежился, задумчивый и тихий, в сумраке белых ночей, то спешил, неугомонный, тысячами троллейбусов, автобусов, такси, сотнями речных трамваев, катеров. Катились людские толпы по тротуарам, проспектам, набережным. И город был весь полон песен и смеха. Словно сознавая красу свою, смотрелся он в зеркальную гладь каналов, в воспетую поэтами Неву. А в грозном сорок третьем году, только что освободившийся от огненного кольца блокады, город-герой был молчалив и суров. В вечернем небе над зачехленным куполом Исаакия, над адмиралтейским корабликом, над уходящим в небо шпилем Петропавловской крепости колыхались привязанные аэростаты. Пустынны и тихи были улицы. В вечерней тишине слышался лишь четкий шаг патрулей. Враг был близок, и город не спал. Тысячи патриотов грудью своей закрывали его от вражеского вторжения. Представив себе их, Мокий Демьянович впервые ощутил, что и он тоже — защитник города Ленина. Но, подумав об этом, снова почувствовал тревогу. Гуляя по тенистым аллеям парков, он как-то забыл о своем нынешнем положении. А оно было нелегким. Еще несколько часов назад Каращенко стоял перед своим начальником. Строгий генерал молча выслушал доклад о прибытии. Потом попросил подробно, со всеми деталями рассказать о виденном в лагерях военнопленных, в школе абвера, в немецком тылу. Слушал внимательно, изредка задавая вопросы. Стенографист скрипел карандашом по листам бумаги. И Каращенко говорил, говорил, стараясь ничего не упустить. А на душе все же было тревожно. — Ваши сведения представляют большой интерес, — сказал наконец генерал Быстров. У Мокия Демьяновича посветлело лицо. Генерал, хорошо понимая его состояние, тоже улыбнулся и продолжал: — Кое-что из того, что вы сообщили, мы уже знаем. Кое-что требует дальнейшей проверки. Но сделали вы многое. Сейчас с вами побеседует представитель НКГБ подполковник Светловидов. А потом вы отдохнете, погуляете. Когда понадобитесь, вас позовут. — Я хочу бить фашистов, товарищ генерал. Прошу послать на фронт. — Ну что же, учтем ваше пожелание. А сейчас отдохните сами и дайте нам обстоятельно подумать. Вас пригласят. К назначенному сроку Каращенко явился в приемную генерала Быстрова. Младший лейтенант Жаворонков, вежливо, но холодно встретивший посетителя, предложил ему присесть, подождать. — У генерала сейчас важное совещание, — сказал младший лейтенант. — Принять вас он не сможет. — Я подожду, — ответил Мокий Демьянович. Он сел в предложенное ему кресло и погрузился в глубокое раздумье. Каращенко и не подозревал, какие страсти разыгрались в кабинете генерала Быстрова. Не знал, что судьба его, не раз висевшая на волоске, уготовила ему новое тяжкое испытание, которое было потяжелее всего пережитого рапсе. Но тревога, охватившая его с утра, не проходила. С большим вниманием дожидался он в приемной генерала, когда его позовут. И когда адъютант пригласил его войти в кабинет, Каращенко понял: судьба его решена. Генерал начал без околичностей: — Товарищ Каращенко, мы хотим поручить вам ответственное и опасное задание. Для его выполнения необходимо возвратиться в абвер. Согласны вы выполнить такое задание? Это предложение было для Мокия Демьяновича совсем неожиданным и сильно взволновало его. Направляясь к своим, Каращенко никак не думал о возвращении в немецкую разведку. Он даже растерялся, не знал, что ответить. Заметив его нерешительность, генерал мягко сказал: — Нам очень важно иметь в абвере своего человека, но, если вы не захотите вернуться туда, вам предоставят другую работу. Мокий Демьянович задумался. Вернуться к гитлеровцам. Да хватит ли сил перенести все это вторично? Куда лучше попасть на передний край! Там вокруг — товарищи — и друзья, всегда готовые прийти на помощь. Там если и погибнешь, то со славой, в честном бою, а это не то же, что умереть безымянным, замученным в гестаповских застенках. Трудный выбор. И чекист выбрал. — Вам решать, товарищ генерал, — твердо сказал он. — Где нужнее, туда и пошлите. Я готов. — Вот и хорошо, — ответил Быстров. — Мы в вас не сомневались. Пойдете в тыл к немцам с особым заданием. А сейчас отдыхайте. Утром прошу ко мне. Когда Мокий Демьянович снова явился к Быстрову, тот принял его по-дружески тепло и приветливо. — Хорошо ли отдохнули, Мокий Демьянович, или всю ночь глаз не смыкали? От внимательного взгляда генерала не ускользнуло, что на лице Каращенко стали заметнее морщинки, появилась синева под глазами. Генерал понимал состояние подчиненного. — Не стану скрывать, товарищ генерал, — тихо вымолвил Каращенко. — Спал плохо. Не на свадьбу ведь собираюсь. Сами понимаете. — Верно. Не на свадьбу, — повторил генерал и, снова внимательно взглянув на Каращенко, добавил: — А может, за ночь вы передумали? Говорите прямо. Это дело такое. Для выполнения задания, которое мы намерены вам дать, нужно быть уверенным в своих силах. Если такой уверенности нет, то лучше отказаться, пока не поздно. За это вас корить никто не будет. — Что вы, что вы, товарищ генерал! — забеспокоился Мокий Демьянович. — Я готов. Плохо спал потому, что взволновала встреча со своими. Но срок “командировки” истекает. Там ждут. Каждый лишний день задержки объяснить будет тяжело. Надо торопиться в обратный путь. — Мы это предусмотрели и постараемся избавить вас от лишних хлопот, — ответил генерал. — А теперь разрешите вас поздравить. Каращенко вопросительно посмотрел на генерала, а тот продолжал: — Командование фронта и управление контрразведки высоко оценили ваш опасный труд и присвоили вам очередное воинское звание. Поздравляю, товарищ капитан, и желаю успехов в работе. Мокий Демьянович не ожидал этого. Он смутился, растерялся и дрогнувшим голосом ответил: — За доверие спасибо. Большое спасибо. Я сил и самой жизни не пожалею, чтобы оправдать его. — Ну, тогда перейдем к делу. Вы готовы? — Так точно. — Прошу к карте, товарищ капитан. В голосе Быстрова прозвучали властные нотки. Каращенко понял, что неофициальная часть встречи окончена. — Итак, из вашего доклада видно, что немцы проявляют особый интерес к “Ораниенбаумскому пятачку”. — Генерал очертил его место на карте указкой. — Они хотят знать все, что делается здесь. Абвер, если судить по вашему заданию, считает, что в район “пятачка” прибыли две наши дивизии и расположились в районе реки Черной. Вот здесь. Что ж, не будем разубеждать немцев. Постараемся даже подтвердить их догадку. Доложите Шиммелю, что в районе реки Черной обнаружили части девяносто восьмой стрелковой дивизии, тринадцатой и семьдесят первой стрелковых бригад. Доложите также, что семьдесят первая бригада уходит в тыл для подготовки к десантным операциям. В бригаду прибыло пополнение: два батальона, сформированных из выписанных из госпиталей обстрелянных солдат. Из Кронштадта скрытно прибыла и заняла ее место сто сорок вторая отдельная морская бригада, усиленная частями двести двадцать седьмой стрелковой дивизии. Названные части вы наблюдали в районах Гентелово, Коваши, Мордовщина, Лендовщина. Обратите внимание вот на этот лес и этот участок за рекой Черной. Ориентиры — тригонометрическая вышка, изгиб реки, церковь, озеро. Нужно доложить немцам, что прибывшие войска направляются в интересующий их район для отдыха и пополнения. Мокий Демьянович внимательно изучал карту и населенные пункты, указанные генералом. Нужно было все запомнить, ничего не упустить. А Быстров продолжал: — Сегодня же вы побываете в этих местах. Вас отвезут на машине. Хорошенько ознакомьтесь с местностью, ее особенностями. Нужно учитывать, что немцы с ней знакомы, там проходил фронт. Малейшая неточность может стоить вам жизни. — Я это понимаю, товарищ генерал. — Вот и прекрасно. Внимательно изучите карту. Докладывать-то вам придется по ней и нужно как следует подготовиться. Генерал отошел от стола, дав возможность Мокию Демьяновичу рассмотреть указанный участок. Цель дезинформации, разработанной нашим штабом, состояла в том, чтобы заставить гитлеровцев поверить, будто главный удар советских войск, будет нанесен в направлении Котлы–Кингисепп. Все то, что говорил генерал о войсках, их нумерации, в основе своей соответствовало действительности. Разрабатывая легенду, штаб и контрразведчики исходили из того, что немцы имели некоторые данные о частях Приморской оперативной группы. Подтвердить их. было нестрашно. Но нужно было заставить врага поверить также в прибытие на “пятачок” двести двадцать седьмой стрелковой дивизии и сто сорок второй отдельной морской бригады. Это требовалось для того, чтобы убедить немцев, будто войска Ленинградского фронта поведут основное наступление в том направлении, на котором мы на самом деле намеревались нанести всего лишь вспомогательный удар. Тогда противник усилил бы оборону на этом участке за счет других. — Ну как, все запомнили? — прервал молчание генерал. — Так точно. — Повторите. Мокий Демьянович повторил. Генерал поправил его лишь в отдельных местах. — Что ж, я доволен. Детали операции вы несколько позже обсудите с подполковником Сосницыным. Время еще терпит. А теперь прошу вас сюда. Здесь будет удобнее. Генерал подвел Каращенко к журнальному столику в углу кабинета, около которого стояли два мягких кресла. — Садитесь, Мокий Демьянович. Закуривайте. Капитан взял из протянутой ему коробки папиросу и с удовольствием затянулся ароматным дымом. — Все сведения, которые вы получили для передачи немцам, — говорил Быстров, — надо преподнести им в точности. Это — ваша первая обязанность. Мы, безусловно, примем все меры, чтобы подтвердить достоверность вашего сообщения. Можете быть спокойны. Штабом разработано и предусмотрено все необходимое на случай проверки легенды со стороны немцев. Вы в полной безопасности. — Спасибо за заботу, товарищ генерал. — Выполнив первую задачу, перейдете ко второй. Она будет значительно сложнее. Вы — контрразведчик и, безусловно, понимаете, как важно для нас внедрить своего человека в разведку противника. — Понимаю. — Надо стать своим человеком в школах абвера, войти в доверие к руководителям разведорганов, действующих на нашем участке фронта. Нам нужны подробные данные о той агентуре, которая готовится и забрасывается в наш тыл. Для выполнения этой задачи вы имеете и опыт и связи. — Очень сложное это дело, товарищ генерал. — Конечно, вам будет нелегко. Нельзя не считаться с тем, что у нас опытный и сильный противник. Вы докладывали, что в Пскове с вами беседовал подполковник Шиммель — начальник “Абверкоманды-104”. Вы снова встретитесь с ним. Имейте в виду, что Шиммель на хорошем счету у руководителей абвера. И это не случайно. Он умеет работать. Начальник абвера адмирал Канарис бросил на Восточный фронт все лучшее, что у него имелось. Генерал рассказал Мокию Демьяновичу о том, что органам госбезопасности удалось обезвредить ряд агентов, подготовленных и направленных в советский тыл Шиммелем. — Такой человек, как Шиммель, — продолжал генерал, — заслуживает пристального внимания. Абвер долго не знал поражений. Это создало вокруг него ореол непобедимости. Но мы видим слабые стороны противника и сделаем все, чтобы разгромить его. Генерал замолчал. Он словно забыл о своем собеседнике, весь ушел в себя. Мокий Демьянович с уважением смотрел на Быстрова, к которому проникся безграничным доверием. Был он подкупающе прост. Его дружелюбная улыбка располагала к откровенности. Поглядывая на задумавшегося о чем-то своем генерала, Каращенко молчал, не решаясь отвлечь его. Наконец Быстров тряхнул головой, как бы отгоняя сомнения, и продолжал прерванный разговор: — Да, Мокий Демьянович, противник у нас серьезный. Дело не только в Шиммеле, с которым вам придется встретиться в первый же день после возвращения к ним. Вас будут проверять, провоцировать самые различные люди. Каждое ваше слово будет тщательно анализироваться. Надо собрать все первы в комок, но выдержать. — Сделаю все, чтобы успешно выполнить задание. — В этом не сомневаемся. Вам необходимо после проверки осесть на какой-либо технической работе в разведшколе или разведоргане абвера. Цель — внимательное изучение обучающихся там агентов. Вы должны склонять колеблющихся к явке с повинной, подбирать надежных, крепких людей, которых можно рекомендовать для выполнения разведывательных заданий. Дело, как видите, сложное. Но вы обладаетенеобходимым опытом, и я уверен — справитесь. Генерал снова сделал паузу, затем продолжал: — Встретятся вам по возвращении не только несчастные люди, но и убежденные, отъявленные враги советского народа. Я имею в виду всех этих “бывших”, их сынков, изменников и перебежчиков, уголовников, рецидивистов и прочих людишек с гнилой душой и грязной совестью. Не за страх, а за совесть они служат немцам. О подготовке их к заброске в наши тылы вы должны своевременно сообщать нам. В этом главная трудность задания. — Все ясно, товарищ генерал. — Тогда разрешите вам пожелать счастливого пути. До скорой встречи, дорогой наш контрразведчик. Удачи вам и возвращения с победой! — Спасибо, товарищ генерал! Не беспокойтесь за меня, не подведу. Капитан Каращенко вышел из кабинета. В приемной его уже ожидал подполковник Сосницын. Чекисты долго беседовали о предстоящем деле, потом выехали на фронт, — в район Черной реки. Здесь Каращенко вместе с Сосницыным и чекистами дивизии проехал по тому маршруту, который разработали немцы для своего агента. Мокий Демьянович внимательно ознакомился с местностью. Вечером, добравшись до кровати, он сразу же уснул и спал крепко, без сновидений. Ранним утром, хорошо отдохнув и подкрепившись, Мокий Демьянович выехал в обратный путь. Юркая “эмка”, окрашенная в защитный цвет, катилась по лесной дороге. Недавно прошел дождь. В лесу было влажно и тихо. Разноцветными бликами вспыхивали капли дождя на зеленой хвое, заплутавшийся в чащобе ветерок стряхивал брызги на крышу машины. И только отдаленный орудийный гул говорил о близости фронта. В пути чекисты беседовали о предстоящем переходе Каращенко в немецкий тыл. Оперативный сотрудник управления контрразведки капитан Маковенко наставлял Мокия Демьяновича: — Вы на целые сутки опоздали с возвращением, поэтому переходить линию фронта будете в стороне от назначенного немцами места. Постарайтесь быть у них к рассвету. Спросят, почему не явились в указанный день и перешли на другом участке, говорите, что вас заметили, пришлось плутать. Соответствующий спектакль мы разыграем. …И снова Мокий Демьянович очутился на передовой. Где ползком, где пригнувшись, продвигался он мимо наших сторожевых постов, притаившихся секретов, хоронясь от случайной пули. И сам он, и провожавшие его капитан Маковенко и майор Богданов промокли до нитки. Утро выдалось ненастное, хмурое. — Пришли, — сказал Богданов. — Дальше пойдешь один. Ничейная земля. — Посидим перед дорогой. А вернее, полежим, — предложил капитан Маковенко. — Да, передохнуть не мешает, — согласился Мокий Демьянович. Каращенко лежал рядом с Богдановым. Дыхание друга он чувствовал у самого уха, и на душе становилось спокойней, уверенней — рядом человек, с которым так много пройдено, прожито. Он не оставит в беде… Тишина. Ни шороха, ни выстрела. Непривычно звенело в ушах, в голову лезли всякие страхи. Чекисты лежали на узкой полоске земли, разделяющей два мира, две непримиримо враждующие стороны, и думали об одном — о том, что встретится их товарищу, когда он шагнет в неизвестность. Никто ведь не знал и не мог предсказать, что будет в логове фашистов со смельчаком, который взялся перехитрить “всесильный абвер”. — Теперь пора, — вполголоса проговорил Маковенко. Распрощавшись с друзьями, Каращенко вновь стал Никулиным, агентом абвера. Он стал пробираться к немецким окопам и вскоре исчез из виду. Лишь некоторое время был слышен шелест травы да легкое потрескивание валежника. Ползком подобравшись к расщепленной снарядом сосне, Никулин стал на ноги, прижался к смолистому стволу и тихо окликнул: — Камрад, камрад! В немецких окопах никто не откликнулся. Никулин вышел из укрытия и поднял руки, показывая, что он без оружия. Тогда из-за бруствера высунулась одна голова, другая… Солдаты стали призывно махать руками, закричали: — Ком хир! Ком хир! Николай Константинович пошел вперед. Спрыгнув в окоп, потребовал: — Проводите меня к офицеру. Солдаты, не поняв его, что-то залопотали. Один из них ткнул в бок стволом автомата и показал на вход в бункер — туда, мол, иди. Сразу же появился и переводчик — щуплый солдатик из поляков. — Цо тшеба, пан? — строго спросил он у Никулина. Тот повторил: — Мне надо к офицеру. — Для чего? — По делу службы. Понимающе кивнув головой, поляк куда-то побежал по траншее. Через несколько минут в бупкер вошел сухой и длинный, надрывно кашляющий, видимо простуженный, капитан, командир роты. — Вас волен зи? — отрывисто проговорил он и закашлялся. — Я немецкий солдат. Меня нужно немедленно доставить в штаб дивизии, — как можно тверже и решительнее заявил Никулин. Поляк услужливо перевел. Немецкий офицер с интересом посмотрел на Николая Константиновича и тоже спросил: — Зачем? — Служебное дело абвера, — снова ответил Никулин. Немец опять закашлялся, поманил пальцем фельдфебеля и, что-то приказав, вышел из бункера. Вскоре Николая Константиновича повели в штаб дивизии. Конвоиры, обозленные тем, что в такую ненастную погоду им пришлось покинуть сухую землянку и тащиться по лужам в неведомую даль из-за какого-то русского, готовы были, живьем съесть Никулина. “Как бы не пристрелили”, — беспокойно думал он, когда то один, то другой конвоир больно толкал его стволом автомата в спину, в бок, предлагая ускорить шаг или сменить направление. — Хальт, русише швайн! — скомандовал наконец один из конвоиров, рыжебородый мордастый детина в растоптанных сапогах, и побежал куда-то под горку. Николай Константинович принялся — в которой раз! — повторять в уме легенду, сочиненную чекистами в Ленинграде. Предстояло четко, без запинок и путаницы рассказать обо всем “увиденном” на советской стороне, перечислить номера воинских частей. Его, несомненно, постараются уличить во лжи. Немцы не дураки. У них, конечно, есть собранные по различным каналам сведения, по которым можно проверить правдивость доклада. Споткнешься — пощады не жди. Замучают, заподозрив, что ты подослан чекистами. Такие случаи бывали. Прошло несколько минут тягостного ожидания, и рыжий конвоир показался на тропинке, махнул рукой: — Ком! Второй солдат немедленно ткнул Николая Константиновича стволом автомата в спину. Никулин пошел с горки, миновал заросший осинником овраг и, выйдя на опушку леса, увидел в излучине ручья небольшую деревушку. Деревушка была совсем неприметная. Покосившиеся избы смотрели крохотными подслеповатыми окошками на мутный ручеек, вырвавшийся из лесной чащобы. Над соломенными крышами задирали к небу головы два колодезных журавля. Белела церквушка на косогоре, а подле нее на самой вершине бугра красовался добротный пятистенный дом под железной кровлей. Дом этот еще до революции построил кабатчик Силантьев, известный на всю округу мироед и бабник. Он охотно давал односельчанам выпивку и деньги в долг, под проценты, скупал в городе по дешевке ворованные вещи и перепродавал мужикам. Так и составил капиталец. После революции в силантьевском доме был сельсовет. А когда пришли немцы, выгнали всех жителей из деревни и расквартировали здесь штаб дивизии. В силантьевском доме, лучшем в деревне, поселился генерал. Никулин сразу определил это: к дому со всех сторон тянулись телефонные провода, у крыльца прохаживался часовой, под березами, которыми была обсажена усадьба, стояли легковые машины. Командир дивизии пожелал лично расспросить перебежчика с советской стороны. Шагнув к нему, Николай Константинович тихо произнес полученный от Шиммеля пароль: — Ораниенбаум. Генерал сразу же отпустил конвоиров и вызвал адъютанта. — Прикажите нагреть воды, приготовить завтрак, — сказал он и добавил, обращаясь к Никулину на ломаном русском языке: — Мы будем беседовать и затем банья унд фриштик, завтракать. В течение получаса генерал расспрашивал Никулина о том, что тот видел за линией фронта. Потом благосклонно разрешил: — Можете отдыхать. — Господин генерал, прошу сообщить о моем прибытии капитану Фишу. Он мне приказал немедленно связаться с ним после перехода линии фронта. — Хорошо. Я позвоню. Когда Никулин вышел, генерал пригласил к себе начальника штаба. Вскоре в его кабинет вошел длинный и худой полковник. Почтительно вытянулся у порога, ожидая приказаний. — Прошу подойти к карте, — предложил ему генерал. — Обратите внимание на этот участок. Что здесь происходило ночью? Как вели себя русские? — Герр генерал, — доложил начальник штаба, — сегодня перед рассветом русские открыли интенсивный ружейно-пулеметный огонь в районе высоты Шварцкопф. Стреляли где-то в глубине своих боевых порядков, и это наших опасений не вызывало. Ночью на правом фланге дивизии слышался гул моторов. — Н-да… Этот русский, пожалуй, не врет. Во всяком случае о том участке, где он переходил линию фронта. — О каком русском идет речь? — А черт его знает, кто он. Это виднее капитану Фишу и подполковнику Шиммелю. Их человек явился с той стороны и доложил о концентрации русских войск вот здесь, — он снова ткнул карандашом в карту. — Ваши наблюдения подтверждают эти сообщения. — Возможно, здесь действительно затевается серьезное дело. Разрешите послать разведгруппу для проверки положения на месте? — Разумеется. И установите за этим участком постоянное наблюдение. Начальник штаба вышел. Генерал снял телефонную трубку и вызвал капитана Фиша. — В мою дивизию от русских перебежал человек. Просил поставить вас об этом в известность. Он рассказал мне кое-что интересное. Его сообщение подтверждается нашими наблюдениями. Поздравляю с успехом. — Немедленно выезжаю, господин генерал, — ответил капитан. Голос Фиша в телефонной трубке буквально зазвенел от радости. Фиш ликовал. Никулин был одним из немногих лазутчиков, заброшенных в тыл советских войск, который выполнил задание и возвратился назад. Большинство агентов или погибали, переходя линию фронта, или попадали в руки советской контрразведки. Часа через два у высокого резного крыльца дома, где расположился генерал, остановился зеленый с бурыми разводами “оппель”. Из него выскочил и бегом поднялся на крыльцо капитан Фиш. Николай Константинович вышел ему навстречу. Он хотел по всей форме отрапортовать, но капитан Фиш вдруг полез целоваться и разболтался без удержу: — Ах, какой вы молодец, Никулин! Как я рад, что вы вернулись! Признаться, я очень опасался за вас, ведь вы уже немолоды. Мы с вами примерно одного возраста, не так ли? Но, — тут капитан Фиш многозначительно поднял палец, — старая лошадь не портит поля! Так, кажется, говорят русские? Многие молодые не справились с заданием, а вы показали себя молодцом, героем, настоящим Зигфридом. Вы получите награду. Поздравляю вас. Николай Константинович делал вид, что бесконечно рад встрече, терпеливо выслушивал похвалы абверовца, который буквально рассыпался в любезностях. Расточая друг другу ослепительные улыбки, Фиш и Никулин уселись в автомобиль. — В Псков, — скомандовал Фиш шоферу. Машина тронулась с места, несколько километров прошла по разбитой прифронтовой дороге, затем вырвалась на асфальтированное шоссе и, набрав скорость, понеслась на запад. За окном мелькали перелески, мокрые луга, речушки. Почти не сбавляя скорости, проезжали через деревни. Ближе к передовой их буквально наводняли гитлеровские войска. Бесчисленные повозки, машины, орудия, солдаты… А машина все мчалась по гладкой дороге на запад. Красноречие Фиша иссякло, он успокоился и, поудобнее устроившись, смотрел на раскрывающиеся перед ним картины. На лице его по-прежнему играла радостная улыбка. Никулин исподтишка наблюдал за Фишем и настороженно думал, что предпримет этот человек, когда начнет проверку доставленных сведений. Поверит ли? А впереди еще Псков, встреча с начальником “Абверкоманды-104” подполковником Шиммелем. Николай Константинович вспомнил предупреждение генерала Быстрова: “Вас будут проверять, провоцировать самые различные люди. Каждое ваше слово будет тщательно анализироваться. Надо собрать все нервы в комок, но выдержать”. “Собрать все нервы в комок, но выдержать”, — мысленно повторил Никулин.Глава шестая Лиса идет в западню
Шиммель принял Николая Константиновича очень сдержанно. Поубавилось приветливости и у Фиша. Теперь он был сугубо официален. — Как самочувствие, господин Никулин? — спросил Шиммель. — Благодарю вас, господин подполковник, хорошее. — Ну и славу богу, так, кажется, говорили в старое время в России? На лице его появилась гримаса, и трудно было понять, что она изображала — доброжелательную улыбку или брезгливость. — Многие и сейчас так говорят, — сдержанно ответил Никулин. — Разве в России до сих пор верят в бога? — Есть и верующие, а многие так говорят по привычке. Шиммель явно не торопил Николая Константиновича с докладом. Отвлекая его внимание, он готовил неожиданный вопрос по существу. Метод, знакомый всем следователям мира, несмотря на свою тривиальность, нередко давал хорошие результаты, когда приходилось иметь дело с плохо подготовленными и слабонервными людьми, и Шиммель знал это. Поболтав несколько минут о том о сем, Шиммель пригласил Николая Константиновича пройти в смешную с кабинетом комнату. Там был накрыт обеденный стол. Уловив вопросительный взгляд Никулина, Шиммель предупредительно ответил: — О деле потом. Вы сегодня устали. Переход фронта, дорога — это нервы. Надо и отдохнуть. Признаться, и мы тоже устали. К тому же и время обеденное. Не так ли, господин Фиш? Никулин понял маневр Шиммеля. “Попытается споить, — пронеслось в голове. — Старый прием”. — Я, господин подполковник, дьявольски проголодался, — сразу же подхватил Фиш. — Уверен, что и господин Никулин не откажется. Я ведь так быстро приехал за ним, что он едва ли успел перекусить. На лице капитана Фиша снова появилась радостная улыбка, как и при встрече с Николаем Константиновичем в штабе дивизии. Но, уловив холодный взгляд Шиммеля, он вновь сухо поджал губы. Обедали почти молча. Изредка Шиммель задавал какой-нибудь вопрос или поднимал тост за фюрера, за победу великой Германии, за успехи Никулина. Приходилось пить. Шиммель не сводил глаз с Николая Константиновича и, когда ему показалось, что хмель начал действовать, перешел к допросу: — Мне доложили, господин Никулин, что с вами грубо обращались солдаты, которые встретили вас. Но ведь вы сами виноваты. Почему перешли линию фронта не там, где мы условились? Зачем отклонились от маршрута? К тому же вы и опоздали… Это могло стоить вам жизни. Не так ли? Никулин насторожился, почуяв ловушку. Когда контрразведчики разрабатывали для него легенду, то приготовили и версию для оправдания задержки. Нужно было сообщить немцам, что проход, по которому он собирался возвращаться, перекрыт. Там, дескать, расположилась какая-то часть. Вот он и свернул в лес. А там полно солдат. Пилили сосны, устраивали завалы. В лесу видел много техники, особенно танков. Разведать подробнее не удалось: русские чрезвычайно тщательно охраняют район от высоты Шварцкопф до излучины реки Черной. Так Никулин и доложил. Внимательно выслушав его, Шиммель замолчал, испытующе глядя на Николая Константиновича. Сообщение о концентрации крупных сил в направлении города Котлы и было тем крючком, на который советское командование хотело подцепить фашистов. Шиммель молчал, помешивая ложечкой кофе. Никулин старался по его лицу определить — поверил или нет. Но на лице абверовца словно застыла непроницаемая маска. Помалкивал и Фиш. Обед закончился в тягостном молчании. Наконец Шиммель поднялся из-за стола. — Так что ж? Доклад вы уже начали, господин Никулин. Продолжим, пожалуй, в кабинете. Подполковник подошел к стене, завешенной плотным материалом, раздвинул занавес. Никулин увидел такую же карту, какая висела и в кабинете генерала Быстрова. Только надписи здесь были на немецком языке. — Доложите о выполнении задания подробнее, — потребовал Шиммель. Фиш взял со стола блокнот, поудобнее устроился в кресле возле карты и приготовился записывать. Никулин внимательно рассматривал карту, делая вид, что вчитывается в отпечатанные латинским шрифтом названия. А сам тем временем продолжал обдумывать, как преподнести немецким разведчикам легенду, полученную в контрразведке. — Вам, как я вижу, трудно читать наш шрифт. Охотно помогу вам, — сказал Шиммель. Взяв со стола указку, он подошел к карте и, глядя прямо в глаза Николая Константиновича, неожиданно спросил: — Как теперь выглядит Ленинград, господин Никулин? У нас очень противоречивые сведения об этом городе. У Николая Константиновича екнуло сердце. Неужели выследили, узнали, что он был в Ленинграде? Вот почему так холоден Шиммель! “Спокойно, спокойно”, — приказал себе Никулин. И ни один мускул не дрогнул на его лице. — Простите, господин подполковник, — вежливо ответил он, — но на этот вопрос я не смогу ответить. В Ленинграде никогда не был. — Вот как? Почему же майор Рудольф говорил мне, что вы родились и жили под Ленинградом? Я полагал, что вы хорошо знаете этот город. — Что вы, что вы, говорить так майор Рудольф не мог. Вы запамятовали. Он вел со мной разговор о Москве, о Подмосковье. Ведь он мой земляк. — Ах, так… А я почему-то думал, что вы родились где-то под Ленинградом. Я ведь тоже родился в России. И почему-то представил себе, что вы, как и я, родом из-под Петербурга, хотел поговорить об этом прекрасном городе, о его чарующих окрестностях… Никулин чувствовал, что его одолевает зевота. Устал он до невозможности, хотелось спать. А тут Шиммель не спеша, со смаком, толкует о чем-то совсем не имеющем отношения к делу. — Так где же вы перешли линию фронта? — быстро спросил Фиш, совершенно неожиданно для Никулина, прервав Шиммеля. Николай Константинович даже вздрогнул, услышав резкий, как удар кнутом, выкрик Фиша. Погруженный в свои думы, он и не заметил, как пристально глядит на него Шиммель, как тщательно записывает каждое слово капитан Фиш. Будто припоминая новые подробности, Николай Константинович начал рассказывать о некоторых “свежих” деталях, о войсках, настроениях, снабжении и прочих интересующих немцев вещах. Он принес абверовцам продовольственные аттестаты с отметками о полученных продуктах, о столовых, в которых питался. В них были проставлены и номера полевой почты частей, где он якобы становился на котловое довольствие. Словом, предусмотрительные чекисты сделали все так, как это полагается опытному агенту. Рассматривая аттестат, Шиммель поинтересовался: — Это нашей работы аттестат или подлинный, русский? — Подлинный, — ответил Никулин. — Получил при отъезде. — Очень хорошо. Чем он отличается от тех аттестатов, которые даем мы? Николай Константинович ждал этого вопроса. Он знал, что немецкую разведку интересуют подлинные советские документы и то, как заполняют их. Знали об этом и в нашей контрразведке. Поэтому ему и разрешили сообщить немцам об их ошибке, допущенной при изготовлении продовольственного аттестата офицера Красной Армии. Сведения, которые он сообщал, не составляли большой тайны, зато укрепляли авторитет Никулина в глазах немцев. И Никулин старался получше использовать свой козырь: — Видите ли, господин подполковник, наши сотрудники допускают серьезные ошибки при заполнении продовольственных аттестатов и командировочных предписаний. Документы, которые были вручены мне перед отправкой в советский тыл, заполнялись небрежно, и это могло стоить мне жизни. С такими документами там лучше и не появляться. Или наши специалисты не знают всей канцелярской техники русских, либо делают ошибки с умыслом. Надо проверить это. Никулин говорил резко, с возмущением, тоном человека, жизнь которого подвергалась опасности из-за небрежности второстепенных сотрудников абвера. Шиммель и Фиш поторопились его успокоить. — Господин Никулин, мы расследуем это дело. Шиммель еще раз внимательно осмотрел принесенный Николаем Константиновичем аттестат. Затем вынул из сейфа фальшивый и стал сличать его с подлинным. Они походили друг на друга, как близнецы, и Шиммель не удержался, спросил: — Так в чем же здесь ошибка? Я не вижу… — Господин подполковник, в аттестате не было отметки о выдаче мне дополнительного пайка, который полагается офицеру. Как только я появился на продпункте, чтобы стать на довольствие, меня сразу же спросили, почему в аттестате нет такой отметки. Пришлось сослаться на небрежность писаря. Все, правда, сошло благополучно. Мне поверили. Но в каком же положении я оказался? Не будь начальник продпункта таким ротозеем, я не имел бы чести сейчас находиться с вами. Я потом не знал ни минуты покоя, так и тянуло — бросить все и бежать за линию фронта. А вдруг этот кладовщик и не ротозей вовсе? Вдруг он сообщил о фальшивом аттестате чекистам, и они уже идут по моему следу, все ближе и ближе… Николай Константинович наступал. Он понимал, что нужно действовать решительно, напористо, перехватить у своих противников инициативу, чтобы не дать им возможности ловить себя на слове, проверять. Он заметил, что Шиммелю это не понравилось. В конце концов именно Шиммель нес ответственность за подготовку всего необходимого для заброски Никулина в советский тыл. И вот теперь тот как бы ставил под сомнение репутацию лучшего специалиста по России, которая прочно утвердилась за Шиммелем в абвере. Поэтому Шиммель забеспокоился, попытался перевести разговор на другую тему: — Господин Никулин, а что вы заметили… — Извините, господин подполковник, я сейчас закончу мысль, — продолжал Николай Константинович. — В командировочном предписании почему-то не был проставлен шифр. Я вначале не обратил на это внимания. Но на русской стороне спохватился. Нам еще в разведшколе говорили о том, что в советских командировочных предписаниях ставится условный шифр: одна-единственная буква, которая дает возможность отличить своего от чужого. Без этого шифра мое командировочное предписание выглядело как грубая подделка. С такой фальшивкой я бы попался на первом же контрольно-пропускном пункте. Никулин замолчал, всем своим видом выражая крайнее возмущение. Фиш, по всей видимости, был доволен таким поворотом беседы. От Николая Константиновича не ускользнуло, что Шиммель и Фиш по-разному расценивают его возвращение из советского тыла. Фиш считал это своим личным успехом. У Шиммеля возникли подозрения. Он стремился все детально проверить. В такой обстановке Фиш становился невольным союзником Никулина. Он решил немедленно воспользоваться этим и продолжал: — В Валкской школе меня хорошо подготовили к переправе на ту сторону. Я от души благодарен за это майору Рудольфу и капитану Шнеллеру. Безукоризненно обеспечил мой переход через линию фронта капитан Фиш. Он сам и его люди отнеслись к заданию серьезно, со знанием дела. Они сделали все, что могли, для обеспечения безопасности моего перехода. Фиш даже покраснел от удовольствия. Он пытался сохранить спокойствие и не показать своей радости Шиммелю, но на его лице было написано все. От зоркого глаза Никулина не ускользнула и сложная гамма переживаний на лице Шиммеля. Он решил “успокоить” абверовца. — Я волнуюсь так, господа, не из-за себя. Из-за небольших неточностей в оформлении документов могло провалиться задание. Сказав это, Николай Константинович замолчал. — Господин Никулин, — вкрадчиво поинтересовался Шиммель. — А как вам удалось узнать шифр? Этот вопрос не застал Никулина врасплох. Он заранее подготовил ответ на него. — Я вышел на дорогу и останавливал младших по званию офицеров, придирался к ним под разными предлогами и требовал предъявить документы. К моему счастью, среди задержанных оказался один с командировочным предписанием. Я запомнил шифр и проставил его в своем документе. — Хвалю за находчивость, — кисло улыбнулся Шиммель. — Из вас выйдет неплохой разведчик. Капитан Фиш понял, что наступила пора помочь своему начальнику выбраться из неприятного положения, и поспешил переменить тему разговора. — А как кормят русских? — спросил он. — Кормят, надо сказать, вполне сносно, — ответил Никулин. — Солдатам готовят кашу гречневую, пшенную с салом или мясом, борщи варят. Офицеры получают дополнительный паек — галеты, масло, консервы. — Да, в этом отношении у русских благополучно, — подтвердил капитан Фиш, посмотрев на своего начальника. Николай Константинович закончил доклад. И Шиммель теперь уже просто, без былой настороженности переспросил, подойдя к карте и очерчивая карандашом небольшой квадрат: — Значит, по-вашему, где-то в этом районе сконцентрированы двести двадцать седьмая стрелковая дивизия и сто сорок вторая отдельная морская бригада? — Я доложил все, что мне удалось узнать. — Вы не ошиблись? — Не должно быть. Возможно, кое-что не сумел разведать, упустил, но времени у меня было очень мало. — Вы, Никулин, принесли ценные сведения, — заключая беседу, сказал Шиммель. — Если все то, что мы нанесли на карту по вашему докладу, подтвердится, я представлю вас к награждению медалью “За верную службу”. Отпустив Николая Константиновича, немецкие разведчики остались в кабинете вдвоем. Они понимали, что полученные ими сведения заинтересуют командование. Но можно ли им верить? Действительно ли в районе реки Черной идет концентрация русских войск? Откуда на “пятачке” появились дивизии, морская бригада? Придут ли еще войска и какие? На все эти вопросы “Абверкоманда-104” должна была дать точные и исчерпывающие ответы. Нагнувшись над картой, Шиммель внимательно изучал маршрут, по которому шел Николай Константинович. Фиш перечитывал записи в блокноте. Придраться как будто было не к чему. — Ваше мнение? — спросил Шиммель Фиша. — Все выглядит вполне правдоподобно… — И все же не будем спешить радоваться, — сказал Шиммель. — Займемся детальной проверкой. Проверка… О ней постоянно твердили во всех инстанциях абвера. Недоверие к полученным сведениям, к людям, которые добывали их, — иначе и не могло быть в разведке, опирающейся на изменников, предателей, авантюристов и различного рода проходимцев. В абвере хорошо понимали, что доверять таким кадрам нельзя. Понимали это и Шиммель с Фишем. Они и хотели поверить Никулину, и боялись попасть впросак, доверившись ему. — То, что Никулин явился днем позже условленного срока и линию фронта перешел не там, где указывалось в задании, — высказывал свои сомнения Шиммель, — дает основание полагать, что он перевербован советской контрразведкой. Он пробыл у русских как раз столько времени, сколько потребовалось бы для получения задания в Ленинграде и возвращения к нам. Вот посмотрите… Шиммель принялся прикидывать в различных вариантах время, которое потребовалось Николаю Константиновичу для выполнения поставленной перед ним задачи. Рассчитывал, где и сколько тот шел пешком, где ехал на попутных машинах, останавливался на ночевки. Получалось, что Никулин должен был уложиться в отведенный срок. Но он опоздал на целые сутки… — Не могу отделаться от мысли, что Никулин побывал в русской контрразведке, — признался Шиммель. — Чтобы добыть такие сведения, времени требовалось много, — возражал Фиш. — Еще ни один агент не собрал столько данных за один переход через линию фронта, сколько Никулин. Это как-то объясняет опоздание. К тому же ему пришлось менять участок перехода. — Вот это и подозрительно. Очень уж много он добыл сведений. Как бы их ему не вручили специально… — Мы никогда не достигнем успеха, если с таким неоправданным подозрением будем относиться к донесениям наших агентов. Перейти фронт при большой концентрации войск нелегко. Я как начальник переправочного пункта это хорошо знаю. — Господин Фиш, уж не завербовал ли вас Никулин по пути сюда, что вы так отстаиваете его? — съязвил Шиммель. Начальнику разведки не понравилась убежденность, с которой Фиш защищал удачливого агента. Шиммель понимал, что Фиш доволен возвращением Никулина, видит в этом частицу и своих заслуг и, конечно, ожидает от начальника их признания. Он надеется, что командование абвера наградит лиц, принимавших участие в операции. Да, Фиш очень хотел получить награду и решил польстить начальнику, чтобы тот забыл о таких неприятных для него упреках Никулина. — Я помню ваш рассказ, господин подполковник, о том, как в сорок первом году вы на Центральном фронте с группой офицеров абвера переоделись в форму советских солдат и несколько раз на трофейной автомашине пытались вклиниться в колонну отступающих русских войск, но не могли этого сделать из-за сильной их концентрации. Сосредоточение русских частей является помехой для перехода фронта. С этим нужно согласиться. Шиммель самодовольно улыбнулся. Ему приятно было, что о его храбрости говорят в офицерских кругах абвера. Хотя трижды предпринятая попытка присоединиться к отступающим русским войскам сорвалась и поставленную задачу — вывезти на машине в тыл к русским несколько офицеров абвера — Шиммелю выполнить не удалось, тем не менее участие в таком “лихом деле” тешило его самолюбие, поднимало в глазах подчиненных. — Доводы ваши очень резонны, дорогой Фиш. Но все же необходимо проверить и самого Никулина, и его данные. — В пользу Никулина, господин подполковник, говорит тот факт, что он дал ценные советы по оформлению документов, проявил инициативу в раскрытии шифра командировочных предписаний. Вряд ли в этом заинтересована русская контрразведка. Какой им смысл раскрывать шифр? Он, конечно, часто меняется, но мы можем оформить документы и задним числом. Дескать, выехал в командировку, когда применялся иной шифр. — Это подкупает в какой-то мере, — согласился Шиммель и подошел к карте. За ним последовал Фиш. — Никулин перешел линию фронта вот здесь. Если он обнаружил “окно”, то надо этим воспользоваться и немедленно направить через него другого агента с той же задачей, что была и у Никулина. Если русские забросили к нам Никулина, то, надо полагать, проход они закрыли. Если же он обнаружил его сам, то “окно” может оставаться открытым долго. Ошибкой в системе обороны противника надо воспользоваться. — Все ясно, господин подполковник, — отвечал Фиш. — Никулина отвезите в Сиверский. Дайте ему отдохнуть. Проверку доставленных им данных произведу сам. Доложу в “Штаб Ваяли”, что агент Никулин прибыл. …И началась проверка. Интенсивная воздушная разведка, служба радиоперехвата, наблюдатели на переднем крае — все как будто бы подтверждали сведения Шиммеля, а стало быть, и его агента Никулина. Однако генерал-фельдмаршал Кюхлер требовал уточнить даже мельчайшие детали донесения. Начальник “Штаба Валли” командировал в Псков на помощь Шиммелю подполковника Бауна. Он также приказал начальнику разведшколы Рудольфу лично отобрать двух-трех особо доверенных агентов и готовить их к переходу линии фронта для сбора новых данных о концентрации советских войск на “Ораниенбаумском пятачке”. Во второй половине августа 1943 года в “Абверкоманде-104” собрались “специалисты по России”: подполковник Баун, подполковник Рудольф и подполковник Шиммель. Баун и Рудольф только что получили очередные воинские звания. Абверовцы были всерьез озабочены. Данным Никулина придали большое значение не только в штабе группы армий “Север”, но и в самом абвере. Адмирал Кана-рис потребовал от своих подчиненных немедленно и глубоко разобраться во всех обстоятельствах дела. Докладывал Шиммель: — Воздушная и радиотехническая разведки подтверждают данные Никулина. Вчера захвачен “язык” — матрос семьдесят первой бригады морской пехоты. На допросе он показал, что среди личного состава ходят усиленные слухи о прибытии новых подкреплений. Войска готовятся к наступлению. Командиры и политработники изучают местность в полосе предстоящего боя. Недавно к ним на передовую приезжали несколько генералов и адмиралов. Все это дает основание верить сообщению Никулина. Но вместе с тем у меня лично остается сомнение — не является ли все это хорошо подготовленным и разыгранным водевилем. Этого же опасается и командующий группой “Север”. Он предупредил меня, что не располагает достаточными силами, чтобы уверенно оборонять весь фронт. Он может собрать кулак лить на направлении главного удара русских. Верховное командование в помощи ему отказало. Концентрация войск в районе “Ораниенбаумского пятачка” оголит другие участки фронта, и тогда мы можем потерять Прибалтику. Такова обстановка. — Это ясно, — заключил Рудольф. — Как ведет себя Никулин? — Сейчас он в Сиверском. Я приказал Фишу организовать за ним наблюдение. Как вы знаете, там у насесть все необходимое для проверки агентов, направляющихся в советский тыл и возвращающихся оттуда. — А каково ваше мнение о Никулине? — обратился Баун к Шиммелю. — В общих чертах неплохое. Наблюдателен, осторожен, находчив, общителен. По сообщению Фиша, в настоящее время сошелся с нашим агентом Спасовым, которого мы специально используем для изучения Никулина. Спасов о Никулине отзывается неплохо. — Я знаю его по разведшколе, — вмешался Рудольф. — Показал себя прилежным, сообразительным. Обладает силой воли и выдержкой. Перед отправкой в “Абверкоманду-104” для выполнения задания мы его специально проверяли, однако ничего компрометирующего не обнаружили. — Из “Абверштелле-Остланд” мне сообщили, что Никулин в Рижском центральном лагере скрывал, что он офицер, и выдавал себя за рядового, — возразил Баун. — Удалось установить это. Совместно с другими укрывавшимися офицерами его направили в Саласпилсский лагерь. Это бросает на него тень. — Так подходить к оценке нельзя, — ответил Рудольф. — В наших лагерях каждый борется за свою жизнь как может. Не будешь бороться — погибнешь. Это же ясно. Совещание трех подполковников абвера длилось долго. Были обсуждены все стороны предстоящей проверки сведений, доставленных Николаем Константиновичем… На советской стороне в это время тоже часто вспоминали о чекисте. На следующий день после его перехода через линию фронта генерал Быстров вызвал к себе подполковника Сосницына и капитана Маковенко. — Чувствовал он себя хорошо, — докладывал Маковенко. — Просил передать, товарищ генерал, что постарается выполнить задание как можно лучше. — Вы лично наблюдали за его переходом? — Так точно, товарищ генерал. Дошел он благополучно. Все было сделано аккуратно, как и намечалось. Тут уж для своего друга постарался майор Богданов: все, что надо, подготовил и сам до ничейной земли сопровождал. — Молодец Богданов, умница. Немцы не стреляли? — Нет. В районе перехода на их стороне было тихо. — Товарищ подполковник, — обратился генерал к Сосницыну, — как выполняется наш план? Что, по вашему мнению, нужно еще сделать? — Я думаю, товарищ генерал, что если наш Никулин благополучно перешел линию фронта, то немецкая разведка постарается по проложенному им маршруту направить в наш тыл других агентов, чтобы проверить донесение Никулина. Если они пройдут благополучно, это повысит доверие немцев к Николаю Константиновичу. Если не пройдут, его будут подозревать. От агентов, несомненно, будут ждать подтверждения информации о прибытии на “пятачок” советских войск. Если сообщение Никулина не подтвердится, ему — конец. — Что же вы предлагаете? — спросил Быстров. — Не пускать же нам вражескую агентуру к себе в тыл? — Мы с Маковенко тут подумали, товарищ генерал, и пришли к выводу, что кое-чем Шиммеля надо порадовать. Иначе ничего не получится. Наши мысли мы изложили письменно. Сосницын протянул генералу несколько мелко исписанных листов. Быстров внимательно прочитал их. В кабинете стояла тишина, слышался лишь шелест переворачиваемых страниц. — Ну что ж? План продуман хорошо, — сказал Быстров, закончив чтение. — Утверждаю его и прошу ежедневно докладывать о ходе выполнения. Все должно быть сделано без сучка и задоринки, чтобы у “гостей” не появилось ни тени подозрения. Иначе не только нашим замыслам, но и планам командования фронта будет нанесен непоправимый вред. — Мы хорошо понимаем, товарищ генерал, — за обоих ответил Маковенко, — что речь идет об очень серьезном деле. Когда Сосницын и Маковенко вышли из кабинета, генерал Быстров позвонил начальнику финансового отдела. — Нужно ускорить пересылку денежного аттестата семье того человека, о котором мы вели речь вчера. Что? Сегодня уже выслали? Благодарю вас. Положив трубку, Быстров посмотрел на груду документов, ожидавших его. Все они были важные, секретные, срочные. Генерал пододвинул их к себе, секунду помедлил, потом позвонил в приемную и попросил никою не пускать к нему на доклад минут двадцать — тридцать, после чего достал чистый лист бумаги и сел писать письмо жене и детям Мокия Демьяновича Каращенко. Закончив письмо, он по высокочастотному телефону связался с командующим. В трубке послышался ровный и тихий голос: — Слушаю вас. — Докладывает генерал Быстров. Товарищ командующий, ночью линию фронта перешел наш человек. Сейчас он у немцев и передает им дезинформационные данные. — Хорошо. Разведчики тоже сумели подсунуть дезинформацию противнику. Я сейчас дам команду начальнику штаба. Надо подтвердить легенду. — Об этом я и хотел просить вас, товарищ командующий. — Тогда я прикажу вводить в действие все средства, предусмотренные планом….. Как себя чувствуете? — Спасибо, товарищ командующий. Хорошо. — Что нового по вашей линии? — Думаю завтра кое-что доложить. — Очень хорошо. Жду вас. До свидания. В этот же день над рекой Черной появился немецкий самолет-разведчик. Штаб фронта и чекисты ожидали этого. Они предполагали, что немцы в первую очередь попытаются провести воздушную разведку района предполагаемой концентрации наших войск. Поэтому сюда были стянуты зенитно-артиллерийские части. Они получили задачу не пропустить ни одного самолета в указанный район. Сделав несколько безуспешных попыток пробиться через стену заградительного огня, фашист ушел на свой аэродром. Ночью он снова появился. На этот раз ему особенно не мешали. Но зато специально созданные команды жгли костры, имитируя большое скопление войск. Узнав о полетах немецкого самолета-разведчика, генерал Быстров был очень доволен. Теперь у него были все основания считать, что дезинформация по назначению доставлена. Он тут же вызвал подполковника Сосницына и капитана Маковенко, потребовал доложить, какие новые меры они предполагают предпринять, чтобы помочь Никулину ввести фашистов в заблуждение. Подполковник сообщил, что вместе с Маковенко он детально изучил район перехода Никулина через линию фронта. Решено на некоторое время оставить “окно” в обороне, чтобы через него пропустить агентуру Шиммеля к нам в тыл. — Прошлый раз мы предположили, — говорил Сосницын, — что Шиммель пошлет по маршруту, которым ходил Никулин, других своих агентов. Считаю, что нужно дать им возможность пройти. Но на пути расставить специально выделенные части. Лучше всего оставить два-три отдельных батальона. Все остальные войска отвести в сторону от маршрута. Личный состав батальонов — офицеров и солдат проинструктировать, чтобы они выдавали себя за военнослужащих стрелковой дивизии и морской бригады. Это подкрепит нашу легенду. Агентов Шиммеля не задерживать, а дать им возможность свободно уйти к своим хозяевам. Сосницын замолчал. Генерал Быстров задумался, потом спросил: — А вы что предлагаете, товарищ Маковенко? — Я согласен с этим вариантом. Агентов Шиммеля мы встретим и проводим целыми и невредимыми, если только их не прикончат сами немцы. За тех ручаться не могу. Но я высказывал и другие соображения. Было бы неплохо задержать тех, кто придет к нам с заданием абвера. Хорошо поработать с ними и вернуть Шиммелю с такими же дезинформационными данными, с какими ушел Никулин. — Что ж, в обоих предложениях есть неплохие идеи, — резюмировал Быстров. — Но для подготовки всего того, что вы предлагаете, нужно время, а его у нас нет. К тому же нельзя посвящать в наши замыслы большой круг людей. Мне думается, предложение товарища Маковенко перевербовать агента Шиммеля для нас неприемлемо. Ведь для контроля он пошлет шпиона, проверенного в деле, преданного немцам. Где уверенность, что тот не продаст нас и наш замысел фашистскому командованию? Не нужно и войска привлекать к операции. Сделаем все силами самих чекистов. “Окно” в обороне нужно оставить открытым. Только установите там усиленное наблюдение. Немецкого агента должен встретить наш сотрудник в роли командированного офицера. Пусть все время сопровождает абверовца: им будет “по пути”. Чекист должен заходить с немецким агентом в землянки и дома, где заранее разместятся наши люди под видом военнослужащих двести двадцать седьмой стрелковой дивизии и сто сорок второй отдельной морской бригады. Необходимо исключить всякую возможность общения абверовца с кем бы то ни было, кроме участников операции. Поводив шпиона по тылам, надо под строгим контролем отправить его на ту сторону. Он расскажет немцам о том, что видел, вернее, что мы ему покажем. Годится такой план? — Очень трудно будет изолировать немецкого агента, — с сомнением сказал Сосницын. — Фронт… Здесь возможны всякие случайности. Могут быть и нежелательные встречи. — Безусловно, какая-то доля риска остается, — согласился Быстров. — Но постараемся проникнуть в психологию агента. Как только он перейдет линию фронта, ему будет казаться, что на каждом шагу подстерегает опасность. Конечно, он ухватится за знакомство с “полезным” человеком. Ну, а все дальнейшее зависит от смекалки и расторопности нашего оперативного работника… Чекисты уточнили детали предстоящей операции, распределили обязанности, назначили ответственных лиц. Когда все было решено, генерал Быстров сказал своим помощникам: — Теперь, товарищи, не теряйте ни минуты. Абверовская лиса пошла в западню. Со дня на день надо ждать появления агентуры. Операцию по приему и проводам вражеских лазутчиков назовем “Гости”. Начинайте подготовку к приему “гостей”. Желаю успеха!Глава седьмая Коса на камень
В Сиверском Николая Константиновича поселили в небольшом, хорошо обставленном доме.Одна половина его, две комнаты, предназначалась Никулину и старшине переправочного пункта Спасову, вторую половину занимали немецкие офицеры-разведчики. — Вот вы и дома, — произнес капитан Фиш. — Подполковник Шиммель велел предоставить вам все необходимое для хорошего отдыха. Вы здесь никакими делами заниматься не будете. Немецкое командование умеет ценить тех, кто помогает великой Германии в ее исторической битве с коммунистами. Вы заслужили отдых, господин Никулин, и пользуйтесь им. Набирайтесь сил, они вам еще понадобятся. Все необходимое получите у господина Спасова. Он у нас занимается хозяйством. Познакомитесь с ним, когда он придет. Будьте здоровы, отдыхайте спокойно. Капитан Фиш ушел. Николай Константинович чувствовал неодолимую усталость. Ломило спину, поясницу, побаливала голова. Хотелось лечь и уснуть, но надо было дождаться Спасова, познакомиться с ним. Как-никак, а жить придется рядом. Что он за человек? Никулин понимал, что на переправочном пункте он получает возможность хорошо изучить агентов, которые готовятся к переходу через линию фронта. Для контрразведчика это уже немало. Создавались благоприятные условия для выполнения второй части задания Быстрова: собирать сведения о немецких шпионах, склонять колеблющихся к явке с повинной. Никулин надеялся установить из Сиверского связь с генералом Быстровым, регулярно сообщать ему о заброске немецких разведчиков в тыл советских войск. Начинать работу следовало со знакомства с теми лицами, которые будут его постоянно окружать. В первую очередь хотелось сблизиться со Спасовым. Может быть, удастся как-то использовать его. Николай Константинович понимал, что старшиной переправочного пункта немцы не назначат непроверенного человека. По-видимому, Спасов предан фашистам, они ему верят. Что ж, тем более надо с ним сойтись и перехитрить его. Никулин, не раздеваясь, прилег на кровать поверх одеяла. Он хотел просто полежать, дать покой натруженным мышцам и перебрать в памяти события последних суток, однако незаметно для себя крепко уснул. Проснулся, почувствовав, что с ноги стаскивают сапог. Осторожно приоткрыв глаз, Николай Константинович увидел рослого светловолосого парня. Тот низко пригнулся над кроватью и осторожно, стараясь не разбудить спящего, тянул за каблук. Никулин отдернул ногу. — В чем дело? — недовольным тоном спросил он. — А, проснулся все-таки! — Парень дружески улыбнулся. — Не волнуйся, я не вор, не жулик. Пришел домой — вижу лежишь на койке, ноги свесил и храпишь, что твой трактор на пахоте. Видать, крепко умаялся. Зачем, думаю, мучиться человеку? Дай хоть сапоги сниму. Пусть отдохнет. А вот, видишь, разбудил. — Ничего. Не беспокойтесь. — Ну, давай знакомиться, коль свела вместе судьба наша военная. Я — Спасов. А тебя как звать-величать? — Никулин, Николай Константинович. Рад познакомиться. Мне о вас говорил капитан Фиш. — Все мы здесь рады знакомству друг с другом, — не то с иронией, не то серьезно ответил Спасов. — Только брось “выкать”. Я привык на “ты”. Тем более, что неизвестно, кто из нас по чинам старше, кто младше. — А я на особое положение и не претендую. Это ты как-никак начальство. Раз приказываешь — подчиняюсь, — улыбнулся Николай Константинович. — Хочешь подчиняться — подчиняйся. Только в начальство не лезу, — в тон Никулину ответил Спасов и захлопотал, как гостеприимный хозяин: — Ты как настроен, Николай Константинович, спать или ужинать? Давай перекусим чем бог послал. А завтра уж тебя оформим на полное котловое и вещевое довольствие, как в Красной Армии говорили. — Перекусить не откажусь. — Вот и порядок. Спасов открыл буфет, достал бутылку самогону, хлеб, закуску и пригласил Николая Константиновича к столу. После первой чарки завязался разговор. — Оттуда пришел? — спросил Спасов. — Угу. — Ну и как там? Наступление готовят? Ударят скоро? — Похоже на то. Силы подтягивают. — Гм… Конечно, посмотрим. Поживем — увидим. — Давно здесь? — в свою очередь поинтересовался Никулин. — Порядком. А что? — Просто так спросил. Они просидели весь вечер за столом, говорили о том о сем, прощупывали друг друга. Каждый хотел узнать о собеседнике побольше и в то же время не рассказывать о себе. Разговор явно не клеился. Наконец Спасов встал из-за стола и зевнул: — Ну, ладно, спать пора. Хватит в прятки играть, словно дети малые. Еще обнюхаемся, придет время. Побережем наши нервы. Ложись, что ли, Николай Константинович, или как там тебя? …Прошло два дня. Никто не интересовался Никулиным, никто его не тревожил. Спасов днем отсутствовал. Он появлялся лишь к вечеру и начинал вспоминать свою довоенную жизнь. Трудно было понять — тосковал ли он по прошлому, желал ли вернуть то, что минуло, или был доволен, что все переменилось. Никулин больше молчал, слушал. “Обнюхивание” шло медленно. На третий день Николая Константиновича вызвали к начальнику переправочного пункта. В кабинете капитана Фиша его встретил подполковник Рудольф. — С благополучным возвращением, господин Никулин, — приветливо произнес Рудольф. — Рад вас видеть в добром здравии и, надеюсь, прекрасном настроении. Николай Константинович заметил, что Рудольф повышен в чине. — Рад и я, господин подполковник. Разрешите и мне поздравить вас с новым званием. — И Никулин первым протянул Рудольфу руку. Брови подполковника изумленно взметнулись. Рудольф не ожидал такого поступка. Он помнил Никулина по Гуцаловскому лагерю и Валкской разведшколе как человека скромного, умеющего соблюдать такт в обращении с начальством. А тут такая фамильярность… Как будто они равны — этот безвестный Никулин и он, барон фон Ризе! После секундного колебания Рудольф все же коснулся пальцами ладони Николая Константиновича. Что поделаешь, этот русский добился большого успеха, с ним придется работать, и надо его расположить к себе. Стараясь показать, что ему приятна встреча с Никулиным, Рудольф предложил агенту сесть рядом с собой. Предстояла длительная беседа. Когда Никулин уселся, Рудольф достал портсигар, протянул ему. — Благодарю вас. — Николай Константинович взял сигарету. Рудольф щелкнул никелированной зажигалкой, оба прикурили. — Я рад, что вы выполнили задание, — продолжал Рудольф, — и хочу поздравить вас с успехом. Расскажите во всех подробностях, что и как вы делали в тылу русских. Ваш опыт мы широко используем при подготовке других разведчиков. Никулин понимал, что интерес Рудольфа вызван совсем иными причинами. Немцы хотели сверить его показания, чтобы уличить в неточности. Присутствовавший при беседе капитан Фиш снова принялся записывать рассказ Никулина, делал пометки в блокноте и Рудольф. Его интересовали мельчайшие подробности: через какие деревни проходил, сколько домов на главной улице уцелело, сколько разрушено, сожжено… Беседа сразу же приняла характер придирчивого допроса. Рудольф задавал самые неожиданные вопросы. Отвечая на них, Николай Константинович в который раз поминал добром генерала Быстрова, который настойчиво предупреждал его, что немцы хорошо знают местность и ее нужно тщательно изучить. — У вас хорошая память, — одобрительно проговорил Рудольф. — Вы, господин Никулин, обратили внимание на такие детали, о которых мы и не упоминали в Валкской разведшколе. — И, не переводя дыхания, неожиданно резко спросил: — Где вы получили профессиональную подготовку разведчика, Никулин? Вы кадровый разведчик, не так ли? Николай Константинович понял — Рудольф перешел в наступление. Надо было защищаться, а лучший способ для этого — напасть самому. — Господин подполковник, — с досадой и даже пренебрежением в голосе начал Никулин, — вы уже вторично даете мне убедиться в своей забывчивости. А ваша профессия требует хорошей памяти… Рудольф даже откинулся в кресле, словно получил пощечину. Капитан Фиш еле сдержал улыбку. А Николай Константинович, будто и не замечая произведенного его словами впечатления, продолжал: — В Гуцаловском лагере, в Риге, перед тем как меня отправили в разведшколу, мы вели разговор о Москве и Подмосковье, о моем родном поселке Кусково. А господину Шиммелю вы почему-то доложили, что я вырос под Ленинградом. В Валкской разведшколе я говорил вам, что в Красной Армии служил начальником штаба отдельного батальона, имел звание капитана. Естественно, я знаю кое-что из того, чему но учили в разведшколе. Я и применил свои знания с пользой для великой Германии. Но вы и об этой беседе забыли и теперь вот подозреваете меня в чем-то. А ведь в моем положении такие подозрения могут стоить жизни. — Вы неправильно поняли меня, господин Никулин, — попытался вывернуться Рудольф. — Я просто хотел высказать восхищение вашими способностями. В душе Рудольф досадовал на Шиммеля. Тот, видимо, тоже хотел подцепить Никулина на крючок невинным с виду вопросом. И вот поставил его, Рудольфа, в неловкое положение. Не объяснять же Никулину, что Шиммель просто брал его “на пушку”. Поэтому абверовец перевел разговор на другую тему и вскоре совсем закончил беседу. На следующий день в Сиверский приехал Шиммель. Он потребовал подробного письменного доклада о выполнении задания за линией фронта, так как любая стенограмма, дескать, не может заменить отчета, написанного самим исполнителем. Доклад нужен штабу группы армий “Север”. Николай Константинович был уверен, что все необходимое для штаба им уже рассказано. Об этом, конечно, доложено по инстанциям. Теперь нужен анализ всего сказанного, поиски расхождений. Проверка продолжается. И он не ошибался. Записи Фиша, Шиммеля, Рудольфа абверовцы сопоставляли с наблюдениями разведки, показаниями пленных. Расхождений не обнаруживалось. Генерал-фельдмаршал Кюхлер не был удовлетворен результатом проверки. Он требовал все новых и новых фактов и доказательств, перед тем как принять решение. Ведь в случае промаха он рисковал слишком многим. Прошло еще несколько дней. Как-то вечером по обыкновению подвыпивший Спасов вернулся злой, чем-то расстроенный. Завалившись на свою койку, он долго молчал, временами тяжело вздыхая. Однако начать разговор не спешил. Не торопился с расспросами и Никулин. Он сидел, читал роман “Камо грядеши” и делал вид, что полностью захвачен чтением и не замечает окружающего. А сам ждал, когда Спасов заговорит. Надоест же ему молчать. Не вытерпит. Так и получилось. Резко поднявшись с койки, Спасов прошелся по комнате и со злостью сказал: — Сволочи! Никогда на них не угодишь. Хоть из кожи лезь, все равно для них мы “русише швайне”. — Кого это ты благословляешь? — поинтересовался Николай Константинович с невинным видом. — Фиша, кого еще! Да и вообще всех немцев. — А-а… — Чего заакал? — Да так просто. — Ничего-то ты еще не знаешь. Почитываешь книжечки, воздухом дышишь в садочке… — Каждому свое. И Николай Константинович снова углубился в чтение, не обращая внимания на Спасова. Тот походил немного по комнате и снова начал: — Слушай, это между нами. Как другу скажу. — Валяй. Покороче только. Спасов сел на койку, помолчал, видимо собираясь с мыслями, и начал: — Ты, Николай, не глупый человек. Должен меня понять. В жизни каждый делает ошибки и много ошибок. Но бывает среди них одна такая, что всю судьбу наизнанку вывернет. А захочешь потом дело поправить — не выйдет. Все катится в тартарары, и ты летишь куда-то в бездонную яму. Не знаешь только, когда о землю твердую трахнешься так, что сам в лепешку и дух паршивый из тебя вон. Николай Константинович внимательно слушал пьяные разглагольствования Спасова, стараясь понять, куда тот клонит. — Давай без философии, — предложил он. — Какая там философия! — отмахнулся Спасов. — Не рассчитал я в сорок первом году, сделал свою главную ошибку в жизни. Думал, конец нам. Понимаешь? Все отступают, бегут, неразбериха вокруг. И я, конечно, бежал со всеми, только что “мамочка” не кричал. Тут немец и прихватил. Я растерялся, испугался — и лапы кверху. Майор Рудольф меня в лагере подобрал. Чуть с голоду не подох, совсем доходягой стал. С той поры и тяну лямку в абвере. Тонко они меня обхаживали поначалу! Рудольф даже неделю отпуска дал съездить к жене с детишками. Двое их у меня. А когда вернулся, направили через фронт с заданием. Сходил, выполнил, что приказали. Деваться-то некуда. Детишек у них заложниками оставил. Не вернулся — их исказнили бы. А я ведь чудом уцелел. Едва не пристрелили при переходе. Вот так и “работаю”. Бросить иногда хочется все это к дьяволу! Думаю к партизанам махнуть. Одну бабенку тут присмотрел. По-моему, она с лесом связана. Да вот все боюсь. Партизаны меня, может, и помилуют, а вот Рудольф, Фиш, Шиммель — никогда. Я сбегу — жене и детям капут. Вот такие, брат, дела. Спасов замолчал, подошел к буфету, налил стакан самогону и выпил. Николай Константинович размышлял. Спасов пьян, наболтал лишнего, но если он говорил откровенно, то его стоит попытаться привлечь на свою сторону. Он близок к Фиту, много знает, многое может сделать. Ну а вдруг это очередной “спектакль”, поставленный режиссером Шиммелем? — Вот что, — сухо сказал Никулин, — ты лучше ложись и проспись. А то несешь такое, что и вообразить нельзя. Того и гляди, бузить здесь начнешь. Офицеры за стеной услышат, попадет тебе. — Да не пьян я, — возражал Спасов. — Ни в одном глазу. Что я выпил? Чарку, Могу и больше выпить, а ума не потеряю. Наконец Спасов уснул. Но Никулину было не до сна. Николай Константинович не сомневался, что к Спасову его поселили не случайно. И вот теперь эта его исповедь. К чему бы он разоткровенничался? Разыгрывает дешевый провокационный трюк или действительно в смятение пришел? Обстановка на фронте изменилась. Немцы терпят поражение. А крысы, как известно, первыми бегут с тонущего корабля. На войне и типов, подобных Спасову, надо как-то использовать, чтобы вредить фашистам. Пусть искупают вину перед Родиной. Как же быть? Если Спасов провоцирует, необходимо немедленно доложить Фишу — вот, мол, какой я хороший! Ведь в этом случае промолчать — значит навлечь на себя лишнее подозрение. Но если Спасов действительно думает так, как сказал? Фиш его немедленно уберет. Как же поступить? Долго не спал в эту ночь Николай Константинович. До мелочей перебрал в памяти каждое событие, связанное со Спасовым, и пришел к выводу — не докладывать. Спросят — ответить, что к пьяной болтовне не прислушивался, книгу читал. А к Спасову тем временем присмотреться. Возможно, и высказал спьяну то, что накипело на сердце. Рано утром Спасов разбудил Никулина. — Ну, чего ты? — недовольно спросил Николай Константинович. — Проснись, разговор есть. — Отстань со своей болтовней, спать хочу. Никулин повернулся лицом к стене, всем своим видом показывая, что не намерен вступать в разговоры. Но Спасов не успокаивался. Он схватил Николая Константиновича за плечи и повернул лицом к себе. — Говорю, разговор есть! — Чего пристал как банный лист? — Ты вчерашний мой разговор выбрось из головы. Понял? Я и сам не помню, что спьяну молол. Когда выпью, всегда так. — Хорошо. Я пьяным речам не верю. А сейчас дай поспать. Никулин снова отвернулся к стене, натянул одеяло на голову. Спасов, видимо, еще что-то хотел сказать, потоптался у кровати, а затем громко сплюнул и ушел. Шли дни. Спасов уехал в командировку, и Николай Константинович остался в квартире один. Как-то утром его вызвал к себе капитан Фиш. В его кабинете сидел человек в форме старшего лейтенанта Советской Армии. — Этот человек, — сказал Фиш, — сегодня ночью пойдет в тыл русских. Я хочу, господин Никулин, чтобы вы рассказали ему в деталях о той дороге, которой вы прошли на нашу сторону. Он будет придерживаться того же маршрута. Надо его хорошо проинструктировать и подготовить. Задача ясна? — Ясна. — Тогда приступайте к делу. Пока нет Спасова, идите к себе на квартиру и начинайте работу. К вечеру доложите. Да, вот что. Посмотрите-ка его документы, в порядке ли они? Мы постараемся учесть ваши замечания. Николай Константинович посмотрел документы агента и нашел их в полном порядке. Затем он пошел с новым знакомым на свою квартиру. Никулин понимал, что все, видимо, складывается так, как и предполагалось. Немцы для проверки полученных сведений хотят послать в тыл советских войск других агентов по тому же маршруту, по которому шел и он. И вот ему поручен инструктаж агента. Что ж, следует постараться хорошенько подготовить его: чекисты небось заждались “желанного гостя”. Беседуя с агентом, Николай Константинович понял, что тот подготовлен неплохо, но, видимо, трусит, дрожит за свою шкуру, беспокоится, как бы его не убили при переходе линии фронта. Никулин изо всех сил убеждал его в безопасности перехода, в том, что в этом деле можно полностью положиться на капитана Фиша. Он был уверен, что шпиона обязательно встретят чекисты, и надеялся, что на допросе тот расскажет, кто и где готовил, назовет и имя Никулина. Для контрразведчиков важно узнать, где он, чтобы прислать на связь верного человека. А сведений у Никулина уже накопилось немало. Пора было думать о связи. Вечером Никулин доложил Фишу о проделанной работе. Капитан внимательно выслушал его, похвалил за усердие, и ночью шпион ушел на задание. Больше Николай Константинович его не видел. Возвратившись из командировки, Спасов сел перекусить. Ковырнув несколько раз ложкой в котелке, выругался. — Осточертел казарменный харч! Пойдем к моей партизанке, хоть поедим по-людски. Она меня встречает любезно. Видно, знает, где служу, вот и опасается как бы не разгневался. Пойдем, посидим у нее, выпьем. Никулин и сам намеревался познакомиться с той, кого Спасов называл партизанкой, но сейчас сделал вид, что никуда не хочет идти, устал. Спасов настаивал. И Никулин словно нехотя уступил. Вскоре они оказались на другом краю поселка, возле добротного дома с палисадником. Спасов, видно, не раз бывал здесь. Просунув руку в щель, он отодвинул засов и, отворив дверь, без стука вошел в сени. Еще с порога крикнул: — Ставь, хозяйка, самогон на стол. Сватать тебя пришли. Смотри, жених какой бравый! — Сейчас чего-нибудь сготовлю. Только уж не очень богата я, сам знаешь. — Ну-ну, хватит прибедняться. Давай хотя печеную картошку. Огурцы тоже, думаю, найдутся, а самогону я прихватил. Нам больше ничего и не надо. Хозяйка скрылась за ситцевой занавеской, наверное, переодевалась по случаю прибытия гостей и вскоре вышла к мужчинам. Это была рослая, средних лет женщина, с печальными глазами. Война, видимо, больно затронула ее. Преждевременные морщины залегли в углах рта и на лбу. Устремленный на Спасова тревожный взгляд выдавал ее волнение. На лице застыла заученная холодная улыбка. А глаза оставались печальными. — Знакомьтесь, — подтолкнул ее Спасов к Николаю Константиновичу. — Сима. — Николай Константинович. — Очень приятно. Будем знакомы. Она тут же отправилась на кухню и проворно принялась собирать ужин. Спасов развернул газету, выложил на стол колбасу, консервы, галеты, сахар. Ужин действительно получился совсем домашним. Хозяйка, не ломаясь, выпила вместе с гостями. Никулин наблюдал за ней. За ужином Сима почувствовала себя свободнее в компании мужчин, шутила, смеялась. Спасова она называла просто по имени и, видимо, нисколько не боялась. Эту перемену в ее поведении трудно было объяснить. Покончив с чаем, принялись играть в карты. Когда Спасов отлучился на минутку, Сима спросила: — Ну, как ваша холостяцкая жизнь, Николай? — Мне-то не привыкать, всю дорогу холостякую. А вот дружку моему похуже. Сам здесь, жена и дети где-то поблизости живут. И не поймешь — то ли холостой, то ли женатый. — Что? — удивилась Сима. — У Спасова здесь есть жена? Она же у него в Уфе. До нее не дотянешься. Немцы еще Башкирию не заняли, чтоб он мог в гости к ней ходить. Неужто какую зазнобу завел по соседству? Ах он, кобель!.. — Да нет же. Он вполне серьезно говорил, что у него семья под немцем осталась. Не захотели эвакуироваться. — Враки все. Что я его первый день знаю? Николай Константинович все понял. “Спектакль” окончен. Можно опускать занавес. Все, что Спасов болтал “под пьяную руку”, было заранее обдумано и обговорено с Фишем. И Сима так же далека от связи с партизанами, как ее любовник от Уфы. Да, подвели бездарные актеры своих режиссеров. Никулин, конечно, и вида не подал, что разгадал ход Фиша. Наоборот, едва Спасов вошел в избу, постарался увлечь всех игрой в карты. Просидели далеко за полночь. Спал Николай Константинович тревожно. В том, что его будут проверять, он не сомневался. Догадывался и о роли Спасова в этом деле. А сейчас убедился, что рядом живет человек, от которого можно ожидать удара в любой момент. Трудно оставаться равнодушным к опасностям, как бы ты ни готовил себя к встрече с ними. Спасов же был абсолютно спокоен. Он сразу уснул, и.его ровное, глубокое дыхание слышалось по всей квартире. Невыразимое отвращение испытывал к нему Никулин. Ему, чекисту, приходилось играть роль единомышленника и друга этого мерзавца, жить с ним в одной комнате, слышать его храп. Утром, сразу же после завтрака, Никулин явился к Фишу и попросил принять его по важному вопросу. — Господин капитан, — начал Никулин. — На переправочном пункте я встретил человека, который готовится уйти к партизанам. Фиш сразу насторожился, сурово посмотрел на Никулина. Лицо стало жестким, словно окаменело. — Кто? — выдохнул он. — Спасов. Николай Константинович смотрел в глаза Фишу, стараясь уловить малейшее изменение в настроении немецкого разведчика. Но Фиш умел скрывать свои чувства. Лицо его выразило сложную гамму переживаний, никак не связанных с его настоящими мыслями, — изумление, недоумение, недоверие. — Не может быть! Вы ошиблись, господин Никулин. Нельзя обвинять человека на основании простых догадок. — Мне Спасов говорил, что знаком с женщиной, которая готовит ему побег к партизанам. Я был с ним у нее в доме. Они очень близки, Господин капитан. Если в такой обстановке начнутся провалы наших людей за линией фронта… Николай Константинович многозначительно замолчал. Капитан Фиш спокойно и пристально, со льдинкой в глазах рассматривал его и молчал. Никулин вынужден был продолжать: — Господин капитан, положение настолько серьезно, что я считаю своим долгом доложить обо всем происходящем здесь господину подполковнику Шиммелю. Держать Спасова на переправочном пункте опасно! — Благодарю вас за сообщение, господин Никулин. Подполковнику Шиммелю я доложу обо всем сам. По дороге в столовую Николай Константинович как-то встретил Курынова. Они скрывали свое близкое знакомство, да и обстановка не благоприятствовала задушевному разговору, но несколько фраз, которыми обменялись друзья, придали обоим новые силы. — Здравствуйте, Николай Константинович, — сказал Курынов. — Я думал, вы уже давно на той стороне с заданием абвера. — Задание выполнил. — Так вы вернулись? — изумился Курынов, с недоумением, подозрением, угрозой глядя на Никулина. — Как же так? Столько говорили о переходе к своим, а сами взяли и вернулись? Что это значит? — Не волнуйся, дружище, так надо. Смело иди через фронт. Наши о тебе знают, ждут. Проси, чтобы доложили о твоем прибытии генералу Быстрову. Скажи, что пришел с приветом от Пограничника. Это — пароль. — Генерал Быстров, — повторил Курынов. — Понял. — Кто идет с тобой? — Еще двое. — Знаешь их хорошо? — Радист — парень надежный. Не дождется, когда к своим вернется. А вот старший группы — сволочь. — Будет артачиться — ликвидируйте. Если сумеете, доставьте живым к генералу Быстрову. Друзья разошлись, взволнованные важностью предстоящих событий. Николай Константинович был рад, что дела у него пока идут хорошо. Что случится дальше — никто не знает, но сейчас хваленые немецкие разведчики проигрывают в борьбе с ним, чекистом, с его помощниками — советскими людьми, настоящими патриотами. В это время капитан Фиш докладывал Шиммелю о результатах наблюдения за агентом Никулиным. Начальник “Абверкоманды-104” слушал внимательно, вдумчиво. Это заметно было по пытливому взгляду, необычной сдержанности, хотя Шиммель сидел развалившись в кресле, в привычной небрежной позе. — Все, что было вами предусмотрено, я выполнил точно, — говорил Фиш. — Вы знаете, господин подполковник, что Никулина изучал наш лучший агент Спасов. — Спасов, Спасов! Только и слышу про него, — с раздражением прервал Шиммель. — У вас этот человек делает буквально все. Он готовит агентуру, он инструктирует и проверяет ее, он сопровождает агентов к передовой. Можно подумать, что кроме вас и Спасова на переправочном пункте больше никого нет. А что делают офицеры — этого от вас не услышишь. Спасов с языка не сходит! Шиммель знал, что капитан Фиш авторитетом среди офицеров переправочного пункта не пользуется. Отношения между ними натянутые. Поэтому Фиш и приблизил к себе Спасова как незаменимого специалиста, хотя и видел, что тот — авантюрист, проходимец и большой подхалим. — Простите, господин подполковник, но Никулиным все-таки занимался именно Спасов, и я вынужден об этом докладывать. Вы знаете, что Спасов проверенный во всех отношениях человек. В лагере военнопленных он был хорошим агентом. На его счету несколько выявленных комиссаров, два чекиста. Я уж не говорю о других, менее интересных лицах. Наконец, его трижды перебрасывали в тыл к русским, и он успешно выполнял задания, награжден “Бронзовой медалью с мечами”. Другого человека с подобными заслугами перед великой Германией на переправочном пункте нет. Вот почему серьезные дела я поручаю Спасову. Шиммель изучил Спасова не хуже, чем Фиш. Знал его по лагерям, по разведшколе, помнил отличный отзыв Рудольфа. Капитан Фиш был прав: многие вопросы никто не мог решить лучше Спасова. Но, несмотря на это, раздражение не покидало Шиммеля. Фиш продолжал: — Спасов выдавал себя за человека, который разочаровался в нас и готов бежать к партизанам. Если Никулин подослан к нам чекистами, он должен был бы ухватиться за Спасова, привлечь его к работе на русских… — Чем все это кончилось? — снова прервал Шиммель, хотя уже догадался, что Фиш и Спасов перестарались и провалили проверку. Докладывать об этом капитан не решался, видя раздражение начальника. — Никулин хорошо показал себя, — осторожно сказал Фиш. — Он пришел ко мне и заявил, что Спасов хочет бежать к партизанам и его нельзя держать на переправочном пункте. — Этого и следовало ожидать, господин Фиш, — с возмущением заключил Шиммель. — Ваш Спасов мог легко работать в лагерях. Большого труда не стоит добыть нужные сведения от людей неопытных, изнуренных лишениями лагерной жизни. Там он действовал безошибочно. Да и проверял ли кто-нибудь его доносы? Он мог любого назвать комиссаром или чекистом, ему верили. А вот теперь, когда пришлось иметь дело с опытным человеком, ваш хваленый Спасов с этой потаскухой Симой, которую вы тоже считаете своим лучшим агентом, сели в калошу, как говорят русские. Слыхали такое выражение? Если бы речь шла только о Никулине… Но мне нужно достоверно знать, насколько точны принесенные им данные. Я не могу доверять каждому русскому, особенно если его можно заподозрить в связях с чекистами! — Я не вижу оснований подозревать Никулина, — возразил Фиш. — Его поведение свидетельствует о том, что он верно служит великой Германии. Как вы приказали, я подослал к нему нашего человека под видом агента, который отправляется на выполнение задания в тыл к русским. Если Никулин подослан чекистами, то он обязательно воспользовался бы услугами этого агента для связи с советской контрразведкой. Но Никулин самым скрупулезным образом проинструктировал его, до мельчайших подробностей описал путь своего следования, воодушевляя на выполнение задания. Это тоже надо учитывать. Если бы Николаю Константиновичу каким-либо образом удалось подслушать этот разговор, он непременно обругал бы себя за излишнюю самоуверенность. Как он ликовал, полагая, что Фиш поручил ему инструктировать и готовить агента, направляющегося в тыл советских войск! Оказывается, Шиммель и Фиш подсунули приманку, на которую надеялись его поймать. Никулин, правда, ничем не выдал себя, но все же разгадать замысел своих противников не смог. — Все, что вы рассказали здесь, — заметил Шиммель, — довольно интересно. Но все же, господин капитан, не слишком обольщайтесь насчет Никулина. А Спасова и его напарницу с переправочного пункта немедленно уберите!Глава восьмая Операция “гости”
Подполковник Сосницын и капитан Маковенко готовились встречать агентуру Шиммеля. Они ждали “гостей” со дня на день и торопились до мелочей выполнить все, что предусмотрено планом. Работы было много. Прибыв на передовую, чекисты исползали буквально каждый метр предполагаемого участка перехода линии фронта. Им приходилось рисковать жизнью, чтобы вражеский агент без помех проник в наш тыл. Странное положение для чекистов! Капитан Маковенко даже пошутил: — Думаю я, товарищ подполковник, что если мы с вами будем и дальше так трудиться, то агентура немцев заживет очень вольготно. Честное слово. Ни один волос с головы мерзавцев не упадет. Надо же так — чуть ли не ковровую дорожку через передовую расстилаем перед ними. Вдоль всего пути, по которому чекисты хотели провести лазутчика, они расставили участников операции. В лесной чащобе спешно рылись землянки. В одних размещались солдаты и офицеры, выдававшие себя за военнослужащих двести двадцать седьмой стрелковой дивизии и сто сорок второй отдельной морской бригады. Другие землянки, числом побольше — пустовали. Чекисты называли их “потемкинской деревней”. В тылу, подальше от передовой, а также в населенных пунктах Гентелово, Мордовщина, Лендовщина командование фронта потеснило расквартированные там части и выделило для чекистских подразделений отдельные дома. В Гентелово даже организовали продовольственный пункт, где немецкий агент по замыслу чекистов должен был стать на довольствие. На передовой капитан Маковенко устроился в одной из землянок под видом командира роты: генерал Быстров поручил ему встретить агента и провести по подготовленному маршруту. Шли дни. Чекисты уже теряли терпение, а с той стороны никто не появлялся. Маковенко не находил себе места. Неужели противник перехитрил их? Капитан организовал тщательное наблюдение за окопами немцев и ничейной землей, сам целый день просидел в “секрете”, остался там и на ночь, но не обнаружил ничего такого, что могло бы свидетельствовать о готовящемся переходе немецкой агентуры через линию фронта. — Терпение, товарищи, главное — терпение, — успокаивал подчиненных генерал Быстров. — Чекист должен уметь выжидать. Говоря откровенно, у самого генерала на душе тоже было неспокойно. Наши войска вот-вот начнут наступление, а немцы ничего не предпринимали на этом участке фронта. Но вот пришел день, которого так ждали чекисты. После длительной воздушной разведки предполагаемого района сосредоточения советских войск немцы обрушили на него сильнейшие бомбовые удары. Большие группы самолетов упорно пытались преодолеть стену заградительного зенитно-артиллерийского огня, вели ожесточенные бои с советскими истребителями. Немногим удалось пробиться к охраняемому району и отбомбиться. Но следом волна за волной подходили все новые и новые воздушные эскадры. В промежутках между бомбежками по району вела огонь дальнобойная немецкая артиллерия. Свыше недели немцы бомбили и обстреливали… пустое место. Обрадованный тем, что удалось обмануть гитлеровцев, капитан Маковенко в кругу своих товарищей шутливо предлагал оградить район бомбежки и артобстрела колючей проволокой и выставить предупредительные надписи: “Осторожно! На этом полигоне немцы упражняются в стрельбе и бомбометании”. Однажды ранним утром, когда артобстрел и бомбежка утихли, контрразведчики заметили подозрительную возню возле “окна”, открытого для перехода агентуры. Немцы внимательно изучали этот участок. “Теперь жди “гостей”, — решили чекисты и не ошиблись. Человек в форме старшего лейтенанта Красной Армии перешел линию фронта. С обеих сторон не раздалось ни одного выстрела. Капитан Маковенко немало поволновался, готовясь к встрече подопечного. Он мысленно прикидывал, как пойдет с агентом по маршруту, какие примет меры, чтобы ввести его в заблуждение. Но каково же было удивление чекиста, когда солдаты ввели к нему в землянку незнакомого офицера и тот заявил Маковенко: — Прошу связаться с контрразведкой и доложить, что я прибыл от немцев с разведывательным заданием. Но я не хочу воевать против своих и явился с повинной. Сдаю вам оружие и документы. Я не Стрельников, как указано в этой “липе”, а Иконников Иван Сазонович, уроженец Куйбышевской области. Остальное доложу чекистам. Такого поворота событий Маковенко никак не ожидал. С недоумением и даже с некоторой растерянностью он выслушал незнакомца и долгое время молчал, пристально разглядывая сдавшегося лазутчика. Среднего роста, широкоплечий, с невозмутимым лицом, он стоял перед чекистом, без тени волнения позволяя рассматривать себя. Всем своим обликом он как бы говорил Маковенко: “Рассматриваешь? Ну-ну, рассматривай. Мне скрывать нечего. Совесть моя чиста”. Капитан Маковенко обратил внимание на большой шрам на голове незнакомца, протянувшийся от левого виска до уха. — Где это вас так? — спросил Маковенко, чтобы разрядить затянувшееся молчание. Иконников с готовностью ответил: — Это еще в сорок первом под Смоленском немецкий осколок царапнул. Чуть бы правее — и пропал. А так в медсанбате отлежался. Не хотел в госпиталь уезжать. Тяжело было на фронте. Не до лечения. Да это что — пустяк, царапина. Только с виду страшно. А вот под Москвой меня под сердце тюкнуло. И дырочка невелика, а без сознания свалился. Спасибо, мужички наши подобрали, выходили. От смерти меня уберегли, а вот от немцев скрыться не удалось. Я в партизаны собрался. Да по дороге в лес патруль перехватил. Загнали меня в участок, три дня пытали — кто я, да откуда, и зачем пожаловал. Ну, а потом известно — лагерь, вербовщик… Да, пришлось пережить. Мяла меня судьба, трепала, зато теперь муки кончились. Капитан Маковенко с сочувствием поглядел на взволнованного человека. Он вызывал у чекиста определенную симпатию, которая усиливалась тем, что Иконников чем-то напоминал ему Никулина. То ли спокойным, изучающим взглядом серых глаз, то ли умением держать себя просто, скромно, но с чувством собственного достоинство. “Так, так, — думал капитан, продолжая слушать и рассматривать Иконникова. — Парень ты, может, и хороший, а вот операцию нам сорвал…” Но делать нечего. О случившемся надо докладывать подполковнику Сосницыну. “Вот не повезло!” — еще раз вздохнул Маковенко, представив себе выражение лица подполковника после доклада о случившемся, и снял телефонную трубку. Теперь приходилось срочно вносить существенные коррективы в столь тщательно разработанные планы. Были основания подозревать, что абверовцы предпринимают свои контрмеры, мешают осуществлению наших замыслов. Возможно, и с появлением Иконникова связан какой-то трюк? Капитан Маковенко был убежден, что в немецкие разведшколы пришло много людей, которые, подобно Никулину, хотели использовать этот путь, чтобы перебраться к своим. Он считал, что Иконников в душе остался патриотом и самое лучшее, что можно сделать в сложившейся обстановке, — это послать его к немцам с такой же задачей, какая была дана Никулину. С таким предложением он и шел на совещание к генералу Быстрову. — Наши прогнозы, судя по всему, не оправдались, — начал Быстров, обращаясь к Сосницыну и Маковенко. — Противник заставил нас решать совершенно новую, неожиданную для нас задачу. Как быть дальше? Прошу высказать свое мнение. Сосницын молчал. Маковенко тоже не торопился высказаться. В кабинете воцарилась тишина. Генерал заметил: — Что ж, так и будем играть в молчанку? Ваше мнение, товарищ капитан? — Простите, товарищ генерал, но я свое мнение по данному варианту докладывал на прошлом совещании. Я предвидел возможность явки агента с повинной. Думаю, что будет правильно послать Иконникова назад к немцам, снабдив его такой же дезинформацией, как и Никулина. Он наш человек. Воевал с немцами, был дважды ранен. А это многое значит… — Заманчиво, но поспешно, — возразил Сосницын. Маковенко вопросительно поглядел на него, и подполковник повторил: — Заманчиво, говорю. Одним махом все задачи решим: и Никулина поддержим, и дезинформацию подкрепим, и абвер переиграем. Очень интересно получается. Да только слишком просто. Вроде кто-то разжевал все и нам в рот положил — глотайте, мол. В таком деле поспешность недопустима. Возвращать Иконникова к немцам без обстоятельной проверки, как это вы предлагаете, нельзя. — Так время же не ждет! — Вижу, что на этот раз у вас нет единого мнения, — прервал полемику генерал Быстрой. — Давайте договоримся так. Довериться Иконникову мы пока что не можем. Все-таки неизвестный нам человек, с той стороны… Раны, полученные в сражениях за Родину, — доказательство весомое. В этом капитан прав. Но и Сосницын не ошибается, говоря, что изучить Иконникова надо. Нет никакой гарантии того, что этот агент не послан абверовцами для проверки принесенных Никулиным данных. Да-да. Вполне возможно, что немецкая разведка специально послала к нам Иконникова, чтобы он явился с повинной. Наш противник рассчитывает: авось мы поверим Иконникову, снабдим его дезинформацией и вернем назад. Не трудно представить, в какое положение мы поставим своего человека. Он доложил, что сам наблюдал концентрацию войск на Черной речке, а Иконников придет к немцам и принесет те же данные, но полученные от нас с вами. Это кончится полным провалом всех планов командования фронта. Как видите, товарищ Маковенко, не исключено и такое положение, что фашисты нам предлагают именно то, что и вы. Капитан даже покраснел от негодования. — Я не хотел вас обидеть, — примирительно сказал Быстров. — Однако мы должны подготовить себя ко всяким неожиданностям. — Это, конечно, так, — согласился успокоенный Маковенко. — Товарищ подполковник, — обратился генерал к Сосницыну, — доложите, что сделано для проверки Иконникова, что еще собираетесь сделать? — Я, товарищ генерал, связался с Куйбышевым и просил срочно проверить все, что сообщил Иконников о себе. Он ведь родом оттуда, если не наврал. Товарищи обещали сделать все, что нужно, в самые короткие сроки. Сейчас с Иконниковым работает следователь Мокшин. Лично я с перебежчиком разговаривал дважды. Производит впечатление чистосердечного и откровенного человека. Но все же нужно подождать ответа из Куйбышева. — Простое подтверждение того, что Иван Сазонович Иконников жил в области до призыва в армию, нас не устроит, — заметил Быстров. — Сейчас война, и у немцев документов на наших людей предостаточно. Они могли настоящего Иконникова убить, а с его документами прислать к нам своего агента. Так что письменный ответ из Куйбышева может ничего нам не дать. Я сам позвоню туда и попрошу, чтобы к нам прислали какого-либо старожила из того села, где родился и вырос Иконников. Дадим возможность встретиться землякам и односельчанам, пусть потолкуют. Если наш знакомец выдает себя за Иконникова и действует по составленной немцами легенде, то все это сразу раскроется. Правильно, товарищ Маковенко? — Так точно, — откликнулся капитан. — Вот когда убедимся, что задержанный действительно является Иконниковым, а не Сазоновым или Григорьевым и он в самом деле хочет искупить вину перед Родиной, тогда подумаем и о вашем предложении, товарищ Маковенко. — А пока, товарищ Сосницын, — обратился генерал к подполковнику, — внимательно наблюдайте за Иконниковым. Денька через два–три, когда срок его пребывания у нас начнет истекать, он зашевелится. Если Иконникова подослали к нам немцы, он сам начнет проявлять активность, даст понять о своей готовности работать на той стороне. После разговора у генерала Быстрова капитан Маковенко снова уехал на передовую. Чекисты предполагали, что Шиммель не ограничится посылкой лишь одного агента для проверки Никулина, а потому по-прежнему на передовой все было готово к приему “гостей”. Подполковник Сосницын остался в штабе фронта и занялся изучением Иконникова. Чекист внимательно сравнивал протоколы допросов, беседовал с перебежчиком, но, несмотря на всю свою настороженность, не мог уловить в рассказе Иконникова мало-мальски сомнительного места. Сосницын начал даже колебаться: а что, если он напрасно подозревает честного человека, столько пережившего в немецких лагерях, пролившего кровь за Родину? Но пришел час, когда все сомнения его рассеялись. Иконников заявил: — Вижу, что не доверяете вы мне, товарищ подполковник. Обидно это. Что из того, что я был в плену? Не я один такой. Не по своей воле сдался — раненного подобрали, бел сознания. Какой же я предатель, почему мне веры нет? Ведь я жизни не щадил в боях. Да и сейчас готов за Родину живот положить. Только прикажите! Любое задание выполню. Немцы мне доверяют, я у них почти что своим человеком стал. Таких бы там дел натворил, что только держись! Подполковник Сосницын чуть не ахнул. Попался-таки хитрец! Оказывается, прав был генерал Быстров. Вот как заговорил, когда пришло время возвращаться к своим. Сделав вид, что абсолютно не заинтересован предложением Иконникова, Сосницын доброжелательно ответил: — Зачем же вам снова в этот ад возвращаться? Вы и так много натерпелись. Или хочется судьбу попытать? — Не подумайте, что я напрашиваюсь, — забеспокоился Иконников. — Просто душа болит, как подумаю, что доверия мне нет. А я ведь что угодно сделаю, лишь бы пятно с себя смыть. …Куйбышевские чекисты постарались. Они прислали генералу Быстрову не просто земляка Ивана Иконникова, а его родного брата Петра. Оказалось, что еще в сорок первом году в деревне получили извещение о том, что Иконников Иван Сазонович пропал без вести. Долго горевали старики, но что поделаешь — пришлось смириться с потерей. Знать, не судьба с сыном увидеться. И вот теперь он вдруг появился. Радости родителей и родственников не было предела, когда они получили приглашение поехать на фронт повидаться с Иваном Иконниковым. Беспокоило лишь то, что приглашение исходило от чекистов.Не иначе, как Иван натворил чего. На семейном совете решили послать в Ленинград старшего брата Петра, недавно демобилизованного из армии после тяжелого ранения. В самолете, в котором летел Петр до Ленинграда, было холодно, неуютно. Петр всю дорогу думал о своем младшем брате Иване. Красивый был парень, гармонист, заводила. Вся деревня его любила. А уж от девчат отбою не было. Когда в армию добровольно уходил, одних кисетов чуть не два десятка подарили. Петр сам видел в сундуке. Хранит мать как память о младшем сыне. Петр Иконников живо представил себе встречу с братом. Входит он в комнату, здоровается честь по чести, спрашивает: “Иконникова Ивана Сазоновича как можно видеть? Скажите, братец, мол, к нему пожаловал”. И проведут его к Ивану. А дальше все хорошо будет. Домой поедут, к матери, к отцу. От приятных размышлений Петра Иконникова отвлек резкий стук пулемета. Воздушный стрелок, всю дорогу качавшийся на широкой брезентовой лямке в круглой прозрачной башне, внезапно развернул турель и открыл огонь из крупнокалиберного пулемета по невидимому для пассажиров противнику. Со звоном падали на металлический настил большие медные гильзы. Петр потрогал одну рукой. Горячая! Такой вот, наверное, была и та разрывная пуля, которая раздробила ему руку повыше локтя, сделала инвалидом. Самолет лег на левое крыло и круто пошел вниз. В замерзшее окошечко можно было разглядеть неясные силуэты больших зданий, ровные коробки городских кварталов. — Ленинград, — сказал сопровождающий Иконникова чекист. — Идем на посадку. На аэродроме Петра встретил подполковник Сосницын. Усадив его в срою “эмку”, приказал шоферу везти их в гостиницу. Иконников взволновался: — Зачем в гостиницу, товарищ подполковник? Меня бы к брату скорей. — Успеем и к брату. А вам с дороги отдохнуть надо. Небось суток двое не спали? — Не до сна тут, когда радость такая — брат нашелся! Он ведь плохого ничего не сделал? — Пока не виним, — улыбнулся подполковник. — А подробности вы сегодня вечером узнаете, когда с братом встретитесь. Вечером в кабинете подполковника Сосницына собралось несколько офицеров, по-видимому незнакомых между собой. Они сидели на расставленных вдоль стены стульях и молчали. Среди них было несколько работников комендатуры и тот, кто назвал себя Иваном Иконниковым. Подполковник Сосницын сидел за письменным столом и тоже молчал, словно ожидая кого-то. В дверь постучали. Вошел дежурный и доложил: — Товарищ подполковник, к вам… — Приглашайте, приглашайте! В кабинет вошел Петр Иконников. Мельком оглядев собравшихся, он с беспокойством спросил: — А брат? — Здесь он, здесь сидит, — спокойно ответил Сосницын. — Присмотритесь внимательней. Петр Иконников с недоумением посмотрел на подполковника, потом медленно, с большой внутренней тревогой, отразившейся на лице, обвел глазами сидевших вдоль стены офицеров. Ивана среди них не было. Офицеры спокойно встречали испытующий взгляд Петра Иконникова. Лишь один из них побледнел, опустил голову. Что-то знакомое почудилось Петру в очертаниях крупной головы, в мясистых, точно из сырой глины вылепленных ушах. Как будто давно он где-то видел этого человека… Но где? Впрочем, какое это имеет значение. Отогнав мелькнувшее воспоминание, Петр Сазонович снова повернулся к подполковнику Сосницыну и с обидой в голосе негромко произнес: — Зачем же вы так?.. Нет здесь брата моего, Ивана… Лицо подполковника стало жестким, холодным. Пристально глядя на съежившегося в углу человека, он сказал, отчеканивая каждую фразу: — А нас хотели уверить, что есть. Что ж, раз вы не признаете своего брата, придется вас заново знакомить. Иконников Иван, встаньте! Старший лейтенант, сидевший в углу, медленно встал. Округлившиеся глаза его на бледном, как снег, лице с тоскливым ожиданием глядели на Петра Сазоновича. Петр пристально вглядывался в того, кто назвался его братом. — Ты… ты… — несвязно бормотал он, подходя к старшему лейтенанту. Рослый, широкоплечий парень внезапно съежился, сжался. Сейчас, рядом с гигантской фигурой однорукого силача-молотобойца, он казался подростком. Шпион с ужасом смотрел на приближающегося к нему человека. А Петр, задыхаясь от охватившей его ярости, огромной ручищей сгреб самозванца за грудки и тряс его так, что у того лязгали зубы, а воротник гимнастерки удавкой сдавил шею. — Опомнитесь, Петр Сазонович! — крикнул Сосницын. — Вы же задушите его. Смотрите, он уже хрипит! Офицеры с трудом отняли лазутчика, усадили его в угол. — Узнал я этого гада! — прерывающимся от ярости голосом произнес Петр Сазонович. — Я столько лет не видал его, а вот узнал. Витошкин — личность известная. Отец его кулаком был, всю деревню поедом ел. А когда колхоз организовался, в председателя из обреза палил. Загубил человека, сволочь. И сам в тюрьме сдох. Да только матерый волк после себя подъярка оставил. Ишь щерится, так бы и кинулся! — Ничего, — успокоил Петра Иконникова подполковник. — Теперь он никогда и никому не сможет вреда причинить. Вам спасибо. Помогли опасного зверя распознать. А брата вашего теперь ждать домой наверняка не приходится. Вне всякого сомнения, он погиб. Распорядившись увести Витошкина, распрощавшись с Иконниковым и офицерами, приглашенными на опознание, Сосницын вызвал к себе приехавшего с передовой Маковенко и спросил: — Ну, что будем делать с нашим “гостем”? — Дал я промашку, — чистосердечно признался капитан. — Я и сам ему было поверил, — отмахнулся подполковник. — Хитер подлец, ничего не скажешь. Спрашиваю, что дальше с ним делать будем? Надо ведь ему за все преступления счет предъявить, чтобы расплатился полной мерой. — Помнится мне, — задумчиво произнес Маковенко, — что в докладе Никулина упоминается о каком-то Витошкине. Надо посмотреть. Затребовав необходимые документы, чекисты внимательно перечитали толстую пачку отпечатанных на машинке листков. В донесении Николая Константиновича действительно упоминалось имя Витошкина. Затаив лютую злобу против Советской власти, Витошкин в первые же дни войны перебежал к немцам и служил им, как верный пес своему хозяину. В Рижском лагере военнопленных он носил фамилию Стрельникова, был полицейским. Затем окончил разведшколу абвера и хорошо выполнил несколько заданий. Федора Витошкина в лагере опознал его односельчанин и ровесник Иконников. Бандит убил честного советского патриота. И теперь, когда пошел на новое задание, решил воспользоваться его именем. Рассчитывал, что так легче будет обмануть нас. — А как же его ранения? — поинтересовался генерал, когда Сосницын доложил ему о завершении следствия. — Витошкин несколько раз участвовал в карательных операциях против партизан в Белоруссии. Там и ранен и был. — Что ж, этого вполне достаточно, — сказал Быстров. — А как чувствует себя Петр Сазонович Иконников? — Он этого Витошкина чуть было не задушил. Еле отняли. Теперь, кажется, успокоился. Нелегко ему было узнать о гибели брата. — Это можно понять. Устройте Петра Сазоновича получше, пусть отдохнет. Домой отправим самолетом. Разясните ему, что его брат был честным человеком. А этого Стрельникова–Иконникова–Витошкина будет судить военный трибунал. Он не уйдет от возмездия. …Шиммель в эти дни ходил мрачнее тучи. Подчиненные старались не попадаться ему на глаза. Для “Абверкоманды-104” наступили черные дни. Штаб группы настоятельно требовал от него подтверждения полученных от Никулина сведений, но довести проверку до конца не удавалось. Пропал без следа Стрельников-Иконников. Видимо, русские не поверили ему и не вернули назад. Пропал способный и надежный агент. Как умело играл он свою роль, репетируя легенду, с каким достоинством носил следы боевых ранений, как умел расположить собеседника к доверию! Сколько раз сам Шиммель инструктировал его о поведении у советских контрразведчиков, репетировал с ним! Казалось, все предусмотрели, отработали до мелочи. И вот на тебе — провал! Шиммель был уверен, что основательно и всесторонне подготовил Иконникова к порученной ему роли. Единственное слабое место в легенде своего агента он видел в том, что Иконников и его родственники проживали на Волге, на территории, не занятой немцами. Это позволяло организовать детальную проверку показаний агента. Для абверовцев было бы лучше, если бы Иконников проживал в оккупированных областях Советского Союза. Тогда никакое следствие не было бы страшно. Но, посоветовавшись между собой, Шиммель, Баун и Рудольф решили, что быстро развивающиеся события на фронте не позволят контрразведчикам по-настоящему заняться Иконниковым. Пошлют на место прежнего жительства запрос, получат ответ, подтверждающий, что действительно был на селе такой Иконников Иван Сазонович, да пропал без вести. Ему и поверят. И абверовцы решили рискнуть. А Шиммеля все время торопили: из “Штаба Валли” звонили, требовали ускорить проверку представленных в штаб группы сведений. Баун конфиденциально предупредил Шиммеля, что в результатах проверки заинтересован сам адмирал Канарис. Надо торопиться. Шиммель вызвал к себе капитана Фиша. — Не вернулся Иконников? — Нет, господин подполковник. И на передовой в районе “окна” не видно никаких признаков подготовки его перехода через линию фронта. Абсолютная тишина. — Нужно готовить нового агента по маршруту Никулина. Кого предлагает подполковник Рудольф? — Он прислал к нам на переправочный пункт нескольких агентов. Среди них — Аббас, которого готовили в одиночку. Прибыла и группа диверсантов “Буран” с радистом. Они проходят окончательную подготовку на переправочном пункте. — Очень хорошо. Что собой представляет Аббас? Капитан Фиш хорошо знал этого человека и с омерзением относился к нему, хотя и ценил его способность везде пролезть, все пронюхать. Юркий, настороженный, он повсюду поспевал, все замечал. Неуживчивый, мстительный, вероломный и подлый, он ненавидел все и всех, даже своих многочисленных любовниц. Аббас не пил, не курил, но к женщинам испытывал неодолимое стремление. Для удовлетворения своей похоти он не останавливался ни перед насилием, ни перед убийством. Немцы сквозь пальцы смотрели на эти “маленькие шалости”. Они доверяли Аббасу и дорожили им. Поэтому капитан Фиш ни словом не упомянул о “художествах” Аббаса в своем докладе. Он постарался выпятить совсем другое: — Аббасу сорок восемь лет. По национальности — турок. В Россию прибыл еще до революции, жил в Средней Азии. В тридцать первом году пытался нелегально возвратиться в Турцию с разведданными о советских войсках в Средней Азии. На границе был задержан. Все записи сумел уничтожить. Осужден на пять лет за попытку нелегально перейти границу. Из тюрьмы бежал, снова был задержан, получил дополнительно три года. На фронте в сорок первом году добровольно сдался в плен. Прошел повышенную разведывательную подготовку, дважды ходил в тыл к русским, задания выполнял усердно. Лично расстреливал разоблаченных советских агентов. Владеет языками народов среднеазиатских республик, турецким и русским. — Анкета неплохая, — заметил Шиммель. — Такого нам и надо. Если Аббас готов, сегодня же отправляйте. А группу “Буран” представите мне завтра. Мы выбросим ее на парашютах, с задачей взять под контроль дороги, ведущие от Ораниенбаума к Усть-Рудице и далее на север и северо-запад. Если русские действительно сосредоточивают там силы, то от Ораниенбаума могут перевозить их только этой дорогой, и мы в нужный момент сорвем перевозки. Кроме того, сумеем получить ключи к Никулину. Вы понимаете? — Понимаю. — Целая дивизия и морская бригада не могли пройти на “пятачок” незамеченными, — рассуждал Шиммель. — Их видели жители, солдаты. Если наши агенты хорошо поработают, то они найдут там болтунов, которые расскажут о происходившем передвижении войск. Болтуны всегда имелись и имеются сейчас, их только нужно уметь находить. — Совершенно верно, господин подполковник, — подтвердил Фиш. — Если же передвижение войск идет и сейчас, то агенты все сами увидят и донесут мне. Итак, завтра группа “Буран” пойдет за линию фронта. Точно в указанное время с Псковского аэродрома темной ночью поднялся самолет и взял курс на северо-восток. На борту находилась группа немецких агентов “Буран”, в которой радистом был Иван Курынов. …А капитан Маковенко дневал и ночевал в районе “окна”. Десятки глаз, вооруженных биноклями, стереотрубами, артиллерийскими буссолями буквально прощупывали каждый метр ничейной земли. Чутье подсказывало чекистам, что враг где-то близко. Он притаился и ждет… Томительно тянулись темные сентябрьские ночи. Уже начало холодать. Почти беспрерывно моросили унылые осенние дожди. Терпеливо мокли наблюдатели в своих засадах. Ждал условного сигнала капитан Маковенко. И вот однажды на рассвете дежурный наблюдатель, сдерживая волнение в голосе, доложил: — Неизвестный в форме капитана перешел линию фронта. Направился к дороге на Гентелово. Идет лесом. На шоссе выйдет у восьмого километра. Там заканчивается тропинка через заболоченный участок. Через несколько минут Маковенко был на восьмом километре. Километрах в двух от него, за поворотом, дорогу перегородил патруль чекистов. Шоферам машин, идущих на Гентелово, давался строжайший приказ: ни одного человека, кто бы он ни был, не подвозить, машину не останавливать. Капитан Маковенко “случайно” встретился с Аббасом на обочине. Оба “голосовали”, пытаясь остановить попутную машину. И обоим не везло: грузовики стремительно проносились мимо, водители не обращали внимания на отчаянные жесты офицеров. — Вот незадача! — пожаловался Маковенко. — Вызвали меня в штаб армии орден получать, а тут как на грех с транспортом кавардак получается. Никак не остановишь. Того и гляди, опоздаешь, будет вместо ордена фитиль от начальства. Так на попутных до штаба армии и за неделю не доберешься. — И у меня такая же беда, — откликнулся Аббас. — Послали меня, понимаешь, по частям всякий хим-дым проверять — хватает ли противогазов, дымовых шашек и прочего хозяйства. Я рад командировке был. Старый друг у меня где-то здесь в семьдесят первой бригаде служит. Рашидов фамилия ему. Вот, думаю, повезло. Друга повидаю! Спешил как угорелый. На четыре дня раньше срока все дела сделал. Дал задание людям, сказал, что вернусь на передовую, проверю, а сам — в путь. И вот тоже застрял. — Выходит, друзья по несчастью. Будем знакомы. Кравчук, — назвался чекист. — Капитан Меджидов, — радостно осклабился Аббас. — Нам, случайно, не по пути? — Вообще-то до расположения семьдесят первой бригады мы будем попутчиками, но мне ехать немного дальше. Кстати, почему вы думаете, что друг ваш именно в этой бригаде? В письмах-то он может только номер полевой почты сообщить? — Есть тут одно обстоятельство. Приятель мой, бывший моряк, с корабля на сушу воевать пошел. А семьдесят первая бригада, на передовой говорили, к десанту готовится. В морской десант сухопутчика не пошлют. Вот я и решил, что где-то здесь он, мой друг Осман Рашидов. — Ну, приятель, ориентиры у тебя неважные. Моряков на “пятачке” сейчас столько собралось, что запутаешься. Недавно вот еще какая-то морская бригада из Кронштадта прибыла. Мимо ехать будем, поспрашивай. — Запутаешься тут, места ведь незнакомые, — будто в раздумье проговорил Аббас. — Ничего, — успокоил его Маковенко. — Я здесь третий год бугры шлифую. Чуть не весь “пятачок” на животе исползал. Помогу, если что… — Вот за это спасибо! — весело откликнулся Аббас. Новый знакомый, казалось ему, будет хорошей ширмой и в тылу и на передовой. Надо только не отставать от него и на передний край возвратиться вместе, А там ищи-свищи Аббаса, дорогой товарищ капитан! Из-за поворота показалась полуторка с группой людей, стоявших в кузове. Заметив ее, капитан Маковенко вдруг выбежал на дорогу и, выхватив пистолет, дважды выстрелил вверх. — Стой, остановись! — закричал он. Скрипнув тормозами, машина остановилась. Из кузова, из кабины послышались сердитые голоса: — Чего надо? — С ума сошел, стрелять начал… — Братцы, подвезите! — взмолился капитан Маковенко. — Дело к вечеру идет, а нам с другом еще до штаба армии добираться надо, ордена получать! — Ладно, садитесь, — милостиво разрешил старший машины. Стоявший поодаль Аббас поспешил вслед за Маковенко влезть в кузов, и грузовик тронулся. Все были довольны. Аббас — потому, что ехал по назначенному ему маршруту. Маковенко — потому, что сумел завоевать доверие шпиона. А чекисты, сидевшие в кабине и в кузове грузовика, были весьма довольны тем, что события развертывались по плану, разработанному руководителями контрразведки, и хозяевами положения были они, а не абверовцы. Люди, ехавшие в кузове, болтали о том о сем. О скором наступлении, об ожидавшейся замене одних частей другими, о том, что теперь-то немцам под Ленинградом будет канут. Маковенко охотно включился в беседу, не преминув похвастаться своей осведомленностью. Как-никак, а он — командир разведывательной роты. Ему-то уж кое-что известно! А Аббас молчал. Лишь изредка отвечал на прямые вопросы, а больше старался молчать и слушать. Он, дескать, человек на участке новый, обстановки не знает… На первом же КПП сидевшие в кузове солдаты и офицеры сошли с машины, отправились куда-то в лес. Дежурные стали проверять документы. Аббас заволновался, долго искал свое командировочное предписание. Видя его замешательство, Маковенко уговорил не задерживать машину. Они, мол, торопятся. На КПП хорошо знали чекиста, и машину пропустили без лишних проволочек. Аббас повеселел. — Фу ты, черт! — выкладывая из кармана документы, сказал он. — Вот, нашел командировочное. А то даже испугался. — Не прячь документы так далеко. Транспорту здесь задерживаться нельзя: немцы могут заметить и разбомбить. Это место просматривается, и потому на КПП всех торопят, чтобы не создавать пробки. — Положу поближе. — Правильно сделаешь. А я было подумал, что ты умышленно тянул время. Полагал, что раз капитан решил поискать друга, то, значит, выехал в тыл самовольно, и путь следования в командировке не обозначен. Вот он и тянет, чтобы контролеры отвязались. А то могут назад вернуть, да еще и задержать чуть ли не как диверсанта. Аббас хотел было возразить, что в командировочном удостоверении указан точный маршрут поездки (об этом немцы позаботились), но вовремя спохватился. Ведь он только что сказал, что едет по собственной инициативе. Следовательно, заключение попутчика о том, что у него документы не в порядке, совершенно обоснованно. Сообразив это, Аббас ответил: — А ты наблюдателен, друг. — Война научила. Мне, вижу, придется “прикрывать” тебя, как говорят наши разведчики. И они поехали дальше. Вскоре новые знакомые нашли общий язык. Маковенко без особого труда уговорил попутчика навестить своих друзей в морской бригаде, а заодно поинтересоваться и его знакомым, Османом Рашидовым. Аббас согласился. Отставать от такого общительного человека, имеющего обширные знакомства в войсках, он не хотел. Путешествие с Маковенко вполне его удовлетворяло. Маршруты совпадали, время тоже. К тому же Аббас не был полностью уверен в том, что немецкая разведка сумела обеспечить его вполне надежными документами. При таком положении знакомство с капитаном становилось исключительно важным. В трудную минуту он мог рассчитывать на помощь нового приятеля. Все шло так, как и было спланировано чекистами. Маковенко повел немецкого агента по заранее оборудованным землянкам и домам. Знакомил Аббаса со своими друзьями, которые выдавали себя за военнослужащих несуществующих частей, словно невзначай дал шпиону возможность ознакомиться с личными документами одного офицера. Аббас был доволен. Еще бы, все шло на редкость легко и удачно. Единственное, чего хотел Аббас в конце своей поездки, — это возвратиться на передовую в компании своего нового приятеля. Как-никак тот — командир разведывательной роты. Можно остановиться в его землянке, присмотреться, выбрать удобный момент — и махнуть на ту сторону. “То-то будет юлить разведчик перед начальством, когда станет известно, с кем он имел дело!” — думал Аббас, посмеиваясь в душе. А Маковенко “прилагал все усилия” к тому, чтобы помочь Аббасу найти друга-земляка из семьдесят первой бригады. Однако поиски не принесли никаких результатов. Никто не слышал об офицере Османе Рашидове. В то же время, зная об истинных намерениях Аббаса, чекисты, не скупясь, сообщали ему сведения, подтверждающие легенду о концентрации войск на реке Черной. Аббас был весьма доволен полученными данными. Он даже не высказал особого огорчения тем, что не отыскал друга, и, заявив, будто срок командировки истек, заторопился на передовую. Маковенко тоже не задержался. Побывав в штабе, он вернулся в бригаду, где ждал Аббас. В обратный путь они отправились вместе… Линию фронта Аббас перешел удачно. На немецкой стороне своего агента с нетерпением ожидал капитан Фиш. Приказ подполковника Шиммеля был краток и ясен: лично встретить Аббаса и немедленно доставить в Псков, в “Абверкоманду-104”, в каком бы виде тот ни прибыл. Когда солдаты привели Аббаса в землянку, Фиш торопливо поздравил его с успехом и, не дав перевести дух, заторопил в дорогу. — Немедленно, слышишь, немедленно едем в Псков. Переоденешься в машине, там все готово. — Мне бы поспать хоть пару часов, — попросил Аббас — Ведь я на ногах еле держусь! Фиш и слушать не хотел о какой-то задержке. — Ждет подполковник Шиммель. Нельзя терять ни минуты. Потом отдохнешь. Один вопрос: удачно? — Удачно, господин капитан. — Все, больше ни слова. Пойдем. Чуть не за шиворот Фиш вытащил Аббаса из землянки и побежал по ходам сообщения в тыл. Он быстро семенил ногами, перебегал, полз в опасных местах. Тяжелое дыхание Фиша было слышно даже отставшему от него на десяток метров усталому Аббасу. Часа через полтора они вышли к штабу дивизии. Капитан по телефону доложил Шиммелю о возвращении Аббаса, и вскоре машина на предельной скорости повезла абверовца в Псков. Шиммель с нетерпением ожидал своего испытанного агента. Сейчас, когда его карьере грозила опасность, от Аббаса зависело многое. Уже тот факт, что турок выполнил задание, настроило Шиммеля на благожелательный лад. Он решил представить Аббаса к награде. Усталого и издерганного агента Шиммель принял на редкость тепло и ласково. Доклад длился долго. Шиммель видел, что Аббас еле держится на ногах, понимал, что ему надо отдохнуть, но не мог отпустить его — так необходимы были все сведения, добытые им. Как и при докладе Никулина, все, что говорил Аббас, тут же стенографировалось. Фиш лишь изредка прерывал Аббаса, просил повторить то, что не успел записать, уточнял неясно произнесенные фамилии людей и названия населенных пунктов. Шиммель достал из сейфа доклад Никулина и время от времени заглядывал в него, внимательно слушая Аббаса. — Ничего не упустил? Все рассказал? — спросил Шиммель. — Все, господин подполковник. Все, что видел, доложил, как перед аллахом. Вопросы подполковника обеспокоили Аббаса. Он знал, с кем имеет дело. Если заподозрит, не посчитаются с прошлыми заслугами. Аббас нервничал, злился, в голове царил сумбур после всех треволнений, бессонной ночи, пережитых страхов. — Если я что-либо доложил непонятно, то переспросите, чтобы ясно стало, — с тревогой в голосе просил он. — Не волнуйся, мы тебе верим. Но ты выполнял очень важное задание, и я должен быть убежден в том, что ты ничего не упустил, не приврал, не вообразил из страха или невнимательности. Мне нужна абсолютно объективная картина происходящего там, у русских. За труды ты свое получишь, поэтому не волнуйся и постарайся вспомнить все, что видел, до мельчайших подробностей. — Я доложил правду безо всякой “липы”, — повторил Аббас, отчаиваясь все больше и больше. На мясистом затылке, на лбу, на верхней губе у него выступил обильный пот. Чутьем старого травленого волка Аббас понял, что Шиммеля меньше всего волнуют новости, принесенные им из-за линии фронта. Похоже, что они все это и без него знали. Так почему Шиммель и Фиш стараются вытянуть из него такие подробности недавней “ходки” в русский тыл, на которые разведчики обычно и внимания не обращают? Ну что за беда, если в Ковязино не уцелел поповский дом. Шайтан его разберет, что в этом Ковязино вообще уцелело. Стоят кое-где дома, это верно. Но ведь вывесок на них нет — это, мол, поповский, а дальше — учительский. Волнение Аббаса было понятно Шиммелю. Агент получил четко ограниченную задачу — разведать места сосредоточения двести двадцать седьмой стрелковой дивизии и сто сорок второй отдельной морской бригады, выяснить, каким путем они прибыли на “пятачок”, куда ушла семьдесят первая стрелковая бригада. Не мог же Шиммель сказать своему агенту, что цель его задания — лишь в проверке сведений, давно добытых и доставленных другим. Это, пожалуй, лишило бы Аббаса воодушевления. Вот и сейчас Шиммель не стал успокаивать своего агента, а спросил коротко и сухо: — Откуда узнал номер дивизии? — Рассказывали солдаты, офицеры. Один даже документы мне показал, господин подполковник. — Будем считать, что здесь все ясно, — размышлял вслух Шиммель. — Болтунов вам удалось найти. А вообще, какое настроение у солдат и офицеров? — Врать не буду, — осторожно начал Аббас, — настроение боевое. Чувствуется, что люди готовятся к наступлению. Об этом только и разговор. Шиммель снова подошел к карте и жестом пригласил к ней Аббаса. — Значит, вы считаете, что русские стягивают войска вот в этот район? Шиммель обвел карандашом участок от населенного пункта Усть-Рудицы до реки Черной и дальше на северо-запад. — И вот сюда тоже направлялись, — показал Аббас несколько западнее. — Шла пехота, танки, артиллерия. Сам видел и людей расспрашивал. — Так. На сегодня достаточно. Можете отдыхать. Когда Аббас вышел, Шиммель и Фиш принялись детально анализировать и сопоставлять имеющиеся сведения. — В большинстве своем наблюдения Никулина и Аббаса совпадают, — заключил после длительного раздумья капитан Фиш. — Да, совпадают, — откликнулся Шиммель. — По всему видно, Никулин все-таки прав. Русские концентрируют силы для нанесения удара с “Ораниенбаумского пятачка” на Котлы–Кингисепп. Аббас подтверждает его наблюдения. Подождем еще, что сообщит “Буран”. Связь с ним установлена. Приземлились удачно, приступили к выполнению задания. Будем ждать новых сообщений. — Нам, конечно, не привыкать ждать, — вздохнул Фиш, — но это все же нелегкая обязанность, особенно когда находишься на передовой… Капитан явно намекал на свое пребывание на передовой линии фронта, надеясь, что Шиммель оценит его службу. Но тот промолчал, словно не заметив маневра Фиша. Подполковник был целиком занят анализом документов. Фиш помрачнел. Вторично напомнить о своих заслугах будет сложно: когда еще представится такой подходящий случай. — Я думаю, вам тоже следует отдохнуть, — оторвавшись от бумаг, сказал наконец Шиммель. — Ваш труд будет достойно оценен. А пока напишите представление к награде, на Никулина и Аббаса. Как только получим от “Бурана” сообщения, подтверждающие их данные, они будут награждены. О вас я побеспокоюсь сам. Капитан Фиш расплылся в довольной улыбке и вышел, оставив Шиммеля одного. …Начальник “Абверкоманды-104” нервно расхаживал по кабинету. Ведь все как будто бы обстояло благополучно. Никулин вне подозрений. Ведет себя хорошо. Аббас подтвердил правдивость доставленных им сведений. Войсковые разведчики наблюдают сосредоточение войск противника именно в том районе, на который указал Никулин. Почему же он не может отделаться от сомнений? Что это, усталость или предчувствие? А тут, как назло, от “Бурана” нет новых сообщений. Что там может быть? Всех захватили русские контрразведчики? Маловероятно. В группе опытные агенты. Высадились они благополучно, начали работу. Теперь их так просто не возьмешь. Шиммель понимал, что группе “Буран” придется действовать в сложных условиях, при большой концентрации войск. Малейшая неосторожность может привести к провалу. Но и в этих условиях подготовленные разведчики сумеют сообщить о себе. Успеют даже в том случае, если им придется принять бой, чтобы прикрыть радиста. В группу “Буран” Рудольф и Шнеллер лично отобрали наиболее подготовленных, способных, проверенных агентов. Немыслимо, как заявил Рудольф, чтобы эти люди провалили задание. Что ж, ему можно верить. За последнее время подготовка агентуры в школе заметно улучшилась. Рудольф изо всех сил делает карьеру. Так почему же замолчал “Буран”? Если бы только подполковник Шиммель мог знать, где сейчас находятся и чем занимаются его “падежные” люди, его наверняка хватил бы удар. Немыслимым, невероятным, диким показалось бы ему сообщение о том, что руководитель группы “Буран” — человек, запятнавший себя бесчисленными преступлениями, живой и невредимый сидит на допросе в кабинете подполковника Сосницына, а остальные агенты весьма дружелюбно совещаются с генералом Быстровым о том, как лучше провести его, Шиммеля! В то раннее утро Быстров принимал очередной доклад о “путешествии” Маковенко с Аббасом. Генерал с искренним увлечением расспрашивал оперативного сотрудника о деталях проделанной работы, намечал меры, которые нужно будет предпринять, если молодому чекисту Маковенко понадобится помощь в единоборстве со шпионом. и тут ему принесли телеграмму, из которой следовало, что на участке одной из дивизий добровольно сдались два немецких агента и привели с собой связанным старшего группы. Организатором явки с повинной является бывший лейтенант Красной Армии Курынов — радист “Бурана”. Прочитав телеграмму, Быстрой улыбнулся. Николай Константинович Никулин немало рассказывал ему о Курынове. Теперь этот человек прибыл, и, надо сказать, очень кстати. Не теряя времени, генерал Быстров выехал на фронт. В дивизии его встретил начальник отдела контрразведки и провел к себе в землянку. Навстречу поднялся худощавый паренек в солдатской форме и по всем правилам доложил: — Товарищ генерал, немецкая разведывательная группа “Буран” в полном составе находится здесь. Я и мой напарник решили явиться с повинной. Старший группы оказал сопротивление. Пришлось применить силу, чтобы доставить сюда. Только сейчас, освоившись с сумраком землянки, Быстров заметил свежие царапины и синяки на лице лейтенанта. — Что ж, товарищ лейтенант Курынов, поздравляю с благополучным возвращением. Николай Константинович рассказывал о вас, и я рад пожать вашу руку. Курынов смутился, растерялся, побледнел от волнения. Он никак не ожидал такой сердечной встречи. Готовился к разговору со следователем, думал, как искупить позор плена, как оправдать свое пребывание в абвере. Готовился пойти рядовым в штрафную — и вдруг — товарищ… лейтенант. — Ну, садитесь, рассказывайте, — предложил Быстров. Доклад Курынова был кратким. Генерал знал о Курынове многое. Поэтому сразу перешел к делу: — Значит, немцы поставили вам задачу взять под контроль дороги, ведущие от Ораниенбаума к Усть-Рудице? Прекрасно. Ищут прибывшие дивизии? Понятно, понятно… Генерал немного подумал, видимо что-то прикидывая в уме, потом поинтересовался: — Связь с немецкой разведкой уже устанавливали? — Да. Сразу же после приземления. Нам тогда не удалось своего старшего обезвредить. Он приземлился первым и был настороже. Пришлось выполнить его приказ, доложить о благополучном приземлении. — Что вы сообщили? — Донесли, что приземлились благополучно, приступаем к выполнению задания. — Когда следующий сеанс связи? Курынов посмотрел на часы. — Через четыре часа. Если не состоится, то еще раз через четыре часа. Потом десятичасовой перерыв. — Неплохо придумано. Ну, обо всей этой технике вы позднее доложите детально. А сейчас нам нужно спешить, поедем в район приземления. Там отыщите свою радиостанцию и все, что получили от немцев. Уже вечерело, когда две запыленные фронтовые “эмочки” по узкой, заросшей травой дороге въехали в лесную чащобу. Здесь Курынов раскопал тайник, достал радиостанцию, забросил антенну на высокую сосну и, включив передатчик, вопросительно посмотрел на Быстрова. — Можно начинать? — Да, можно. Успокойте немцев, убедите, что приступили к работе. Потом передавайте донесение. В этом донесении, заранее подготовленном чекистами и зашифрованном Курыновым, говорилось о движении войск по контролируемым дорогам. Шиммель должен получить новые факты, подтверждающие донесение Николая Константиновича. Пусть у него не остается сомнений, что русские готовят наступление в направлении Котлы–Кингисепп. Положив перед собой листок с шифром, Курынов с вдохновением выбивал на ключе певучие сигналы “морзянки”. Работал он четко, с профессиональным блеском, а на губах играла озорная, совсем мальчишеская улыбка. В течение недели Шиммель получил от “Бурана” три сообщения. Все они подтверждали имевшиеся данные о том, что из Волхова и Ленинграда недавно проследовали на “пятачок” части двести двадцать седьмой дивизии и сто сорок второй морской бригады. Дивизия формировалась где-то в Сибири. Морская бригада сражалась под Сталинградом. Шиммель решил, что теперь пора ехать на доклад к генерал фельдмаршалу Кюхлеру. Перед отъездом в штаб командующего подполковник послал в “Абверштелле-Остланд” и в “Штаб Валли” Бауну телеграммы. Он предлагал отметить заслуги Рудольфа и Фиша. О себе начальник фронтовой разведки умолчал, прекрасно зная, что кто-кто, а Баун не упустит случая, чтобы получить лишнюю награду. Не забудет он и его, Шиммеля. Генерал-фельдмаршал Кюхлер принял подполковника Шиммеля немедленно, хотя в его приемной дожидались несколько генералов и полковник. Обстановка на фронте обострялась. Штаб группы армий “Север” располагал самыми достоверными данными о том, что русские готовятся к наступлению под Ленинградом. Они непрерывно подтягивали подкрепления, усилили воздушную разведку немецкой обороны, активизировали работу армейской разведки. Оставалось неясным лишь одно, когда и где будет нанесен главный удар. Генерал-фельдмаршал без устали анализировал груды донесений из частей, разведорганов, информации из ставки, но не находил ответа на этот вопрос. В связи с успешным наступлением советских войск на Центральном фронте немецкое верховное командование потребовало у Кюхлера семь дивизий. Генерал-фельдмаршал отчаянно сопротивлялся. Отдать семь дивизий — это значит оголить фронт! Но его не стали и слушать. Верховное командование считало “Северный вал”, создававшийся в течение трех с лишним лет, неприступным. И вот кадровые немецкие дивизии ушли от Кюхлера. Правда, взамен их Берлин пообещал вскоре прислать моторизованную дивизию СС “Нордланд”, моторизованную бригаду СС “Нидерланды” и части испанского легиона. “Вместо семи убывших полнокровных дивизий мне обещают две потрепанные и вдобавок горсть испанских ублюдков! — возмущался Кюхлер. — С этим сбродом я должен остановить натиск русских. Идиоты!” Но как ни негодовал Кюхлер, он знал, что за поражение спросят прежде всего с пего. Поэтому он и старался предугадать, где будет нанесен главный удар русских, чтобы стянуть туда свои лучшие части. Анализируя положение на фронте, Кюхлер предполагал, что главный удар будет нанесен с “Ораниенбаумского пятачка”. Будь он на месте командующего Ленинградским фронтом генерала Говорова, он обязательно воспользовался бы таким перспективным плацдармом. Бесспорно, это сделает и Говоров. Но куда именно направит он главный удар с “пятачка” — вот в чем загадка. Быть может, ее сумел разрешить Шиммель? Вот почему подполковника Шиммеля, едва он появился в штабе, пригласили к командующему. — Господин генерал-фельдмаршал, — говорит Шиммель, — я имел честь ранее докладывать вам агентурные данные о сосредоточении значительных сил русских на “Ораниенбаумском пятачке”, в районе реки Черной, к северу и северо-западу от Усть-Рудицы. Эти сведения неоднократно и весьма тщательно проверялись. Проверка показала их полную достоверность. Кюхлер слушал очень внимательно. То, что говорил Шиммель, подтверждалось наблюдениями войсковой разведки и данными, полученными из самых различных источников. На “Ораниенбаумском пятачке” последние дни отмечается большая активность: артиллерия ведет пристрелку оборонительных сооружений; на отдельных участках замечено сосредоточение танковых сил; в эфире появились радиостанции новых дивизий и частей; авиация ведет усиленную разведку копорского направления, по ночам бомбит пункты управления немецких войск, плотно прикрывает район реки Черной от разведки с воздуха; на всем фронте от Гостилицы до Пернова ведутся разведка боем и действия разведывательных групп. На фопе всего этого сообщения агентов Шиммеля приобретали в глазах Кюхлера большой вес. — Ваши люди, которые ходили в тыл к русским, надежны? — Они испытаны. Верить можно. — Вы представляете ответственность, которую берете на себя? Ведь если мы начнем действовать, исходя из тех сведений, которые собраны вашей агентурой… — Представляю. — Я очень буду рад, если вы полностью представите, господин Шиммель, какая на меня и на вас ложится ответственность за положение на фронте. Кюхлер тяжело опустился в кресло, устало склонил голову на морщинистую ладонь, прикрыл глаза посиневшими веками. Шиммель стоял молча, почтительно глядя на размышлявшего Кюхлера. — А что, если это все-таки дезинформация? — думал вслух фельдмаршал. — Из того, что докладываете вы, господин Шиммель, что сообщают командующий восемнадцатой армией и командиры дивизий, можно сделать вывод, что русские будут наносить главный удар с “Ораниенбаумского пятачка” на Котлы–Кингисепп. Следовательно, мне необходимо переместить сюда свои основные силы. Резерва у меня нет. Войска придется снимать с менее важных участков фронта. Но их так мало… Вдобавок получен приказ отдать еще две дивизии — девяносто шестую и двести пятьдесят четвертую — группе армий “Юг”. С чем я остаюсь? Смогу ли я остановить русских, если они в этот момент ударят в ином направлении? Специалисты считают неприступными возведенные здесь укрепления. Но чтобы удержать их, нужны солдаты. Шиммелю стало не по себе. Он словно присутствовал на исповеди человека, который начал терять веру в свои силы. Кюхлер жаловался, зная, что ему не помогут. Таких откровенных признаний Шиммель еще ни разу не слышал от генерал-фельдмаршала. Видимо, тот рассчитывал в случае поражения заполучить доброжелательного свидетеля, который мог бы замолвить словечко за Кюхлера в ставке. Шиммель, руководитель фронтовой разведки, сотрудник всесильного Канариса, как нельзя лучше подходил для этого. — Нам надо выстоять, — продолжал генерал-фельдмаршал. — Во что бы то ни стало выстоять. Иначе мы потеряем не только Ленинградскую и Новгородскую области. Мы можем лишиться Финляндии, вынуждены будем уйти из Прибалтики, потеряем влияние на Скандинавские страны. Мы будем вынуждены вернуться к своим границам, а это — катастрофа. Картина, нарисованная генерал-фельдмаршалом, произвела на Шиммеля тяжелое впечатление. Кюхлер неспроста задал вопрос — понимает ли он, Шиммель, какую ответственность на себя берет, докладывая о концентрации русских войск по реке Черной? Пожалуй, до сих пор он действительно не вполне представлял. Шиммель постарался побыстрее закончить опасную беседу. Если только о ней пронюхает гестапо… — Господин генерал-фельдмаршал, я докладываю проверенные данные. А вам предоставлено право принимать те решения, которые вы считаете нужными. — Хорошо. Я воспользуюсь вашими сообщениями, когда буду принимать решение. — Господин генерал-фельдмаршал, наши агенты, собравшие ценную информацию, заслужили награду. Я заготовил приказ о награждении агентов абвера Никулина и Аббаса “Бронзовой медалью с мечами”. — Что ж, если они заслужили, мы должны наградить их. Я не возражаю. Кюхлер, не глядя, подписал документ. Так Николай Константинович стал кавалером “Бронзовой медали с мечами”, которой немцы награждали особо отличившихся агентов абвера из числа военнопленных. Кюхлер после доклада Шиммеля окончательно пришел к выводу, что советские войска с “Ораниенбаумского пятачка” будут наступать в направлении Котлы — Кингисепп. В соответствии с этим он произвел перегруппировку сил, выдвинув на угрожаемый участок подкрепления. Прямо туда же была направлена только что прибывшая моторизованная дивизия СС “Нордланд”. Четырнадцатого января сорок четвертого года войска Ленинградского и Волховского фронтов обрушили на врага сокрушительные удары. Из района Ораниенбаума наши основные силы пошли не на Котлы–Кингисепп, как предполагали Кюхлер и Шиммель на основании подсунутой им дезинформации, а на Ропшу, на соединение с войсками, действовавшими у Пулковских высот. Попытки Кюхлера исправить ошибку не принесли желаемых результатов. Преодолевая упорное сопротивление врага, в жестоких боях прорывая глубоко эшелонированные и сильно укрепленные позиции противника, части Советской Армии к двадцать седьмому января полностью освободили Ленинград от вражеской блокады. Родина торжественно отметила эту победу. Войскам Ленинградского и Волховского фронтов, их мужественным воинам салютовали Москва и Ленинград.Глава девятая “Игра проиграна, Никулин!”
Когда стало известно, что в результате произведенной проверки сообщение Никулина признано достоверным и он представлен к награде, капитан Фиш вызвал Николая Константиновича к себе, поблагодарил и приказал выехать в Валкскую разведшколу. За выполнение задания гитлеровцы выдали агенту тысячу оккупационных марок, концентраты, несколько банок мясных консервов и литр самогону. “Недорого ценит своих наймитов немецкая разведка”, — подумал Никулин. В сопровождении двух солдат Николая Константиновича отправили в Валку. Шнеллер встретил его как доброго приятеля. — Я всегда был уверен в вас, господин Никулин, — значительно произнес Шнеллер. — И я постоянно твердил господину Рудольфу о том, что вы — преданный фюреру и Германии человек, способный выполнить самое ответственное задание. — Я очень тронут вашим вниманием. — Господин Рудольфвсегда соглашался со мной. Он высоко ценит вас. Вы хорошо поработали для Германии. Теперь все трудности позади. Садитесь. Шнеллер уселся в массивное, обшитое желтой кожей кресло и широким жестом пригласил Николая Константиновича последовать его примеру. — Расскажите, как вам удалось так блестяще выполнить задание. Я с удовольствием послушаю. Николай Константинович кратко пересказал все то, что уже докладывал Шиммелю, Фишу и Рудольфу. Расстались они с бароном очень тепло. Шнеллер определил Никулина на хозяйственные работы. Так Николай Константинович получил доступ в штаб и возможность общаться с обучавшимися в школе агентами, преподавателями и обслуживающим персоналом. За несколько месяцев отсутствия Никулина здесь почти ничего не изменилось. Начальником школы утвердили Шнеллера. Рудольф получил повышение. Отправились на выполнение заданий некоторые агенты. Куда-то перевели пропагандиста Владимира. Вот и все события в школе. В Валке Николай Константинович встретился с Подияровым и Романовым. Они уже заканчивали курс обучения и с нетерпением ожидали отправки за линию фронта. — Веришь, Николай, последнее время каждую ночь наши снятся, — делился Подияров. — Как усну, так и встают перед глазами знакомые бойцы, офицеры. То беседую с ними, то вместе в бой идем, в атаку. А однажды приснилось, что мне орден вручали. Слова хорошие говорили: верный, мол, сын Родины, Подияров, народ им гордится. А проснулся — вижу портрет Гитлера на стене. Со свастикой… Такая тоска взяла! — Ничего, теперь уже немного терпеть осталось. А пока надо дело делать. Вы к соседям приглядывались, как я просил? — И я и Романов искали честных людей. Пусть он расскажет. — Приглядели мы тут несколько хороших парней, — вступил в разговор Романов. — Немцы их на мелочах попутали, запугали. С ними по душам поговорить, так они фашистам покажут… — А вы не пробовали потолковать? — Вокруг да около ходим. А чтобы прямо, так нет. Мы конспирацию понимаем. — Ну и правильно сделали. Нам с вами большая осторожность нужна. Покажете мне ребят издали, незаметно. Я с ними потолкую. А сами как? — Мне скоро на задание, — сказал Подияров. — К Шнеллеру не вернусь. — Ну, что ж, дело доброе. Передашь от меня привет генералу Быстрову. Ни пуха ни пера тебе. — К черту, — отозвался Подияров. В течение ноября–декабря по паролю “Я к генералу Быстрову от Пограничника” к советским контрразведчикам пришло с повинной десять агентов Валкской разведшколы. Шнеллер нервничал. Такого массового провала агентуры еще не было. Конечно, и раньше не все агенты возвращались, по чтобы за короткое время без следа исчезло десять человек подряд — подобного не случалось. Шнеллер докладывал в “Абверштелле-Остланд” и “Штаб Валли”, что агенты убиты при переходе линии фронта, но хорошо знал, что там мало верят этому. Начальник школы чувствовал, что над пим сгущаются тучи, приближается гроза. Скоро терпение руководства абвера иссякнет, и его призовут к ответу. Как завидовал когда-то барон своему предшественнику, место которого мечтал заполучить. А теперь вот не радовался своему назначению, опять завидовал Рудольфу, который вовремя сумел уйти из Валкской разведшколы, получив другую, более выгодную работу. Шнеллер чувствовал, что в школе кто-то тонко и умело ведет агитацию среди завербованных, склоняет их не выполнять заданий абвера, переходить к русским. Но кто способен на это? Барон по пальцам перебирал каждого подчиненного. Никто как будто не вызывал сомнений. Но он был, этот тайный враг. Был здесь, вблизи. Шнеллер чувствовал это и твердо решил во что бы то ни стало докопаться. “Плохо кончит тот, кто стал на моем пути”, — не раз думал Шнеллер. Долго размышлял новый начальник школы, взвешивал, анализировал. Ему открылось любопытное обстоятельство — большинство агентов, не вернувшихся с задания, из числа тех, что были завербованы в Саласпилсском лагере. Случайное это совпадение или с ними кто-то поработал? Если этих людей перевербовали, размышлял Шнеллер, то где — в лагере или в школе? От своих догадок и предположений барон совсем лишился покоя. Однако он ни с кем не делился своими переживаниями. Зато немедленно связался с “Абверштелле-Остланд”, попросил расследовать, кто ведет агитацию в лагере. В школе он надеялся справиться сам. Сил и опыта у него хватит, считал Шнеллер, а надежных людей он имел. Наметив план действий, Шнеллер вызвал к себе Сюганова, на которого возлагал особые надежды. Сюганов зарекомендовал себя преданным немцам человеком еще в Рижском лагере, когда предложил им свои услуги. Он ревностно выполнял любые приказы гитлеровцев, дослужился до должности начальника лагерной полиции — наводил “порядок и дисциплину” в лагере. В фашистском застенке для военнопленных, где свирепствовала смерть, где холод, голод и болезни косили людей без разбора, Сюганов жил привольно, сытно. Совесть его не мучила. Немецкие разведчики, которые завербовали Сюганова, оцепили именно то обстоятельство, что усердной службой в лагерной полиции он отрезал себе путь на родину. На него можно положиться. Шнеллер по многолетнему опыту знал — такой не подведет. Сюганову и в школе приходилось выполнять “деликатные” поручения. Барон приказал своему подручному собрать всех саласпилецев в одну группу и следить за ними в оба. Однако работа Сюганова пока что шла вхолостую. Это бесило Шнеллера. Явившись к начальнику, Сюганов с первого взгляда определил, что тот не в духе. Предатель умел улавливать перемены в настроении своих хозяев и соответственно этому вести себя в разговоре с ними. — Что скажете, господин Сюганов? — хмуро проговорил Шнеллер. — Как ведут себя саласпилсцы? Сюганов поспешил с ответом: — Пока что плохого за ними ничего не заметил, господин капитан. Учатся прилежно. Шнеллера взорвало: — А почему бы им плохо учиться! Мы подарили им жизнь, кормим, поим, деньги даем. В таких условиях любой идиот будет прилежным. Барон так же быстро успокоился, как и вскипел. Он приказал Сюганову сесть. Тот поспешил опуститься на стул, однако был готов в любую минуту вскочить и вытянуться перед начальником. — Слушайте меня внимательно, Сюганов. Вы должны выполнить мое задание во что бы то ни стало. И помните. от того, как вы оправдаете доверие, зависит ваша судьба. — Слушаюсь. Выполню, — с готовностью откликнулся Сюганов. Но барон, словно ничего не услышав, размеренно продолжал, и в голосе его на этот раз звучала неприкрытая угроза. — Если оплошаете, не справитесь, то вашей сытой жизни придет конец. Вы, как вижу, привыкли к привилегиям и пользуетесь ими неплохо. Вид у вас хоть куда. Так вот, в определенный момент все это может рухнуть, и вы очутитесь в таком месте, что Саласиилсские лагерь покажется вам раем. — Господин капитан, — испугался Сюганов, — разве я дал какой-либо повод для недовольства или недостаточно доказал свою преданность великой Германии? До последних дней своих я ваш. — Я не уверен в этом, — сухо промолвил Шнеллер. — Вам поручено вести наблюдение за саласпилсцами. И что же? Вы говорите, что им можно доверять, что там все падежные люди, так почему же эти подлецы не возвращаются с заданий? Может быть, вы мне объясните, почему так происходит? — Ловят их там, наверное, — осторожно заметил Сюганов. — Ловят? Хм… Удивительно. Раньше не могли, а теперь почему-то начали. Такие проницательные появились чекисты, что нашего агента носом чуют. Врете, Сюганов. Я знаю, почему так происходит. Во всем виноваты вы. Слышите? Вы! Сюганов побледнел. Он мог ожидать чего угодно, но только не такого обвинения. От слов Шнеллера веяло могильным холодом. Сюганов знал, что барон зря пугать не станет. Обвинение Шнеллера грозило смертью. Но Сюганов погибать не хотел. Он изо всех сил пытался оправдаться. — Господин капитан, я делал и делаю все, что могу, я стремлюсь в точности выполнять ваши приказания. В чем же моя вина? — Вы виноваты в том, что плохо смотрите за саласпилсцами. Среди них появился, человек, который мутит агентов, склоняет не выполнять заданий немецкой разведки. Ваша обязанность — своевременно изобличить врага. Вы этого не сделали. Если в ближайшие дни не раскроете агента советской контрразведки в нашей школе, то я лично и с удовольствием расправлюсь с вами. Идите. Сюганов вышел из кабинета начальника белый как мел. Он понимал, что теперь его жизнь висит на волоске. Шнеллер не примет во внимание никаких объективных причин. Еще не зная, кто этот русский контрразведчик, Сюганов возненавидел его всей душой. С этого дня он потерял и сон и покой, приглядываясь к каждому. А Николай Константинович, ободренный первыми успехами, продолжал свою рискованную работу. Внимание чекиста привлек Сергей Беляев. Подтянутый, сдержанный, приветливый в обращении с людьми, юноша сразу понравился Никулину. Сергею Беляеву крепко досталось в жизни. Рано умер отец, оставив больную мать и троих детей. Сергей был в семье старшим. На его мальчишеские плечи легла непосильная тяжесть. Он работал, воспитывал малышей, успевал и учиться. — Порой засыпал за учебниками, — рассказывал он Никулину в одной из частых за последние дни бесед, — но учебу не бросал. В школе меня хвалили за упорство, настойчивость. — А сейчас что ж, растерял эти качества? — словно невзначай поинтересовался Николай Константинович. Сергей понурил голову. Он резко и бесповоротно осудил себя в душе. И, как это часто бывает с людьми отчаявшимися, махнул на все рукой. Все равно, мол, жизнь загублена. На Родину возврата нет. Не мог он самостоятельно дойти до той простой истины, что Родина милосердна к своим сыновьям. Она сурово карает лишь тех, кто обагрил руки кровью советских людей. А того, кто попал во вражеский стан случайно, кто искренне хочет искупить свою вину, того Родина умеет простить, вернуть к честной жизни. От слов Николая Константиновича в душе Сергея росло недовольство собою. А это уже кое-что значило. С сочувствием глядя на юношу, Никулин повторил вопрос: — Потерял, что ли, свое упрямство и настойчивость, спрашиваю? — Потерял, — откровенно признался Беляев. — Вот это плохо. Что же с тобой стряслось? — Трудно сказать. Вот надломилось во мне что-то. До войны, помню, мечтал о будущем, стремился куда-то, на людей смело глядел. А сейчас всего боюсь, не понимаю, что вокруг происходит, и как дальше жить — не знаю. Никулин хорошо понимал состояние Сергея. Он достаточно насмотрелся в лагерях на людей, павших духом, потерявших всякую надежду на возвращение к нормальной жизни. В тяжелой обстановке они инстинктивно тянулись к сильным, волевым людям, ища в стойкости других свое спасение. Таким был и Сергей. В руках немецких разведчиков он мог стать жалкой игрушкой, послушным орудием их преступной воли. До сих пор он еще не причинил вреда Родине, но долго ли сможет противиться, если его станут принуждать пойти на преступление. — Да, положение у нас с тобой, Сергей, неважнецкое, — осторожно начал Никулин. — От немцев почета никакого, и от русских славы не жди. Оно и понятно. Народ уважает солдата крепкого, готового постоять за отчий дом. А мы что? От одного берега отстали, к другому не пристали. Для русских мы изменники и предатели и для немцев — полулюди, “унтерменши”. Вот мы сейчас воюем, жизнью рискуем, а кончится война — что делать будем? В Россию поехать — там на тебя всякий мальчонка волком кидаться станет. В Германию? Как же, очень нужны мы там!.. Задумаешься. Сидит, скажем, в сибирском лагере мужичок какой арестованный. Знай лес пилит да хлеба жрет побольше нашего. Что ему война, что ему там немцы, русские, французы, турки. Отсидится, гад, от войны. А выйдет — чистенький. Я, мол, Родине не изменял. Я человек честный. Всего лишь девочку изнасиловал да церковь обворовал. И станет жить среди людей как ни в чем не бывало. — Хотел бы я там сейчас очутиться, — вздохнул Сергей. — Где? — Да в Сибири. Самую злую тюрьму за счастье бы почитал. Только что зря говорить! Шнеллер не раз рассказывал, что чекисты нашего брата сразу к стенке. А то пытать еще начнут. Вон недавно трое наших не вернулись. Говорят, расстреляли. — Ну, это как повезет. Таких, как Сюганов или Аббас, наверняка к стенке поставят. А тебя — вряд ли. Вреда ты никакого не принес пока. Сюганов мне как-то говорил, что кое-кто из школы махнул к русским, добровольно пришел с повинной. Вот дурни! — А что, расстреляли или на каторгу сослали? — Да нет, не сослали. Только хрен редьки не слаще. Дали в руки винтовочку — иди, говорят, искупай вину перед Родиной в бою с немцами. Как будто не все равно, чья пуля убьет — русская, немецкая. — Не всех же убивают… — Я и говорю, как кому повезет. Иной весь свой срок невредимым отбудет. А которого поранит или там контузит. Всяко бывает. — Ну, а если ранят, тогда что? — Что, что! Раз кровь пролил в бою за Советскую власть, значит, оправдался перед нею, искупил свою вину. Могут и ордена вернуть и воинское звание. Только кому охота за ордена и звания жизнью рисковать? — Так и мы же рискуем… — Ну, это дело другое. Немцы, после того как Россию покорят, обещают корову дать, дом. Повезет, так разбогатеешь, хозяином станешь. Жаль вот только, что им самим на фронте последнее время не везет. Оправились русские, нажимают. — Да, наши здорово жмут, — начал было Беляев и осекся, опасливо поглядев на Никулина. А тот, будто ничего не заметив, стал прощаться. — Спать пойду, завтра дел много… Отойдя метров сто, Николай Константинович оглянулся. Сергей неподвижно сидел на прежнем месте, низко опустив голову. Видимо, думал. И Никулин знал о чем. Его осторожные, но продуманные разговоры подводили Беляева к мысли о том, что нужно повиниться перед Отчизной. И добрые семена, брошенные Никулиным, попали на благодатную почву. Николай Константинович был убежден, что скоро Сергею можно будет доверить заветный пароль: “Я к генералу Быстрову с приветом от Пограничника”. Время от времени приходили весточки от старого друга — Дудина. Их передавали военнопленные, завербовавшиеся но совету майора в разведшколу. Вот и сейчас, едва Никулин подошел к столовой, его остановили трое худых рослых парней. “Из лагеря”, — безошибочно определил Николай Константинович, глядя на их землистые лица со впавшими щеками. Один из троих тихо спросил хриплым, простуженным голосом: — Никулин? — Допустим, так. Что дальше? — Мы с приветом от Папаши. — Жив старик, значит, — обрадовался Никулин. — Пока жив. Только ослаб очень. Нас к тебе направил. Командуй, мы в твоем распоряжении. Созданная с огромным трудом и риском цепочка — Саласпилсский лагерь — Валкская школа — советский тыл — продолжала действовать. Никулин и Дудин имели право быть довольными. Договорившись с новыми знакомыми о дальнейших встречах, Николай Константинович отправился в юрод. Привычно наблюдая за окружающим, Никулин колесил по улицам городка, и, лишь убедившись, что за ним никто не следит, вошел в одноэтажный домик с вывеской “Фотография”. Старый знакомый — хозяин заведения Лайминьш настороженно встретил его. — Здравствуйте, господин Никулин, — вежливо проговорил он. — Вы желаете сфотографироваться? — Мне нужно поговорить с вами о важном деле, — ответил Никулин. Лайминьш искоса поглядел на собеседника. Еще недавно он доверял Никулину, не таясь, беседовал с ним. Но теперь, поняв из разговоров, которые вели между собой его клиенты, что Никулин чем-то отличился перед немцами и его ждет награда, всерьез обеспокоился. Не пойдет ли во вред ему былая откровенность? Угадав его колебания, Николай Константинович проникновенно сказал: — Я знаю вас как честного человека, товарищ Лайминьш. И потому прошу помочь мне, вернее, не мне, а своему народу, всем патриотам, борющимся против фашистов, которых мы оба одинаково ненавидим… Лайминьш вскинул голову, пристально посмотрел на Никулина. Тот не отвел взгляда. Он серьезно и с ожиданием глядел на собеседника. Фотограф, помолчав с минуту, спросил: — Что я должен сделать? — Мне нужны фотографии людей, которых приводит Шнеллер. С каждого негатива делайте лишний отпечаток для меня. Я буду приходить и забирать эти фотографии. — Но это очень опасно… Шнеллер не спускает с меня глаз во время работы. — Но это очень нужно, — возразил Никулин. — Подумайте о тех, кто рискует гораздо большим для своего народа. — Хорошо, я попытаюсь, — проговорил наконец Лайминьш. Лицо Никулина просветлело. Он крепко пожал руку своему новому соратнику и сказал: — Я не сомневался, что услышу такой ответ. Вы настоящий патриот, Лайминьш. Договорившись о времени и порядке встреч, Николай Константинович поспешил к себе домой. Теперь следовало подумать о том, где хранить фотографии. В комнате оставлять их нельзя, прятать вне расположения и неудобно, и опасно. Лучше всего хранить фотографии где-нибудь в штабе. Весело насвистывая, Николай Константинович поднялся по лестнице на второй этаж дома. Здесь был кабинет Шнеллера, а неподалеку, в темном закоулке, Никулин хранил свой инвентарь — ведра, тряпки, веники. Тут у самого пола еле держался в кладке один кирпич. Если вытащить его да отбить половину, то получится неплохой тайник. А половина кирпича будет вместо пробки. Проворно орудуя ножом, Никулин расковырял известь вокруг кирпича, расшатал его и вытащил из гнезда. Тайник был готов. В коридоре послышались торопливые шаги. Выглянув из своего укрытия, Николай Константинович увидел Сюганова. Тот постучал в дверь кабинета Шнеллера. Никулин подался назад, но, видимо, Сюганов успел заметить его, потому что, едва он вошел в комнату, оттуда выскочил Шнеллер и сразу направился к Никулину. — Вы что здесь делаете? Подслушиваете у моей двери? — Что вы, господин капитан, — спокойно ответил Николай Константинович. — Я собираюсь мыть полы. — Идите домой, — отрезал Шнеллер. — Сегодня никакой уборки не надо. Барон пристально посмотрел вслед уходящему Николаю Константиновичу, потом круто повернулся и вошел в кабинет. — Я вызвал вас, чтобы поговорить о Никулине, — сказал Шнеллер вскочившему при его появлении Сюганову. — Мне он внушает серьезные подозрения. Слишком много неясного в его поведении. За ним нужен присмотр. В комнату, где жил чекист, Шнеллер поселил агента Громова. Настоящей фамилии нового соседа узнать не удалось. Присмотревшись к нему, Николай Константинович понял, что Громов — глаза и уши начальника школы. Бывший вор из Ростова-на-Дону, Громов считался неплохим агентом. Он не скрывал, что дважды выполнял задания немецкой разведки в тылу советских войск, награжден медалью. Немцы поручили ему купить магазин в Пскове и заняться торговлей. Магазин должен был играть роль “крыши” для контрразведывательной службы, которая вела борьбу с партизанами и антифашистским подпольем. Громов совсем было почувствовал себя коммерсантом, получив “на обзаведение” деньги. Но старая воровская привычка сослужила ему плохую службу. На приеме у одного из своих шефов он стащил со стола золотые часы. Их, конечно, сразу же нашли и отобрали, а Громова отправили под конвоем обратно в школу, пока начальство не решило, что делать с ним дальше. — Судьба — злодейка, — часто жаловался Громов, — сыграла злую шутку с люмпен-пролетарием. Мог стать миллионером, но вынужден стрелять сигареты и клянчить стаканчик шнапса у какого-нибудь ублюдка, которого в Ростове я мог запросто утопить в ванне, наполненной шампанским. Эх и житуха была! Но ничего, мы еще свистнем в иллюминатор, как говорил один пропойца-моряк своему капитану, высадившему его на берег. Я каждый день хожу к Шнеллеру, дабы засвидетельствовать свое почтение. Авось повезет, улыбнется фортуна. Вечерами Громов со смаком рассказывал о своих похождениях до войны. Противно было слушать исповедь рецидивиста, человека, потерявшего счет арестам, отсидкам и приводам в милицию. Но надо отдать должное — в своем деле Громов был артист. Он любил сложные ситуации, острые ощущения. Этими его качествами и воспользовались абверовцы. Выпустив Громова из тюрьмы, немцы щедрыми посулами завлекли его на службу в контрразведку. Будь у Громова больше выдержки, он стал бы коммерсантом. Сейчас предатель с тревогой ожидал, что с ним будет дальше. Впрочем, скоро Громов повеселел. Его назначили старшим группы из трех человек, которую направляли через фронт с важным заданием. — В случае успеха обещают послать на учебу в Берлин. Стоит рискнуть. Ребята у меня подобрались неплохие. Уже познакомили. Придется тебе пожить одному. Я к своим подчиненным переселюсь. Надо же обнюхаться перед делом. Не поминай лихом, старина! — Кто пойдет с тобой? — Об этом распространяться необязательно, как сказал мой кореш Жорка Свищ, когда его шмара сообщила, что ждет ребенка. Шнеллер приказал мне молчать, если дорожу своей башкой. Буду пай-мальчиком, а то вспомнят еще те золотые бочата, что я у немца тяпнул. Себе дороже выйдет. Громов вышел, хлопнув дверью, и Николай Константинович услышал, как он запел, немилосердно фальшивя: “Сча-астье было так возможно, так близко…” Едва скрылся Громов, как к Никулину явился Беляев и сообщил, что Шнеллер включил его в группу Громова. Кто пойдет третьим, он пока не знает. Это станет известно завтра. — Теперь скоро у своих, — ликовал Сергей. — Наконец-то можно будет вздохнуть полной грудью. — Смотри за Громовым не спуская глаз, — наставлял Никулин. — Перейдешь линию фронта, постарайся обезоружить и доставить этого мерзавца в контрразведку. — И Николай Константинович рассказал Беляеву то, что узнал о своем соседе. — Все сделаю, — заверил Сергей. — Дай только мне к своим добраться. Шнеллер еще попомнит меня! Товарищи тепло простились. А спустя несколько дней личный состав школы подняли по тревоге и спешно походной колонной повели в лес. На одной из полян колонну выстроили полукольцом. Никто не знал, зачем это понадобилось Шнеллеру. Все терялись в догадках. Одни полагали, что будет митинг, другие думали, что немцы собираются вручить награды отличившимся агентам за успешное выполнение заданий абвера. Догадок было много. Но точно никто ничего не знал. Когда вдали послышался гул приближавшихся автомобилей, разговоры прекратились. Из передней открытой машины вышли Шнеллер и три офицера гестаповца. Из закрытого автомобиля солдаты выволокли человека в форме лейтенанта Красной Армии. Он еле передвигал ноги, окровавленная голова тяжело свисала на грудь. Кровь по изодранной гимнастерке стекала и капала на брюки, на землю. Строй затих, наблюдая за тем, как солдаты-эсэсовцы привязывают свою жертву к сосне. Лейтенант собрался с силами, поднял голову и обвел взглядом всех присутствующих. Николай Константинович почувствовал, как в груди замерло сердце. Он узнал Сергея Беляева. Между Беляевым и строем агентов стоял Шнеллер. Глядя на своих подчиненных злыми свинцовыми глазами, он громко объявил, что Беляев нарушил присягу фюреру, пытался бежать к русским и за это будет расстрелян. Николай Константинович не отрываясь смотрел на Беляева. Он не боялся за себя, хотя и понимал, что Сергей мог не выдержать пыток и выдать его. Хотелось думать, что этого не случилось. Однако он мучительно переживал оттого, что успешная работа в школе притупила в нем чувство близкой опасности. И вот теперь она предстала перед ним. Провал! От машины, доставившей Беляева, отошел Аббас, известный в школе своей жестокостью. Его презирали и боялись. Все знали, что гестаповцы используют его как палача, когда казнят агента, уличенного в измене или просто ставшего лишним. Повинуясь жесту высокого молчаливого эсэсовца, Аббас вразвалочку подошел к Беляеву и выстрелил ему в лицо. Потом хладнокровно продул ствол пистолета и выразительно кивнул: — Кха, готов. Мороз пробежал по спине Николая Константиновича. Но он не отрываясь смотрел, как солдаты отвязали труп от сосны и, швырнув в наспех вырытую яму, засыпали землей. “Я отомщу за тебя, Сережа”, — поклялся в душе чекист. Когда Никулин вернулся в свою комнату, он увидел лежащего на койке Громова. — Не ждал? — хмуро спросил тот. — По правде говоря, не ждал. Оттуда так быстро не возвращаются. Не удалось перейти, что ли? — А этого ублюдка Беляева расстреляли? — опять задал вопрос Громов, не отвечая собеседнику. — Да, только что, — с трудом вымолвил Николай Константинович. Он еле сдерживал клокотавший в душе гнев. — Ну и напарничка мне дали! — злобился предатель. — В чем дело? Хочешь рассказать, так говори толком. — Понимаешь, идем мы, значит, к русским по ничейной земле, нас сопровождают и прикрывают пять немцев. Все тихо. Лучше не надо. И тут нас засекли. Началась пальба. Видим, что не пройти. Ползем назад. Одного из нашей тройки убило. Остались я и Беляев. И вдруг меня чем-то тяжелым по черепу как а-ахнет. Я и мордой в землю. Громов нагнулся к Николаю Константиновичу, сидевшему на кровати, и показал голову. — Пощупай, какая шишка. Очнулся, чувствую, тащит меня Беляев куда-то. Немцы сзади кричат: “Хальт, хальт!”, а он взвалил меня на плечи — и к русским. Пистолет, мерзавец, вытащил. Не знаю, откуда силы взялись. Схватил я его за глотку — и пошла драка на ничейной земле. Как видишь, моя взяла. Жив! Приволок этого подлеца к немцам… Ну и напарничек. Во какую память о себе оставил. Надо же так человека стукнуть! Искренне возмущаясь, Громов снова пощупал шишку, предлагая Николаю Константиновичу осмотреть ее. Трудно передать чувство, которое испытывал Никулин в этот момент. Перед ним, нагнув голову, стоял мерзавец, по которому давно уже плачет веревка. Он погубил Беляева. И нельзя было тут же, на месте, рассчитаться с ним. Приходилось даже делать вид, что он сочувствует Громову. Потянулись дни и ночи, полные тоски и тревоги. Рассказал Беляев о Никулине или мужественно выдержал пытки? Что предпримет Шнеллер, если ему удалось добиться показаний от Беляева? Немедленно арестует или установит слежку, чтобы выявить, с кем близок Николай Константинович? Бежать бесполезно. До фронта далеко, связей с партизанами установить не удалось. Поймают моментально — шагу не успеешь сделать. От всех треволнений Никулин занемог. Открылась рана. Врач, осмотревший ее, предписал постельный режим. Николай Константинович тосковал в одиночестве. Его почти никто не навещал. Друзьям он запретил заходить, чтобы не навлечь на них подозрений. Расстрел Беляева заставил больше думать об осторожности. Несколько раз к Никулину наведывался Сюганов. Приносил яблоки, был внимателен и заботлив. Осмотрев раненые ноги, предложил сделать массаж. — Ты не удивляйся, Николай, — говорил он. — Для меня это раз плюнуть. Дело привычное. Массаж сделаю такой, что через недельку–другую будешь как молодой бегать. Вот посмотришь. И он принялся мять и растирать мускулы ног. Действительно, Сюганов был мастером своего дела. Никулин чувствовал, как разогреваются сведенные судорогой мышцы, уходит боль. — Ну вот и все, — сказал Сюганов, закончив массаж. — Если не возражаешь, то буду приходить чаще. — Зачем же возражать? Приходи. Веселей будет, а то с тоски подохнуть можно, — приветливо откликнулся Никулин, а сам подумал, что такое внимание отпетого предателя не к добру. И чем чаще заходил Сюганов, тем больше настораживался Николай Константинович. “Массажист” не торопился раскрывать цели своих посещений. Но однажды разговорился: — Понимаешь, Николай, для саласпилсцев скоро наступят плохие времена. Шнеллер от злости землю роет. Многие агенты, завербованные в Саласпилсском лагере, не возвращаются с заданий. Шнеллер уверен, что они добровольно сдаются русским контрразведчикам, и подозревает, что кто-то в школе настраивает их на эту линию. А ты как думаешь? — Вряд ли кто-нибудь рискнет в школе такие разговоры вести. Скорее всего, на той стороне научились ловить нашего брата. Да и как не поймать, когда немцы левой ногой работают. Меня вот направили в тыл, а вместо надежных документов такую “липу” подсунули, что, если бы сам не смекнул, обязательно попался бы. Да и людей лучше учить надо. А то поднатаскают два–три месяца — и айда в поход. Разве это срок для подготовки? Люди только-только начинают представлять что к чему, а их — на задание. Вот и идут провалы. Не знал Николай Константинович, сумел ли он убедить Сюганова, но тот сделал вид, что согласился. — Об этом бы Шнеллеру сказать. — А ты и скажи, если он будет настаивать и искать среди нас изменников. — Ему трудно говорить. Орет и слушать не хочет. Сюганов входил в комнату Никулина без стука и всегда в разное время суток, надеясь застать кого-либо из его знакомых. Снова и снова заводил он разговоры об измене, уже не скрывая стремления что-то узнать, выяснить. Николай Константинович держался настороже. Он был уверен, что о содержании бесед Сюганов немедленно докладывает Шнеллеру. Однажды, возвратившись вечером домой, Громов спросил: — Слыхал? Шнеллер еще одного скокаря арестовал. Хотел перебежать к русским. Николай Константинович насторожился. Кого еще постигла участь Беляева? — Кого? — спросил он Громова. — Романова какого-то, из новеньких. Я его не знаю, а то сам бы придавил гаденыша. Никулин почувствовал, как кровь отхлынула от лица, тупо заныла рана на руке. Пропал парень. Сомнений не оставалось. Следом — его очередь. Что же медлит Шнеллер? Неужели играет с ним, как кошка с мышкой? — А ты не знал его? — спросил Громов. — Если тот Романов, который иногда приходил в компанию саласпилсцев, то знал, — как можно спокойней и равнодушней ответил Николай Константинович. — Только вряд ли тот. Моему знакомому еще счеты с Советами свести надо: отца его в свое время раскулачили и сослали. — Черт его разберет, у кого какие счеты с Советской властью! Тут каждый врет, что ему выгодно. А вот кто как себя на деле покажет… Впрочем, поживем — увидим. — Поживем — увидим, — согласился Никулин. Шнеллер действительно арестовал Романова. Его заманил в ловушку и предал Сюганов. Опытный провокатор не напрасно прошел выучку у гестаповцев. Он знал, как надо действовать. Горячий и доверчивый юноша не сумел разобраться в хитро расставленной западне и открылся перед Сюгановым. — Дай только мне через фронт перейти, а там посмотрим, что делать, — проговорился, он как-то Сюганову. Тот сразу ухватился за неосторожно сказанную двусмысленную фразу. — Нашим привет от меня передай. Скажи, что хотя я и преподаватель в школе абвера, но Родине не изменил. Пусть на меня рассчитывают. Сам видишь, другие разведку преподают, диверсионно-подрывное дело, методы работы чекистов, а я — физкультуру. Этим ведь вреда государству не причинишь. Какой я враг? В плен сдался: — это было. А потом устраивался, как мог, чтобы жизнь сохранить. Своим всегда готов помочь. Мне бы только задание оттуда получить. Так ты посодействуешь мне в этом, а? Романов давно примечал, что в школе все чаще стали поговаривать о возвращении на Родину. Фашистская армия терпела одно поражение за другим. Фронт неумолимо продвигался на запад. Наступал час расплаты. И те, кто предал свой народ, боялись возмездия. Они искали спасения, надеялись уйти от наказания и потому предлагали свою помощь в борьбе с врагом. “Вот и Сюганов такой же”, — подумал Романов. Оказалось, что доверился он подлецу. Посоветоваться парню тогда было не с кем, а сам он разбираться в людях не научился. — Ты угадал, друг. Я действительно хочу перейти к своим. Повинную голову меч не сечет. И тебя не забуду. Доложу о тебе. — Вот спасибо. Теперь и у меня надежда будет. Счастливого тебе пути! Они расстались друзьями. А несколькими днями позже Шнеллер арестовал Романова. Николай Константинович чувствовал, что Шнеллер методично сжимает кольцо вокруг него. Расстрел Беляева, арест Романова, назойливые посещения Сюганова, постоянная близость Громова — все это звенья одной цепи. Он готовился к встрече со Шнеллером, ждал вызова или ареста и не понимал, почему тот медлит. Но Шнеллер не торопился. Он тоже готовился. Задавшись целью уличить Никулина в измене, он терпеливо плел свои сети. По его заданию Сюганов выспрашивал саласпилсцев об отношениях Николая Константиновича с Подияровым, Беляевым, Романовым. Им надо было найти хоть какое-нибудь доказательство, что именно Никулин подбивал агентов приходить с повинной в советскую контрразведку. А таких доказательств не было. Не давал нужных показаний и Романов. Шнеллер негодовал. Он сам допрашивал Романова, пытал его, но тот твердил одно и то же — перейти с повинной надумал сам, никто его к этому не склонял. Заметив, что Романов теряет остаток сил, Шнеллер решился арестовать Николая Константиновича. Он рассчитывал, что больной Никулин и истерзанный пытками Романов на очной ставке не выдержат и расскажут все, что нужно Шнеллеру. Уверенность окрепла после того, как Романов в конце десятичасового допроса, измученный и обессиленный, прохрипел: — Сведите меня с Никулиным, я все расскажу. Только не мучайте больше. Дайте отдохнуть. Николай Константинович шел к Шнеллеру с твердым намерением защищаться до последней возможности. Он не знал, какие показания дали Беляев и Романов, но надеялся на их стойкость и мужество. Шнеллер принял Никулина подчеркнуто холодно. Развалившись в кресле, он злобно смотрел на стоявшего перед ним невозмутимого человека. — Вы, видимо, догадываетесь, зачем я пригласил вас? — Скажу больше, господин капитан. Я знаю. — Вот как? — Да, знаю. Сюганов уже давно рассказал мне о возникшем у вас подозрении. — Ну что ж? Тогда приступим к делу, господин Никулин. Надеюсь, вы будете благоразумны и не станете осложнять нашу беседу. Вы только что поднялись с постели. Врач говорил мне, что ничего страшного у вас не обнаруживает, но надо беречься. Не так ли? В голосе Шнеллера явно чувствовались издевательские нотки. “Ведет себя так, словно ему все известно”, — подумал Николай Константинович и промолчал. А капитан и не ожидал ответа. Пристально разглядывая собеседника, он цедил сквозь зубы: — Вы хорошо понимаете, господин Никулин, что я мог вас давно арестовать, во всяком случае, сразу же после расстрела Беляева или ареста Романова. Но я ожидал, когда вы подниметесь на ноги. Не торопился. Мы, немцы, — гуманный народ. Садитесь, прошу вас. Шнеллер хмыкнул, встал из-за стола, прошелся по кабинету и повернулся к Николаю Константиновичу. — Я думаю, вы оценили мое терпение? Итак, господин Никулин, карты на стол. Довольно. Ваша игра окончена! Николай Константинович изо всех сил старался казаться спокойным. Он невозмутимо ответил: — Не понимаю, господин капитан, о какой игре может идти речь? — Не понимаете? Удивительно недогадливый человек! Когда вы получили задание от русских склонять наших агентов к явке с повинной? Никулин изобразил на лице самое искреннее недоумение. — Господин капитан! — воскликнул он. — Вы несправедливы ко мне. Если моя верная служба великой Германии — лишь игра в ваших глазах, то и я прошу выложить на стол ваши карты. — Что? Вы вздумали мною командовать? Шнеллер застыл над сидевшим в глубоком кресле Николаем Константиновичем в угрожающей позе. Казалось, еще минута — и он обрушит свои здоровенные волосатые кулаки на голову Никулина. Но тот словно не замечал, что Шнеллер буквально взбешен. — Я хочу внести ясность в это нелепое дело и рассеять ваши подозрения, господин капитан. Сделать это можно лишь при том условии, если я буду знать, в чем меня обвиняют, на чем основано обвинение. — Вы — советский агент и по заданию чекистов склонили к явке с повинной Подиярова, Беляева, Романова. Вы — предатель, вы изменили великой Германии, фюреру! Теперь вам ясно, в чем ваша вина? — кричал, распалившись, Шнеллер. — Нет, не ясно, — с прежним спокойствием отвечал Николай Константинович. Шнеллер достал платок и вытер вспотевшее лицо. Отдышался. Не давая ему вымолвить ни слова, Никулин продолжал: — Господин Шнеллер, вы же сами меня учили, как нужно держаться на допросе в советской контрразведке. Помните, как говорили мне, что нужно требовать доказательства своей вины, не позволять запутывать себя. Я очень хорошо усвоил это. Потому и у вас прошу доказательств того, что я склонял к явке с повинной Подиярова, Беляева, Романова. — Доказательства будут. Они есть. — Прошу предъявить их. Вы обвиняете меня, а я ни в чем не виноват. — Вы были близки с этими людьми, не раз беседовали с ними. — Такое обвинение можно предъявить каждому саласпилсцу и прежде всего господину Сюганову, который считается старшим среди нас. Он-то действительно был близок с Подияровым и Романовым. А я если и беседовал с ними, то лишь потому, что рассказывал — и вы можете справиться у любого, что дело обстояло именно так, а не иначе, — как я выполнял задание господина Шиммеля в тылу русских, учил их, как нужно действовать. Если это, по-вашему, враждебная обработка, то в чем тогда заключается верное служение фюреру? — Кого и как вы учили действовать, известно. Сейчас я продемонстрирую, чему вы учили Романова. Отдав приказание ввести Романова, Шнеллер сел за стол. У Никулина екнуло сердце. Очная ставка с Романовым? Неужели предал? Или в горячке проговорился? Тогда конец. Ввели Романова. Трудно было узнать в нем того бойкого паренька, который рвался к своим и с таким жаром доказывал, что оказался в плену случайно, хотя и является сыном высланного кулака. Пытки сделали свое. Обезображенное распухшее лицо, запекшаяся кровь на рубашке, густая седина в волосах. Не глядя на окружающих, он плюхнулся на стул и замер в тревожном ожидании. “Еле жив парень, — подумал Никулин. — Неужели выдал?” — Что ты хотел сказать Никулину? — обратился Шнеллер к Романову. Тот молчал, видимо собираясь с силами. Шнеллер торопил его. — Говори, как Никулин предательски склонял тебя изменить фюреру и прийти с повинной к русским. Романов медленно обвел взором кабинет, посмотрел на Николая Константиновича, на Шнеллера, перевел взгляд на портрет Гитлера и начал смеяться. Сначала тихо, затем все громче и громче… Беззубый рот его почти не раскрывался. Сквозь распухшие разбитые губы виднелась лишь черная узкая щель. Это было страшное зрелище. Казалось, что Романов сошел с ума. Шнеллер даже растерялся, застыл у стола в каком-то оцепенении. Внезапно смех затих. Четко, голосом, полным отвращения и ненависти, Романов сказал: — Да, я хотел сказать этому господину Никулину, что он подлец, грязное ничтожество, которому противно плюнуть в морду. Вы спрашиваете, предатель ли он? Да! Предатель! Он предал свою Родину, которая вскормила и воспитала его. Смотрите, как он дрожит за свою поганую шкуру. И эта тля решилась бы склонять меня к явке с повинной? Нашли патриота! Он, мерзавец, был за линией фронта и по своей воле вернулся, сволочь! Ух, я бы ему… — Хватит! — гневно крикнул Шнеллер. Он быстро подскочил к Романову и с размаху ударил его по лицу. Романов упал на пол. — Убрать! — ревел Шнеллер. — В карцер! Никулина в карцер! Последующие пять дней показались вечностью. Ежедневные многочасовые допросы, побои, пытки… Николай Константинович давно понял, что у Шнеллера нет никаких улик против него. Ни Беляев, ни Романов не выдали своего старшего друга. Но Шнеллер, подобно проигравшемуся игроку, потерял контроль над собой, решил во что бы то ни стало развязать Никулину язык, заставить его признать предъявленные обвинения. Заварив кашу, капитан уже не мог остановиться, хотя и понимал, что, если Рудольф и Шиммель узнают о самоуправстве, ему несдобровать. Не потому, что здоровье и жизнь какого-то русского они ставили выше прихоти арийца. А потому, что, окажись Никулин русским контрразведчиком, их карьере придет печальный конец. Абверовцам припомнят и поражения на “Ораниенбаумском пятачке”, и многочисленные провалы заброшенных в русский тыл агентов, и кое-какие финансовые махинации, и… Впрочем, мало ли что может припомнить гестапо, когда представится удобный случай взыскать со своих соперников и конкурентов — сотрудников неуязвимого адмирала Канариса! Кто-кто, а Гиммлер не упустит такой возможности. Капитан Шнеллер, давний агент Гиммлера, понимал, что разоблачение Никулина будет большим козырем в его руках. И тогда — кто знает, как сложится его карьера! Во всяком случае серо-зеленый мундир капитана вермахта он сбросит с плеч. Ему гораздо более пойдет нарядный черный френч офицера-эсэсовца, быть может, даже оберштурмбанфюрера — полковника войск СС. Для достижения такой цели стоило рискнуть, вызвав недовольство Рудольфа и Шиммеля, тем более что они ничего не знают о судьбе Никулина, и в случае чего можно будет втихомолку отделаться от него. Все знают, что здоровье у Никулина расшатано, так что никто не удивится, если он умрет естественной смертью. А чересчур догадливым и болтливым он, Шнеллер, сумеет заткнуть рты. Николай Константинович держался изо всех сил. Он прекрасно знал обычаи абвера и гестапо. Здесь любого могли расстрелять, не добиваясь никаких признаний. Но то, что Шнеллер упорно возился с ним, пытаясь выколотить нужные показания, вселяло какую-то надежду на спасение. Видимо, Шнеллеру позарез необходимо его признание. В “Абверштелле-Остланд” и в “Штабе Валли” в таком серьезном вопросе, как опровержение многократно проверенных сведений агента, на слово не поверят. Шиммель сделает все, чтобы не допустить разоблачения Никулина; Шиммель понимает, чем это пахнет для него лично. Не будь этих обстоятельств, барон давно бы расстрелял Никулина, как и любого другого, заподозренного в связи с чекистами, — и делу конец. А тут, чтобы поверили, чтобы выгородить и оправдать себя, нужны достоверные факты, показания. Надо все сделать солидно, убедительно. Поняв все это, Никулин решил набраться терпения и во что бы то ни стало победить в единоборстве со Шнеллером. Неожиданно в допросах наступил перерыв. Прошла неделя, вторая, подходила к концу и третья, а Шнеллер словно забыл о Никулине. Неожиданная пауза дала возможность передохнуть, восстановить силы. Николай Константинович долго ломал голову, пытаясь понять, почему Шнеллер перестал истязать его, но найти разгадку так и не сумел. Да и не мог он, находясь в карцере, лишенный общения с внешним миром, знать, что его, как миллионы других людей, спасло наступление Красной Армии. Наши войска неудержимо шли вперед. Они разгромили фашистов под Ленинградом и Новгородом, вышли к Прибалтике. Шнеллер спешно готовил школу к эвакуации на запад. Ему в эти дни было не до Никулина, которымможно было заняться и на новом месте. В случае чего барон решил покончить с ним, как только придется оставить Валку. Кто спросит с него за какого-то Никулина, за провалы десятка агентов, если проиграна битва за Ленинград и немецкие войска отступают в Прибалтику? Неудачи Шнеллера на этом фоне — мелочь, о которой не будут и говорить. На фронте между тем наступило затишье. Войска Ленинградского, Волховского, Второго Прибалтийского фронтов, выполнив задачи, поставленные Ставкой Советского Верховного Главнокомандования, вышли на рубеж Нарва–Луга. Для продолжения наступления требовалось перегруппировать и пополнить дивизии, подтянуть тылы, подвезти новую технику, оружие и боеприпасы. Генерал-фельдмаршал Кюхлер получил долгожданную передышку и по требованию Гитлера готовился удерживать Прибалтику до последнего солдата. Берлин метал гром и молнии, приказывал стоять насмерть. Кюхлер требовал от Шиммеля подробных данных о советских войсках. Фронт откатился на запад, и разведку приходилось налаживать вновь. Эту задачу могли выполнить только опытные, проверенные, преданные фашистской Германии агенты. Шиммель вспомнил о Никулине, Аббасе, Громове. Он решил съездить в Валкскую школу, чтобы отобрать людей для фронтовой разведки, а заодно вручить Никулину медаль, которой тот был награжден. Шиммель был доволен собой и счастлив: лишь накануне ему было присвоено звание полковника. Рудольф получил орден, а Фиш — заветное звание майора. Собираясь в путь, Шиммель то и дело поглядывал в зеркало, любуясь сверкающими жгутами полковничьих погон. Прихватив с собой Рудольфа, Шиммель отправился в Валку. Приезд начальства был полной неожиданностью для Шнеллера. Он хотя и растерялся, но заметил полковничьи погоны у Шиммеля и новую орденскую колодку на груди у Рудольфа. Барон со злобой и завистью посмотрел на счастливчиков, но, как и подобает подчиненному, восторженно поздравил обоих. Шиммель внимательно выслушал доклад Шнеллера об аресте Николая Константиновича, посмотрел на Рудольфа, охваченного яростью и недоумением, и недовольно хмыкнул: — Гм… Я приехал вручить Никулину награду за успешное выполнение разведывательного задания, а вы его арестовали, подозревая, что он врал нам. Интересно. Какие вы имеете материалы, где доказательства измены Никулина? Шнеллер быстро достал из сейфа папку с бумагами и подал Шиммелю. Тот, не торопясь, уселся в кресло, пригласил сесть всех и начал листать документы. Шнеллер подался вперед, готовый в любую минуту дать объяснение. Он заглядывал через стол, издали наблюдая, какую страницу и какой документ читает Шиммель. — Хм… И все это вы называете доказательствами? Сообщения Сюганова, Громова о том, что Никулин встречался и разговаривал с теми, кто не вернулся с задания, а также с Беляевым и Романовым. И все. О чем же они говорили? Надеюсь, вы достоверно установили это? — Я п-полагал, что если Никулина хорошо доп-про-сить, то он п-признается, — начал заикаться Шнеллер. Барон понял, что Шиммель и Рудольф недовольны арестом Никулина, раскусили его нехитрый замысел, и теперь ему придется отвечать за последствия необдуманного поступка. — Странные дела творятся здесь, господин Шнеллер. Я понимаю вашу озабоченность тем, что некоторые агенты приходят с повинной к русским. Она естественна для начальника школы, и, откровенно признаться, на вашем месте я волновался бы гораздо больше. Но как можно опытного агента Никулина, награжденного фюрером, арестовать, даже не поставив об этом в известность меня или господина Рудольфа? Удивительно и непонятно. — Что говорил Романов о своей связи с Никулиным? — спросил все время молчавший Рудольф. — Он заявил, что Никулин никогда не склонял его к явке с повинной. — Единственный свидетель — и тот не дал компрометирующих показаний, — резко заметил Шиммель. — За что же вы арестовали Никулина? — У меня были подозрения… — принялся оправдываться Шнеллер. — Приведите Никулина, — не стал слушать его Шиммель. Через некоторое время в кабинет ввели Николая Константиновича. Даже видавшим виды Шиммелю и Рудольфу неприятно было смотреть на обезображенное лицо, руки Никулина. “Как его разделал этот болван”, — подумал Шиммель и с неприязнью посмотрел на Шнеллера. Под холодным осуждающим взглядом начальника тот вжался в кресло и притих. Он ушам своим не поверил, когда услышал резкий голос Шиммеля: — Господин Никулин, все, что с вами здесь произошло, — ошибка. Немецкое командование приносит вам извинения. После короткого молчания Николай Константинович с трудом проговорил: — Я счастлив, господин полковник, что вы объективно разобрались в том нелепом обвинении, которое предъявлял мне капитан Шнеллер. Поняв, что Шиммель и Рудольф не поддерживают Шнеллера, Николай Константинович решил воспользоваться моментом, чтобы отомстить ему за свои страдания. — Я очень прошу, господин полковник, если вы сочтете возможным и нужным сделать это, обратить внимание на причины наших неудач за линией фронта. Господин Шнеллер пытался свалить всю вину на несуществующего русского агента в школе. Козлом отпущения он избрал меня. Но здесь дело не в предательстве, а в порядках, существующих в школе. Шнеллер насторожился, глаза его беспокойно перебегали по лицам Шиммеля и Рудольфа, а те приготовились слушать. — Господин Шнеллер ввел в школе систему жестоких наказаний за малейший просчет. Люди боятся его. Никто не уверен в том, что, вернувшись с задания, он не будет оклеветан, брошен в карцер, подвергнут пыткам, как это сделали со мной. Я честно выполнил задание, и вы знаете это. Господин Фиш говорил, что меня представили к награде. И вот вместо награды фюрера меня арестовывают, не имея никаких оснований, пытают и заставляют признать то, что в каких-то своих целях диктует капитан Шнеллер. В такой обстановке наши люди предпочитают оставаться на той стороне. В военное время, имея надежные документы, они сравнительно легко могут легализоваться и жить, не боясь преследования русской контрразведки. Этого не способен понять господин Шнеллер. Он не вникает в психологию человека и действует грубо, топорно, чем в немалой степени вредит делу. Следовательно, он и является косвенным виновником наших неудач и поражений. Никулин говорил спокойно, уверенно, и Шиммель во многом соглашался с ним. “По всему видно, что этот русский — бесстрашный и прямой человек”, — думал полковник, слушая неторопливую и рассудительную речь своего агента. Но Шиммель видел и другое. Осуждая Шнеллера, Никулин подверг резкой критике всю систему немецкой разведки. Поэтому он постарался прервать неприятный разговор: — Господин Никулин, я во многом могу согласиться с вами, но теперь речь не об этом. Я приехал с господином Рудольфом, чтобы попросить вас выполнить важное задание в тылу русских, но теперь вижу… — Тут Шиммель развел руками, показывая, что говорить о задании не приходится. Обращаясь к Шнеллеру, он приказал: — Освободите господина Никулина и сегодня же направьте в дом отдыха. Вы свободны, господин Никулин. Николай Константинович вышел, тяжело переводя дух. Дорого ему стоили встречи со Шнеллером. Зато теперь он едет туда, где у него есть явки, полученные от генерала Быстрова. Можно будет переслать своим списки и фотографии. Пора достать их из тайника. Конечно, опасно сейчас везти фотографии с собой. Но иного выхода нет. Придется рискнуть. И прежде чем отправиться домой, Никулин отодвинул заветный кирпич, быстро сунул тонкую пачку за подпоротую подкладку голенища. Теперь ничто не удерживало его в Валке. Если дорогой не обыщут, все будет хорошо. А в кабинете продолжался разговор между абверовцами. — Когда-то и я, господин капитан, подозревал Никулина в связях с русской контрразведкой, — говорил Шиммель. — Сомневаться и подозревать — это долг немецкого офицера. Но он прошел проверку. Вы едва не уничтожили нужного человека. Никулин прав. Вы не можете руководить школой абвера. Считайте себя командиром роты войск СС и готовьтесь принять участие в карательной экспедиции против партизан. Эта роль вам больше подходит. — Но, господин полковник, — пролепетал Шнеллер, — из-за этого русского… — Об этом русском знает адмирал Канарис. И вам придется хорошо потрудиться в прибалтийских лесах, чтобы мы с чистой совестью могли донести ему: “Барон Шнеллер наконец-то искупил свою вину перед абвером”.Глава десятая Вилла Шрамма
Узнав о том, что в доме отдыха ему предстоит провести целый месяц, Никулин искренне обрадовался. И не только потому, что хотелось пожить в человеческих условиях, прийти в себя после пыток и карцера. Дом отдыха находился на довольно крупной железнодорожной станции. Неподалеку от нее проходила линия фронта, а в окрестных лесах активно действовали партизанские отряды. Чекисты сообщили Никулину явки, пароли, адреса нескольких подпольщиков, которые могут помочь связаться с партизанами. Появилась реальная возможность установить надежный контакт со своими. Тем более что в доме отдыха агенты имели больше свободного времени. Валку Никулин покидал с легким и радостным чувством. Он неплохо поработал здесь, выполняя задание генерала Быстрова. Ночью Николай Константинович направился на железнодорожную станцию, занял свое место в купе. Сопровождавший его фельдфебель, едва забравшись в вагон, растянулся на лавке и захрапел. А Никулин уснуть не мог. Снова и снова ворошил он в памяти десятки фамилий, имен, вспоминал приметы людей, с которыми встречался в немецком тылу. В числе его знакомых были люди, разные и по характерам, и по убеждениям. Одни — лютые враги Советской власти, другие — до конца оставались патриотами. И он, чекист, обязан сделать все, чтобы предатели не ушли от справедливого суда, а герои, погибшие безымянными в фашистских застенках, стали известными народу. Едва поезд остановился у перрона, в небе появились советские самолеты. На железнодорожные составы, станционные постройки посыпались бомбы. Разрывы корежили стрелки, рельсы. То тут, то там вспыхивали пожары. Никулин с фельдфебелем успели в числе первых выскочить на привокзальную площадь. Здесь они заметили присланную за ними машину. Шофер уже разворачивал ее, собираясь удрать. Но фельдфебель грозным окриком остановил солдата и вместе с Николаем Константиновичем вскочил в машину. Она тут же рванула вперед и понеслась за город, где на берегу живописного озера стоял двухэтажный каменный дворец, принадлежавший до революции крупному помещику. В годы Советской власти в доме располагалась профсоюзная здравница. Захватив город, немцы оставили санаторий в нетронутом виде. Они намеревались расположить здесь госпиталь, но вмешался Шиммель и добился передачи санатория под дом отдыха для офицеров и агентов “Абверкоманды-104”. Просторный дом, окруженный прекрасным парком с березовыми и тополиными аллеями, уютные тихие спальни, гостиные, украшенные коврами, великолепная столовая, разнообразные игры — все было к услугам отдыхающих. Видимость полной свободы, безопасности расслабляла внимание, настраивала на благодушный лад. Но абвер и здесь был верен себе. Он не мог оставлять без наблюдения своих агентов, полностью доверять им. И в доме отдыха продолжалась проверка как тех, кто вернулся, выполнив задание, так и тех, кто готовился к переходу в тыл советских войск. Поэтому среди персонала дома отдыха находилось немало агентов контрразведки. Десятки глаз контролировали каждый шаг любого постояльца. Думать о том, чтобы незаметно ускользнуть от надзора, попытаться связаться со своими — не приходилось. А рисковать Никулин не мог: теперь малейшее подозрение, возникшее у немцев, могло свести на нет все результаты его кропотливого труда. Чекист терпеливо выжидал, пристально присматриваясь к обитателям дома отдыха. Многих из них он встретил впервые. Но кое-кто ему был знаком еще по Валкской школе. Здесь, например, на хозяйственной работе оказался пропагандист Владимир, изгнанный Шнеллером в минуту гнева. Встретились как старые знакомые. — Понимаете, — объяснял Владимир Никулину, — не нашли мы общего языка с господином Шнеллером. Пришлось оставить преподавание. Вот теперь заведую хозяйством дома отдыха. — И довольны? — поинтересовался Николай Константинович. — Как сказать… Здесь я оказался за бортом политической борьбы. Это угнетает. А впрочем… Простите, мне надо торопиться. Владимир не договорил и отправился куда-то. Никулин подумал: “Видали, какой политический борец нашелся. Одно слово — “Боже, царя храни”, — вспомнил он прозвище, которым Владимира наградили в Валке. — Еще встретимся, поговорим, — пообещал, удаляясь, Владимир. — Пожалуйста. Рад буду, — ответил Николай Константинович. Большой интерес Никулина вызвала бывшая партизанка Нина Зимина. Ее вместе с мужем захватили немцы во время одной из карательных операций. Самого “Зимина абверовцы сумели завербовать и направить в партизанский отряд с заданием, а ее оставили в качестве заложницы. Владимир взял испуганную женщину под свое “покровительство” и склонил к сожительству. — Куда я теперь денусь, — не раз жаловалась Нина Зимина Николаю Константиновичу. — Если мой не вернется — меня расстреляют. А он такой — уйдет и не вспомнит. На Владимира тоже надежда плоха. Что я для него? Игрушка. Никулин помалкивал. Что он мог сказать, чем утешить эту растерявшуюся женщину. — Ты с Ниной поосторожней, — как-то обмолвился Иван Кошелев, его старый знакомый по разведшколе. — Кажется, она на гестапо работает. — А мне-то чего? — вскинулся Николай Константинович. — Я перед немцами чист. — Ты, говорят, уже сделал “ходку” на ту сторону? — допытывался Кошелев. — Был, вернулся. — Ну и как? — Обыкновенно. Ходи, смотри, мотай на ус. Вернешься — расскажешь. Вот и все. — Попадаются, говорят, многие. — Это уж дело такое. Одного поймают, другой сам с повинной придет. Как кому повезет. — Да, заявись… Небось сразу к стенке… — Вот чего не знаю, того не знаю. Я, к примеру, не пойду добровольно сдаваться. На той стороне по головке меня не погладят. А кто вины за собой не чует, тот, бывает, и идет. Про Горошко слышал? — Это какой Горошко? Который с нами в Валкской школе учился? — Он самый. Так вот его на переправочном пункте в Сиверском Фиш при мне почем зря матом крыл. Правда, только заочно — тот успел с повинной явиться. Много немцам вреда причинил. Вроде ни судить, ни наказывать его не стали. А может, просто болтают. — Все может быть, — согласился Иван Кошелев и, задумавшись, отошел к своему напарнику, с которым готовился к переходу линии фронта. Они долго о чем-то шептались. Николай Константинович догадывался о чем и исподволь подталкивал их в нужном направлении. Как-то Иван Кошелев пригласил Никулина “встряхнуться”. — Через два дня ухожу на задание, — сказал он. — Обратно не вернусь. Пойдем выпьем на прощание. — Ну-ну, — согласился Николай Константинович, — отчего же не выпить? Это всегда можно. Только ты языком поменьше лязгай, а то ты шутки шутишь, а услышит кто — и до греха недалеко. — Тебя-то я не первый день знаю. Доносить не пойдешь. — Ну, а напарник твой? — А он как хочет. Я сам по себе. Иван Кошелев “темнил”. Никулин догадывался, что приятели сговорились действовать сообща. Он мельком взглянул на своего собеседника. Смуглый, черноволосый парень шагал твердо, уверенно. Несмотря на небольшой рост, он казался крепким, недюжинной силы человеком. “А что, если попробовать переслать с ним через фронт сообщение о тех агентах, которых недавно отправили на Сиверский переправочный пункт для заброски в Тыл советских войск, и о тех, кто отдыхает здесь? Пора дать знать о себе генералу Быстрову”, — подумал Николай Константинович. Но тут же отбросил эту мысль. Если бы он даже на все сто процентов был уверен в решимости Кошелева явиться с повинной, то все равно не мог раскрывать себя. Кошелева при переходе могут обстрелять, убить, устроить внезапную проверку, обыскать. Нет, для связи требовалось искать другого человека. Думая каждый о своем, Никулин и Кошелев подошли к покосившемуся деревянному домику на окраине города. Здесь жила толстая, глупая и невероятно распутная баба, кухарка из дома отдыха, известная среди отдыхающих по прозвищу “Маша-бомбовоз”. Едва ли не каждый отдыхающий сводил с ней знакомство. Она безотказно принимала любого. — Готовь, Маша, выпивку, закуску — прощаться пришел, — сказал Кошелев, швыряя на стол пачку рейхсмарок. В отличие от оккупационных они считались “надежными” деньгами и пользовались спросом на черном рынке. Жадно схватив щедрое приношение, Маша заметалась по избе. На столе появились грибы, соленые огурцы, сало. Откуда-то из подполья хозяйка извлекла объемистую запотевшую бутыль и пригласила гостей к столу. Выпили, закусили. Хмель быстро ударил Маше в голову. Переводя заплывшие жиром глазки с Кошелева на Никулина, она игриво спросила: — Вы что ж, так вдвоем у меня и останетесь али подмогу привести? Николай Константинович даже выругался про себя — вот дрянь, но вслух подхватил: — В компании веселей. Зови подружку! — Я — мигом! Маша убежала, а Никулин, оставив Ивана расправляться с яичницей, прошелся по комнате. Пузатый комод с неизменными слониками и гипсовой раскрашенной кошкой, большая застекленная рама с фотографиями, икона с рушником в правом углу, обтянутый сафьяном альбом с немецкой надписью — явно подарок кого-то из многочисленных поклонников. От нечего делать Николай Константинович начал перелистывать альбом. Виды немецких городов, рождественские открытки с сусальной позолотой, киноартисты и артистки со стандартными улыбками, целующиеся парочки и пронзенные стрелами багровые сердца… Все это наводило тоску, и, чистосердечно зевнув, Никулин хотел было захлопнуть альбом, но тут его взор привлекла фотография худощавого морщинистого мужчины со злым взглядом. Этого человека Николай Константинович знал очень хорошо. Его звали Аббас. Как очутился портрет абверовского палача в альбоме? Николай Константинович стал быстро листать страницы. Мелькали лица незнакомых людей в немецких военных мундирах, в цивильном платье. Вот фото авантюриста и ханжи “отца Алексия” или просто “попа”. Никулин встречал его в Гуцаловском лагере и знал, что это убежденный враг Советской власти. Вот фельдфебель Безверхий, награжденный двумя медалями за успешное выполнение диверсионных заданий… Этих фотографий у Никулина не было. “Ценная находка”, — подумал Николай Константинович. Он решил переправить их в советскую контрразведку. С равнодушным видом отойдя от комода, Никулин сказал Кошелеву: — Я тут останусь. Не возражаешь? — А мне что? Оставайся. В сенях скрипнули двери, раздались торопливые шаги, и в комнату вошла Мария в сопровождении молодой женщины. — Это Катя, — представила хозяйка квартиры свою подружку. — Ладно, давай за стол, гулять будем, — буркнул в ответ Кошелев, наполняя стаканы. Самогон развязал языки. Николай Константинович рассказал несколько подходящих к случаю анекдотов. Катя запела старинный романс про бедную влюбленную девушку. Время пролетело незаметно. Уже стемнело, когда Кошелев с Катей ушли. Маша принялась убирать со стола. Никулин вновь подошел к комоду, небрежно взял альбом. Развернув его, он неожиданно злобным тоном спросил: — Это что у тебя за портреты? — А ваши ж хлопцы, те, с которыми я гуляла. На память дарили… — Та-ак. На память, значит… А знаешь, что люди эти, как пошли на ту сторону, так и пропали? Долго мы ломали голову, разгадывая, какая это сволочь выдает нас. А ты вот где, оказывается, притаилась. А ну, говори, сколько тебе большевики за каждую душу платят? Хмель вылетел из головы Марии. Испуганно вытаращив глаза, она затараторила: — Ой, что ж это вы, люди добрые! Да чтоб я, да никогда! Как такое и подумать могли? — Вот сведу тебя в гестапо, там по-другому заговоришь… — Не губи ты меня, — бухнулась в ноги испуганная до смерти Мария. — По дури, по глупости бабьей я те карточки собирала. Да чтоб им пусто было. Вот, смотри, сейчас при тебе сожгу… — Вот как? Ты следы заметаешь, а я потом отвечай? Знал, мол, да помалкивал… Знаешь, что мне за это будет? — Господи, что ж делать? — рыдала женщина. Почувствовав, что напугана она достаточно, Николай Константинович решил “сжалиться”. — Ну, ладно. Женщина ты ласковая, обходительная. Жаль такую под топор отправлять. Возьму грех на душу, скрою твою вину. Но и ты держи язык за зубами. Впрочем, чтобы надежней было, я портретики с собой унесу. Проболтаешься, пеняй на себя. — Ай, спасибо тебе, Николай, аи, спасибо, — обрадованно затараторила Маша, не зная, как угодить доброму человеку. В руках Никулина теперь были не только списки агентов, но и снимки наиболее опасных из них. Требовалось лишь срочно переправить полученный материал к своим. На другой день к Николаю Константиновичу неожиданно подошел Владимир и сказал: — Сегодня никуда из дома отдыха не отлучайся. Звонил полковник Шиммель, хочет тебя видеть. — Слушаюсь, — ответил Никулин. За последнее время между ним и Владимиром сложились довольно близкие отношения. Не раз встречались как давние знакомые, беседовали. Никулин заметил, что в сознании Владимира происходит какой-то поворот. Он открыто говорил о своей тоске по России, а когда напивался, что в последнее время делал довольно часто, вовсю ругал немцев. Они, дескать, хотят Россию ограбить и по миру пустить, за ними, колбасниками, надо следить в оба. Трудно было разобраться в его действительных взглядах, в мотивах противоречивых поступков. Владимир и сам не сумел бы сделать этого. Откровенно говорить с ним Никулин не хотел. Не исключено, что внезапным дружеским чувством он воспылал по заданию контрразведки. Может быть. Но Владимир все-таки интересовал чекиста. Как-то по пьянке Владимир проговорился о том, что немцы создают в Тильзите новую шпионскую школу, куда отбирают наиболее доверенных агентов. Николай Константинович поставил себе целью проникнуть туда, как только передаст собранные сведения генералу Быстрову. Наиболее подходящей кандидатурой для роли связного Никулин считал Нину Зимину. Немцы ее не принимали всерьез. Она ни у кого не вызывала подозрений. Все считали ее малодушной и порочной женщиной. Наблюдая за Зиминой, Николай Константинович убедился, что больше всего ей хотелось бы удрать из дома отдыха. От побега ее удерживала лишь нерешительность, боязнь ответственности за связь с Владимиром. Женщина не видела выхода из той пропасти, в которую была брошена гитлеровцами. Ее еще можно было наставить на правильный путь. Но вначале следовало избавиться от Владимира, в присутствии которого Зимина буквально тряслась от страха. Никулин принялся искать пути к намеченной цели. И вот теперь представился очень удобный случай. К обеду в дом отдыха приехал полковник Шиммель. Торжественный, подтянутый, он собрал весь персонал в столовой за празднично убранными столами. — Господа! — торжественно провозгласил полковник. — От имени немецкого командования я должен вручить верному солдату фюрера господину Никулину “Бронзовую медаль с мечами” за активную борьбу с большевизмом. Хайль! — Зиг хайль! — воскликнул и Николай Константинович, принимая бронзовую побрякушку из рук своего начальника. Публичным вручением награды Шиммель рассчитывал, с одной стороны, поощрить агента за верную службу, с другой — подбодрить тех, кто отправляется на задание. Показать, как немецкая армия ценит своих героев. Выпив немного коньяку, полковник поднялся из-за стола и позвал с собой Никулина в соседнюю комнату. — Мы с вами еще успеем напиться, — сказал он. — Давайте на трезвую голову поговорим о деле. Вы хорошо выполнили первое задание. Немецкое командование высоко оценило вашу работу. Готовы ли вы выполнить еще одно задание? Никулин призадумался. Переходить еще раз линию фронта он не мог: генерал Быстров требовал глубже проникнуть в аппарат абвера, разоблачать вражеских агентов, а не возвращаться назад. Но слишком твердый отказ мог насторожить Шиммеля. — Староват я уже для таких “ходок”, здоровье неважное. Боюсь, не сумею справиться. Тут бы, господин полковник, помоложе кого послать. — Хорошо, не будем настаивать. Вы сделали свое дело и заслужили право отдохнуть. Но сейчас еще идет война. Великая Германия нуждается в верных солдатах. Вы должны найти свое место в строю борцов. — Я бы согласился поехать в Тильзит, в разведшколу, — как бы размышляя по поводу предложения Шиммеля, проговорил Никулин. Шиммель насторожился. — Откуда вы знаете о Тильзитской школе? — Владимир как-то сказал. — Болтун, — сквозь зубы процедил Шиммель. — Хорошо, если он только вам об этом сказал. Придется его отправить в Германию. Пусть где-нибудь на заводе поработает, больше пользы принесет. Над вашей просьбой подумаю. Возможно, действительно пошлю в Тильзит к господину Шрамму. Вы ценный человек и вполне достойны такого доверия. В зале, куда возвратился Никулин, попойка была в самом разгаре. Приехавшие с Шиммелем офицеры — разведчики, агенты, готовящиеся к переходу в тыл советских войск, гестаповцы — были уже в той степени опьянения, когда люди теряют контроль над своими поступками. Николай Константинович взглянул на Владимира. Тот сел на любимого конька и с жаром принялся рассказывать собеседникам, как торжественно въедет русский царь в Москву после победы над большевиками. — В России будет установлен такой порядок, который нужен фюреру. Думаю, что для царя там места не найдется, — бросил кто-то из присутствующих агентов. Владимира прорвало: — Святую Русь хочешь немецким хлевом сделать? И ради этого ты против своих пошел! Эх ты, идиот! Ну, я ненавижу большевиков. Так я — офицер его императорского величества. У меня большевики отобрали все — будущее, богатство, честь, мечты. А вы что потеряли? Вон сидит Иван Кошелев. Ему чем Советская власть не угодила? Сын мужика, он как хамом был, так бы пм навеки и остался. А при коммунистах он образование получил, офицером стал. Чего он к немцам полез? Натура холуйская не выдержала. Эх вы, людишки! Да вас всех вместе с фрицами давить надо, как клопов! Распалившись, Владимир не заметил, как за столом воцарилась тишина. Два дюжих гестаповца поднялись с места, подошли к Владимиру. — Прекрасно, прекрасно, — ласково пропел один из них. С профессиональным мастерством они скрутили Владимиру руки, зажали рот, резким рывком толкнули к двери. Только теперь, видимо, Владимир осознал случившееся. От гестапо ему не спастись, не отмолиться. Отчаянным рывком он сумел вывернуться, схватился было за пистолет. Но гестаповцы снова скрутили его. — Уберите этого подлеца отсюда, — коротко приказал появившийся на шум Шиммель. На улице глухо щелкнул выстрел. С Владимиром все было кончено. В тот же вечер Никулин беседовал с Ниной Зиминой. — У меня есть адрес надежного человека. Он поможет тебе уйти в лес, вернуться к партизанам. Это твой единственный шанс оправдаться перед своими, — говорил чекист Нине. — Владимира немцы убили. Следить за тобой некому. Вот бери этот пакет и иди в город. Тебя отведут в лес. Командиру партизанского отряда скажешь… Подробно проинструктировав Нину Зимину, Никулин проводил ее в дорогу. А на следующий день и сам поездом выехал в Тильзит. …В Тильзите возле большого моста через Неман горделиво высилась массивная, построенная еще в 1210 году кирха. Похожая на средневековый замок немецкого феодала, она с угрозой смотрела за реку на восток. Туда были устремлены агрессивные взгляды псов-рыцарей, прусских юнкеров и их наследников — офицеров гитлеровского вермахта. Здесь, на самой границе Восточной Пруссии, абвер держал свое отделение, замаскированное под невинную контору по сплаву леса. Она носила название “Хольмессамт”. Возглавлял предприятие господин Эрнст Шрамм. Контора его располагалась на Дойчштрассе, 74 — как раз напротив кирхи. Но подлинная деятельность господина Шрамма протекала не здесь, а километрах в двенадцати от Тильзита, в укромном месте за дамбой при впадении в Неман небольшой речушки. Укрытый от посторонних взоров хуторок был великолепным местом для шпионской школы. Два жилых дома, небольшая баня, сарай — вот вся усадьба. Сюда и привезли Никулина. На вилле Шрамма собралось более ста шпионов. Они не были новичками в разведке. Каждый из них в свое время отличился перед немцами. Чем больше поражений терпели фашисты, тем более озверело и безрассудно они действовали. Подобная картина наблюдалась и в абвере. Если раньше абвер ограничивался разведкой передовых линий обороны советских войск и их неглубоких тылов, то сейчас адмирал Канарис поставил перед “Штабом Валли” задачу посложнее. По его указанию на вилле Шрамма надо было подготовить несколько больших групп агентов-диверсантов и забросить их в глубокие тылы Советского Союза — на Волгу, Урал, в другие крупные промышленные районы. Диверсанты должны были взрывать и поджигать важные объекты, убивать видных советских политических и государственных деятелей. Для выполнения этих заданий немецкие разведчики подобрали и соответствующих людей. На вилле Шрамма Николай Константинович встретил давних знакомых: Аббаса, фельдфебеля Безверхого, Саблукова, “отца Алексия”. Здесь были и полицаи, известные своими зверствами в лагерях военнопленных. Почти каждый из этих предателей имел по две–три медали за заслуги перед фашистами. На вилле Шрамма собрались отъявленные враги советского народа. Николай Константинович мысленно благодарил покойного Владимира и Шиммеля за то, что с их помощью ему удалось попасть в Тильзит. Он мог теперь известить генерала Быстрова и советских контрразведчиков о замыслах, которые вынашивались здесь. — Скоро вы приступите к занятиям, — говорил Шрамм. Но исход войны был уже предрешен. Советские дивизии все ближе и ближе подходили к фашистскому логову. Гитлеровцы лихорадочно готовились к обороне Тильзита. Этот город, третий по величине в Восточной. Пруссии, был ключевым в немецкой обороне. Отсюда открывалась прямая дорога на Кенигсберг. Дорожный указатель, установленный возле кирхи на площади Флешерплатц, оповещал, что до столицы Восточной Пруссии всего сто двадцать километров. Фашисты сформировали для защиты Тильзита части из местного населения. Они считали, что пруссаки будут особенно стойко оборонять свои жилища. Город был изрыт траншеями. За толстыми каменными стенами стоявших на набережной домов укрывались расчеты пулеметов и орудий. Перед мостом королевы Луизы, отделяющим Восточную Пруссию от Литвы, была вырыта траншея, протянувшаяся дугой от тротуара к тротуару. Началась эвакуация населения. Уехала в Германию даже секретарша Шрамма — фрау Лидия. А самому Шрамму пришлось натянуть мундир фельдфебеля и отправиться на фронт. В создавшихся условиях заниматься подготовкой агентуры немцы не могли. Собранных на вилле Шрамма разведчиков они распределили на различные работы — кого на пилораму, кого в батраки, чтобы хлеб даром не ели. Николая Константиновича по особой рекомендации Шрамма направили в кирху подручным старика служителя. Незаметно подошла осень. Ранний снежок запорошил гранит Дойчштрассе, побелил медного орла на шпиле ратуши, осыпал бронзовые стрелки, сияющие на черном циферблате башенных часов старинной кирхи. Советские войска уже вышли на подступы к Тильзиту. Николай Константинович намеревался собрать наиболее опасных диверсантов в одну группу и вывести их к нашим войскам, чтобы предатели не смогли бежать в Германию или вернуться в толпе беженцев на советскую землю. С этой целью он встретился с одним из агентов — Васильевым. Васильев, пожилой мужчина, опытный немецкий разведчик, окончивший школу в Восточной Пруссии, москвич по, рождению, не раз в беседах с Николаем Константиновичем высказывал сожаление, что связался с немцами, запутался в их грязном деле. Гитлеровцы наградили его бронзовой и серебряной медалями. Он выполнял какие-то важные задания на Украине, о которых предпочитал помалкивать. — Ну, что ты намереваешься делать? — спросил Васильев Никулина. — Побежишь в Германию? — На мой взгляд, пора выходить из игры. — А как? — Надо собрать человек тридцать из наших и под видом освобожденных из плена выйти к русским. Сейчас каша такая, что разбираться особо не будут. Раз-два — и в маршевую. Документы получим, тогда ищи нас. — А зачем группой собираться? Вдвоем легче. — Вот чудак! Нас же обязательно проверят. Когда тридцать — сорок человек одно и то же говорить начнут — все будет шито-крыто. А двоим могут не поверить. — Да, ты прав, — кивнул Васильев. К вечеру диверсанты, собравшись группой, затесались в толпу беженцев, уходящих к Кенигсбергу. Нескончаемые людские потоки лились по дорогам. Они мешали идущим к фронту немецким войскам. И танки врезались в толпы беженцев, прокладывая себе кровавую дорогу вперед. Гитлеровцы не удержали Тильзита. Напрасно они взорвали мост через Неман, напрасно громоздили баррикады на его восточных окраинах. В один из мглистых январских вечеров сорок пятого года девятьсот девяносто седьмой стрелковый полк под командованием подполковника Рогалева и части двести шестьдесят третьей Сивашской стрелковой дивизии полковника Черепанова форсировали Неман и с разных сторон ворвались в город. А наутро — первое утро новой жизни города — над ним взошло яркое солнце. В центре Тильзита, на площади у кирхи, встал первый советский регулировщик младший сержант Постнов. Мимо него шли колонны войск. Шли к победе. В этом потоке войск был и подполковник Богданов. В его сердце теплилась надежда встретиться где-то на фронтовых дорогах со своим другом. Генерал Быстров рассказывал, что Никулин жив, дал о себе знать, прислал ценные сведения об агентуре абвера. Благодаря полученным от него сведениям в тылах советских войск и среди бегущих на запад немецких пособников удалось разыскать много вражеских лазутчиков. Но, как часто бывало на войне, Богданов проехал мимо Никулина буквально в двух шагах. Они разминулись в небольшом городе Хайнрихсвальде (ныне Славск). Задержись Богданов всего на сутки в этом городке — и он встретил бы друга. Но наши войска спешили на Кенигсберг. Никулин привел свою группу в Хайнрихсвальде. Каждый абверовец имел тщательно разработанную легенду о своем прошлом, проверить которую было нелегко. Вокруг Никулина собрались опытные и бывалые люди. Они знали, как прятать концы, — не напрасно учились в немецких разведывательных школах. Как старший, Николай Константинович расположил группу в одном из домов, а сам якобы отправился к коменданту города. Но он искал контрразведчиков и расспрашивал встречных солдат, как пройти к ним. На ратушной площади ему посчастливилось встретить молодого словоохотливого солдатика, который вызвался не только рассказать, где находятся контрразведчики, но и проводить “к самому их начальнику”. — Давай, давай, веди быстрее, — обрадованно торопил Никулин. Солдатик прибавил шагу, с любопытством расспрашивая на ходу: — А тебе начальник зачем? — Дело есть. — Беда какая случилась? — Хуже. — Это ничего. Начальник наш, майор Воронов, человек простой, веселый. Он завсегда с солдатами, так что не сомневайся, поможет. — Воронов, говоришь? — переспросил Никулин. — Он самый, — подтвердил солдат. — А ты что, знаешь его, что ли? Фамилия Воронова Николаю Константиновичу была абсолютно незнакома. Но разве в этом дело? Главное, что майор — свой, советский человек, которому можно не таясь рассказать обо всем и который поможет довести до конца начатое Никулиным дело. Поэтому Николай Константинович весело ответил: — А как же, знаю. Он — мой лучший друг. С чистосердечным удивлением солдатик оглянулся на Никулина. Он не мог представить, что какой-то беженец, гражданский человек, оказывается, не только знаком, но и дружит с известным майором Вороновым, “самим начальником” дивизионной контрразведки. Но, взглянув на оживленное, радостное лицо Никулина, поверил, что так и есть. Поэтому, подойдя к небольшому домику, огороженному густым кустарником, остановился и почтительно сказал: — Там они. Часовой покажет. Вскоре все тридцать агентов абвера были доставлены в отдел контрразведки. Мокий Демьянович Каращенко снова надел родную форму офицера Советской Армии. Ему пришлось еще много поработать для того, чтобы в потоке перемещенных лиц, в различных лагерях разыскать тех государственных преступников, которые пытались уйти от заслуженного возмездия. Для чекиста война закончилась еще не скоро. Но чтобы рассказать обо всех делах советских контрразведчиков, в которых участвовал и капитан Каращенко, нужно написать не одну книгу. И когда-нибудь они будут написаны.Эпилог
Прошло более двадцати пяти лет после победоносного окончания Великой Отечественной войны. Срок немалый. Как же сложились судьбы людей, о которых написана эта книга? Верный помощник Мокия Демьяновича майор Дудин не вернулся с войны. Судьба его неизвестна. Видимо, погиб в немецкой неволе. Живут и трудятся многие из тех людей, которые по совету Каращенко явились с повинной к генералу Быстрову. Ушли в отставку чекисты, участники описываемых в повести событий. Подвиг Мокия Демьяновича Каращенко высоко оценен Советским правительством. В канун двадцатилетия нашей Победы он был награжден еще одним орденом — Отечественной войны первой степени. Ему вручили и орден Красного Знамени, которым его наградили в годы войны. Мокий Демьянович давно оставил военную службу. Он пенсионер. Прожитые годы и перенесенные испытания не сломили его духа. Он все так же бодр, жизнерадостен. Мы пригласили его в Ригу, побывали на местах минувших событий и услышали обстоятельный рассказ старого чекиста о его боевых делах. Архивные документы, предоставленные нам работниками Комитета госбезопасности, помогли восполнить это повествование. В свое время легендарный борец с фашизмом Юлиус Фучик писал: “Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить о великом времени и безымянных героях. Я хотел бы, чтобы все знали, что не было безымянных героев, а были люди, которые имели свое имя, свой облик, свои мысли и надежды, и поэтому муки самого незаметного из них были не меньше, чем муки того, чье имя войдет в историю. Пусть же эти люди будут всегда близки нам, как друзья, как родные, как вы сами!” Пусть же и нашим читателям станет родным и близким имя рядового солдата незримого фронта Мокия Демьяновича Каращенко — одного из миллионов героев Великой Отечественной войны.А.Зубов Д.Леров А.Сергеев Чекистские были Тайна пятидесяти строк
“Пробный шарик” или…
Всего пятьдесят строк было в набранной нонпарелью заметке одного из зарубежных научных журналов. Журнал выходил в небольшом европейском капиталистическом государстве и пользовался популярностью на всех континентах. Неизвестный автор сообщал об исследованиях в лаборатории видного московского профессора Алексея Михайловича Круглова. Заметка, занявшая скромное место в конце номера, тем не менее стала сенсацией, вызвав оживленные комментарии ученых и много всяких домыслов. В Москве недоумевали, как могли появиться эта заметка? Кто дал информацию о работе, которая пока строго засекречена? Правда, заметка по существу ничего не раскрыла. Более того: в пей, с точки зрения знатоков дела, были, как говорят, общие слова. Скорее всего публикация — “пробный шарик”: авось подумают, что теперь уже нечего секретничать: “Все равно, кто хотел что-нибудь узнать об исследованиях Круглова, тот уже знает…” В институте заметка вызвала тревогу: где-то рядом враг, кто-то пытается проникнуть в тайну научных работ, связанных с аппаратом Круглова “Альфа”. Больше всех, конечно, встревожился сам Алексей Михайлович. Человек уже немолодой, много повидавший и испытавший в жизни, он отлично понимал значение случившегося. В тот день, когда журнал пришел в институт, профессор, казалось, постарел на несколько лет. Его успокаивали, говорили много добрых слов, а он твердил свое: “Опростоволосился”. — Не расстраивайтесь, Алексей Михайлович, — увещевал профессора старый друг, — этим делу не поможешь. Надо действовать, принимать меры… Может быть, охотник за государственными тайнами где-то около нас… Профессор укоризненно посмотрел на коллегу: — Да что вы, бог с вами! — Всякое бывает, Алексей Михайлович… Оставалась еще одна надежда: запросили несколько учреждений — не давали ли там официальной информации для прессы? Ответ пришел отрицательный. Что же делать? После недолгих раздумий Алексей Михайлович позвонил в КГБ.Тревоги профессора
Александр Порфирьевич Птицын аппетитно, со смаком — он понимал в этом толк — отхлебывал небольшими глотками черный кофе и наспех, лишь изредка задерживая свое внимание на каких-то строчках, перечитывал сообщение оперативного сотрудника. Читал он это сообщение не впервые и встречу с профессором Птицын рассматривал как еще один источник, подтверждающий все более четко вырисовывающуюся версию. Впрочем, коррективы могут быть всякие и порой совершенно неожиданные. …Александр Порфирьевич вышел из-за стола навстречу гостю и радушно приветствовал его. — Присаживайтесь, Алексей Михайлович. Не угодно ли кофейку? Не хотите? Как угодно, а я, если разрешите, еще одной чашечкой побалуюсь. Есть такой грех — не равнодушен к сему божественному напитку. Курить будете? Извольте… Профессор был несколько растерян — меньше всего он ожидал такого начала беседы, да еще в таком доме, в кабинете человека, который, казалось бы, должен сейчас по меньшей мере отчитать его, не считаясь с сединами, научными званиями и заслугами. И вот сидит перед профессором человек средних лет, с лицом и манерами рафинированного интеллигента, и сразу не поймешь, кто он — педагог, врач или физик? Мило улыбается, потчует кофейком и не спешит задавать вопросы, будто ничего и не случилось в институте. Профессор решил взять инициативу в свои руки. — Я пришел к вам в связи с неприятным событием во вверенном мне институте… Я хотел бы поделиться своимитревогами. — К вашим услугам. Слушаю. Профессор говорил о вещах, уже хорошо известных Птицыну, но Александр Порфирьевич слушал с таким вниманием, с такой заинтересованностью, будто впервые узнал о таинственной утечке научной информации государственной значимости. — У вас есть какие-нибудь подозрения, хотя бы косвенные, ничтожно малые, не имеющие серьезных оснований? — спросил Птицын. Профессор ответил не сразу. Видимо, он все еще что-то обдумывал, взвешивал. — Видите ли… И снова пауза. — Я вас слушаю, Алексей Михайлович… Давайте условимся — говорить и о том, в чем еще не совсем уверены. Будем вместе решать, что есть истина, а что от лукавого. — Вчера один из моих сотрудников изволил заметить, что, быть может, охотник за государственными тайнами где-то около нас. Я отчитал его. А минувшей ночью не спал, все вспоминал разные события в институтской жизни, сопоставлял. Большие и малые… Всякие мысли бились в стариковской голове. И знаете ли, не имею оснований подозревать кого-либо. — Профессор беспомощно развел руками. — А Петр Максимович Егоров ничего не рассказывал вам о своих встречах с гостившим в нашей стране… И Птицын назвал фамилию иностранного ученого, работавшего в смежной области. — Нет, не рассказывал, — несколько растерянно ответил профессор. — Хотя друг от друга у нас с Егоровым никогда не было тайн. Петр Максимович — мой лучший ученик и ближайший помощник… — Профессор умолк, задумался и вдруг решительно заявил: — Простите, но я исключаю даже самую мысль о нем, как о… Алексей Михайлович говорил быстро, сбивчиво и все время почему-то сосредоточенно смотрел на стол. А потом вдруг, взглянув на собеседника, и вовсе смутился: собеседник улыбался. — Не будем столь категоричны в своих суждениях. Жизнь — сложная штука.Рви цветы, пока цветут…
Натали, как звала ее бабушка, с детства привыкла к шумному обществу в их доме. Отца она не помнила, он погиб на войне, а мать очень быстро перестала горевать. Пианистка, много ездившая по стране с концертными бригадами, она всегда была в окружении веселой компании. И Натали была еще школьницей, когда ей разрешили допоздна засиживаться в обществе маминых друзей. Девушке нравилась жизнь веселых и, может, несколько беззаботных людей. Ей еще не было и восемнадцати, когда за ней стал ухаживать скрипач, сухощавый молодой человек с мужественным лицом. Мама снисходительно относилась к роману. Женщина не очень строгих правил, она сквозь пальцы смотрела на то, как дочь порой уединялась со скрипачом в свой “девичий будуар”. Впрочем, Анну Петровну нельзя было всерьез принимать как мать. Нет, она не была создана для этой, по ее словам, “удивительно скучной работы”. Да и времени не хватало — постоянные разъезды, гастроли… Роль воспитательницы взяла на себя бабушка. Ей уже было далеко за шестьдесят, но она, в прошлом хористка провинциальной оперы, до сих пор подолгу просиживала у зеркала. У нее был свой “моральный кодекс”, требования которого настойчиво внушала она внучке. Главное среди них: “рви цветы, пока цветут, пройдут златые дни, завянут ведь они”. И Натали стала смотреть на жизнь глазами бабушки. Красивая, стройная, неглупая и в меру образованная, она легко завоевывала симпатии молодых и не очень молодых мужчин. Скрипач скоро уступил место театральному администратору. Этот предлагал руку и сердце. Натали молча выслушала его, а потом расхохоталась. — Что вы — с ума спятили, Виктор Александрович! Вы знаете, кем должен быть человек, который сможет взять меня в жены? И, хлопнув дверью, вышла из комнаты. Бабушка была довольна внучкой: “Правильно понимает жизнь…” Трудно сказать, какой дорогой пошла бы Натали после школы, если бы однажды в их доме не появился старший брат покойного отца — Федор Степанович. Это был крупный ученый, которого вопреки его собственному желанию перевели в Москву из южного города. Профессор, горячо любивший брата, считал своим долгом позаботиться о его семье, и в первую очередь о племяннице. До него доходили смутные слухи о том, что жена брата ведет образ жизни, отнюдь не заслуживающий одобрения. И в первые же дни своей московской жизни он убедился, что слухи эти весьма основательны. Тогда он твердо решил: “Мать — уж бог с ней, пусть живет, как хочет, а за племянницу я в ответе… Перед памятью брата”. Профессор частенько наведывался к Натали. Она была в последнем классе школы, когда он повел с ней разговор о будущем и с грустью отметил: увы, бабушкины семена уже пустили глубокие корни. В воскресные дни Федор Степанович увозил племянницу к себе на дачу. Ученый любил прислушиваться к говору ветра, птиц и любоваться тем, как солнечный свет пробивается сквозь густую зелень дремучего леса. Здесь дядя и вел, как он выражался, воскресные “проповеди”, увлекательно говорил о своих исследованиях, о своих учениках, трудом и талантом утверждавших место в жизни. В рассказах ученого вставали перед девушкой удивительно интересные, смелые люди, поистине творящие чудеса. И порой Федору Степановичу казалось, что племянница другими глазами начинает смотреть на мир. Натали поступила в Институт иностранных языков… “Кончит Иняз, — думал профессор, — я ее в научный институт переводчицей определю. Может, так и появится любовь к точным наукам. Или же будет педагогом”. У бабушки были свои планы: выдать внучку замуж за дипломата и отправить за границу. Это, как говорится, программа максимум. Программа минимум — переводчица Интуриста. Что же касается Натали, то она еще ничего не решила. В институте у нее было много друзей. Друзей разных и по-разному оценивающих, что есть счастье человека. Как-то раз у Натали собрались на вечеринку однокурсники. Она была более откровенна, чем всегда, и высказала свое заветное: рви цветы, пока цветут. — Неужели это твое кредо, — допытывался староста их учебной группы Саша. — Неужели ты серьезно веришь, что любовь может сделать больше, чем труд? Она усмехнулась и, передернув плечиками, исподлобья оглядела друзей. — Я не верю ни в силу любви, ни в силу труда. Я верю в силу денег. Искусство жить — искусство делать деньги. Как их делать — это сугубо индивидуально… Не правда ли? И, не ожидая ответа, звонко рассмеялась, так что трудно было понять — всерьез она или шутит назло Сашке. Поздно вечером, когда друзья разошлись, Наташа устроила бабушке разнос. Началось все с того, что бабушка сказала: — Молодец, Натали… Как ты этого Сашку отбрила! Ты не слушай его… И дядьку твоего… Жизни не понимают… Натали взорвалась: — Ты дядю не трогай! Слышишь! Не смей!Димка-кактус
У дяди появился помощник — Дима, молодой инженер-строитель. Диму познакомили с Натали на концерте. В последующие дни бабушка была в полном смятении: Дима отнюдь не мог, по ее мнению, составить счастье внучки, а попытки помешать вспыхнувшему чувству рухнули. Наташа была словно в угаре. Все нравилось ей в Диме — и спортивная фигура, и темные курчавые волосы, лохматившиеся над черными задумчивыми глазами, и его игра на пианино. Впервые она, кажется, по-настоящему полюбила настоящего человека. Он чем-то напоминал ей дядю — такой же ершистый, колючий. Натали прозвала его “кактусом”. Однажды вечером Натали заявила бабушке, что Дима уезжает в Сибирь строить в тайге новый город и зовет ее с собой, конечно после окончания института. …Бабушка несколько минут не могла прийти в себя. — Ты с ума сошла! Тайга. Сибирь… Безумство, бред. Это не для тебя. Да и вообще, что ты нашла в этом… Была предпринята фронтальная контратака бабушки, мамы, ее друзей. Пытались даже подключить дядю: “Зачем девушке уезжать из Москвы?.. Да еще с ее специальностью…” Долго Натали терзалась сомнениями. На ребром поставленный вопрос Димы “Поедешь или нет?” она уклончиво ответила: “Впереди целый год. Там видно будет. Но, честно говоря, меня не прельщает романтика тайги. Бабушка, вероятно, права — я не рождена для подвига… Подумай — может, и ты не поедешь?” Дима сжал губы так. что они побелели, и бросил что-то резкое, колючее. Вскоре он уехал на север, сказав на прощание: — Что же, я согласен, Наташа. Поживем — увидим. Практика — критерий истины. Буду писать тебе и буду жить ожиданием твоих писем. Было это в ту пору, когда Наташа уже перешла на последний курс. — Она преуспевала в занятиях — сказались трудолюбие, способности, интерес к языкам. Каждый раз на институтских встречах студентов с работниками какого-нибудь посольства Натали обращала на себя внимание — отличное произношение и богатый запас слов. И когда Интурист попросил послать к ним на практику группу старшекурсников, среди них оказалась Наташа. В Интуристе были очень довольны ею. Даже намекнули: “Возможно, пошлем заявку на вас…” Наташе это было приятно. Пожалуй, Интурист ей импонировал больше, чем Димкина тайга. А бабушка и вовсе ликовала: “Все выходит по-моему”. И вдруг, совершенно неожиданно для друзей по институту, для мамы и бабушки, Наташа перед самым окончанием вуза отказалась идти работать в Интурист. И вообще во всем ее облике, поведении, образе жизни произошли заметные перемены. Откуда этакая хмурость, озабоченность? Куда пропал былой интерес к вечеринкам, танцам? Бабушка склонна была отнести все это за счет Димкиных писем — они приходили чуть ли не через день. И старуха снова всполошилась: “Неужели уедет… До чего же переменчива стрекоза”. В тайгу она не уехала, но однажды заявила маме и бабушке, что зря не послушалась дяди и не пошла в науку. — Надо исправить ошибку. Попрошу дядю устроить меня в какой-нибудь институт переводчицей. А там видно будет. Может, и Димку, перетяну, не правда ли? Мама отнеслась безразлично к этому, а бабушка снова бубнила: “Я тебя не узнаю!.. Тебя подменили!..” Внучка ласково успокаивала бабушку, но решения своего не изменила. Что же касается дяди, продолжавшего опекать Наташу, то он был доволен. Откровенно говоря, Димкин вариант ему тоже был не по душе. И вот из крупного научно-исследовательского института, где работал друг Федора Степановича — Алексей Михайлович Круглов, в Иняз отправляют заявку на переводчицу.Эврика!
Наталья Викторовна, ее теперь уже так величали, оказалась отличной переводчицей. Она не только переводила, но и реферировала для своего шефа некоторые статьи. А для повышения квалификации стала усердно почитывать доступную ей специальную литературу. Профессору нравились ее целеустремленность, серьезный подход к делу. — Свяжитесь с Петром Максимовичем Егоровым. Это мой ближайший ученик, большой эрудиции ученый и чуткий, отзывчивый товарищ. Он поможет вам ближе познакомиться с нашей тематикой и освоить терминологию. Я ему скажу о вас… Вам будет легче… Кандидат технических наук Егоров был действительно человеком добрым, отзывчивым и охотно помогал Наталье Викторовне, которая неожиданно проявила способности к точным наукам. Она удивительно быстро входила в курс исследований, которым посвятили себя шеф и его ученик. Наташа уже могла иногда понять, о чем они спорят, и легко вылавливала из большой статьи в каком-нибудь зарубежном журнале именно то, что больше всего могло интересовать профессора. Как-то она сказала Петру Максимовичу: — Жаль, что я не послушалась дяди. — Вы же еще очень молоды, Наталья Викторовна. Вам и сейчас не поздно поступить в институт… И начать все сначала. — Петр Максимович — вы гений… И Наташа стала советоваться, в какой технический вуз поступить, как готовиться к экзаменам, чем сможет помочь дядя. — Ну и, конечно, вы, Петр Максимович… На вашу помощь я могу рассчитывать? Подготовка в вечерний институт еще больше сблизила Наташу с Егоровым. По вечерам они иногда задерживались в лаборатории. И вот как-то в жаркий летний день молодой ученый пригласил переводчицу в Химки, поужинать на летней веранде речного вокзала. Она деликатно отказалась. — Что вы, Петр Максимович… Это неудобно… К тому же экзамены на носу. Он смутился, что-то пролепетал и, смущенно улыбаясь, развел руками. — Я очень тронута вашим вниманием… В другой раз как-нибудь… Не правда ли? Петр Максимович ничего не ответил. Вступительные экзамены в институт она выдержала. Не потребовалось никаких и ничьих хлопот — переводчицу научно-исследовательского института охотно приняли в вечерний вуз. Бабушка ахала, охала, но смирилась. Теперь начиналась новая полоса в жизни Наташи, и шеф в шутку уже называл ее коллегой. Специальность, избранная девушкой, была сродни направлению работ профессора Круглова. Шли годы. Наталья Викторовна была на третьем курсе. Она уже не механически, а со знанием дела переводила, реферировала статьи для профессора. И он души не чаял в ней.Разговор на набережной
…Однажды случилось так, что Наталья Викторовна не успела к концу дня закончить срочный перевод для большого доклада в Государственном комитете. Расстроенная, она пришла к профессору — как быть? — Вот уж и не знаю. Завтра утром доклад, а для сравнения с нашими результатами зарубежные данные нужны до зарезу. — Я готова привезти вам их вечером домой. Посижу здесь еще несколько часов. — Да вы же голодны… Сейчас велю принести вам чего-нибудь перекусить. А к восьми пришлю машину… Ее встретили очень радушно, запросто. Елена Максимовна, хорошо знавшая почти всех сотрудников мужа и покровительствовавшая некоторым из них, усадила Наталью Викторовну пить кофе: “Дела потерпят. Проголодались, поди…” Профессор забрал переводы и, оставив женщин, удалился в свой кабинет. У хозяйки дома и переводчицы, несмотря на разницу в годах, обнаружилась общность взглядов на многие вопросы. Они понравились друг другу. Наталья Викторовна засиделась допоздна. И в тот же вечер было решено, что она будет давать уроки английского языка четырнадцатилетнему Володе — сыну профессора. — Ждем вас послезавтра, Наталья Викторовна. Вообще прошу чувствовать себя у нас как дома… И вот Наталья Викторовна уже свой человек в доме профессора. Обычно после занятий с Володей она оставалась ужинать, и случалось, что за столом оказывалась рядом с Петром Максимовичем, который иногда до поздней ночи работал с шефом. Наталья Викторовна беседовала с хозяйкой дома, а ученые вели свои разговоры, оживленно обсуждая результаты каких-то экспериментов. Петр Максимович частенько провожал Наташу домой. И при этом всегда был подчеркнуто сдержан. Неужели это после ее отказа ехать в Химки? Или, может, тут совсем другое: она, правда туманно, поведала ему, что есть в Сибири такой Димка-кактус… Однако при всей своей сдержанности Петр Максимович не мог скрыть, что Наташа ему нравится. Как-то осенью они задержались в институте и, возвращаясь домой, шли по набережной. Стояла безлунная ночь. Они молча глядели на мерцавшие сквозь туман одинокие звезды. Кругом было тихо, только листья шуршали под ногами. Заговорили о поездке Егорова на предстоящий международный симпозиум в столицу небольшого европейского государства. — Как жаль, что вы уезжаете. Мы поехали бы в воскресенье в Абрамцево… Он даже вздрогнул от неожиданности. — Да, конечно… Мне тоже жаль… Нет, я не то хотел сказать. Но впереди еще столько воскресений, — и он неожиданно прижал ее ладонь к своей щеке. Потом он стал рассказывать ей о симпозиуме, о возможных дискуссиях. Наташа встревожилась. — А вас не положат там на обе лопатки?.. Я боюсь за вас… — Что вы, Наташенька… Мы так далеко впереди их… И он говорил о шефе, о лаборатории, о последних открытиях. Наташа перебила его. — Извините меня, Петр Максимович, но мне все это надоело в институте. Давайте о чем-нибудь другом…Наедине с Дженни…
Через несколько дней Егоров уехал за границу. Его встретили там очень радушно — имя молодого ученого было известно участникам симпозиума. Петр Максимович возглавлял нашу делегацию, и к нему был прикреплен гид, один из местных ученых, хорошо знающий русский язык и работающий в области, смежной с той, где вел свои исследования профессор Круглов. Это был молодой элегантный человек, вежливый, предупредительный. Все его называли запросто Карлом. — Вы можете мной располагать, как вам угодно. Надеюсь, что и вы в долгу не останетесь, когда я приеду в Москву. — А вы собираетесь к нам? — Да, в порядке обмена… Соответствующие переговоры уже ведутся… И он назвал один из крупных московских институтов, где ему, вероятно, предоставят возможность поработать. На первых порах Петр Максимович был весьма доволен, что к нему прикрепили такого гида. Несколько раздражало и беспокоило лишь одно обстоятельство: Карл буквально заполнил все его время — ни одного вечера Петр Максимович не смог провести вместе с товарищами по делегации. Сегодня театр, завтра прогулка за город, затем в гости к какому-то профессору. Петр Максимович насторожился: в чем дело? Но разговоры, которые вели с ним, касались самых отвлеченных тем, связанных с наукой вообще, с литературой и искусством. И только однажды разговор переключился на его институт. Все началось с какого-то спора, в ходе которого он сам стал говорить об институтских делах. Но задумался он над этим уже позже, вернувшись в гостиницу. Гид познакомил его и со своей сестрой Дженни. Эффектная молодая женщина с копной золотистых волос, небрежно спадавших на оголенные плечи, с мягкими темными глазами и белой шеей в мелких веснушках. Она тихо сказала ему: “Я большая поклонница вашей страны, ее прогрессивной науки”. Симпозиум близился к концу. Петр Максимович вместе с товарищами распланировал оставшиеся свободные вечера. И вот снова неожиданное приглашение: Карл зовет его к себе в гости. Егоров вежливо пытается отклонить приглашение, но ничего не выходит. “Я и Дженни хотим попрощаться с вами. Скромный ужин в узком семейном кругу. Мы да старики…” Но “семейный круг” неожиданно сузился. Хозяин дома очень огорчен: родители вынуждены были поехать за город к тяжело заболевшему дяде. И они сели за стол втроем. А вскоре и сам Карл исчез — позвонили родители и умоляли сына срочно приехать, дяде стало совсем плохо… — Дженни, ты останешься за хозяйку. Я скоро вернусь. Петр Максимович не успел и слова вымолвить, как Карл распрощался, и они оказались с Дженни вдвоем во всей квартире. Впрочем, не совсем так. Вдвоем, если не считать служанки, миловидной блондинки, неожиданно появившейся в комнате в тот самый момент, когда Дженни предложила гостю пересесть поближе к камину. — Прошу прощения, госпожа… — Я, кажется, ясно сказала: сегодня вечером мы обойдемся без ваших услуг, Катрин! — Извините, — испуганно пролепетала девушка. Так же, как и хозяйка, она свободно говорила по-русски. — Какой-то господин настойчиво требует вас к телефону… Да, я ему говорила, что госпожа просила не беспокоить ее, но он уверяет, что к нему это не относится, что вы будете очень рады его звонку, что меня строго накажут, если я не доложу вам. Дженни бросила на служанку недобрый взгляд. Потом обратилась к гостю: — Простите, я вас покину на несколько минут. — И удалилась из комнаты, сухо обронив: — Катрин! Раз ты уж здесь, то помешай угли в камине… Петру Максимовичу показалось, что девушка порывается что-то сказать ему. А может, это только показалось. Он сам хотел узнать у нее: где она научилась русскому языку? Но в этот момент вернулась Дженни. Хозяйка мило улыбнулась вслед быстро удалившейся из комнаты служанке. — Это ваша соотечественница. Дитя войны… Лагерь перемещенных лиц… Любовь всесильна. Русская девушка полюбила иностранца. И не вернулась в Россию. Отказалась. А муж мало зарабатывает. Попросилась в наш дом. Аккуратность и исполнительность, видимо, никогда не были ее отличительными чертами. Но — что поделаешь — надо быть добрым… И, подойдя вплотную к гостю, озорно вскинула на него глаза: — Как будет развлекать меня русский ученый? И, не ожидая ответа, Дженни взяла его за руки. Он деликатно высвободил их, потом решительно поднялся с места, отвесил поклон и сухо сказал: — Прошу прощения. Дела требуют моего присутствия в гостинице. И, еще раз откланявшись, удалился… На следующий день, рано утром, выйдя из гостиницы, Егоров неожиданно, где-то на пустынной улице, лицом к лицу столкнулся с Катрин. Видимо, она ждала его или, может, шла следом. — Здравствуйте! Вы, оказывается, русская. Из лагеря перемещенных? — Вам уже все известно обо мне… — Вы пришли сюда, чтобы повидать меня? — Да. К вам большая просьба. Возьмите эту маленькую посылку. Сувенир племяннику. Брат не хочет, чтобы я посылала ему посылки. Пишет, что не нуждается… И вообще чурается. Но тут маленький сувенир… Спиннинг. Я ему напишу. Он сам зайдет к вам. Вы не возражаете? Окажите услугу… Что делать — так сложилась судьба. Не упрекайте меня. Она сунула ему в руку маленькую аккуратно перевязанную коробочку и быстро исчезла в переулке. Все это произошло так стремительно, что Петр Максимович не успел опомниться. И только после того как она исчезла за поворотом, он подумал: к чему бы вся эта история? Через несколько дней делегация уезжала домой. Ее тепло провожали организаторы симпозиума. Дженни приехала на вокзал вместе с братом. Гид пожимал руку гостю и говорил: “Я надеюсь, что наше приятное знакомство продолжится в Москве. До скорого свидания, господин Егоров…” В Москве его встречали шеф и Наталья Викторовна. Петр Максимович, увидев ее, покраснел: ему приятно было видеть ее среди встречающих. И он прямо сказал ей об этом. В первый же вечер, когда они остались вдвоем, Наташа призналась Петру, что ей было грустно без него и она часто думала о нем, беспокоилась. Он ничего не ответил, взял ее под руку, и они долго шагали молча. Егоров все рассказал ей — о гиде, о его сестре, о возможном приезде Карла в СССР. — Странно все это было… Ты не находишь, Наташа? — Не знаю, Петя, может, и странно, а может быть, у них так принято.“Гид” появляется в Москве
…Прошел год. Петр Максимович успел почти позабыть о своей поездке за рубеж. Он был поглощен работой и Наташей, которая, кажется, уже прочно вошла в его жизнь. И вот нежданно-негаданно нагрянул гость — Карл. Гость дал о себе знать по телефону. Петр Максимович несколько удивился и даже встревожился: он, кажется, не оставлял своего телефона Карлу, а справочная не давала номера телефонов института. Странно! Спросить у Карла, как он узнал номер телефона? Неудобно, обидится… И Петр Максимович перестал тревожиться. “Чепуха! Мало ли кто из наших ученых, с которыми имеет дело господин Карл, помог связаться со мной”. Долг вежливости обязывает. И он возил Карла по городу, показывая Москву, а потом пригласил домой на обед — мама продемонстрировала русскую кухню. Выпили, закусили, поели блинов с икрой. Пошел оживленный разговор. Гость восторженно говорил о русских ученых, и в частности о шефе Петра Максимовича, с которым был хорошо знаком по литературе. И вдруг неожиданно заявил: — Перед моим отъездом в Москву редактор нашего очень популярного журнала попросил меня передать вам его предложение выступить со статьей. О чем? О ваших исследованиях… Большой гонорар, известность… Весь мир заговорит о вас… Гость испытующе смотрел на Петра Максимовича и несколько раз повторил: — Большой гонорар… Известность, даже, если хотите знать, слава! Правда, я где-то прочел, кажется у Бальзака, что слава — товар невыгодный: стоит дорого, сохраняется плохо. Но гонорар в сочетании со славой — это, знаете ли… Петр Максимович оборвал Карла: — Вы отдаете себе отчет, что означает ваше предложение? Если бы вы не были моим гостем… Но “гид” быстро перешел на шутливый тон и поднял тост за всемирную дружбу ученых. Уже прощаясь, он все-таки вернулся к своему предложению. — А насчет статьи вы все-таки подумайте… Да, между прочим… Есть вариант… Вы можете сдать статью, оговорив при этом, чтобы ее не публиковали, если это вам нежелательно. Подумайте и над таким вариантом… Ну, а гонорар — само собой… И вдруг неожиданно для гостя хозяин дружески похлопал его по плечу и решительно сказал: — А вы знаете — это, кажется, неплохой вариант. Есть о чем подумать. Увидимся — поговорим… Рано утром Петр Максимович позвонил в КГБ и попросил срочно принять его…Он или не он?
Несколько дней назад с границы сообщили, что долгожданный “гость” проследовал с группой туристов в Москву. Докладывая об этом генералу Клементьеву, майор Птицын сказал: — Думаю, товарищ генерал, что события должны развиваться следующим образом. Турист обязательно повстречается с Егоровым и, вероятно, попытается установить с ним контакт. Я почему-то почти уверен, что Егоров после визита туриста сам явится к нам. — Откуда у вас такая уверенность? — Сегодня я снова прослушивал пленку, присланную Ландышем. В тот вечер в доме Дженни ученый вел себя, я бы сказал, достойнейшим образом. Ландыш снова подтверждает: Карл рассматривает Петра Максимовича как весьма крепкий орешек. Не надеется сразу расколоть. Но пытаться будет… И вот — звонок. Майор ждал его с утра, зная, что вчера вечером Карл был в гостях у ученого. …Петр Максимович старается восстановить во всех деталях свои встречи на симпозиуме, визит к “гиду”, разговор с Дженни-обольстительницей, как он ее окрестил. Ученый старается нарисовать портрет гостя. “Это же очень важно для вас. Я знаю!” Майор сдерживает улыбку. Так и подмывает достать из папки фотографию Карла и показать: “Вот же он какой!” Ладно, придет время — все покажут. А пока майор весь внимание. Слушает и мысленно сопоставляет: все сходится с сообщением Ландыша. Петр Максимович действительно орешек крепкий — Карл это знает и все же надеется раздобыть сведения о работе института. Так он и сказал Дженни перед отъездом. Куда тянутся нити от туриста-разведчика? На кого он надеется? — Что вы сказали гостю, прощаясь? Повторите… Постарайтесь точнее. — Могу с абсолютной точностью. Мысленно приняв решение звонить вам, я взвесил каждое слово, которое скажу туристу: “Подумаю, обязательно подумаю… Увидимся — поговорим”. — Когда вы снова встретитесь? — Завтра… У меня дома… — Постарайтесь вселить в гостя надежду, что не исключена возможность такого варианта — вы дадите короткую информацию для журнала… Обязательно поинтересуйтесь суммой гонорара. — Хорошо. — Позвольте вам задать один вопрос. Предупреждаю: мы вам верим. Иначе у нас был бы другой разговор. А вопрос такой: все ли, что касается ваших встреч за рубежом, вы рассказали? Абсолютно все? Или, может, кое-что забыли? Подумайте. Петр Максимович стал мучительно перебирать в памяти каждый час своей жизни в те дни. — Как будто бы все… — Вот видите, экий вы… — И Птицын рассмеялся. — А молодая женщина, которая просила вас отвезти спиннинг племяннику… Забыли? В глазах ученого не то испуг, не то растерянность. — Боже мой, как же я мог забыть и не сказать вам… Но я никак не связывал ту женщину с гидом-туристом, с Дженни. Неужели это их агент… Теперь я понимаю. Боже мой, как я попался… — Вы же заполняли таможенную декларацию и знаете, что запрещается перевозить что бы то ни было для передачи третьим лицам. — Но я честно заявил сотрудникам таможни, что этот спиннинг меня просили передать. И сказал даже, кто просил… Спиннинг у меня забрали… Но перед отходом поезда вернули… Вернули и сказали: “Ладно, везите. Пусть парень рыбу ловит”. Ученый умолк, а потом глухо сказал: — Вы должны мне верить, товарищ майор! — Да успокойтесь вы, Петр Максимович! Я уж не рад, что вам про спиннинг напомнил. Видите ли, если бы я вам не верил, то уж, конечно, не дал бы понять, что располагаю несколько более подробными сведениями, чем те, которые вы мне сообщили. Сейчас от вас требуется максимальная выдержка, спокойствие и тонкая игра с вражеским разведчиком. Да, чуть не забыл. Последний вопрос: вы не встречали больше человека, забравшего у вас спиннинг? — Встречал. Точнее — видел… Два раза… Через неделю после того, как я вернулся с симпозиума, мне позвонил какой-то человек и отрекомендовался: “Я брат Кати, которая передала вам спиннинг для моего сына”. Я, естественно, пригласил его зайти за посылочкой. Назначил время. В субботу вечером. Он не пришел. А в воскресенье утром позвонил и сказал, что живет очень далеко от моего дома. И тут же спросил: “Где вы работаете? Собственно, меня интересует только район, так сказать, место возможной встречи”. Я назвал. Он обрадовался. “Отлично. Я работаю в том же районе. Близ станции метро. Вы не возражаете, я буду ждать вас завтра в девять часов утра у выхода из станции метро? Я ношу зеленую шляпу, хожу с палкой. Большое спасибо. Я ведь живу в Мытищах. Ехать специально за спиннингом хлопотно”. Вот и вся история. — Ясно. Опытный дядька. А где же вы его снова встретили? Петр Максимович застенчиво улыбнулся. — Это несколько интимная история… Но от вас у меня нет секретов… Недалеко от дома девушки, с которой меня связывает… Петр Максимович запнулся, и майор поспешил: — Крепкая дружба? — Будем считать, что так. В общем, это даже не имеет в данном случае существенного значения. В субботу мы не успели договориться о воскресном дне. Звоню ей утром, никто не отвечает. Тогда я решился нагрянуть без звонка. Иду и еще издалека вижу, как из “Гастронома” выходит моя знакомая. Я ускорил шаг. Она уже вошла в парадное, а я только с “Гастрономом” поравнялся. И тут он из магазина… — Поздоровались? — Я поклонился, но он, может быть это мне показалось, в сторону отвернулся… Вероятно, не заметил. — Давно это было? — Нет, в минувшее воскресенье. Майор мысленно зафиксировал: на следующий день после встречи ученого с туристом. — Каков из себя папа рыболова? — Фигурой этот папа весьма напоминает тяжелоатлета. Здоров как бык! Крупное лицо, чуть приплюснутый нос. Майор поблагодарил ученого и, уже прощаясь, спросил: — Простите… Как зовут ту девушку? — Наталья Викторовна… Птицын вернулся в кабинет и достал из сейфа папку, на которой крупно было выведено только одно слово: “Ландыш”. В папке лежала фотография того самого “тяжелоатлета”, о котором рассказал ученый. На обороте фотографии стоял большой вопросительный знак. Майор долго рассматривал снимок: “Он или не он? А если он, то как его найти? Ландыш даже фотопленку умудрился прислать. Теперь дело за нами…”Операция “спиннинг”
…Сорок третий год. Западная Белоруссия. Где-то совсем близко советские войска. Скоро они придут и в эту деревню. Но не дождалась их Катерина. Ждала свободы, а свалилось горе. Девушка на всю жизнь запомнила тот день. Солнце уже клонилось к закату. На душе зябко, тяжко и темно. Под конвоем их пригнали на станцию — всех тех девчат и парней, что оставались в живых. Подали состав двухосных вагонов с зарешеченными окнами и надписями на дверях: “Мы добровольно едем в Германию”. Молча стояли угрюмые немецкие солдаты, держа на поводках огромных овчарок. — Ее никто не провожал. Отец погиб на фронте еще в сорок первом. Мать до смерти забили гитлеровцы, когда узнали, что Катин брат ушел к партизанам. Катерину взяли к себе добрые люди. Сперва прятали, а потом пристроили белье офицерам стирать. И вот новая беда — всю молодежь в Германию отправляют. В рабочих лагерях она подружилась с молодым антифашистом Питом. Сперва это была только дружба молодых, которых сблизила жажда мести за кровь, за побои, за пытки. А потом пришла любовь, которая во стократ умножает силы. И, может, любовь эта помогла им вынести все, что пало на их плечи в неволе. Из лагеря их отправили в услужение к немцу-кулаку в деревню где-то на Рейне. Поначалу это показалось раем. Но оказался он кромешным адом: побои, издевательства, глумление, каторжный труд с рассвета до темноты — в поле, хлеву, на огороде, в кухне. Хозяин, не стыдясь детей и супруги, приставал к Кате, за что, правда, был бит дважды: женой в открытую и Питом тайно ночью. Для влюбленных вся эта история обернулась наихудшим образом: Пита нещадно колотил хозяин, Катю — хозяйка… Но вот война зашагала и по немецкой земле. Молодые с надеждой смотрели на восток — скоро придет долгожданная свобода. В деревне появились американцы. Это случилось в тот светлый майский день, когда мир узнал о капитуляции фашистской Германии. Конец войне, можно возвращаться по домам. Месяц пролетел как один день. Праздновали победу. Наконец комендант объявил Питу, что через несколько дней он получит пропуск. Куда? К родителям. — А можно и к родителям и туда? — Пит показал рукой на восток. — Моя жена, Катерина, оттуда, из России….. Мы сперва заедем к моим родным. Это недалеко. А потом к ней, в Россию… Хорошо? Можно? Когда прикажете получать пропуска, господин комендант? Американец неопределенно ответил: “Да, будут пропуска”. Прошел еще месяц, а пропусков не давали. Наконец их позвали в комендатуру. За столом рядом с американцем сидел белобрысый толстяк в щеголеватом штатском костюме. — Это ваш земляк, мисс Катерина, — галантно раскланялся американец. — Знакомьтесь, мистер… “Мистер”, не дожидаясь пока назовут его фамилию, бросился обнимать Катерину и даже прослезился. — Да, много горя, доченька, хлебнул наш народ. Ой как лютовал враг на родной земле! И так ноет сердце, так тянет до белорусских лесов. Но вот беда какая: теперь там, на нашей земле, лютует энкавэде. Читай, доченька, читай и подумай. И белобрысый толстяк протянул ей газету “Батьковщина” на белорусском языке. Не знала она, что этот грязный антисоветский листок эмигранты издавали на американские деньги. Через всю первую полосу заголовок: “Террор большевиков в Белоруссии”. “Колыма, лагеря, пытки — вот что ждет дома белорусов, находившихся в плену у немцев”. — Но я же не виновата в том, что меня насильно угнали… — Наивная ты, доченька. Ну кто станет разбираться… Послушай, Пит, ты, кажется, научился в лагере читать по-русски. Возьми эти газеты. Почитай и потом на семейном совете решите. Я же вам добра хочу… Почитай рассказы очевидцев и как мужчина сам реши, куда вам лучше всего податься. Только смотри, парень, потом не пожалей… И Пит решил за обоих: “Поедем лучше, Катерина, к моим старикам. Поживем — увидим. Время покажет… Ты не плачь, не грусти. Отец у меня тоже антифашистом был. Не знаю, остался ли в живых… О русских он всегда говорил уважительно”. Когда окончательно отпал Катин вариант — ехать вместе в Белоруссию, молодых стали уговаривать в комендатуре подписать контракт с американцами, вербовавшими рабочую силу за океан. И снова появился тот белобрысый толстяк с газетенкой “Батьковщина”. Он совал все тот же грязный листок, на котором рядом с рассказами “очевидцев” ужасов “террора НКВД в Белоруссии” публиковались “свидетельства” счастливчиков, уехавших за океан. Что делать, кому верить? Катя уже заколебалась было, но Пит настоял на своем. — Нет, Катюша. Мы с тобой не поедем за океан. Мы к моим старикам отправимся. Жили они, правда, бедно да тесно. Но что поделаешь. Все-таки отчий дом. И они отправились туда, где до войны жили родители Пита. Шли годы. В доме Пита девушку из Белоруссии приняли, как родную дочь. Пришлась она старушке по душе — красивая, ласковая, работящая, хорошая жена и мать: сына родила и в честь погибшего деда Петром назвала. Сынок подрос — пошла работать. На фабрику. Ткачихой. Специальность получила. Радовалась, но недолго. Началась безработица, и ее первой выкинули за ворота: жена неблагонадежного. Долго ходила без работы — всюду отказывали. Однажды Катя познакомилась с русской женщиной Валей — Виолеттой — так она отрекомендовалась. Разные дороги привели их в чужой город. Катю — любовь к Питу, а эту — предательство. У себя в родном городе она служила у оккупантов в гестапо и вместе со своим любовником-эсэсовцем удрала в Германию. Там он ее бросил, и вот уже который год женщина без родины скитается по Европе. Виолетта пообещала свести Катю с человеком, тоже русским, у которого здесь большие связи и который вхож в богатые дома: “Он обязательно тебя пристроит”. Знакомство состоялось буквально через день в маленьком кафе. Сухощавый, лысый, с усиками, с мышиными глазками, нагловатый хлыщ назвал себя Сержем, хотя лет ему было уже под пятьдесят. Он с ног до головы осмотрел Катю, словно раздевал ее. Серж ни о чем не спрашивал. Молча выпил рюмку коньяка и чашку кофе. Закинул ногу на ногу, скользнул взглядом холодных настороженных глаз и, цедя каждое слово, сказал: — Вы хотите из меня сделать великого гуманиста, мадам Виолетта. — Он кивнул в сторону Кати. — Ну что ж… Попробуем. Она будет определена горничной в очень богатый дом ученого… И Серж назвал фамилию немца с весьма подозрительным прошлым, немца, который лишь каким-то чудом ушел от суда над военными преступниками. Катя читала об этом ученом в газете. Серж даже не спрашивал у нее, согласна ли она. В условиях безработицы, настороженного отношения к русским, женщине, причастной к неблагонадежной семье, следует считать предложение Сержа благодеянием. — Вам повезло, мадам. Вы встретили Виолетту и меня, человека, рожденного делать людям добро. Запомните день, когда вы меня увидели. Со временем я предоставлю вам возможность отблагодарить… Когда она рассказала обо всем Питу, он пришел в неописуемую ярость. Пит никогда не ругал Катю. И, кажется, впервые в сердцах сказал ей: “Ну и дура же ты!” Старуха тоже что-то бурчала неодобрительно: горничной да еще в такой дом, к фашистскому ублюдку! Катя проплакала всю ночь. Не от хорошей жизни идет она в горничные. Работы нигде не найти, дома едва концы с концами сводят… Дом ученого был действительно богатым. Все тут было поставлено на широкую ногу. В доме часто принимали гостей — приезжали немцы, американцы. Гостей, как правило, принимали молодые хозяева — Карл и Дженни — брат и сестра. Карл и Дженни были неутомимы. Куда-то исчезали на несколько дней и возвращались с компанией, которая иногда жила у них целую неделю. Когда Карл успевал заниматься наукой, это оставалось для Кати загадкой. И еще одно обстоятельство привлекло внимание горничной: Карл и Дженни сравнительно хорошо говорили по-русски. Правда, с ней они разговаривали только по-немецки. Подавая кофе гостям, Катя однажды уловила несколько странных фраз: Карла называли специалистом по русским делам. Речь шла о каких-то людях в Москве. Когда она рассказала обо всем этом Питу, тот насторожился: “В доме Карла плетутся какие-то сети. И этот Серж твой, “великий гуманист”, и Карл, “специалист по русским делам”, — одна компания. Держи ухо востро…” Кате нетрудно было убедиться, что сети, которые плетутся в доме Карла, имеют совершенно определенное назначение. …В тот поздний вечер Катя услышала, как брат упрекал сестру — он был под хмельком и в таких случаях говорил очень громко. Смысл его упреков сводился к тому, что там, где бессильны деньги, где нельзя купить нужного тебе человека, им может завладеть красивая женщина. Красивая женщина — это Дженни, человек, которым она должна завладеть, — какой-то актер, приехавший на гастроли с группой советских деятелей искусства… На следующий же день Катя решила дать знать об услышанном разговоре кому-нибудь из советских гостей. Но потом заколебалась: поверят ли ей? И где доказательства? Скажут — провокация. Если Карл узнает, то сперва на смех поднимет ее, а потом вышвырнет из дому, как собачонку. Нет, тут требуется осторожность, тут надо все взвесить. После долгих мучительных раздумий Катя и Пит решили, что действовать надо совсем иным путем. Нужно войти в доверие к молодым хозяевам. Собственно, Пит решительно требовал поначалу другого — уйти из этого дома, и делу конец. И тогда Катя высказала ему все, что накипело в душе ее за годы разлуки с отчим домом. Теперь она знает: только любовь к Питу могла поколебать в те летние дни 1945 года ее веру в свой народ. Она уже давно поняла, что была тогда жестоко обманута. Однако, что делать — Катя любит Пита, любит сына, и дом Пита стал ее домом. Но Родина — она там, на Востоке… — Пит, ты должен меня понять, ты же умный и добрый… Если уж судьба забросила меня сюда, то хоть какую ни на есть малюсенькую пользу принести своему дому… Она расплакалась, и Пит долго не мог ее успокоить. В ту ночь она все продумала, все взвесила. Главное — добиться разрешения поехать в СССР. Хотя бы на месяц, чтобы повидать родных. Хозяев, пожалуй, она уговорит, — может, их даже устроит такая поездка. Теперь Катя не сомневалась в том, что Серж неспроста определил ее в дом Карла и Дженни. Видимо, у “специалиста по русскому вопросу” есть дальний прицел, свои виды на женщину из России. Сложнее другое: даст ли разрешение советское посольство? А в посольстве тоже поинтересуются, кто такая Катерина, что делает, где живет, с кем дружит. Семья Пита — это хорошо. А Карл, Серж, Виолетта? Плохая рекомендация. А ей до зарезу надо повидать брата, бывшего партизана. И логика подсказывает: повремени с задуманным планом, сторонись пока и Сержа и Виолетты и не иди на сближение с Карлом. Сперва получи разрешение на поездку в СССР. И ей это удалось. Позже, в Москве (по просьбе Кати ее вызвали туда из маленького западнобелорусского городка, где она встретилась с братом, тетками и двоюродными сестрами), чекист, слушая ее, скажет: “Молодцом! Вы правильно решили. Все верно по своим местам расставили. Понятно вам?” Да, ей все понятно, женщине, чем-то похожей на чистый и нежный ландыш… И она вернется к Питу уже совсем другой… После возвращения из СССР Катя сумела завоевать полное доверие хозяев. Проявился ли тут неожиданно открывшийся в ней талант или попросту Карл с Сержем оказались людьми недальновидными — сказать трудно. Большое впечатление произвела на хозяев хорошо разработанная легенда о жизни в городах и селах Белоруссии. Она намекнула, что есть среди ее советских друзей и такие, которых не все устраивает в еоветском образе жизни. Рассказы Кати попали на благодатную почву, и после проверки — она блестяще прошла ее — Карл стал замышлять тайную переброску Кати в СССР. А пока она должна помогать им, выполняя секретные задания. На первых порах задания эти были связаны главным образом сприездами различных советских делегаций, ученых, туристов. При этом она чувствовала, что ее все еще держат на определенной дистанции: крут “людей Карла” достаточно широк, но, кроме Сержа, она пока не знает никого. Тут действовали железные законы конспирации. Ей известно было, что нити от Карла тянутся к одному из иностранных посольств в Москве, что есть там секретные агенты, но кто они, через кого поддерживаются связи… Сумеет ли она узнать это? И каждый раз, когда Ландышу удавалось передать в Москву Ромашке информацию, в ней все пело от счастья и гордости. Помощь эта становилась год от года все более значимой. Карл и Серж почему-то решили специализировать ее по “научной части”. Катю нацеливали на советских ученых. В одном случае она должна была сделать провокационное предложение (“Могу достать чертежи…”), в другом — попытаться соблазнить политическим убежищем (“Поверьте, мы, русские, здесь отлично устроены. Я вас познакомлю с господином…”), а в третьем… Этот третий вариант поначалу казался ей самым каверзным. Все разыгрывалось как по нотам. Пригласили в гости русского ученого. Неожиданно в гостиную входит горничная, на которую хозяйка сразу обрушивает поток ругани — говорят они по-русски. Хозяйка выходит из комнаты — неужели гость не поинтересуется горничной, отлично владеющей русским языком? И о чем тогда пойдет разговор? Дженни стоит за дверью, а на камине — портативный магнитофон. Ну, а если русский будет молчать? Тогда другой вариант идет в ход. Хозяйка, вернувшись в гостиную, невзначай роняет слова о бедной русской девушке, которую сюда забросила война. Перед отъездом ученого домой его встретит на улице Катя и упросит отвезти в Москву самый что ни на есть пустячный сувенир — спиннинг, а в спиннинге — шифровка. Советский ученый оказывается связным, передает шифровку. А она не имеет возможности предупредить его. Что делать? …Карл был весьма доволен своей горничной. Милая Катрин точно разыграла операцию “Спиннинг”. Немец уже получил подтверждение: шифровка получена. Если бы он знал, что “подтверждение” получила и его горничная. Телеграфировал брат: “Беспокоимся долгим молчанием”. Значит, все в порядке, ее сигнал получен вовремя, шифровка перехвачена…На небосклоне появилась Венера
Сегодня Птицын снова увидится с Петром Максимовичем. А пока надо стянуть в один узел все нити. Их уже достаточно, чтобы отмести наносное, утвердиться в истинном. Донесения Ландыша, сообщения оперативных работников — богатая пища для размышлений. Ландыш — молодец, с шифровкой в спиннинге все прошло хорошо. Правда, сложным оказался ключ, но расшифровать все же удалось. Вот текст: “Любой ценой нужно раздобыть данные о последних работах профессора Круглова. Потребуйте от Венеры активных действий. У нее есть все возможности. Вероятно, буду у вас”. Ландыш сообщает, что есть у них агент в самом институте. Кто? Сейчас это самое главное. Петр Максимович? Отпадает. Тогда кто же? Настораживало другое: через несколько дней после беседы Птицына с Петром Максимовичем Карл покинул СССР, не пробыв всего туристского срока. И, что самое главное, он больше не встречался с Петром Максимовичем. Теперь он будет искать другой путь к институтским секретам. Известно, что резидент связан с работником посольства, представляющим в Москве крупное капиталистическое государство. Известно, что они встречались. Известно, известно… А вот два неизвестных так и остаются нераскрытыми… Резидент и кто-то в институте. Кто? Главное — найти резидента. Ландыш прислала пленку с фотографией, предупредив: “Есть основания полагать, что это резидент. Координаты попытаюсь раздобыть”. Появилась еще одна ниточка, за которую можно уцепиться. На фотопленке, присланной Ландышем, — важное сообщение: в сети Карла и Дженни попался какой-то ученый из Сибири, занимающийся примерно теми же проблемами, что и Круглое. Карл называл гостя профессором, Дженни — Константином Петровичем, Дженни отлично выполнила задание брата — сибиряк оказался более податливым, чем Петр Максимович… …Птицын еще и еще раз перечитывал сообщения Ландыша. Взгляд задерживался на строках, посвященных ученому из Сибири. Чекисты уже многое знают о нем. Но вот что странно! Прошло немало времени, а, судя по данным сибирских товарищей, никто еще не выходил на связь с Константином Петровичем. Неужели они забыли о нем, оставили его в покое? Нет, так не бывает. Еще потревожат. Вот тогда и резидент объявится… А если сибирские коллеги прозевали? Если профессор уже давно начал действовать как источник информации? …Бывают же такие совпадения: размышления майора прервал лейтенант Кожухов: — Только что получена телеграмма от сибиряков: профессор выехал в Москву… …Петр Максимович ничего нового для Птицына сообщить не смог. Карл от вторичной встречи уклонился. Позвонил по телефону, поблагодарил за гостеприимство, произнес несколько восторженных тирад о Москве и на прощанье сказал: “А что касается статьи для журнала, то пока надобность в ней отпала. Надеюсь, это вас не огорчает?” — И что же вы ответили ему? — Всегда к вашим услугам, господин Карл. — Вам бы в МИДе работать, Петр Максимович. Сама любезность и галантность. Ладно. Нам еще, возможно, придется встретиться с вами. Не возражаете? Ну и отлично. — Насколько я понимаю, надо держать в секрете свои переговоры с иностранцем? Птицын на мгновение призадумался. — Конечно, пока… А позже… Позже всякое может потребоваться… Да, чуть было не забыл. К вам в институт приехал из Сибири на консультацию профессор М. Вы его хорошо знаете? — Нет. — Долго он пробудет у вас? — Это зависит от шефа. Он связан с ним непосредственно.На краю пропасти
Не успел Птицын закончить разговор с Петром Максимовичем, как позвонили из приемной: профессор М. просит принять его. …Александр Порфирьевич Птицын шагает по комнате из угла в угол, неторопливо и мягко. Он внимательно слушает. А гость, низко опустив голову, тихо ведет свой рассказ. Это тяжкая исповедь человека, долго стоявшего на самом краю пропасти и все же нашедшего в себе силу воли, чтобы не сделать последнего шага. Профессору под пятьдесят. Детство его в небольшом южном городке сложилось неудачно. Отец — электромонтер. Мать — маникюрша. Отец приходил домой всегда пьяный. Любил играть в карты, якшался с какими-то темными людьми. Ночью, протрезвев, в ярости начинал бить жену. Во время одного из таких скандалов сын услышал среди прочих ругательств и такое: “У, дворянская стерва! Княжеское отродье!” Позже он узнал, что мать скрывает свое дворянское происхождение, она действительно из какого-то княжеского рода, вся ее семья в восемнадцатом году бежала во Францию, а она с бабкой находилась в это время в деревне — так и застряла в России. Мать поведала ему обо всем этом незадолго до смерти — они остались вдвоем: отец бросил их, уехал на север зашибать деньгу. И еще узнал от матери, что она тайком переписывалась с братом и сестрой, жившими в Париже: письма приходили на имя одинокой богомольной старушки. Тайна матери легла тяжелым грузом на хрупкие плечи юноши. Как быть, как поступить ему, члену школьного комитета комсомола? Признаться, что ты княжеский отпрыск по матери? Стыдно, да и страшновато: в вуз дорога закроется. Костя счел за благо молчать. Мать умерла в тот день, когда ему вручили аттестат зрелости — это было летом 1940 года. Он остался один-одинешенек. Костя пошел работать на завод. Руки у него были золотые — с детства приходилось мастерить. Скоро молодому слесарю дали пятый разряд. Материнская исповедь как-то забылась. Жизнь пошла весело — появились дружки, девушки. А тут еще своя комната — сам себе хозяин. Пей, гуляй, веселись! А пить он любил, — видимо, от отца по наследству. Да и мать, покойница, не брезговала… Трудно сказать, куда привела бы его эта дорога, если бы не война. 23 июня он был отправлен на фронт, а через три месяца появился в родном городе — здесь уже хозяйничали оккупанты — в весьма непрезентабельном виде: изодранные замасленные брюки, кургузый пиджачишко неопределенного цвета и какие-то чёботы на ногах… От дома, где он жил, остались развалины — прямое попадание бомбы. Побрел на окраину, где в тихом переулочке жил Фомич, старик, посвящавший Костю в таинства слесарного искусства: “Может, там на первых порах отдам якорь”. Старик ахнул, когда увидел Костю. — Откуда ты, вояка? — Из окружения, батя. Думал, что уже конец. А выполз. На брюхе, да выполз. Фомич усмехнулся: — Нет, сынок, это не то. Не туда выполз… Если бы к своим — другое дело. А ты от немцев — к немцам. Ладно, давай устраивайся. В тесноте, да не в обиде… Найдем для тебя и здесь подходящее дело. Фронт, он везде фронт… Поначалу парень не понял, о каком фронте Фомич речь ведет. А потом сообразил что к чему. В общем, судьбе было угодно перебросить Костю с одной линии фронта на другую — в глубокое подполье. С месяц Фомич проверял парня, пока решился наконец приобщить его к той горстке смельчаков, что по заданию горкома партии во главе с его секретарем действовала в городе. Костю включили в боевую тройку. Под Новый год, в тот день, когда подпольщики должны были подорвать немецкий склад, Костю схватили гестаповцы. Выдал его провокатор. Парня долго и тяжко пытали, и он в конце концов не выдержал — предал всю тройку. В награду гестаповцы переправили его в другой город, километров за двести, поближе к линии фронта, передав с рук на руки тамошним гестаповцам. Выправили ему и новые документы. В гестапо откуда-то узнали подробности Костиной биографии, именно те, которые он тщательно скрывал. И сами решили, что отныне носить ему фамилию матери. Гестаповец, вручая документы, так и сказал: “Вы должны гордиться, молодой человек, фамилией вашей матушки. Близок час, когда вас примут в свои объятья дядюшка и тетушка”. Костя пришел в ужас: откуда они все это знают? Встреча с дядей и тетей отпала на срок весьма неопределенный. Могучий вал наступающих советских войск докатился до прифронтового городка. Костя снова вступил в ряды Советской Армии и прошел путь до Берлина, заслужив два боевых ордена и звание лейтенанта. После демобилизации он предусмотрительно не вернулся в родные края, решив поселиться в сибирском городе, где жил его фронтовой друг. Так началась новая жизнь. Поступил на большой машиностроительный завод. Стал учиться в вечернем вузе. Получил диплом инженера, пригласили в научно-исследовательский институт. Женился на сотруднице этого же института, работали в одной лаборатории. В науке весьма и весьма преуспевал — в нем открылся дар исследователя. Сравнительно быстро защитил кандидатскую диссертацию, а звание доктора присвоили без защиты. Жил он легко, весело, для всего находилось время: и гостей принять, и в ресторане с друзьями посидеть, и, пользуясь доверием супруги, за женщинами поухаживать.“Афинская ночь”
Год назад профессора послали в заграничную научную командировку. Он хорошо владел немецким и несколько хуже английским. В столице небольшого западноевропейского государства Константин Петрович знакомился с работами коллег. Все протекало наилучшим образом. В отличном настроении профессор готовился к отъезду, когда грянул гром… Ему во всех деталях запомнился июльский день, и бульвар с многолетними липами в цвету, и слитный шум города, и зеленая скамейка на бульваре — он присел отдохнуть, собраться с мыслями перед последней встречей с коллегами. К нему подошел немолодой человек и на русском языке, несколько жеманно, приветствовал его: — Привет тебе, желанный друг, под сенью города большого. — Простите, с кем имею честь? — Не узнаете? Впрочем, понятно… Прошло, кажется, более двадцати лет… Но у меня память на лица особая… И кое-какая информация о гостях нашего города… И вот эта рассеченная бровь… Здорово он вас тогда… Сердце куда-то провалилось, в глазах пошли черные круги. На несколько минут он потерял дар речи. В памяти отчетливо всплыла та страшная ночь в гестапо, о которой не ведает никто, даже жена. Сквозь туман времени встало перед ним это лицо. “Шрам на лице”… Теперь он вспомнил смуглого сухощавого хлыща с усиками. Как и тогда, он нагло, с издевкой, в упор смотрел на него из-под косматых бровей. Это при нем появился рубец — хлыщ служил переводчиком в гестапо. Немцы звали его Серж. — Вот видите, снова встретились. Судьбе угодно было! Рад за вас, дорогуша. Вы тогда в общем-то отделались легкими ушибами… Кажется, стали большим ученым. Я о вас в здешней газете читал. И фотографию вашу видел. — А вы? Вы что здесь делаете? — Пока живу — надеюсь! Надеюсь на лучшие времена. Коммерция. Комбинирую. Желание — это отец мысли. Есть желание — хорошо, легко жить, появляются и кое-какие мыслишки на сей счет… Может, заглянем в ресторан, отметим встречу соотечественников? Честно говоря, порой охватывает этакая неуемная грусть… Родина, дом, русская зима… Не перечеркнешь. Ну так как? — Простите, я занят… И потом, как бы вам поделикатнее сказать… стоит ли? — Вы не обижайте земляка. Не брезгуйте. И так приятно встретить русского. Иногда хочется вернуться… Но не знаю, как примут? Страшновато… — Серж сразу как-то сник. Профессор удивленно посмотрел на собеседника. — Прошу прощения, как говорится, рога трубят… — поднялся с места и, не подавая руки, раскланялся, перехватив колючий взгляд хлыща. Поздно вечером, вернувшись в гостиницу, профессор по обыкновению спустился в ресторан поужинать. Он только вошел в зал, как тут же был перехвачен Сержем. — Прошу к нашему столу… Не обижайте… Я обещал одной даме познакомить ее с русским гостем. Она, между прочим, тоже говорит по-русски. Вы не представляете, как тоскливо и горько на чужбине. И как мы рады встрече с каждым человеком из отчего дома… Забудьте и простите нам былое… За нашим столом ваш коллега. Вы уже встречались с ним тут… Ну будьте же русским человеком с русской доброй душой… Прошу вас… За столом в обществе молодой красивой женщины действительно оказался его коллега — один из ученых, с которым профессора познакомили в здешнем научном институте и который пел исследования примерно в том же направлении, что и он сам. Ученый этот, его звали Карлом, запомнился профессору еще и потому, что в отличие от своих друзей он почти свободно, с небольшим акцентом, говорил по-русски. Коллега представил даму: — Дженни… Женя… А мир тесен… Серж говорил, что вы, кажется, когда-то встречались. Профессор нахмурился и зло буркнул: “К сожалению, да”. Беседа явно не клеилась. Напряженную обстановку разрядила Дженни. Она задорно посмотрела на профессора, сидевшего рядом с ней, ласково взяла его под руку и сказала: — Какой вы, однако, колючий. Все трое весело рассмеялись. Профессор улыбнулся. — Ну что ж, давайте ужинать… — Вот и отлично. Я с удовольствием выпью с вами, коллега, за процветание науки, которая не знает границ. Нам, ученым, нечего делить. Мы едины в своих устремлениях к свету и прогрессу… И Карл чокнулся с советским профессором. Он посидел за столом еще минут двадцать и, извинившись: “Дела, дела” — раскланялся. Они много пили, ели, танцевали. Потом Серж предложил перейти в номер гостя. Предложение было принято с восторгом. Вскоре явился официант. Распоряжения отдавал Серж — профессор был занят Дженни… Проснулся он поздно, с тяжелой головой, тщетно пытаясь восстановить в памяти детали минувшей “афинской ночи”: куда и когда исчезли коллега, Серж, Дженни. Кажется, его ночью повезли куда-то в гости? Ах да, к этой очаровательной Дженни. Очень мило… И его обслуживала русская горничная… А потом? Ему стало страшно. Первым делом он бросился к портфелю — там его записная книжка с телефонами, адресами, документы и тетрадь со служебными записями. Слава тебе, господи, все на месте. Он облегченно вздохнул, не дав себе труда проверить, шарил ли кто-нибудь в портфеле. Б полдень профессор уезжал домой. Он спустился вниз, к администратору гостиницы, чтобы рассчитаться. В холле его ждал Серж. — Как чувствует себя мой дорогой друг? Вы, кажется, слегка побаловались ночью? Ну, не расстраивайтесь. Можно же позволить себе иногда и шалости. Поверьте, все это останется между нами… Я же понимаю, нужна революционная бдительность. Не так ли? И он фамильярно похлопал профессора по плечу. Тот удивленно посмотрел на него и направился к администратору — платить за гостиницу. А тут новая, мягко выражаясь, неприятность: счет ресторана. “Афинская ночь” влетела в копеечку; распоряжался Серж, а платить-то надо ему. Увидев сумму счета, он побледнел, у него затряслись руки. Где взять столько валюты? Все уже подсчитано, все израсходовано, сегодня день отъезда. Он беспомощно оглянулся. Серж стоял рядом и улыбался. — Что поделаешь? Надо платить денежки… — Но у меня нет столько денег! — Это печально… Нужно искать выход… — Какой же выход? — вопрос застрял у него в горле. — Возможны варианты, профессор. Но, мне кажется, что холл не лучшее место для обсуждения этих вариантов. Может, зайдем к вам в номер? Давайте сюда счет… Они, поднялись в номер. Серж говорил тихо, вкрадчиво. — Вот здесь, — он показал на свой портфель, — магнитофонная запись и фотографии всех пикантных сцен минувшей ночи. Здесь, — он показал на кармашек пиджака, — счет ресторана на ваше имя, счет, который будет оплачен мною. О соответствующей расписке я позабочусь сам. А здесь, — он постучал пальцем по лбу, — сохранены все сведения касательно ваших признаний в гестапо и касательно вашей тетушки, проживающей в Париже. Кстати, по первому моему сигналу она готова нагрянуть к вам в Сибирь в гости… Туристом… В вашей анкете сие, кажется, не предусмотрено. — Чего вы от меня хотите? — Сущие пустяки! Поверьте слову русского человека. Мы расстанемся добрыми друзьями. Вот вам значок с видом Эйфелевой башни. Сохраните его, пожалуйста. Человек, который вам предъявит у вас дома такой же значок, будет нуждаться в некоторых ваших услугах… Самых мелких, ничего не значащих. Вы меня поняли, профессор? Не удивляйтесь, если этим человеком буду я… Вы изволили уже слышать от меня — возможны варианты…Роковой значок
С того дня прошло много времени, и профессор решил, что все благополучно обошлось. Кошмарный сон, и ничего более. Никто его не тревожил. И вдруг… — Это случилось недели две назад, в воскресенье, — продолжал свой рассказ профессор. — Я возвращался с охоты. Иду лесной опушкой и на самом повороте к шоссе меня кто-то сзади тихо окликнул. Я обернулся — человек протягивает мне значок с видом Эйфелевой башни и спрашивает: “Это не вы обронили?” Протягивает и улыбается. А я едва на ногах стою. Кровь хлынула к лицу: “Значит, не дадут покоя. Вспомнили”. Спрашиваю: — Кто вы такой? Что вы пристали? — Вам не надо знать, кто я. Завтра меня уже не будет в этом городе. Слушайте и не возражайте: под любым предлогом вам нужно приехать в Москву. Не дадут командировку, сошлитесь на болезнь близкого человека. Если через две недели не приедете в Москву, пеняйте на себя. — Я не могу сейчас уехать. Меня не пошлют в Москву… — Повторяю: возьмите отпуск. Выдумайте подходящий предлог. Когда приедете — дадите знать: на стене будки автомата в вестибюле кино “Ленинград” напишите: “Саша плюс Маша = любовь”. Вас найдут. Не вздумайте вилять. …Птицын слушал профессора и мысленно разносил своего сибирского коллегу: “Как же вы так опростоволосились! Сказано же было вам: год, два смотрите. Кто-нибудь да выйдет на связь… Хорошо, что дело так обернулось”. А профессор продолжал свою исповедь: — Я решил твердо: не поеду. Будь что будет. Внутренне готовил себя к сегодняшнему нашему разговору. И вдруг вызывают к директору: “Срочно выезжайте в Москву. Звонил Алексей Михайлович, соглашается проконсультировать вас”. Я обомлел. На консультацию! Да не в сговоре ли они все против меня? Что ты будешь делать? Надо ехать. А насчет автомата — “Саша плюс Маша” — это черта лысого. Пусть что хотят делают… Да и будут ли что делать… В общем, я условленного сигнала не подал. Профессор привез на консультацию Круглова проект новой схемы управления сложной установкой, работающей на том же принципе, что и установка “Альфа”, известная в узком кругу ученых как “эффект К”. В Сибири сооружается огромный корпус, в котором частично будут проводиться эксперименты, призванные в какой-то мере еще раз подтвердить смелые гипотезы профессора Круглова. …Вчера Константин Петрович вернулся в гостиницу поздно ночью — был в гостях у родных жены. И сегодня собирался ехать в институт попозже, часам к одиннадцати. В десять раздался телефонный звонок. — С вами говорит помощник заместителя председателя Госкомитета… Сейчас за вами придет машина. Срочно поезжайте в филиал института. Вы знаете, где он находится? Да, там… Хозяин уже на месте. Профессор тоже выехал туда. Сегодня он начинает новую серию экспериментов. Пожалуйста, поспешите, вас будут ждать. Константин Петрович через пять минут спустился вниз, полный всяких догадок и недоумений: в чем дело, почему вчера Алексей Михайлович не предупредил его ни о каких экспериментах? Странно… Позвонил в институт. Секретарь ответила, что Алексей Михайлович действительно рано утром уехал. Куца? Неизвестно. В филиал? Возможно, что и в филиал… У подъезда его ждала “Волга”. Он подошел к машине, назвал свою фамилию и сел рядом с водителем. Шофер сидел нахохлившись, с поднятым воротником пальто. — Добрый день, профессор. Будем знакомы. — И водитель протянул значок с видом Эйфелевой башни. Профессор вздрогнул, слегка повернулся влево, изумленно посмотрел на водителя. За рулем сидел широкоплечий атлетического сложения человек лет пятидесяти. — Что вам от меня надо? — Меня просили передать вам этот сувенир. Извольте… Небольшой фотоальбом. Связник — профессор мысленно окрестил его кличкой “Атлет” — явно издевался: в альбоме были собраны фотографии, запечатлевшие ученого с Дженни. — Это что, ловушка? Шантаж? Куда вы везете меня?.. — Слегка проветриться… Обсудить кое-какие проблемы… Я вас долго ждал. Есть о чем поговорить. — Кто вам сообщил, что я в Москве, что я в гостинице? — крикнул профессор. — Не кричите! Вопросы задаю я, — зло буркнул Атлет. — Запомните это раз и навсегда и не задавайте больше дурацких вопросов. Это я должен спросить, почему вы не подали условленного сигнала? С огнем играете, профессор… Будем считать инцидент исчерпанным. Рассеянность ученого. Забывчивость или нервы. Да? Согласны? А теперь к делу. Вы в курсе намеченной профессором Кругловым программы экспериментов? — Не ожидая ответа, он в который уже раз с тех пор, как выехали на шоссе, тревожно посмотрел в зеркальце. — Э, наши дела осложняются, профессор… Хвост… Эту машину я приметил еще на проспекте Мира… Сейчас мы ее проверим. Он замедлил ход. Выехал на обочину. Остановился. Поднял капот. “Хвост” проскочил мимо, свернул с шоссе влево и тоже остановился. Ясно — ждет. Атлет подал знак, чтобы профессор вышел из машины. И, продолжая “копаться” в двигателе, сказал: — Не поворачивайтесь лицом к “хвосту”. Пусть, если хотят, спины фотографируют… А теперь слушайте внимательно. Нам нужны точные данные о последних работах профессора Круглова. Нам известна проблема и еще кое-что. Но это очень непрофессионально. Потому я говорю: нам нужны точные данные. Вы ученый, и вы сможете дать больше, чем мы получили раньше, о работах Круглова. Плюс такие же точные сведения о работах вашего сибирского института, которые, надеюсь, вы не откажетесь сообщить нам. Все это, как вы понимаете, мы сравним, уточним… Через три дня мы встретимся на остановке троллейбуса № 3 на улице Чехова. У Пушкинской площади. В девятнадцать ноль пять… А теперь садитесь в машину. Будем “хвост” сбивать. — И сбили? — полюбопытствовал Птицын. — По-моему, да. — Ну-ну! Но это так, к слову, чисто профессиональное любопытство… Человек вы… как бы это помягче сказать, ну недальновидный, что ли… Однако образумились вовремя, и это делает вам честь. А то мы уж сами собирались вас вызывать. Сейчас уж нечего расстраиваться, губы кусать… Выпейте воды… Могу валокордин предложить. Успокаивает… Возьмите себя в руки. Будьте мужчиной. Нам о серьезных делах говорить. Вот так… Спокойнее. Значит, говорите, что “кое-что” им известно, а просят “точные данные”. Кто же поставляет им это “кое-что?” Птицын задумался. Он сам был в свое время причастен к науке. И хорошо знал цену этого “кое-что”. Птицыну, когда он был аспирантом на кафедре радиоэлектроники, профессор частенько говорил: “Путь к открытию тернист и многотруден. Иногда кажется, что уже все знаешь, все тебе ясно, а вот чего-то еще не хватает, самой малости… Унция знаний… А добываешь ее годами”. Профессор верил в талант своего аспиранта, пришедшего в науку из заводской лаборатории. “У вас дар исследователя, аналитический ум, — говорил он. — Это очень важно для ученого”. Птицын вспомнил своего учителя и улыбнулся. Что поделаешь! Его “дар исследователя и аналитический ум” были по достоинству оценены людьми, работавшими совсем в другой области… Итак, что же получается?.. Он достал из папки запись бесед с Петром Максимовичем, вновь и вновь перечитывал строки, уже давно привлекшие его внимание: обстоятельства, при которых Егоров вторично встретил человека, приходившего к нему за спиннингом. Неужели это случайность — из магазина вышла она, близкий друг Петра Максимовича, а через несколько минут вслед за ней он, Атлет… резидент… Если это не случайность, тогда… — Вот что, Константин Петрович. При встрече с Атлетом скажите ему, что последние данные о работе института Круглова вы можете получить от самого Круглова, вашего доброго знакомого, но что вам при беседах с шефом очень мешает его ближайший помощник Егоров: при нем Круглов менее откровенен, более сдержан… — Не понимаю… Что же от меня еще требуется? Скажу я ему это… а дальше… — Спокойствие и выдержка. Атлет должен вам верить. Скажите ему, что в четверг вы задержитесь подольше с Кругловым… Конечно, если вам не помешает Петр Максимович… Желаю успеха. Птицын проводил сибиряка и, не заходя в свой кабинет, отправился к генералу. Клементьев ждал его… — Задумали вы хорошо, Александр Порфирьевич. Согласно элементарным законам логики Атлет должен поручить своему человеку в институте в четверг увести Егорова из лаборатории пораньше. Кто окажется этим человеком? — Завтра узнаем об этом у Егорова… — Ему известен ваш план? — Нет. Надо ли посвящать его… — Посвящать во все детали плана не следует, но как-то подготовить его, пожалуй, надо… Повстречайтесь с ним сегодня и попросите внимательно присматриваться ко всему, что будет происходить в лаборатории в четверг. Ведь по-разному можно заставить Егорова пораньше уйти из института. Мы с вами предполагаем, что это будет поручено кому-то из работников института… Логично… А если Атлет другой способ найдет? …Разговор Птицына с Егоровым был не из легких. — Я прошу вас, Петр Максимович, внимательнейшим образом, не пренебрегая деталями, мелочами, зафиксировать все, что увидите и услышите в четверг в институте… — Именно в четверг? — Да. Егоров несколько раздраженно отреагировал на такое поручение. — Но я же не чекист. Вы должны понять… Есть какая-то грань… Я — ученый и… — Вы гражданин. Это ваша главная должность на советской земле, Петр Максимович. Прошу не забывать… К тому же во всем этом в какой-то мере вы заинтересованы персонально… Вот так… И над этим подумайте… Егоров сник и растерянно посмотрел на Птицына. — Вы меня не так поняли, Александр Порфирьевич. Я хотел подчеркнуть свою неприспособленность. Это ведь все не так просто… Я опасаюсь — сумею ли… — Сумеете. Я тоже в свое время опасался — сумею ли? …Егоров в общем-то достаточно добросовестно выполнил задание. В пятницу утром Птицын слушал наиподробнейший доклад обо всем, что слышал и видел в тот день Петр Максимович. Начиная с девяти утра. — В четыре часа дня я получил приглашение пойти в театр. Но отказался. Мне срочно надо было готовить свой доклад шефу… И я никак не мог уйти пораньше из института. — От кого вы получили столь приятное приглашение? — Птицыну не легко сохранить на лице выражение полного безразличия. Впрочем, сейчас это уже не так важно. Развязка близка. — От переводчицы, Натальи Викторовны… Приглашение было действительно приятное… И я не устоял. Она все же увела меня в театр: “Пусть это будет моим капризом. Я ведь не так часто капризничаю. Не правда ли?” И я не смог отказать ей…Они плыли рядом
Все, кажется, становится теперь на свои места, и Птицын вынужден сказать Егорову всю правду. А это не легко. Ученого уже, видимо, терзают тяжелые предчувствия. В лице его столько грусти, печали, душевного волнения. Но иначе нельзя. Он должен все знать о ней. Так требует задуманный чекистами план. …Они гуляли по набережной — это любимое место их прогулок: здесь, собственно, все и началось. Первое пожатие руки. Первое объяснение в ту безлунную ночь, когда сквозь нависший над рекой туман мерцали одинокие звезды. А сейчас он смотрит на нее глазами, которым открылся весь ужас свершившегося. Она все щебечет и щебечет о чем-то, а он ее не слышит. Он думает о том, хватит ли у него физических и душевных сил выдержать и не выдать себя, скрыть, как клокочет его сердце — гневом, ненавистью, презрением. Должен, обязан выдержать, не имеешь права выдавать себя — это ничтожно малая расплата за все… За что? В чем твоя вина? — О чем ты думаешь, Петя? Ты меня не слушаешь… — Прости, пожалуйста, Наташа, я действительно задумался. Меня все же тревожит этот визит иностранца и необычное его предложение насчет статьи. И потом неожиданный отбой. Как-то неспокойно на душе… Странный джентльмен… — Петя, вспомни, ты за рюмкой водки не сболтнул чего-нибудь лишнего? — испуганно спросила она. — Успокойся, Наташенька. Ты ведь знаешь, какой я пьяница… Я, конечно, ответил на некоторые его вопросы… И Петр Максимович вслух стал вспоминать вопросы, которые ему задавал Карл, и то, что он ответил на них. — А по-моему, Петя, ты был слишком откровенен с ним… — Дорогая, ты не волнуйся за меня. Главное-то в нашем открытии совсем не в том, что я ему рассказал. Ведь мы нашли… — И он долго говорил о последних исследованиях института. Однако Наташа вовсе не слушала его, а довольно откровенно позевывала. “Майор как в воду глядел: “Ни одного вопроса она не задаст вам”, — вспомнил Петр Максимович. — Прости меня, пожалуйста, Наташенька… Для тебя это, конечно, скучная материя, а для меня — вся жизнь… …Был жаркий вечер. Они зашли на Поплавок поужинать. Наташа была очень весела, ласкова. На следующий день сразу после работы Наташа поехала в Химки. Петр Максимович задержался в институте, и они условились встретиться в восемь часов вечера у входа в речной вокзал. …Она заплыла далеко-далеко, когда рядом с ней неожиданно появился мужчина. Кругом — ни души. Какую-то минуту плыли молча, бок о бок. Достав из-под купальника пластмассовый мешочек, она протянула его мужчине. — Тут последние данные. Я их записала со слов Егорова. — Хорошо. Изучим, увидим, решим, что дальше делать. — Инструкцию и вознаграждение получите через тайник номер два. И они поплыли в разные стороны. В восемь вечера Петр Максимович ждал ее у подъезда речного вокзала. За ужином Наташа говорила Петру теплые и ласковые слова, которые его уже не согревали. Но он понимал, что ему надо улыбаться. И он улыбался, рассказывал какие-то забавные истории про своего приятеля Жору, а потом они живо обсуждали премьеру в “Современнике”. В институте жизнь шла своим чередом. Улеглись волнения, страсти, кипевшие в первые дни после того, как пришел зарубежный журнал с заметкой об “Альфе”. Ничего не изменилось и в отношениях Наташи и Петра Максимовича — они все такие же веселые, жизнерадостные. И только шеф, профессор Круглов, сильно сдал, осунулся, как-то сник, побледнел, и, кажется, впервые этот крепкий старик почувствовал, что такое боль в сердце… К “Альфе” Наташа по-прежнему не проявляла никакого интереса. И если случалось, что в кабинете Круглова в ее присутствии кто-то заводил разговор о новом аппарате, переводчица незаметно исчезала из комнаты. После работы Наташа и Петр Максимович, как правило, уходили вместе. В тот вечер они собирались идти в кино. И вдруг по дороге к метро Наташа вспомнила, что ей надо заглянуть в ближайший универмаг: “Это нам по пути”. Был час пик, народу много, и Егоров предложил не задерживаться в магазине: “Иначе опоздаем в кино”. Наташа капризно повела плечами и сказала, что завтра непременно должна отнести своей портнихе пуговицы. — Ты подожди меня, Петя, на улице… Зачем нам обоим толкаться… — И быстро направилась к лестнице, ведущей на второй этаж. Был у Егорова в то мгновение порыв — ринуться вслед за ней. После всего того, что ему рассказал Птицын, после того, как началась эта тягостная игра — он должен мило улыбаться этой девушке, ухаживать за ней! — в нем нарастало желание самому выследить переводчицу, самому схватить ее за руку на месте преступления. Но он не имеет права, есть строгий запрет Птицына: “Без нашего разрешения — ни шагу, ни одного самостоятельного действия”. И он не пошел вслед за Наташей, хотя и подозревал, что портниха, пуговицы — все это выдумано на ходу. Наташа не заставила себя долго ждать. Прошло лишь две–три минуты, и она снова рядом с Егоровым. Увы, нужных ей пуговиц в этом универмаге нет и ей придется отправиться в поход по магазинам. — Что делать, Петенька… Дамское пальто сшить труднее, чем дом построить… Ты не сердись… Портниха страшная злюка. Если я завтра не принесу ей пуговицы — будет скандал… — Зачем же до скандала дело доводить. Дамская портниха — царица всех цариц. Даже мужчины это знают. Отправляйся в экспедицию за пуговицами, а я позвоню Жоре, он тоже хотел пойти в кино… И они расстались. …В тот же вечер Птицын получил сообщения. …В двенадцать ноль-ноль Атлет прибыл из своей мытищинской квартиры в Москву и в течение нескольких часов колесил по городу, переходя из одной станции метро в другую, путешествуя из Химок в Измайлово и обратно. Видимо, приметил, что кто-то следует за ним по пятам, и пытался оторваться. Последняя его попытка — через проходные дворы, соединяющие Новослободскую и Бутырский вал — не увенчалась успехом. …В семнадцать тридцать Атлет зашел в универмаг, расположенный близ института Круглова, поднялся на второй этаж, заглянул в телефонную будку и что-то начертил на стене. …В восемнадцать десять в эту же будку зашла Венера и сделала вид, что звонит по телефону, но даже забыла опустить монету и автомат. Разглядела надпись на стене и тут же вышла на улицу, где ее ждал Егоров. Через несколько минут они разошлись в разные стороны. Венера так же, как и Атлет, целый час путешествовала по разным станциям метро и наконец вышла на Октябрьскую площадь. У остановки троллейбуса ее ждал Атлет. Они переглянулись и подошли к афишной тумбе, возле которой толпился народ. Атлет сунул в карман Венеры какую-то бумажку и мгновенно исчез. Венера прочла записку, немедленно разорвала ее на мелкие кусочки и бросила их в урну. Кусочки записки прилагаются. …В двадцать один час Венера приехала на Пушкинскую площадь, направилась на улицу Чехова. На остановке троллейбуса № 3, около театра Ленинского комсомола, на столбе она начертила мелом три крестика. …В двадцать один десять к этому столбу подошел Атлет. Поздно ночью Птицыну принесли из лаборатории реставрированную записку Атлета. “Требуем новые данные о работе профессора. В полученной от вас информации оказались неточности. Нужны уточнения. Ждем более точных сведений. Используйте благоприятную ситуацию: после публикации зарубежного журнала секретность темы ослабеет. Действуйте быстрее и тем же оружием”. И Венера продолжала действовать. У контрразведки было достаточно оснований, чтобы арестовать и Венеру, и Атлета. Но чекисты решили подождать, посмотреть, как будут развиваться события. Птицын следит, не выявятся ли новые действующие лица, в Москве ли хозяин Атлета? Увы, пока их только двое. Атлет и Венера. Однако хозяин должен быть где-то рядом, вряд ли Атлет самостоятельно решает все вопросы, связанные с операцией “Альфа”. …В антракте Наташа с Петей прогуливались по фойе Большого театра. Птицын шел им навстречу. Чуть-чуть впереди его — изысканно одетый, высокий, худощавый человек средних лет… Он был один. Без дамы. И когда Наташа поравнялась с ним, взглянула на него, лицо ее внезапно стало пунцовым, в глазах метнулись искорки испуга. На какую-то долю секунды она растерялась и даже чуть было не поклонилась человеку, шедшему ей навстречу. Только на какую-то долю. Но Птицыну этого было достаточно. Александр Порфирьевич ушел с последнего действия “Спартака”. Он должен встретить смутившего Наташу незнакомца при выходе из театра. На случай всяких осложнений вызваны два оперативных сотрудника. Незнакомец уехал домой на машине. А на следующее утро Птицын получил исчерпывающую информацию: это был сотрудник посольства. К вечеру поступило еще одно сообщение. “…Сегодня в шестнадцать пятнадцать Атлет зашел в кафе “Националь” и занял столик, за которым только что сидел тот самый сотрудник посольства. Под неубранной тарелкой лежала бумажка. Через секунду она оказалась в руках Атлета”. О содержании записки Птицын узнает позже — шеф недоволен поведением Наташи в театре, нет выдержки, не умеет владеть собой, забывает о строгих правилах конспирации. Прошло еще несколько дней. Были условные телефонные звонки Атлета. Была его мимолетная встреча с Венерой в Мосторге в субботу, в час, когда у прилавка большая толпа народа. А в понедельник на остановке троллейбуса № 10 на площади Восстания появилось приклеенное к стене объявление Семивзоровой: она продает иностранный транзистор фирмы “Текап акьлак ортем”. Странная, никому не известная фирма! Но Атлету она известна. И Птицыну тоже. Он читает сообщение оперативного сотрудника и улыбается. — Нервы сдают… Немудрящее объявление… Без выдумки… Пишется “текап акьлак ортом”, а читается наоборот — пакет калька метро. Все ясно! …В девять вечера Наташа вышла из дому с чемоданчиком в руках и направилась к станции метро. …Она стояла у двери, соединяющей один вагон метропоезда с другим. У ног ее — чемоданчик. Наташа совершает длительное подземное путешествие — от Речного вокзала до Автозаводской. Уже несколько раз сменился состав пассажиров, и никто уже не считает, что чемоданчик, стоящий на полу, принадлежит этой девушке. Наташа вышла из поезда на Автозаводской, а чемоданчик остался в вагоне, у ног Атлета… Так она передала ему кальку с чертежами, формулами, кальку, специально обработанную и подготовленную Егоровым по указаниям Птицына. Еще одна “совершенно точная” информация об “Альфе” уйдет за рубеж. В одиннадцать вечера Птицын докладывал генералу о ходе операции. Было решено, что рисковать дальше нельзя. Их арестовали в один день: Наташу в Москве, дома, Атлета — в Сибири. Его взяли в лесу в момент свидания с сибирским ученым — Атлет полетел к нему по срочному заданию своего хозяина, сотрудника посольства. Константин Петрович, получив от Атлета условную телеграмму “Буду. Выезжаю санаторий”, сразу же позвонил Птицыну. Александр Порфирьевич выслушал сообщение сибиряка и мысленно отметил: “Молодцом! Искупает вину…” На первом же допросе Атлета стало ясно — он того же поля ягодка, что и Серж. А вот Наташа — она-то как дошла до жизни такой?Как это было?
…Это случилось во время практики. Наташе в Интуристе дали одно из наиболее ответственных поручений — работать с иностранным гостем — ученым. Она должна помочь ему познакомиться с нашей страной. Наташа с волнением приступила к новому для нее делу и быстро освоилась с ним. Ей понравился необычный для нее образ жизни — машины, приемы, театры. И еще одно немаловажное обстоятельство: иностранец был сравнительно молод, обаятелен и, как ей это показалось, несколько более обычного внимателен к ней. …Нет, она не поедет к Димке в тайгу. К чему, зачем? “С милым рай и в шалаше” — это выдумка неудачливых девиц. Теперь она это уже твердо решила и даже написала Диме: “Не сердись, кактус! Ты должен понять меня”. Однажды в холле гостиницы студентка встретила сотрудницу Интуриста, помогавшую практикантам. “Рада сообщить вам приятное, ваш подшефный весьма доволен своим гидом”. Тогда Натали еще не догадывалась, что у ученого были серьезные для этого основания: его вполне устраивала болтливая, веселая, падкая на комплименты и сувениры девушка. Тогда она еще не понимала, почему так участливо иностранец расспрашивал ее о погибшем отце, о матери, бабушке, дяде. У девушки учащенно билось сердце, когда гость будто невзначай дольше обычного задерживал ее тоненькие пальчики в своей большой руке… Однажды он познакомил гида со своим другом юности — “мы вместе учились в колледже” — работником посольства. Они втроем несколько раз были в Большом театре, ездили в Загорск смотреть Лавру. И в тот прощальный вечер, когда ученый собирался улетать домой, когда он горячо благодарил свою переводчицу (не словом — сувениром), сотрудник посольства тоже был тут. Ученый дружески похлопывал его по плечу. — Я прошу тебя, мой друг, не оставлять без внимания мисс Натали. Она заслуживает этого внимания. — Он галантно поцеловал ей ручку. — Вспоминайте меня, когда будете вместе… Я даже разрешаю вам когда-нибудь выпить за мое здоровье… Но ни шагу дальше… — И ученый весело рассмеялся, обнимая своего друга. И Натали смеялась. Ей было и весело и немного грустно: она привыкла к своему подшефному. А ученый продолжал: “Мисс Натали, я вас тоже прошу не забывать моего друга. Он пишет книгу о русской пауке и, может быть, ему потребуются какие-нибудь справки или официальные справочники или устная консультация. Если это вас не очень обременит — помогите ему. Я заранее благодарю вас”. “Друг” дал о себе знать через неделю после отъезда ученого: позвонил Наташедомой и пригласил ее в ресторан. “Я хотел бы воспользоваться вашим любезным согласием помочь мне консультацией… Вы как-то говорили, что читали о последних открытиях советских пушкинистов. Мне хотелось бы побеседовать с вами на эту тему…” Они пили кофе по-турецки и французский коньяк. Говорили о русском балете и венском айс-ревю. Ну, конечно, и о пушкинистах. Они встретились раз, другой, третий. Как всегда, Наташа без умолку щебетала о маме, бабушке, дяде, институте, рассказывала о студенческих вечерах, на которые приезжают ребята из МГУ и МВТУ, о парне из МВТУ, который зачастил к ним на вечера и танцует только, с ней. Так разговор зашел об МВТУ. — Я хочу рассказать об этом великолепном институте в своей книге. И был бы очень признателен вам, если бы вы смогли узнать для меня некоторые детали обучения на машиностроительном факультете. Вы, кажется, говорили, что ваш поклонник учится на этом факультете? Или я ослышался?.. Даже не очень сметливый человек, услышав такую просьбу иностранного дипломата, должен был насторожиться. Но девушка выполнила и эту просьбу, тем более что поклонник оказался парнем весьма болтливым. Наташа охотно встречалась с сотрудником посольства. Была у него дома, полагая, что для нее это прекрасная разговорная практика. Дипломат был в меру любезен, внимателен. Разговаривать с ним было приятно, интересно — он много и многих знал. Оказывается, ему хорошо известно и имя ее дядюшки. “Я много слышал о нем! Блестящий ученый, острый ум, смелый экспериментатор”. Наташа прервала его и сама стала подробно рассказывать об исследованиях Федора Степановича — все, что запомнилось из бесед с ним. Иностранец рассеянно слушал и незаметно переводил разговор на какую-то другую тему, хотя к исследованиям дядюшки, словно невзначай, они возвращались несколько раз… И вот наконец… В тот вечер он встретил ее у себя дома с подчеркнутой галантностью. Когда сели за стол, он достал из кармана коробочку, раскрыл ее, и на красном бархате ослепительно блеснуло золотое кольцо с бриллиантом. “Мисс Натали, я буду с вами откровенен. Вы сообщили мне сведения, очень ценные для нашего правительства. Я хотел бы от его имени поблагодарить вас…” Она растерялась, засуетилась, стала отталкивать протянутую коробочку, вскочила с места… “Я не понимаю, о чем вы говорите?” Он стоял перед ней, этот сухопарый, с виду еще молодой человек, в щеголеватом костюме, с гладко прилизанными волосами, и нагло рассматривал ее. “О, не надо так… Я мог бы сейчас включить магнитофон и предоставить вам возможность выслушать, например, ваш рассказ о работах дяди… Или об МВТУ… Передавая вам этот скромный подарок, я хотел бы попросить вас помочь мне узнать некоторые дополнительные данные, касающиеся дядюшкиной лаборатории. Поверьте — это важно для всемирного прогресса. Наука не может замыкаться в рамках одной страны”. Она, как затравленный зверек, металась по комнате. — Как вы смеете!.. Это шантаж! Вы хотите, чтобы я занялась… Он подошел к ней и нежно прикрыл ее рот своей большой ладонью. — Не надо, не надо так говорить, мисс!.. К чему такие слова. Вы умненькая девушка. И мы всегда найдем с вами общий язык. Это бывает, когда стоит дилемма — или пойти с повинной в Комитет государственной безопасности, или… Ну, ну. Не будем больше говорить об этом… Я хочу выпить за здоровье очаровательной мисс Натали. Терзания души легкомысленной девушки длились недолго. У Наташи не хватило воли пойти с повинной. — Ваша главная задача, — наставлял иностранец, — отлично учиться, чтобы заслужить право на интересную работу после окончания института. Что я считаю интересной работой? Переводчица большого научного института… для начала… А в будущем? О, у вас прекрасное будущее — вы должны стать и переводчицей и ученой. Да, да. Мы вам поможем. Вы одаренная девушка — вы будете работать и учиться в институте. Ваш дядя позаботится об этом. Вы пойдете в науку… Вам ясно? С того дня у Натали появился строгий хозяин, который перестал быть галантным мужчиной, — он приказывал, требовал. Они не должны больше встречаться. И вообще ей следует держаться подальше от иностранцев, поближе к советским ученым. “Ваша главная задача: попасть в отдел Алексея Михайловича… Старик нас очень интересует… Меня вы, возможно, больше никогда не увидите. Связь со мной будете поддерживать через человека, который сам найдет вас и нужном и удобном ему месте. Пароль: “Где тут ближайшая булочная?” Вы ответите: “Сейчас я вам покажу”. Запомнили? Дальше будете действовать по приказу этого человека. Если вы мне потребуетесь, я вас сам найду. Если вы когда-нибудь встретите меня и вздумаете по собственной инициативе подойти ко мне, то эхо будет ваша первая и последняя попытка. Вам ясно, мисс?” — И он посмотрел на нее серыми прищуренными глазами, пренебрежительно скривив губы. “Человек” дал о себе знать только через полгода. На привокзальной площади к Наташе подошел крепыш атлетического телосложения в бежевом спортивном костюме. По ней скользнул взгляд холодных, настороженных глаз, широко посаженных на лице с тяжелым подбородком и приплюснутым носом. — Где тут ближайшая булочная? На секунду она растерялась, испуганно метнула взгляд то в одну, то в другую сторону (позже резидент строго отчитывал ее за это), посмотрела на шагающего рядом с ней человека широко распахнутыми глазами и с трудом выдавила: “Сейчас я вам покажу”. Однако Наташа быстро нашла себя в амплуа “источника информации” под кличкой Венера. В течение месяца она уже успела заслужить благодарность Атлета — так он приказал называть себя, предупредив, чтобы она и не пыталась узнавать его имя, отчество, фамилию. “И фамилию нашего шефа забудьте — он для нас Аристократ”. Она передала сведения о преподавателях Института иностранных языков, о пианисте из маминой бригады — “У него брат в США, а он это скрывает”, о своем однокурснике Саше К. — “Его посылают работать в торгпредство… Парень любит крепко выпить и поволочиться за девушками”. А вот что касается Димки, его рассказов о строительстве химкомбината в тайге — на это у нее не хватило духу… Почему? Наташа сама не могла во всем этом разобраться… Уже была отработана техника связи — были облюбованы тайники, один из них в парке, в дупле акации, где Наташа оставляла коробочку или конверт, который потом забирали. Уже было освоено искусство тайнописи и шифра. Ее научили слушать своих собеседников с безразличным видом и все запоминать. У нее все это неплохо получалось: проведет вечер в семье профессора или в обществе Петра Максимовича, вернется домой и, оставшись одна в своей комнате, шифром запишет все, что узнала, все, что услышала… Кое-какие сведения о работах Алексея Михайловича уже были переданы разведке. Но еще недостаточно точные и полные. Разведка ждала более глубокой и квалифицированной информации. — Хозяин доволен вашей работой. Но пора подниматься на новую ступень, — требовал Атлет. — Каким образом? Что я еще могу сделать? — Аристократ просил вам напомнить о вашем самом сильном оружии… Вы красивая женщина… — Понимаю. В кого направить стрелы? — В Петра Максимовича… Наташа не подвела Аристократа. Все развивалось так, как было задумано. Она отлично вошла в роль… И вдруг первая осечка. В назначенный день и час она должна ждать Атлета у метро “Сокол”. Он редко прибегал к таким встречам, предпочитая связь через тайники. Но в последнее время “работа” стала напряженной, требовала оперативной связи и даже непосредственных встреч. Задания поступали срочные. В особенности после приезда из Сибири Константина Петровича. Как-то Атлет предупредил ее: — Если узнаете, что в один из ближайших дней Алексея Михайловича с утра в институте не будет, что он, скажем, решил поехать в филиал, обязательно дайте мне знать накануне. Возвращаясь домой, держите перчатки в руках. А потом еще более странное задание: — В четверг Петр Максимович не должен после работы оставаться в лаборатории. Вместе с вами или один, как хотите, но он должен покинуть институт. Держите… Билеты в театр на этот вечер могут пригодиться. Вот и сегодня, видимо, что-то срочное побудило Атлета назначить ей свидание у метро “Сокол”. “Стойте на троллейбусной остановке. Я сам подойду к вам”. Он действительно появился на остановке в точно назначенное время. Но к Наташе не подошел. Значит, что-то случилось… Несколько дней она провела в ожидании беды. Нет, все в порядке! Атлет снова дал о себе знать. Он не подошел тогда к Наташе из осторожности: ему показалось, что кто-то следит за ним. В тайнике шифровка: Аристократ обеспокоен неудачей туриста и требует энергичных действий. Надо достать более точные данные об “игрушке старика”. Турист — Карл. Старик — Круглов. Игрушка — новая установка, сконструированная в институте. Венере повезло. Егоров, кажется, проболтался. Энергичных действий не потребовалось. И вот — Химки. Пляж. Заплыв. Пластмассовый мешочек… Потом ее и Атлета арестовали. Птицын перечитывает протоколы допросов Венеры и Атлета. Что касается состава их преступлений — ему все ясно. Он обеспокоен другим: Ландыш сообщает о какой-то новой затее Карла и Сержа. Кого-то опять снаряжают в “туристскую поездку” в Советский Союз. И в протоколах допроса его интересуют все детали, касающиеся Карла, методов его работы. Связи? С кем? Через кого? Атлет не единственный резидент. Может, довоенные друзья Сержа, Виолетты? Посольство? Кто? Аристократ? Нет. Противник не так уж глуп — после провала Атлета и хозяин его уйдет со сцены. На время, но уйдет. И еще вопрос, пожалуй самый важный, — направление атаки. Профессора Круглова, пожалуй, больше не будут атаковать. Тогда кого? На что надеются? Утром завершающий допрос Венеры. — Когда вы в последний раз видели Аристократа? — Полгода назад… В театре. — Вы поздоровались с ним? Беседовали? — Нет. Это мне было строжайше запрещено. — Он узнал вас? — Мне кажется, что узнал… — Кто из друзей Аристократа известен вам? — Никто. И никогда не видела его с кем-нибудь. — А с Карлом вы встречались? — Нет. — Но вы были в курсе планов Карла? — Да, меня посвятил в этот план Атлет. Нужно было провести первую разведку секретов лаборатории профессора Круглова. По плану, турист Карл должен был установить контакт с Петром Максимовичем, учитывая их давнее знакомство на симпозиуме. — В чем заключалась ваша роль в этой, как вы говорите, первой разведке? — Пожалуй, что ни в чем… Пассивный наблюдатель. — Так ли?! Позвольте заметить, что, судя по установленным фактам, нам представляется несколько другим ход событий… Телефон? Кто передал Карлу телефон Петра Максимовича? — Ну, это же мелочь. Не правда ли? — Предположим… Птицын встал из-за стола, подошел к окну, посмотрел на улицу, потом обернулся и спросил: — Скажите, вам действительно было безразлично, как обернется вся эта история для Егорова? — Иногда мне казалось, что я действительно люблю его… И у него не было никаких сомнений в моей искренности… И тогда, когда перед поездкой в Химки я спрашивала его: “Не выболтал ли ты лишнего”, и тогда, когда он подробно рассказал мне все то, что я передала потом Атлету в Химках… У Петра не было тайн от меня. — Вы уверены в этом? — улыбнулся Птицын…
Дело “доб-1”
Началась эта история с ареста инженера Кириллова, начальника лаборатории одного научно-исследовательского института. Он возвращался из длительной зарубежной командировки. Было известно, что инженера завербовала американская разведка, что в Западном Берлине, в ресторане, состоялась заключительная встреча с ее представителем, от которого Кириллов получил последние наставления. Таможенники более тщательно, чем обычно, осмотрели чемодан инженера, однако ничего, что могло привлечь их внимание, не нашли. Но с того часа, как Кириллов ступил на советскую землю, он оказался в поле зрения подполковника Птицына и его помощника лейтенанта Бахарева…. Рано утром дежурство принял лейтенант Бахарев. В недавнем прошлом комсомольский работник, мечтал он о литературном институте, о служении поэтической музе — дружба с ней у него еще со школьной скамьи. Вырезка из газеты, где были напечатаны первые стихи молодого рабочего, Коли Бахарева, бережно хранится и поныне. Но случилось иначе. Вызвали в райком партии. Разговор был долгим. — Какой из меня чекист?.. Мое дело “глаголом жечь сердца людей”, а тут карающий меч… Человек, сидевший рядом с секретарем райкома, улыбнулся, подошел к Николаю и похлопал его по плечу. — Те, кто умеет “глаголом жечь…” — сердцеведы, а они, Николай Андреевич, весьма дефицитная категория людей… Стихами я, признаться, тоже балуюсь. Правда, по ночам. И тираж их весьма ограничен — один экземпляр… …Инженер Кириллов жил на даче, смотревшей своими окнами на канал Москва–Волга. Там, на берегу, с удочкой в руках и примостился молодой “рыбак”. Над водой еще стлался туман, по на крышу дома уже легли первые лучи восходящего солнца, в холодном воздухе раннего утра стоял аромат трав, проснувшихся деревьев и запах влажной от росы земли. Бахарев наслаждался красками разбуженной природы. Поэтическое настроение не покидает его и сейчас, когда все его нервы натянуты, хотя кругом — покой, тишина и нет никаких поводов для тревоги. Уже десятые сутки так… И вдруг чуткое ухо уловило скрип калитки и тяжелые шаги. Обернулся. Он, он самый! Никогда за все десять суток инженер столь рано не поднимался. Тем более в воскресенье. Что бы это значило? …Они вместе сошли с электрички — инженер и затерявшийся в толпе “рыбак”. Через час инженер стоял у ворот кладбища Донского монастыря. Осмотрелся: вокруг тихо, безлюдно. Уверенно вошел во двор и направился к отлитой из чугуна скульптуре в нише монастырской стены. Все точно соответствовало инструкциям, полученным от вербовщика: пустотелый патрубок крепил к основанию скульптуры голову мифологического барана. Инженер нагнулся, пошарил в патрубке, там лежал пакет… У ворот его ждали трое. Один из них — Птицын — прошел вперед, двое следовали сзади. Улица стала более оживленной, и инженер не обратил на них внимания. Минут десять они неторопливо прогуливались. Птицын все еще надеялся: может, кто-то выйдет на связь с инженером. Нет, видимо, придется довольствоваться программой-минимум: брать инженера с пакетом, изъятым из тайника. Птицын громко закашлял. Сигнал был тут же принят. Бахарев резко повернулся навстречу инженеру и крепко взял его под руку. — Вы арестованы! Вот постановление… Тут же подкатила следовавшая в отдалении “Волга”. Кириллова усадили в машину… На этом мы, пожалуй, можем расстаться с инженером, имеющим лишь косвенное отношение к делу, о котором дальше пойдет речь. Все, что требовалось узнать и получить от него, было получено. В КГБ ему предъявили запись его переговоров в берлинском ресторане и киноленту, зафиксировавшую инженера с пакетом у тайника. Он все выложил: и как его завербовали, и какое дали поручение. Что касается тайника, то еще там, в Берлине, Кириллов получил инструкцию: в начале сентября на Пушкинской площади должно появиться его объявление об обмене квартиры. Текст объявления за подписью А.П.Трепетова ему дали в Берлине. А во второе воскресенье сентября от восьми до девяти утра он должен отправиться на кладбище Донского монастыря, где в тайнике будут лежать предназначенные ему деньги, лупа, таблетки для проявления тайнописи. В случае неудачи — неожиданные обстоятельства могут помешать обеим сторонам — повторить визит на кладбище в третий понедельник сентября. Когда арестованного увели, Птицын перечитал протокол допроса, потом посмотрел на Бахарева: — А нам с тобой надлежит все же найти хозяина тайника. — Легко сказать… Все, кажется, перепробовали… Действительно, было уже предпринято немало мер в поисках человека, положившего в тайник деньги и материалы для тайнописи. Все это было завернуто в “Медицинскую газету”. Кропотливое дактилоскопическое исследование показало, что отпечатков пальцев много, принадлежат они женщинам. Но трудно даже установить, сколько было женских рук, державших газету. Пытались протянуть какие-то нити от номеров денежных купюр — не вышло. К тайнику в Донском монастыре никто не подходил: видимо, связной имел основание считать, что тайник пуст. Птицын поинтересовался у коллег, кто из иностранцев, причастных к разведке, бывал в последнее время в районе Донского монастыря. Но все попытки найти человека, заложившего в тайник деньги и таблетки, не увенчались успехом. В то утро Бахарев, заглянув в кабинет Птицына, застал шефа в плохом настроении. — Какие новости? Какие предложения? — И, не ожидая ответа, Птицын достал из сейфа газету, в которую были завернуты деньги, лупа, таблетки — все то, что лежало в тайнике. Бахарев неопределенно пожал плечами и развел руками. — Отправных данных маловато. Знаю. А попытаться надо. Газета такая могла быть только в доме медиков… Теперь смотри сюда. Видишь на белом поле стертую временем карандашную пометку. Надо полагать, что это адрес… Рукой почтальона… Что скажешь? — Тут и обсуждать нечего, Александр Порфирьевич. Все ясно. Иду в лабораторию… …На белом поле газетного листа явственно проступили буквы “ДОБ” и рядом цифра “1”. Видимо, номер дома. Соседнюю цифру — номер квартиры — так и не удалось выявить. Да еще оттиски пальцев разных рук, когда-то державших газету. И все. Александр Порфирьевич уже потерял было всякую надежду на успех. По улицам, названия которых начинались с “доб”, никто не выписывал “Медицинскую газету”. И вдруг телефонный звонок. Голос Бахарева. — Докладываю. В одном доме сразу два подписчика. …Гражданин Гринбаум жил в двадцать пятой квартире. При угрюмой бухгалтерской внешности он оказался поэтом… филателии. С утра старик отправился в парк, где проходил традиционный день коллекционеров. Удивительно интересно наблюдать, как встречаются люди разных возрастов и профессий, для которых нет, кажется, больше радости в жизни, чем пополнить свою коллекцию еще одним редкостным значком, диковинной монетой, уникальной спичечной коробкой или маркой. Вы можете называть этих людей как угодно: чудаками, фанатиками, одержимыми, но согласитесь, что это чертовски интересно — коллекционировать. Из всех коллекционеров, собравшихся в то утро на аллеях парка, выделялись филателисты. Они, по существу, оказались тут хозяевами. Недолго потолкавшись среди них, Бахарев без труда уловил приметы того высокого почтения, которое оказывали Гринбауму. Его окружали молодые ребята, что-то спрашивали, что-то показывали. — Ефим Маркович, научите отличать поддельные марки. — Милый мой мальчик! Научить этому очень трудно… Ты не раз попадешь впросак, пока каким-то особым чутьем не станешь улавливать подделку. — Неужели это так трудно? Старик улыбнулся, положил жилистую волосатую руку на плечо мальчишки и сказал: — Я тебе расскажу одну историю, и это будет ответом на вопрос. Известный шведский филателист более двадцати лет коллекционировал… поддельные марки. Ты не удивляйся. Есть и такие странные люди. Специально собирал поддельные марки. Однажды он решил продать свою коллекцию. И нашел покупателя. И о цене договорились. Большую, хорошую цену давали. Но сделка не состоялась. При тщательной экспертизе выяснилось, что половина его коллекции — подлинники. А ведь швед был не простак среди филателистов. Бахарев сперва вступил было в спор со стариком: “Простите, но это похоже на анекдот”, потом задал несколько вопросов, свидетельствовавших о широте его филателистического кругозора, затем похвастался своей последней покупкой — весьма и весьма редкой маркой. Так они познакомились. Бахарев отрекомендовался студентом литинститута, сказал, что у него две страсти — поэзия и марки. У него друзья за рубежом, и потому он смеет утверждать, что обладает действительно уникальными марками. Гринбауму как-то с первого взгляда пришелся по душе этот молодой блондин с пышной шевелюрой и озорными серыми глазами. Он тут же пригласил его в гости: “Заходите, чайку попьем… Покажу вам мои марки. А вы вашу редкую захватите. Любопытно взглянуть”. Редкостную марку, принесенную Бахаревым, старик принял дрожащими руками. Он долго и пристально рассматривал ее — и на свет и в лупу. — Молодой человек, я могу предложить вам… Гринбаум назвал цену и выжидающе посмотрел на гостя. Но тот только улыбнулся в ответ. — Нет уж, увольте, Ефим Маркович, не продам. Я пришел к вам, как к знатоку… Хочется посмотреть вашу коллекцию… Да и вообще мне приятно познакомиться с вами. Через полчаса они уже дружески чаевничали. Юрист по профессии, Гринбаум тоже оказался поклонником поэзии. — И я вам покаюсь, молодой человек. Иногда даже мучаюсь рифмою. Идешь по улице, а она, проклятая, в голове сверлит и сверлит: “благородной — свободной”, “славить — забавить”… Старик долго распинался по поводу назойливых рифм, а потом робко спросил: — Вы, наверное, много стихов знаете? Побалуйте старика. — Стихи я могу читать хоть до утра. В открытое окно лился свежий пронизанный осенним солнцем воздух. Старик внимательно слушал. Время от времени он закрывал глаза — для него стихи звучали, как музыка. А когда Бахарев прочел что-то из Тютчева, Гринбаум тяжело вздохнул, понурил голову и сказал: — Никогда не нужно задерживаться в отеле, именуемом жизнью. Наступает время, когда человек должен сказать сам себе: “Сударь, поспешите освободить номер…” Так вот-с, молодой человек… — Что это вас, Ефим Маркович, на такую мрачность повело? — Ничего не поделаешь, мой молодой друг. Умирать никому не хочется. А болезни атакуют и атакуют. Широким фронтом. Я сопротивляюсь сколько могу. Вот видите, — он показал на книжный шкаф, — даже медицинскую энциклопедию купил. Смеяться будете над стариком. Я и “Медицинскую газету” выписываю. Аккуратно подшивку веду… А что делать? — Да нет, почему же? Все это очень любопытно. И даже то, что “Медицинскую газету” выписываете. Ее, вероятно, небезынтересно листать. — Только при вашем здоровье да при вашей специальности она вам ни к чему. А если хотите, посмотрите… Бахарев неторопливо перелистывал подшивку. Январь, февраль… На какую-то долю секунды задержался на знакомой полосе: на месте. Всё! Вариант Гринбаума рухнул. Бахарев подумал: “Надо сниматься с якоря и прокладывать курс к 38-й квартире, где тоже выписывают “Медицинскую газету”. Но это уже для другого. Мне здесь больше появляться нельзя, долго ли столкнуться лицом к лицу с филателистом”. И все же перед уходом он решил провести легкую разведку. Коль скоро Гринбаум завел речь о болезнях и медицине, нетрудно переключить разговор на лечащих его врачей. И выяснилось, что Анна Михайловна из 38-й квартиры по долгу службы в районной поликлинике и по закону давней дружбы, восходящей еще к довоенным временам, и есть тот единственный врач, коему безгранично доверяет Гринбаум. — Молодой человек, если вам когда-нибудь потребуется доктор в самом высоком смысле этого слова, позовите Анну Михайловну. Если она возьмется вас лечить, считайте, что вы уже здоровы. Это говорю вам я, Ефим Маркович Гринбаум, у которого столько болезней, что их хватит минимум на половину медицинской энциклопедии. Анна Михайловна — кудесник… Хотите, я вас сейчас познакомлю? Вам будет интересно, даже если вы сам Поддубный. Старик на мгновение умолк. Но только на одно мгновение. Потом вскочил с места и схватился за голову, будто случилось что-то страшное: — Дорогой мой, я забыл о самом главном, Аннушка ведь тоже филателист. Она никогда по простит мне, если я вас отпущу с этой маркой… Собирайтесь, сударь. И не сопротивляйтесь. Между прочим, у нее дочка. Очаровательное создание. Несколько, правда, взбалмошная. Но это смотря на чей вкус. Это я просто так, к слову. Один момент, я только позвоню ей. Женщины всегда хотят быть в форме, когда в доме появляются мужчины. Старик вышел и быстро вернулся в комнату. — Все в порядке! Через полчаса нас ждут. Между прочим, я вас должен предупредить: так, как варит кофе доктор Эрхард, никто не умеет варить. — Эрхард? Странная фамилия… — О, это я по старой памяти величаю ее. Теперь она Васильева. Девичья фамилия. — А Эрхард? — По мужу. Его уже нет. Простите, я не совсем точно выразился. Физически он существует, но для нее он труп — живой труп. Это большая трагедия. Бедная Аннушка! Гринбаум взглянул на часы. — Извольте-с! В нашем распоряжении полчаса, и я, пожалуй, успею кое-что рассказать вам об удивительной жизни этой женщины. Нет повести печальнее на свете… Литератору может пригодиться. Присаживайтесь и слушайте. Только, чур, с Аннушкой на эту тему ни слова. На третий день войны доктор Эрхард получила повестку военкомата. Это не было неожиданностью — почти все коллеги уже стали военврачами. Она заранее продумала все, что касается дома, семьи. Собственно, думать надо было только о Маришке. Фридрих Эрнестович, хотя это была не родная его дочь, души не чаял в девочке и категорически настаивал на немедленной эвакуации. — В понедельник вечером ее отвезли к бабушке в одну из рязанских деревень, А что касается самого Фридриха Эрнестовича, учителя немецкого языка, то здесь все ясно — не сегодня, так завтра его призовут в армию. Переводчики сейчас очень нужны… Прощались сурово, молча. К чему слова? Все было сказано еще до последних объятий. Как это ни странно, женщина оказалась крепче мужчины — ни одной слезинки, а Фридрих, высокий, широкоплечий богатырь, не выдержал, всхлипнул: — Ты побереги себя, любимая! Ты же у меня совсем слабенькая… Как это случилось, что в стране, давшей человечеству Карла Маркса, Гёте, Шиллера, хозяйничают эти выродки, звери, варвары… Аннушка, мне стыдно людям в глаза смотреть. Я принадлежу к той же нации, что и эти… — И он заплакал. Анна успокаивала его: — Не терзай себя, лапонька, — так она называла человека, который был на десять лет старше ее. — Не надо заниматься самобичеванием. Ты сын немецкого рабочего класса. …Фридрих исчез на следующее утро. Не ушел, а исчез. Вроде бы отправился в школу, налегке. И больше в квартире его не видели. Соседи терялись в догадках, высказывали разные предположения: несчастный случай, к теще в деревню подался, прямо из школы ушел добровольцем в ополчение, а может быть… Нет, в такое не хотелось верить. Один из вариантов — ополчение — отпал. Через три дня пришла повестка из военкомата. Тогда забили тревогу, сообщили домоуправу: “Некому повестку вручать — исчез сосед”. Домоуправ — в милицию, в военкомат. Начался розыск. В школе Эрхард не был. К теще не заезжал. Среди жертв несчастных случаев не значился. Пришел лейтенант милиции. В присутствии понятых открыли комнату. Все на месте. Стали искать хоть какую-нибудь фотокарточку Фридриха — для милиции, для розыска — не нашли. Тут кто-то из соседей вспомнил странную причуду учителя: не любил фотографироваться, суеверный был, что ли. Фотографию милиция, конечно, нашла. В школьной анкете. Но лейтенант милиции тем не менее счел нужным подробно записать свидетельства соседей о странной причуде учителя немецкого языка… Розыск, предпринятый милицией, не дал результатов. Да и трудно было надеяться на успех в те тревожные, суматошные дни, когда сотни тысяч беженцев кочевали с запада на восток, когда, кажется, полстраны находилось на колесах. Ищи иголку в стоге сена… Одна из соседок, Мария Григорьевна, та, что была поближе к семье Эрхардов, написала о случившемся в рязанскую деревню. А через три месяца получила письмо Аннушки — та уже знала обо всем от мамы. Военврач сообщила Марии Григорьевне свою полевую почту на случай, если вдруг объявится Эрхард. Она всегда была оптимисткой… Но, увы, военная судьба Анны Михайловны сложилась печальнейшим образом. Кровопролитные бои. Окружение. Тщетная попытка вырваться из кольца. Последняя отчаянная схватка горстки обессилевших воинов, две недели скитания по лесам. Ранение. Плен. Гнусное предложение служить гитлеровцам. Дерзкий ответ. Лагерь. Попытка к бегству. Били резиновыми дубинками, пинали сапогами, скручивали веревками и снова бросали в барак — теперь уже барак строжайшего режима. Она стойко встретила все испытания и быстро нашла единомышленников — бороться, бороться и бороться! Даже тут, где смерть может настигнуть каждый час. Их была небольшая группа военнопленных, не терявших надежды на новый, более успешный побег. Надежда эта как бальзам. Еще кровоточили следы побоев и ранения, еще свежи были в памяти все унижения, которым подвергали их на допросах. Теперь допросы позади, и они просто-напросто заключенные лагеря, погребенные во чреве этого мрачного барака со скудным светом, сочившимся из двух запыленных лампочек под потолком. Так прошла первая неделя. И вдруг ночью в барак явилось высокое для здешнего лагеря начальство. Эсэсовец прошелся вдоль пар, пристально рассматривая всех. На рассвете, когда заключенных погнали на особо трудные работы, ее одну почему-то вызвали к коменданту. Все, в том числе и она, решили, что это уже конец. Долговязый лейтенант, царь и бог в этом бараке, передал ее по всей форме офицеру комендатуры. Анну повезли к дому с зарешеченными окнами. У входа стояли часовые, державшие волкоподобных псов. В комнате полумрак. Хозяин все предусмотрел: лица его не было видно, фигура оставалась в легком затемнении. Зато свет бил в лицо человека, переступившего порог. Но Анна и не старалась разглядеть коменданта лагеря. И только голос немца, восседавшего за массивным столом, заставил ее вздрогнуть. Он сказал лишь одно слово — “садитесь”. И вздрогнула она совсем не потому, что само это приглашение в устах коменданта концлагеря прозвучало по меньшей мере неправдоподобно. Ее ошеломил голос, который она не слышала уже давно, но забыть который не могла. Нет, это не он. И вдруг: — Садись, Анна! И прежде чем она успела опомниться, фашист встал из-за стола, подошел к ней и обнял… Анна очнулась в палате госпиталя. Глубокий обморок длился более часа. В палате она лежала одна. Открыла глаза, оглянулась и застонала. Дежуривший около нее санитар тут же сорвался с места и куда-то помчался, а через несколько минут явился Фридрих. За эти несколько минут Анна все вспомнила, и первая мысль, что пришла ей в голову, была и радостной и тревожной: “Фридрих — наш разведчик в тылу врага. Только не выдать его, только сдержаться…” Она поначалу никак не могла уразуметь, почему Фридрих так рискованно ведет себя, называет ее Аннушкой, предлагает чашку куриного бульона. Что он — совсем голову потерял? Она приложила палец к губам, как бы напоминая, что и стены имеют уши. Он не сразу понял, за кого его принимает Анна. А сообразив, в чем дело, весело расхохотался… — Ты что же решила: я советский разведчик? Позже, когда придут советские войска и ее освободят из лагеря, она узнает, что Фридрих, ее Фридрих, которого она так боготворила, был действительно разведчиком, но только немецким. Все годы их дружной предвоенной жизни. Это уже скажут ей там, куда она придет, чтобы рассказать о всем случившемся с нею. Они, эти люди, внимательно слушавшие ее, знали о нем больше, чем она сама. Несколько лет скромный учитель немецкого языка никак не обнаруживал себя, чтобы в грозный час войны сбросить маску… Аннушка, восстанавливая в памяти каждую минуту своего скорбного бытия в лагере, поведала чекистам во всех деталях о страшной встрече с Фридрихом. И как он ласково увещевал ее: “Пойми, судьба России решена. Гибель. Крах. Ты будешь рядом со мной, моей помощницей. А если хочешь, врачом в госпитале. А еще лучше, если бы…” Одно предложение гнуснее другого. Он хотел бы снова бросить ее в барак, но… в качестве своего агента. Худенькая, слабенькая, кажется, едва теплится жизнь в ней, а она кинулась на него с кулаками: “Подлец!” Глупая, она еще пыталась в чем-то убеждать его, взывая к совести, напоминая о прошлой жизни, о дочери… Потом он переменил тактику: угрожал, рисовал страшные картины будущего. — Если ты даже снова попадешь к своим… Это невозможно. Но предположим. Ведь они тебя расстреляют. Кто поверит жене шпиона? В бараке уже все знают… Нет, он не сломил ее воли. Анну каждый день вызывали к нему. И все о том же. И все те же увещевания и угрозы, ласки и побои. А потом ее снова уводили в карцер: “Посиди, подумай”. Она не сдалась, и тогда ее повели на расстрел. Позже она поняла: это был последний козырь Фридриха, который, прожив с ней много лет, так и не узнал ее по-настоящему. Она стояла у степы, а пули ложились поверх головы и — сбоку. И после каждого выстрела офицер спрашивал: “Не хочет ли русская женщина повидать шефа?” В десятый барак, к своим, она так и не вернулась. Может, это и к лучшему. Ей было страшно от одной только мысли: “Что они думают сейчас обо мне?” Анну отправили в лагерь строжайшего режима, где она находилась под особым наблюдением. Первое время ее вызывали к какому-то рыжему оберштурмбанфюреру, который хмуро спрашивал, не передумала ли русская и не имеет ли желания снова встретиться с мужем. Он получил на сей счет особые указания… И она решительно отвечала: “Нет, не имею желания”. Свобода пришла за несколько дней до окончания войны. Кругом радуются, ликуют, обнимаются. На ее глазах какая-то женщина среди офицеров-освободителей встретила мужа. И она тоже радуется, тоже ликует, но… кто снимет тот тяжелый камень, что лег на ее истерзанную душу! Гринбаум тяжко вздыхает. — Увы, минуло немало времени, пока этот камень был снят, пока Аннушке не было сказано: “Мы вам верим. Спасибо за стойкость! Забудьте, что у вас когда-то был муж”. Она расплакалась. Ибо камень-то все же на душе остался, и есть дочь, которая все знает. Знает и, может это только показалось Анне, надеется на возвращение отца, хотя и не родного. Их встретили весьма приветливо. И мама, располневшая, но не утратившая былой красоты, и дочка Марина, стройненькая, русоголовая, с высокой белой шейкой и большими, как у мадонны, мягко светящимися зелеными глазами. Сдержанно и несколько сухо раскланялась находившаяся тут же молодая женщина, отрекомендовавшаяся Ольгой. Но сухость и сдержанность быстро исчезли. Милое лицо се нет-нет да одарялось улыбкой. Она были удивительно похожа на спою подругу. И ростом, и спортивной фигурой, и цветом глаз, волос. Судя по акцепту, Ольга — иностранка. А имя русское — странно. Бахарев поддерживал оживленный разговор и с девушками и с хозяйкой дома — она действительно оказалась страстной филателисткой. Редкостная марка, принесенная Бахаревым, стала объектом тщательного исследования и подробного комментария. И неизвестно, сколь долго длился бы этот филателистический разговор, но вмешайся Марина, девушка весьма резкая в суждениях. Марина, словно белка, перескакивала с одной темы на другую — то о себе, то о подруге. И отличнейшим образом ответила на целый ряд вопросов, интересовавших Бахарева. …Через день Птицын с утра заглянул в кабинет Бахарева. — Какие вести? — Пока весьма скромные, но кое-что для размышления уже имеется. Собирался сейчас к вам с докладом… Первая документация… — И он протянул Птицыну два листа бумаги. Птицын опустился в кресло, стоявшее в углу кабинета, и погрузился в чтение. В докладе действительно оказалось немало материала для раздумий и некоторых, правда весьма противоречивых, выводов. Прежде всего — мама. Тут, кажется, ясно. Запрошенные из архива материалы подтвердили все, что сообщил Гринбаум. Теперь — дочка. Экстравагантная девушка. На последнем курсе Института иностранных языков. Поздно поступила в институт. Бахарев обратил внимание, что Анна Михайловна следила за дочкой глазами, полными упрека, какой-то настороженности и даже страха. Ну и, наконец, Оля. Миловидная, деликатная. Восторженно говорит о Советском Союзе, советской молодежи. Третий год учится в мединституте. Родители жили когда-то в России, под Саратовом. Отец — немец, мать — русская. Незадолго до первой мировой войны судьба забросила их в Гамбург. Прожили они там лет десять. Потом кочевали по разным странам и континентам, пока торговые дела не заставили всерьез и надолго отдать якорь в столице маленького европейского государства. Там и родилась Оля. Нарекли ее именем бабушки со стороны мамы. Русский язык, русские обычаи, русская кухня всегда были в чести в этом доме. Откуда пошла дружба Оли с семьей доктора Васильевой? Поначалу Бахарев решил: две студентки, подруги. Но вскоре понял, что истоки дружбы тянутся к Олиному дому. Когда Оля собиралась в Москву на учебу — в порядке обмена студентами, — большой друг их семьи попросила передать привет и сувенир Анне Михайловне. И тут же сказала: “Нас сблизила горькая участь — были в одном лагере, в одной подпольной группе. С Анной мы изредка переписываемся. Большой души, светлого ума человек. У этой женщины тяжелая судьба и очень доброе сердце. Тебе, Оля, будет уютно в их доме…” Ей действительно было уютно в этом доме. Молодую женщину приняли тепло, радушно. Что же, для первого сообщения — достаточно. Сложный четырехугольник: Фридрих, Анна, Марина, Ольга. Где перекрещиваются их дороги, от какого из этих четырех углов тянется пить к “Доб-1”, к тайнику в Донском монастыре? И тянется ли эта нить? И еще один немаловажный вопрос: чем занимается Эрхард сегодня? Птицыну кое-что известно о его послевоенной жизни. А Гринбаум не сказал, где и что делает сейчас бывший учитель немецкого языка? Почему филателист умолчал: по незнанию или умышленно уклонился? А мама и дочка знают? Настораживало одно обстоятельство, документально установленное и зафиксированное в архивных материалах. Несколько лет назад в Москву приезжал иностранный турист Альберт Кох, состоявший, как и господин Эрхард, на службе у американской разведки. На второй же день своего пребывания в Москве гость встретился с Мариной в кафе “Метрополь”, передал ей привет от папы и сувенир — две шерстяные кофточки: маме и дочке. Разговор у них был тогда недолгий. Турист сообщил дочке, что отец ее занимается литературной деятельностью, работает над большим исследованием, посвященным советской литературе. Птицын перечитывает давнюю запись и по обыкновению начинает думать вслух. Бахарева это не очень устраивает, и он, воспользовавшись паузой, подает голос: — Улика весьма серьезная. Думаю, что мы напали на след. — А мама? Она знает об этой встрече с туристом? — Как же иначе? Сувенир-то надо было как-то передать… Может быть, главное действующее лицо она и есть — мама? — Какие у тебя основания? Бахарев молчит. Есть только первые впечатления. Сказать об. этом подполковнику он не решается. Птицын знает его слабость. Из всех мыслей, что проносятся в голове, он спешит уцепиться именно за ту, что на поверхности. Может, поэтому Александр Порфирьевич, не ожидая ответа, ставит все новые и новые вопросы, незаметно очерчивая схему операции. — А Ольга? Ее роль какова? Ты обратил внимание, Николай Андреевич, на одну деталь в архивных материалах: и Эрхард, и его друг турист частенько наведываются в тот самый город, откуда прибыла Ольга. А в городе том, как тебе известно, действует филиал разведслужбы. Возможно, что… — Но это тоже из области догадок. — Да, пока догадки. Хотелось бы, в частности, иметь более подробные сведения о той семье, которая рекомендовала Ольгу. — Мы уже знаем, что это за семья. Женщина сидела в концлагере вместе с доктором Васильевой. Ведь так можно тень бросить и на….. — Тень ни на кого не надо бросать. Нужны факты. А пока мы с тобой лишь гипотезы выдвигаем. И в этом наша слабость. …Вот уже целый час сидят они друг против друга, взвешивая все “за” и “против”. Послушаешь их н не поймешь, кто тут старший по званию: грузный, высоколобый, рассудительный Птицын — черные волосы его давно уже схвачены изморозью седины — или молодой, несколько эмоциональный Бахарев с лукавой усмешкой в глазах. Идет разговор равных, диалог, в котором оба его участника, независимо от должности, что-то предлагают, отвергают, в чем-то сомневаются, спорят. Для них ясно пока одно — есть основания серьезно разобраться с новыми знакомыми Бахарева. Птицын резюмирует: — Будем считать так, Николай: вопрос первый и, пожалуй, главный для нас — существуют ли какие-то контакты у Эрхарда с его бывшей семьей? Вопрос второй — нет ли нитей от Эрхарда к Ольге? Вопрос третий — связь Ольги с семьей диктора: кто в ком и почему заинтересован. Чтобы все это выяснить, Бахарев должен чаще бывать у Васильевых. Это оказалось несложно, ибо Марине — она не скрывала ни от мамы, ни от друзей дома — со временем стало небезразлично, виделась она сегодня с Колей или нет. Все в нем нравилось ей, даже то, что был он слегка небрежен в одежде. Обаятельный, остроумный рассказчик, внимательный слушатель, всегда готовый сделать доброе, приятное, — таким он ворвался в ее жизнь. Они встречались часто. И вдвоем и в компании. Бахарев жил недалеко от Речного вокзала, и поздним вечером они частенько гуляли по здешнему парку, шагали вдоль притихших причалов. Николай вполголоса читал стихи Тютчева и Есенина, Маяковского и Светлова. И очень редко, лили, поело настойчивых требований — свои. Марина была ласкова и благодарна: считала, что ей посвящены эти вирши, это “она явилась, как неразгаданная тайна”, это она и есть та самая, от которой “сердцу поэта стало теплее”. “Поэт” не кривил душой — она действительно оставалась для него “неразгаданной тайной”. Все было куда сложнее, шло наперекор той схеме, которую он создал поначалу. При ближайшем знакомстве Марина казалась не такой уж взбалмошной. И круг ее интересов был куда шире, чем предполагал Бахарев. Много читала, многое знает, неплохо разбирается в живописи, на многое имеет свою особую, правда порой весьма спорную, но не легко опровергаемую, точку зрения. Как-то, возвращаясь из театра Пушкина, они решили прогуляться но бульвару. На затененных аллеях, уютно устроившись на скамейках, щебетали парочки. Марина озорства ради потащила Колю на эти аллеи “вспугнуть птенчиков”, а он запротестовал. — Не надо, Марина. Я ведь тоже не всегда принадлежал к числу счастливых обладателей собственной комнаты. А тебе самой не приходилось вот так?.. — Нет, никогда… — резко оборвала она его. — Я многого была лишена. Я тебе никогда нерассказывала про… На мгновение она надумалась, катом мотнула головой, нахмурилась: — Не буду. Потом как-нибудь… — Почему? — Не спрашивай. Они шли молча. Каждый думал о своем. “Вот тебе, Бахарев, еще одна загадка! Расскажет ли? А может, это ничего не значащая чепуха. Девичий всплеск. Нет, не похоже. Доверяет ли она ему? Как будто бы да…” Они шли по Гоголевскому бульвару навстречу ветру, тесно прижавшись друг к другу. Он первым прервал молчание, начав по обыкновению читать стихи. На память пришли строки Тютчева: Как поздней осени порою Бывают дни, бывает час, Когда повеет вдруг весною И что-то встрепенется в нас. — Тебе понравились стихи? Не слушала? Ты о чем-то думала? — Да… Об одном товарище по имени Николай. — Любопытствую, какие мысли навевает фигура скромного литератора? — Я не склонна к шуткам. Что я знаю о тебе, скромный литератор? Налетел вихрем. И все пошло ходуном. Поворот был неожиданным для Бахарева. Ему казалось, что максимум необходимых сведений о себе он в разное время по разным поводам уже сообщил Марине, Студент заочного факультета литинститута. Сейчас пишет повесть. В Сибири, в альманахе, несколько лет назад опубликовавшем первые стихи молодого поэта, принят новый цикл. Так что теперь он при деньгах и может позволить себе заняться повестью. В этой версии была и доля правды. Пожалуй, он может поведать Марине кое-какие подробности, отнюдь не вымышленные. — Ну что же, Марина, будем исповедоваться? Она ничего не ответила и вызов настроиться на шутливый лад не приняла. Наступило тягостное молчание, на этот раз его нарушила Марина. — По-настоящему я испытала чувство любви только один раз, и оно было безжалостно растоптано… — Кем? Как? — Вадим был студентом Института международных отношений, а я… Для него я была переводчицей из “почтового ящика”… Я скрыла, что судьбе угодно было сделать меня санитаркой детского сада. Хотя тогда я была благодарна и за эту милость. Мама находилась далеко, а отец… Марина продолжала, но говорила так, будто взвешивала каждое слово. — Ну что же, будем, как ты изволил выразиться, исповедоваться… “Ты слушать исповедь мою сюда пришел, благодарю. Все лучше перед кем-нибудь словами облегчить мне грудь”. — Марина исподлобья посмотрела на Бахарева, потом иронически улыбнулась: — Видишь, меня тоже иногда заносит на поэтическую орбиту. Итак, про отца… Она рассказывала долго, сбивчиво. Иногда умолкала, словно обдумывала что-то. Вздыхала и снова продолжала. И все о том, что уже известно Бахареву. Он с нетерпением ждал последней страницы этой тяжкой повести — скажет ли всю правду? И мысленно подстегивал ее: “Ну говори же. Дальше, дальше. Уж все испытания позади. Мама работает. Ты учишься…” Бахареву стало как-то не по себе, когда Марина обронила: “Вот и все”. Он надеялся, что с ним она будет искренней до конца, что от него у нее не будет тайн… Странно все это. В чем тут дело — забывчивость или еще что-то? А Марина продолжала: — Прошло уже много лет, а мне и сейчас стыдно смотреть в глаза людям, знавшим нашу семью, когда он был с нами… — Она так и сказала об отчиме: “Он”. — Но это так, между прочим. Я отвлеклась от главного. Впрочем, трудно сказать, что тут главное: отец или студент. А со студентом было так… Они познакомились на танцах. Была любовь. Были цветы. Пылкие объяснения. Ресторан. Театры. Ее “ввели” в дом. Она с детских лет прекрасно знала немецкий, ставший для нее почти родным, и несколько хуже английский. И Вадим и его отец искренне верили в талант молодой переводчицы, блиставшей знанием немецкой литературы и искусства. Она говорила о Цвингере, о сокровищах Дрезденской галереи так, будто всю жизнь провела там в качестве экскурсовода, и так же легко, на память, цитировала дневники Гете о заслугах архитектора Георга Бера, творца купола знаменитой Фрауэнкирхе. Вадим принадлежал к числу тех нарциссов, для которых все эти обстоятельства играли немаловажную роль. Он недвусмысленно намекал девушке о своих далеко идущих намерениях. Просил Марину познакомить его с ее родителями. Она сочинила легенду об отце, погибшем на войне, о матери, вышедшей замуж за генерала и живущей на Курилах, где служит отчим. Впрочем, мать действительно находилась далеко от Москвы, и, кроме старухи тетки, опекавшей ее, у Марины никого не было. Вадим оказался весьма настойчивым и однажды поздним летним вечером повел Марину в укромный уголок ближайшего и не очень-то популярного парка “местного назначения”. Он честно признался, что есть там скамейка, где… Вадим не успел закончить своего признания, ибо тут же получил звонкую пощечину. Молодой человек не растерялся, попытался все повернуть на шутливый лад: “Нас не поняли”. Потом извинялся, целовал ручки, клялся, лепетал что-то. А Марина сказала тогда лишь пять слов: “Мой девиз: все или ничего”. Роман, однако, продолжался. Но однажды в. доме Вадима девушка лицом к лицу столкнулась с женщиной, ребенок которой ходил в детский садик, где она работала. Тайное стало явным. Марина призналась во всем. Рассказала и про мать и про отца. Как разыгрались события дальше, нетрудно догадаться. Вадим шарахнулся от нее, словно от прокаженной. — Вот тебе и конец моей первой любви. — А второй не было? — Бахарев ждал ответа, следя за малейшими изменениями ее лица. Марина ничего не ответила, а Николай не допытывался. — Теперь, кажется, моя очередь исповедоваться. Удивительное совпадение обстоятельств — я ведь тоже был отвергнут. Причина, правда, несколько иная. У меня действительно родители погибли во время войны — оба были на фронте. Меня воспитывала бабка. А потом я убежал от нее и попал в компанию, которую принято называть дурной. Поймали. Хотели отправить в колонию. Но при обыске бригадмилец изъял из моего кармана тетрадку со стихами. Листает тетрадку и спрашивает: — Чьи? — Мои. — Скажи, пожалуйста. Давно ли, малый, стихами балуешься? — Я не балуюсь, а пишу. Про красивую жизнь… Бригадмилец улыбнулся: — Пишешь про красивую жизнь, а сам… — Так то ж стихи. А жрать-то хочется… Слово за слово, и бригадмилец предложил лейтенанту милиции оставить парня на его попечении: “Я в газете работаю… Может, из парня толк выйдет”. Посмеялись, пошутили и утром привели меня в редакцию газеты. Показали мой стих местному Есенину. Тот прочел, поморщился и сказал: “Стихи дрянь, но у парня, кажется, есть искра божья”. Определили меня в типографию учеником линотиписта. Долго отливал я в свинцовые строки чужие стихи, пока не пришел праздник и на мою улицу — собственноручно набирал я свои вирши. Ту газету, где напечатали их, храню до сих пор. Бахарев рассказывал, как всегда, с юмором. Была и любовь, принесшая ему много обид и разочарований. И была похожая ситуация. Выдавая себя за журналиста, поэта, он забыл что город-то небольшой, тут все и всё друг про друга знают. Когда любимой девушке стало известно, что он всего-навсего ученик линотиписта да еще с сомнительным прошлым, она тут же отвернулась от него. — Потом жалела. Я в нашем городе в первой пятерке очеркистов оказался. В Москву вызвали… Стихи мои напечатали. А поначалу мы с тобой на равных были — при пиковом интересе остались. Но я не горевал. А ты, Марина? — Горевала. Я любила его. А потом обозлилась на всех. За что? Пока мама не вернулась, пока всю правду не установили. Пока ей орден не дали. Тот, к которому еще на войне представили… — А сейчас тоже злишься? — Иногда, когда вспомню. Или начнет кто-нибудь рану бередить. Ольга иногда меня допытывать начинает: почему я так поздно учиться пошла? Что ей сказать? Разговор зашел об Ольге. Марина и в ее адрес шпильки пускает. И то в ней не нравится, и это… — Почему же ты дружишь с ней? — Тянется она к нашему дому. И мамина знакомая просила — приголубьте! Нот и голубим. К тому же подруга она и общем-то хорошая… В институте о ней говорят: душа нараспашку… Так, разговаривая о том о сем, они дошли до Марининого дома. Было уже далеко за полночь, и обеспокоенная Анна Михайловна поджидала дочку у подъезда. — Полуночники вы. Разве так можно. Позвонили бы. Кстати, тебя, Мариночка, весь вечер по телефону спрашивал кто-то. И в одиннадцать звонил. Извинился. Говорит, очень ты ему нужна. — Кто это? — Не назвался. Бархатистый голос. — Странно. Завтра позвонит. Кто ищет, тот найдет. Да, Коля, не забудь, завтра у Ольги п институте вечер. Вся наша компания собирается. Придешь? — Обязательно. Студенческий джаз играл нечто такое, что в одинаковой мере устраивало любителей твиста и танго. Бахарев подошел к Марине и галантно раскланялся: “Разрешите пригласить”. Какие-то неведомые течения оттеснили их в угол зала, подальше от молодых парней и девушек, добросовестно работавших руками и ногами. Марина, тряхнув золотистой копной волос, сказала: — Ты хорошо танцуешь твист. И, словно ободренный похвалой, Бахарев тут же задал такой темп, что у Марины заколотилось сердце. С твиста переключились на рок-н-ролл. После танца, взяв Марину под руку, он повел ее к Ольге. Она стояла у двери в окружении о чем-то спорящих юношей и девушек. Бахарев как-то ловко, никого не обидев, примирил спорщиков, чем сразу снискал расположение всей женской части компании. Ольга тоже поддержала Бахарева — “ох уж эти литературные дебаты” — и неожиданно предложила: — Друзья, имею предложить всей компанией поехать к нам, в общежитие. У Герты такие пластинки… — И она со смаком поцеловала кончики пальцев. Герта — Олина подруга. Тоже иностранная студентка. Живут они в одной комнате. И сблизила их, кажется, не только общность территории. Герта что-то шепнула подруге на ухо и выразительно посмотрела на двух юношей, стоявших в стороне от всей компании. Бахарев перехватил Гертин взгляд и понял: мальчики ждут. Он уже был посвящен в историю отношений Ольги и Герты с двумя студентами из МВТУ — Игорем и Владиком. “Я не уверена в том, что Ольга любит Владика, — рассказывала ему Марина. — А он, кажется, совсем потерял голову…” Ольге пришлось перестраиваться. — Я буду просить прощения, дорогие друзья, но сегодня ничего не получится. Перенесем на следующую субботу… Я совсем забыла — завтра уезжает домой мой родственник, и я хочу кое-что подготовить для посылки мужу. Нужно успеть купить кофе и бутылку армянского коньяка. — Ваш супруг большой любитель этого нектара, — вступил в разговор рыжеволосый парень в бархатной куртке. — О, вы знаток вкусов Германа. — Приятное воспоминание о чудесно проведенном дне. — Какой день вы имеете в виду? — Воскресный… Когда вы с мужем приезжали к нам домой… Нижайший поклон Герману. Кстати, он просил у меня путеводитель по Бородино. Все забываю передать вам. Завтра принесу в институт… — Спасибо. Герман будет весьма признателен. Нам тогда все очень понравилось. Красивые места. Бородино. Голоса истории. Ну и, конечно, нектар… — Пять звездочек. Божественный букет. Пребывая в состоянии легкого опьянения, Жорик — Олин однокурсник и поклонник — продолжал вспоминать про тот воскресный день, когда Оля и Герман приезжали к нему в гости под Можайск. И, вероятно, юноша говорил бы еще долго, если бы его несколько резковато не прервала Ольга: — Ну, хватит, Жорик. Довольно. Это все плюсквамперфектум. И никому не интересно. И вообще зарубите себе на носу: многословие не украшает мужчин. К тому же еще пьяненьких. Ольга подошла к Владику, недолго о чем-то пошепталась с ним и снова вернулась к Марине. — Мы собираемся домой. Вы с нами или остаетесь? — Кто это “мы” и кто это “вы”? — Мы — это Владик, Игорь, Герта и я. Вы… я имею в виду тебя и… Она посмотрела в сторону Николая. Бахарев с любопытством наблюдал за ссорой подруг. Что будет дальше, на чем порешат? Но решать предложили ему. — Коля, ты решай. — Как прикажет моя повелительница. Ее слово — для меня закон. — И, улыбнувшись, церемонно склонился перед Мариной. — Повелительнице угодно покинуть этот дворец. — Марина жеманно подала Бахареву руку. Шли молча. Разговор не клеился. Николай попытался было восстановить дружескую атмосферу, стал рассказывать какую-то забавную историю, потом сел на любимого конька — читал стихи. Но никто не поддержал его. И тогда Николай предпринял последнюю попытку. — Хватит! Игра в молчанку отменяется… — Мы слушаем вас, — откликнулась Ольга. — Бы имеете что-нибудь предложить? — Да, имею. Ваш покорный слуга сегодня богат. Он получил аванс и приглашает всю честную компанию в “Метрополь”. Там отличнейший джаз. Так по крайней мере утверждает мой друг… И он назвал имя популярного поэта, вызвав почтительное внимание студентов МВТУ. — Итак, объявляю референдум: кто за? Ольга демонстративно скрестила руки на груди, как бы подав тем самым сигнал мальчикам: “Делай, как я”. И они тут же приняли ее команду. На ветру одиноко покачивалась рука Марины. …В десять часов вечера заполучить столик в “Метрополе” — это почти подвиг. Вначале Марина решила, что Бахареву повезло. Оставив ее на несколько минут в вестибюле, он сумел договориться с метрдотелем. Но оказалось, что тут дело не в “везении”. — Я не могу сказать, что мы хорошо знакомы с ним. Но раза два он видел меня в компании Виктора. Этого достаточно, чтобы нам поставили дополнительный столик. — О, какой ты важный, Коля… Видимо, вашего брата с Парнаса уважают здесь… Бахарев усмехнулся: — Люди гибнут за металл, дорогая моя… — И озорно выставив грудь, зашагал, взяв под руку Марину. Она была в прекрасном настроении. Мягкий свет. Звенящие удары джаза. Танцы. Снующие меж столиков официанты с их заученными движениями и улыбками. Ресторанный гомон. А главное — рядом с ней он, Николай, человек, который вдруг непонятно почему стал ей так близок и дорог. Они не пропустили, кажется, ни одного танца. Бахарев танцевал легко, непринужденно. За столом в унисон ее настроению он прочел светловское четверостишие: Двух бокалов влюбленный звон Тушит музыка менуэта, — Это празднует Трианон День Марии-Антуанетты… Марина благодарно посмотрела на Бахарева, и они многозначительно чокнулись бокалами. Потом она безудержно болтала, злословила про Ольгу, рассказывала о Владике, который, находясь на практике в Севастополе, ежедневно присылал Ольге длиннющие письма до востребования, а вернувшись из Севастополя, с вокзала заехал не домой, а к ней в общежитие. Это было буквально через неделю после того, как из Москвы уехал муж Ольги. — Он, кажется, причастен — или хочет быть причастным — к журналистике. Ольга рассказывала, что муж ее пишет какую-то монографию, а может быть, роман, посвященный спартаковцам двадцатых годов. И даже консультировался в Москве. Его почему-то очень интересует война двенадцатого года, Бородино. Они ездили туда… Я хотела вместе с ними, но Ольга… Герман был ко мне внимателен несколько больше, чем полагается в таких случаях. К их столику подошел высокий сухопарый мужчина с черной холеной бородкой. Слегка склонив голову, он обратился к Николаю: — Разрешите пригласить вашу даму? Сказано было глуховатым, но приятным бархатным голосом, в котором едва-едва угадывался иностранный акцент. Бахарев приметил этого человека: минут двадцать назад он заглянул в зал из-за тяжелых портьер, скрывавших дверь, что соединяла ресторан с гостиницей. Судя по тому, как к гостю сразу же бросился администратор, Бахарев догадался — это иностранец-турист. Окидывая взором шумный зал, Бахарев на долю секунды задержался у стола иностранца. И ему показалось даже, что он перехватил взгляд гостя, устремленный к Марине. Николай подумал тогда: все попятно — русская красавица! И вот извольте, Бахарев, приглашают вашу даму. — Пожалуйста, — любезно ответил он. И тут произошло такое, что повергло гостя в полное замешательство. Марина резко, всем корпусом, повернулась в сторону Николая. Не глядя на склонившегося перед ней иностранца, она растерянно пролепетала: — Простите, у меня болит голова. Я хочу пропустить этот танец. Извините… — Я очень огорчен, мадемуазель. — Видимо, он не сразу решил, как ему следует обратиться к ней. — Хочу надеяться, что к следующему танцу вы будете себя прекрасно чувствовать… Я буду просить разрешения резервировать ваше согласие, — обратился он к Николаю. — Да, конечно… — любезно улыбнулся Бахарев. Иностранец вежливо раскланялся и вернулся к своему столу. Бахарев недоумевал. Действительно ли у Марины болит голова? На раздумья времени не оставалось. Марина предложила, не дожидаясь кофе и мороженого, немедленно отправиться домой. Они уже собрались было уходить, когда подскочил официант, заверив, что все будет подано, как он выразился, “сей момент”. Однако Марина продолжала капризно твердить: “Не хочу кофе, хочу домой…” Бахарев попытался отшутиться: — Ох, Марина, чует мое сердце — дело кончится дипломатическими осложнениями… Я же в прошлом газетчик и знаю их брата: “Русская девушка боится танцевать с иностранцем”. И готова шапка для буржуазной газетенки. Нет, уж прошу тебя… Между тем принесли кофе с мороженым. Оркестр после небольшого перерыва снопа “взял слово”. Иностранец в тот же миг появился у их столика. — Прошу вас… Выхода не было. Не отказывать же во второй раз. Она пошла танцевать. Бахарев тут же пригласил даму, сидевшую за соседним столом. Это позволило ему наблюдать за иностранцем, а в какой-то момент даже оказаться почти рядом с ними. Что случилось с Мариной? Побледнела, зло сжала губы. Гость что-то тихо и торопливо нашептывал ей, а на лице ее — то испуг, то гиен. Гремит музыка, гудит зал, и иностранец вынужден говорить громче. И тогда Бахареву — он чуть не столкнулся с гостем — удается уловить несколько слов: “Папа весьма сожалеет… Он просил…” Танец кончился. Иностранец проводил Марину к столу, поцеловал руку, раскланялся с ней, с Николаем — тот уже был на месте, — процедил “благодарю вас” и твердым шагом промаршировал в угол зала. Марина молча перекладывала с места на место вилку, ножик, салфетку… — Как чувствуешь себя? Голова все еще болит. — Спасибо… Мне лучше, но… В это мгновение она перехватила взгляд Бахарева, разглядывавшего ее левую руку. Марина покраснела, тут же сунула руку иод стол и растерянно пробормотала что-то невнятное. Она просит прощения, ей надо удалиться на несколько минут, и смущенно улыбнулась при этом… — Господи, Марина! Прошу без всяких цирлих-манирлих. Кстати, я тоже спущусь вниз. Хочу позвонить Другу” предупредить его, что завтра буду у него попозже… Когда они вышли из ресторана, ее знобило. Бахарев спросил: “Что с тобой?”. Она ответила: “Вероятно, простудилась”. И всю дорогу молчала, односложно отвечая на вопросы: “да”, “нет”, “кажется”, “вероятно”. Проводив Марину до дому, Бахарев из автомата позвонил дежурному по управлению. Хотел перепроверить, поняли ли его, когда он звонил из ресторана. — Да, поняли, меры приняты. С утра Бахарев позвонил Марине. К телефону подошла мазка. — Марина нездорова. Температуры нет, но слабость, озноб. Настроение? Скверное. Со мной не разговаривает. Может, с вами? Приехать? Я сейчас спрошу у нее… Нет, сегодня просит не приезжать… Бахарев повесил трубку: “Случаи, когда даже не требуются мозговые извилины. Достаточно иметь глаза”. Где-то он это он читал и повторял каждый раз, когда ситуация казалась ему предельно ясной. Мысленно Николай уже решил: “Доб-1” и эта девица находятся в прямой связи. Все колебания, сомнения на сей счет отброшены. С этим он и отправился сегодня к Птицыну. Их встреча назначена на три часа. Значит, он еще успеет заглянуть в свое кафе. Была у него любимая “парпитовская точка”, как он величал ее, на площади Пушкина. Лейтенант неторопливо, без аппетита проглотил сосиски, вновь и вновь возвращаясь к событиям в ресторане, пытаясь проникнуть в полный всяких сложностей Маринин мир. И тут же поймал себя на мысли, вызвавшей у пего даже некоторую тревогу: она интересует его значительно больше, чем того требуют обстоятельства дела. И где-то там, в глубине души, пробиваются ростки каких-то смутных эмоций… И уже предупредительно гремит голос разума: “Нет, нет! Служба, служба, Николай…” И он полон решимости сегодня же заявить Птицыну: “Есть улики против Марины Эрхард-Васильевой”. А какие, собственно, улики? Она же сама ему обо всем рассказала, включая разговор с туристом, другом отчима. Встреча в ресторане? Но для нее она была неожиданна. Да, допускаю: возможно, что снова появился друг Эрхарда. Но, если Бахареву не изменяет зрительная память, они вовсе не похожи друг на друга — Альберт Кох, фотография которого хранится в архиве, и человек из ресторана. Да, допускаю, иностранец охотится за Мариной. Танцуя с ней, надел ей на палец левой руки бриллиантовое кольцо — подарок отца. А что она должна была делать? И в ответ — вопросы, вопросы. Почему не рассказала ему, почему убежала вниз и сняла кольцо? Почему не хочет его видеть сегодня? Так он готовился к разговору с Птицыным. Бахарев вышел на площадь и посмотрел на часы: времени в обрез. Хорошо бы такси поймать. О, ему, кажется, повезло. На противоположной стороне улицы, у памятника Пушкину, остановилось такси, и пассажир вышел. В чем дело? Почему машина не идет на стоянку? Бахарев перебежал дорогу и ринулся к шоферу. — Свободен? — Занят. Жду. Лейтенант оглянулся по сторонам и чуть не остолбенел: на одной из скамеек сидела Марина. Нет, он не обознался. Нарядная, красивая, более бледная, чем обычно. С кем у нее тут свидание? Странно: Николая она не захотела видеть, сказалась больной, а сама побежала на свидание? Николай хотел было окликнуть Марину, но удержался — отошел в сторону. Марина поднялась с места и направилась кому-то навстречу. Ба! Это же человек из ресторана. Теперь он под руку вел ее к такси. Машина лихо рванула с места, Бахарев посмотрел вслед удалившейся машине, и в то же мгновение взгляд его перехватил голубую “Волгу” с хорошо знакомым водителем. …Бахарев во всех подробностях рассказал Птицыну и о событиях вчерашнего вечера в ресторане и о неожиданной встрече на Пушкинской площади. — Нити тянутся к Марине. Я почти уверен в этом. Птицын слушал Бахарева, не глядя на него. — Как понимать твое почти? — Остается уточнить некоторые детали, в частности роль мамы… Бахарев отвечает быстро. А Птицын задает вопросы неторопливо, цедит каждое слово… И вдруг замечает: — В нашем деле иногда требуется бесстрастность. Страсти мешают анализировать. Вот так. Кофе пить будешь? — Если не было бы страстей, тогда мир перестал бы существовать, Александр Порфирьевич… Мысль неоригинальная, но проверенная жизнью. — Не спорю, без страстей, конечно, нельзя. Но пересол вредно действует на пищеварение. Согласен? Вот так. Пофилософствовали мы с тобой немного — и хватит. Вернемся к делу. Еще рано делать выводы. Хотя допускаю и твой вариант: Эрхард — Марина. Более того, к твоим логическим заключениям можно добавить и некоторые вещественные. Я вновь просматривал архивные материалы. II нашел фотографию Марипы — теперь уже с двумя иностранными туристами. Стоят у входа в гостиницу “Метрополь”; Альберт Кох, видимо, знакомит ее со своим спутником. В дело имеется сообщение о второй беседе Марины с Кохом. Точнее, с двумя сразу. В том же кафе. Перед отъездом Альберт Кох снова новел разговор об отце. Его, мол, гложет тоска по семье. Он по-прежнему одинок. И все лелеет надежду увидеть дочь, жену. Среди тех камней, что лежат в фундаменте этих надежд, — его нынешняя работа, рассчитанное на западного читателя исследование русской литературы. Эрхард верит, что когда он закончит это исследование, то получит моральное право просить у Советского правительства разрешения приехать к семье. Турист обо всем этом говорил с многозначительными паузами и следил за реакцией Марины. И когда, по его разумению, настала самая пора, он будто невзначай сказал: “Дочь должна помочь отцу. В чем? Будущее покажет…” Марина тогда ничего не ответила, ничего не обещала. А Кох, прощаясь, все же счел нужным напомнить девушке: — Отец всегда остается отцом… Не забывайте его. И подумайте обо всем, что я вам сказал. У вас для этого будет достаточно времени… И снова Марина промолчала. Даже привета отцу не передала. …Птицын не комментирует этот документ. Он лишь излагает отчет оперативного сотрудника, написанный несколько лет назад. — Что скажешь, Николай Андреевич? — Веский аргумент. Однако не могу найти ответа на один вопрос: почему Марина, рассказав мне все об отце, умолчала об этих встречах и о странном подарке? Почему? Что тут — страх, недоверие или какой-то расчет, какое-то обязательство? И еще: знает ли об этих встречах доктор Васильева? Догадывается ли дочка, чем занимается сегодня ее отец? Или верит Коху? — Ты, пожалуй, слишком много вопросов сразу поставил, Николай Андреевич. Иностранец предложил Марине поехать за город погулять, пообедать… — Я большой любитель русской природы, русской старины Подмосковья. Бородино… Архангельское… Кажется, Герцен писал: “Бывали ли вы в Архангельском? Ежели нет — поезжайте”. — У вас изумительная память. — Не жалуюсь. Так как? Может, мы последуем совету Герцена и поедем в Архангельское? Стоял теплый осеппий день. Иностранец остался в восторге от му.чоя, картин, изумительных коллекций фарфора. Потом они долго гуляли по парку, любовались зубчатыми полосками лесов, синевших за излучиной Москвы-реки. — Очаровательное единство архитектуры, пейзажа, скульптуры, живописи, — восторгался иностранец. — Кто бы мог подумать, что этот великолепно звучащий оркестр природы организован человеком. Кпязь Юсупов. Так, кажется?.. — Если вы имеете в виду фамилию последнего владельца этой усадьбы, то вы не ошиблись. А если интересуетесь истинными творцами красоты Архангельского, то речь пойдет о крепостных художниках, архитекторах… — Да, гений народа… Они спустились к пруду, а потом вышли на какую-то безлюдную аллею, где под сенью плакучей ивы стояла неприметная скамейка. — Присядем отдохнем, — предложил спутник. — Вы не возражаете? — И, не дожидаясь ответа, сел на скамейку. А потом он повел Марину туда, где гуляли обитатели военного санатория, расположенного на берегу Москвы-реки. Спустились на нижнюю террасу, полюбовались бескрайними далями. — Я буду просить прощения… Мне надо купить сигареты. Я оставлю вас на несколько минут. Разрешите? — И быстро исчез. Он вернулся минут через десять и снова извинился. — То есть сложная операция — покупка сигарет… Пока я нашел киоск… Часов в пять небо насупилось, надвинулись темные тучи и зашумел ливень. Иностранец подхватил Марину под руку, и они побежали в ресторан. День был воскресный. Народу набралось много. Метрдотель беспомощно развел руками. — Прошу прощения. Все места заняты. Однако мы сейчас что-нибудь сообразим. И через минуту он уже провожал их к большому, на шесть персон, столу в углу зала. Они сели у окна. — Что будем пить? Коньяк? Русская водка? Шампанское? Марина мотнула головой, что означало: “Не хочу!” — Но вы же что-то будете пить… Кроме вашего знаменитого боржома. — Наше знаменитое пиво. Жигулевское. — Голос крови. Немцы обожают пиво. — А я не считаю себя немкой. Я русская. Васильева. Дочь своей мамы. Беседуя со своей спутницей, турист не заметил, как к их столику подошла пара: высокий молодой человек в сером костюме. Свободный и широкий жест, легкий акцепт позволили без труда узнать в нем грузина. На вид ему, как и его подруге, было лет двадцать пять. — Разрешите? — грузин склонился над стулом иностранца и приветливо улыбнулся. — Вы не будете возражать, если мы сядем за ваш стол? Понимаете, создалась безвыходная ситуация, — и он развел руками. — Все места заняты… И только за вашим столом… Наступило неловкое молчание. Девушка со вздернутым носом упрекнула грузина: — Я же тебе говорила, Серго, что это неудобно. Но тут в разговор вмешалась Марина: — Почему же неудобно? Вы нам вовсе не помешаете, Не так ли, Эрнст Карлович? Но ответа не последовало. — Пойдем, пойдем, Серго. Прошу тебя. И вдруг в голосе Марины зазвенел металл: — Я не очень понимаю ваше молчание, Эрнст Карлович. Молодые люди хотят… — Что вы, я очень доволен. Великолепное общество. Контакт наладился быстро, чему в немалой мере способствовал общительный характер грузина. Он тут же атаковал иностранца: — Вам понравились женские головки Ротари? Не правда ли, изумительны? Мастерски выписаны, хотя и не очень глубоки по характеристике. Согласны? А Робер? А коллекция “антиков”? О, этот князь знал, что надо привозить из Италии. Какая картина произвела на вас самое большое впечатление? Зильбер, не задумываясь, ответил: — “Андромаха, защищающая Астианакса”. А вам, Марина, понравилось ото полотно? Она подняла брови, усмехнулась и ничего не ответила. — Так как же, Марина?.. — продолжал допытываться гость. — Вы не обижайтесь, господин Зильбер, но эта картина вызвала не очень приятные для вас ассоциации. — Это есть неожиданный ответ. Для меня лично?.. Странно. В каком образе я представился фрейлейн? Астианакса? — Нет, нет, господин Зильбер… Вы не младенец Астианакс… Вы полководец, разрушитель Трои. Я смотрела на Андромаху, на ее обезумевшие от горя и страха глаза и вспомнила рассказ мамы… Когда гитлеровцы пригнали колонну пленных в какую-то украинскую деревню, их повели на площадь перед церковью, чтобы показать новый порядок. В центре стояла виселица, приготовленная для молоденького паренька — связного партизан. Ему “гуманно” разрешили проститься с матерью. Моя мама — она была среди пленных — говорила, что на всю жизнь запомнила страшное лицо крестьянки, отбивавшей сына от эсэсовцев, ее истошный крик: “Не отдам сынку! Меня вешайте, его живым оставьте”. И вот так же, как греческий полководец на картине, невозмутимо стоял гитлеровский офицер, ваш соотечественник, господин Зильбер… Он стоял и усмехался, глядя на несчастную женщину. — Вы маленький зверек с очень острыми зубками, — резко огрызнулся турист. — Я буду вам напоминать, что Вильгельм Пик и Макс Рейман — тоже мои соотечественники. Я буду надеяться, что вы имеете хорошую память и на такой факт… — Я ничего не забыла, господин Зильбер. Мне трудно забыть, если бы даже я захотела этого. Простите, я не хотела вас обидеть. Мрачные ассоциации приходят без спроса… Наступило неловкое молчание и неизвестно как долго бы оно продолжалось, если бы не голос грузина: — Вы меня извините, дорогие друзья, но этот разговор не для застолья. Я прошу полминуты внимания. — И Серго выдал длиннющий грузинский тост, смысл которого сводился к тому, что на свете есть много гостеприимных домов, но нет в мире более гостеприимных хозяев, чем в том большом советском доме, гостем которого милостью судьбы оказался уважаемый господин Зильбер… Эрнст Карлович галантно заметил, что судьба была столь милостива к нему, что ниспослала ему такую очаровательную спутницу (поклон в сторону Марины), такую милую соседку по столу (поклон в сторону Елены) и такое приятное знакомство с сыном Грузии, о которой он много слыхал и читал (поклон в сторону Серго). Молодые люди охотно рассказали о себе. Они — жених и невеста, аспиранты. Вчера был сдан очень трудный экзамен, и сегодня они отмечают это радостное событие. Эрнст Карлович, отрекомендовавшись туристом, поспешил заметить: — У русских весьма превратное представление о западных немцах. Они не есть одинаковы. Среди них имеются люди, которые очень болезненно реагируют на возрождение нацизма, на реваншистские тенденции в политике Бонна. Хотя сам я очень далек от политики. Моя специальность — физика плюс математика. Когда я есть гость Москвы, мои мысли не о политике, а о Ландау и Капице, Семенове и Келдыше. Эти люди принадлежат всем народам. Вы будете согласны со мной?.. — Когда я ем, я глух и нем. У русских есть такая поговорка, — ответила Елена. — Давайте пить и закусывать… — Да, да, — подхватил Серго, — пить и закусывать. Я хотел бы поднять этот маленький бокал… И он обрушил на иностранца целый каскад тостов. Один из них был за Германию Гёте и Гейне, Маркса и Тельмана. Зильбер аплодировал. — То есть прекрасный тост. Разговор снова вернулся к Архангельскому. Иностранец был достаточно осведомлен обо всем, что касалось истории Юсуповского дворца, событий, когда-то происходивших в этом живописном уголке Подмосковья. — Вы так много знаете, — удивилась Елена. — То есть маленькое преувеличение. Я имею скромный багаж знаний. Но я много читал о России, люблю ее писателей. — Кто из них вам больше всего по душе? — спросила Елена. — Из всех русских писателей, которых у вас называют классиками, я больше всего люблю Толстого. Океан мудрости. От Толстого Эрнст Карлович как-то незаметно перешел к современной русской литературе, по аспиранты разговора не поддержали. Они что-то нежно нашептывали друг другу. Зильбер тихо сказал Марине: — У нас очень популярны русские интеллигенты-правдолюбцы. — Оригинально. Интеллигенты-правдолюбцы. Кто же у вас ходит в правдолюбцах? Эрнст Карлович назвал несколько фамилий и, между прочим, фамилию того самого поэта, который, по словам Николая Бахарева, числился в его друзьях. — Любопытное совпадение. Молодой человек, с которым я вчера была в ресторане, сам поэт и друг того поэта, которого вы назвали… — То есть приятное совпадение. Я имею просьбу вашего папы, если это не затруднит вас, привезти ему для книги что-нибудь любопытное из жизни современных советских писателей. Господину Эрхарду будет очень приятно, если я смогу ему передать свои личные впечатления от встречи с русскими литераторами. Я буду иметь бесконечную благодарность вам, если вы познакомите меня со своим другом. Марина пристально посмотрела на иностранца: — Что же, пожалуй. Почему бы и нет. — Однако голос ее звучал не очень уверенно. Уже поднимаясь из-за стола, она сказала: — Я хочу напомнить вам, господин Зильбер, про обещанную газету. Мне будет интересно прочесть эту статью. — Да, да. Конечно. Обязательно. Я буду просить прощения за свою забывчивость. Как видите, у меня не есть такая хорошая память. Приготовил для вас газету и в последний момент оставил ее в номере. На улице уже стемнело, когда Зильбер с Мариной поднялись из-за стола. Серго и Елена ушли несколько раньше… Все, что докладывал подполковнику Николай Бахарев, все, что сообщали оперативные сотрудники, казалось, неопровержимо свидетельствовало: разгадка “Доб-1” — в семье доктора Васильевой-Эрхард. Надо лишь точно установить — мама или дочка? Или вместе? И все же подполковник Птицын волновался: не идет ли он по ложному следу? Сколько раз случалось, когда хитрый, умный противник ловко путал карты. Может быть, и сейчас так… Прошло уже несколько недель с тех пор, как началась операция “Доб-1”, и Александру Порфирьевичу казалось, что скоро будет распутан весь клубок. Генерал Клементьев и непосредственный начальник Птицына полковник Крылов несколько раз спрашивали его: “Скоро ли?” А он вынужден отвечать: “К сожалению, не могу дать точного ответа”. Птицын подробнейшим образом излагал все обстоятельства дела, генерал молча слушал его и реагировал весьма сдержанно: — Ну-ну, продолжайте действовать, Александр Порфирьевич… Только спокойно. Людей не дергайте. Как известно, частенько самые веские доказательства дает время… Но мне думается, что в данном случае время не наш союзник. И вот клубок, кажется, начинает распутываться. Птицын внимательно слушает сообщение Серго и Елены. Иностранца интересует настроение студенчества, отношение молодежи к некоторым явлениям жизни и литературы. Зильбер как бы вскользь заметил, что в западной печати появилось сообщение о каких-то рукописных журналах. Марину просил познакомить с “литератором”. И поручение отца. И эта, пока неизвестная им газета с какой-то неизвестной статьей, так заинтересовавшей девушку. И вообще сам факт вторичной встречи с Зильбером. Серго, резюмируя свои впечатления, говорит: “Зильбер пока еще прощупывает настроение Марины, но, кажется, намерен кое-что поручить ей”. И Птицын, прослушав сообщение о беседе Зильбера с Мариной в Архангельском, склонен согласиться с Серго. Бахарев в общем-то придерживается того же мнения. И все же он спрашивает: — Неужели Зильбер только затем и приехал? Думаешь, это основное его задание? Или, так скапать, попутное? — Вот и меня это смущает… Птицыну тоже неясно, зачем пожаловал гость? “И вообще, где доказательство того, что он имеет какое-то задание? Разве уже начисто исключена самая простая ситуация: физик Зильбер приехал в качестве туриста, встречался со своими коллегами в институте, занимающемся проблемами радиоэлектроники (это предусматривается программой пребывания гостя в СССР), и, выполняя просьбу друга, повидал его дочь, передал ей сувенир. История с кольцом? Ну и что же? Она не хотела афишировать подарок отца и тогда, в ресторане, сняла кольцо. Может, и от матери скрыла”. Так Птицын вел трудный разговор с самим собой, будто не было в комнате его помощников. И вдруг неожиданный вопрос. — Серго, вы можете назвать какую-нибудь характерную примету этого физика? — Конечно! Когда он фужер с вином поднимал, держал его двумя пальцами: большим и средним. На указательном заметен вывих последней фаланги. Ноготь чуть влево свернут… Птицын вышел из-за стола. — Это точно? На указательном? — Точно. — Отлично. Благодарю. Не угодно ли кофейку? Вон там, в углу, чашки и кофейник. Не хотите? Как угодно, А я побалуюсь. Птицын налил чашку кофе, отхлебнул с удовольствием: этот напиток он принимал благоговейно и над кофеваркой буквально священнодействовал. — Считайте себя свободными, товарищи. Впрочем, нет, ты, Бахарев, подожди моего звонка у себя в кабинете. Скоро принесут последнее сообщение Ландыша. Бахарев собрался уходить. Птицын посмотрел в его сторону и заметил недовольство на лице: — Почему насупился? Какая трагедия свершилась? — Никакой трагедии. Обычное многосложное сплетение обстоятельств. — Туману не напускай. Вижу же, не слепой. В чем дело? Говори по совести: ты уверен, что это от Марины нить к тайнику тянется? — Нет, не уверен. — Почему? — Жизнь в схему никак не уложишь. Послушал я Серго с Еленой, вспомнил свои беседы с Мариной, еще раз проанализировал все, что случилось в ресторане, и думаю так: поспешил я с выводом, когда докладывал вам. Улик много, а весомых, настоящих нет. Нет же их… Где они? Утаила встречи с Кохом? Да, утаила. Почему? Полагаю, что только из чувства ложного страха… Не снимаю вины с нее за это… — Ну-ну… Улики, они, конечно, имеются. Только эмоции некоторых товарищей не позволяют им… Бахарев снова помрачнел. — Александр Порфирьевич! Не ругайте меня за то, что скажу сейчас… Поверьте: это не амбиция, а от души… Верьте слову коммуниста… — Говори. — Может, к делу “Доб-1” вместо меня привлечь другого? Может… Бахарев запнулся. Ему вспомнился недавний разговор с Птицыным, когда поздно вечером они возвращались домой. Был разговор о жизни вообще, о молодости, ее порывах, заботах, исканиях. И совершенно неожиданное замечание Александра Порфирьевича: “Искания… это хорошо… Не заблудиться бы только. Сердце, да еще горячее, не всегда надежным компасом бывает”. Почему он сейчас вспомнил этот разговор c Птицыным? Почему так иронически поглядывает на него подполковник? — Вы правильно поймите меня, Александр Порфирьевич. Я не склонен к малодушию. Я прислушиваюсь к голосу… В это время в комнату вошел полковник Крылов и остановился у двери. — О чем шуметь изволят господа Мегрэ? Чем изволите недовольны быть, Александр Порфирьевич? Мрачнее тучи… Николая Андреевича на путь истины наставляете? И то дело… Птицын и Бахарев смущенно молчали. — Так о чем спор? — Спора нет, Иван Михайлович. Есть сложное сплетение обстоятельств, в силу которых… Ну как бы это точнее выразиться… — Мы не на сессии ООН. Не дипломатничайте, Птицын. — Так вот, в силу этих запутанных обстоятельств, наслаивающихся на дело “Доб-1”, Николай Андреевич полагает, что ему следует в сторону отойти… Передать, так сказать, эстафету… — Это что же за обстоятельства такие? — Крылов, прищурившись, хитро посмотрел на Бахарева. — Впрочем, догадываюсь… Вы мне рассказывали, Птицын, про некоторые психологические нюансы… О них речь? Не сердитесь, Бахарев. Не надо… — Полковник подошел к нему поближе и дружески положил руку на плечо. — И не ершитесь, пожалуйста… Всякое бывает с существами, именуемыми гомо сапиенс. Даже если они сотрудники КГБ… Вспомнилась мне сейчас любопытная история. У вас есть несколько свободных минут? Тогда присаживайтесь и послушайте. Крылов и Бахарев сели на стулья у приставного столика, а Птицын опустился в массивное кресло у сейфа. Лейтенант чувствовал, что полковник затеял разговор неспроста, и нервно ерзал на стуле. — Чего-то вам не сидится, Бахарев, — ухмыльнулся Крылов. — Учитесь властвовать собой, молодой человек. Курить будете? Не курите? Молодцом. А я люблю сигару пососать. Крылов затянулся и, как бы собираясь с мыслями, уставился в потолок. — История эта врезалась в память, знаете, как клинопись на камне… со всеми деталями… Но я буду краток. Место действия — Прибалтика; время действия — лето 1940 года. Главные действующие лица: Иван да Василий. — командиры Красной Армии, да Анна-Лииса — просто миловидная девушка. Неглавных действующих лиц перечислять не буду. Их было предостаточно. Обстановка весьма напряженная и сложная. Прибалтику хотели втянуть в империалистические авантюры. И тогда слово взяли трудящиеся массы — они потребовали немедленного восстановления Советской власти, свергнутой Антантой в 1919 году, потребовали воссоединения с СССР. Власть перешла в руки прогрессивных сил. Рухнули двери тюрем, и политические заключенные, среди которых было немало коммунистов, вышли на волю. И Крылов, как заправский рассказчик, умолк на секунду. — А теперь, друзья, я вас приглашаю в небольшой островерхий особняк за высоким зеленым забором, в особняк, принадлежавший хорошо известному в городе врачу. Здесь поселились два друга, два советских командира — Иван и Василий. Молчаливый, угрюмый доктор и его насмертьперепуганная супруга отвели русским просторную комнату с большим окном, выходящим на берег залива. — В этой комнате господа офицеры, мы надеемся, будут чувствовать себя уютно, — сдержанно объявила докторша, с трудом подобрав последнее слово. “Господам офицерам” тогда было не до уюта. После дороги и длительного оперативного совещания в штабе хотелось одного — спать. Прислуга приготовила одному кровать, другому постелила на диване и, пожелав спокойной ночи, вышла. Так началась для них новая и во многом необычная жизнь. В особняке они только ночевали. Уходили рано утром, приходили поздно ночью. Питались в штабе. Хозяевам не мешали и виделись здесь разве только с прислугой. Казалось, никто и ничто не интересовало их в этом мрачном особняке: место ночлега, не более. Тем удивительнее показался Василию неожиданный интерес Ивана к висевшему над диваном большому портрету миловидной девушки. — Кто это? Дочь? Где она?.. — Отчего такая любознательность? — Я думаю, что мы живем в ее комнате. — Ого, какой наблюдательный! Что еще обнаружил великий следопыт? — Следопыт по следопыт, а кое-что могу тебе сообщить о хозяйке комнаты: по образованию филолог, зовут Анна-Лииса, думаю, что бывала в Германии, Англии и Швеции… — Интересно… — протянул Василий. — То, что она филолог, ясно: литература, словари. А почему ты решил, что она бывала в Германии, Швеции и Англии? — Видишь ли, друг мой, в то время, когда ты перед сном роешься в местных официальных справочниках, чтобы наутро дать нам поражающие своей глубиной и целенаправленностью задания, я, как книжный червь, зарываюсь в словари. Это не столь любопытно, сколь полезно. Так вот, в этимологическом словаре немецкого языка мне попалась открытка Анне-Лиисе от ее родителей, адресованная в Берлин. Словарь Вебстера подарен ей одной английской семьей с благодарностью и пожеланием не забывать дома английский язык. Там даже есть подпись их сына. Ну, а в путеводителе по музеям Стокгольма — ее пометки карандашом. Мне очень понравилось тонкое замечание девушки по поводу “Дамы с веером” Рослина. Она, видимо, хорошо разбирается в живописи. — А в политике? — Право, затрудняюсь… Ты уж слишком многого требуешь от меня… — Тогда послушай, что я тебе скажу… И Василий рассказал другу, что несколько дней назад фашистские молодчики стреляли в девушку в тот момент, когда она, освобожденная воинами Советской Армии, выходила из ворот тюрьмы. К счастью, бандиты промахнулись. Когда все волнения улеглись, Василий беседовал с девушкой и ее друзьями. Выяснилось: девушка — дочь хозяев особняка, но домой не хочет возвращаться. Почему? Отец, узнав, что она связана с подпольной революционной организацией, публично отрекся от дочери. “Девушка, связанная с подонками общества, не может быть дочерью порядочных людей”. Это были слова отца. У пего и у дочери окапались равные взгляды на то, что принято называть порядочностью. Анна-Лииса поселилась в квартире своих друзей по подполью. Она функционер Коммунистического союза молодежи. Дел у нее много и, между прочим, небезынтересных Ивану и Василию. Молодежь хочет организовать народную милицию. Решено было познакомиться с девушкой поближе. Но события неожиданно развернулись так, что Анна сама явилась в особняк. Однажды, вернувшись поздно вечером домой, Иван и Василий узнали, что хозяева сбежали (позже выяснилось — бежали в Швецию на моторной лодке), оставив все, кроме драгоценностей. Сообщившая о бегстве хозяев прислуга Мирья, старая женщина, поведала и о судьбе молодой хозяйки, выросшей у нее на руках. — Господи, благослови ее… Благодарю тебя, господи, что вернул ее мне… — заключила старая няня свой рассказ. Не далее как сегодня утром Анна-Лииса виделась со старухой и, узнав о бегстве родителей, решила жить вместе с той, кто нянчил, воспитывал ее. Теперь совсем по-другому пошла жизнь в мрачном особняке. Словно поселилась тут одна семья под опекой заботливой Мирьи. Айна водворилась в свою комнату, Иван и Василий перешли в бывший кабинет доктора. Поздно вечером, часов в одиннадцать — двенадцать, молодые люди собирались в столовой. Говорили о разных разностях. Русским было очень интересно слушать Анну — о делах комсомольцев, об их заботах, тревогах, колебаниях, вопросах, на которые они сами не всегда находили правильный ответ и на которые кое-кто из притаившихся контрреволюционеров спешил ответить по-своему. Анна расспрашивала их о России, о них самих, где, чему учились, кто их родители. Девушка с трудом скрыла свое удивление, когда обнаружила, что ее новые друзья — люди весьма эрудированные. Неплохо разбираются в литературе, истории, музыке и живописи, а Иван, не прибегая к словарю, читает немецкие и английские газеты. А она-то думала, ей-то говорили… Во всем этом она призналась значительно позже. Как-то поздно вечером Иван сказал Анне, что в городе решено открыть несколько детских садов, а помещений подходящих нет. — Как же так, — всполошилась Анна. — А наш дом? И тут же было принято решение — отдать особняк под детский сад. Анне и Мирье предоставили маленькую квартиру, а Василию и Ивану — комнату в другом доме. Но дружба продолжалась. Они часто виделись, ходили в гости к Анне, баловали ее сластями, приглашали на вечера в Дом Красной Армии, не обращая внимания на шутки и остроты в адрес двух соперников, из которых, как казалось окружающим, Василий явно пользовался большей благосклонностью… И вдруг все это рухнуло. …Грянула война. Тяжелые бои на эстонской земле. Фашисты у ворот Таллина. На кораблях под непрерывной бомбежкой добирались до Ленинграда. Ивана и Василия ждал приказ: организовать работу в тылу фашистских захватчиков. Анна-Лииса и Мирья тоже оказались в осажденном Ленинграде. Друзья настойчиво уговаривали их эвакуироваться через Ладогу на Восток. Но Анна категорически отказалась, заявив, что может быть полезной в радиопропаганде. Мирья не пожелала бросить свою деточку и вместе с ней осталась в Ленинграде. Наступили тяжкие блокадные дни. Холод и голод, артобстрел и бомбежки. И все же друзья встречались. Иван и Василий навещали Анну-Лиису, хотя им приходилось пешком в морозы вышагивать из одного конца города в другой. Приносили хлеб и пшено — часть своего пайка. Знали, что Анна-Лииса делится своим скудным пайком с Мирьей, получавшей “сто двадцать пять блокадных грамм”. Анна отказывалась принимать дары друзей, и они тайком оставляли их у Мирьи. Однажды, когда друзья уже собрались было идти к Анне-Лиисе, Иван вдруг сказал Василию: “Иди сам”. “Что это ты, Иван?.. Надорвался?.. Посовестился бы, но похоже на тебя”. Иван ничего не ответил и молча положил в карман полушубка товарища маленький пакет. Василий в сумерках побрел один. По дороге достал пакет, развернул — в белый листок бумаги были завернуты три кусочка селедки. И записка: “Кушайте на здоровье. Ваш Ваня”. Позже Василий все понял: друг его не мог не заметить, что Анна-Лииса искренне, по-товарищески любила обоих, но сердце девушки принадлежало лишь одному из них — Василию, длинному, худющему и не очень-то красивому парню. Что поделаешь!.. Их троих связывала не только дружба. Они часто встречались в штабе. Анна занималась подготовкой радиопередач, листовок, обработкой информации, переводом захваченных документов, журналов, книг, издававшихся тамошними Квислингами. Из Ленинграда осуществлялось руководство работой боевых отрядов, действовавших в подполье на родине Анны-Лиисы. И вдруг связь с одним из самых больших отрядов прервалась. Вскоре стало известно, что его руководители арестованы гестапо. Стали выяснять причины ареста, анализировать положение в отряде, изучать его связи… И пришли к выводу: находясь вдали от места событий, разобраться трудно. Решили отправить в тыл нового человека, который возглавил бы отряд. Пусть он и разберется в той сложной обстановке. Кого послать? Добровольцев было много. Но одного нельзя послать по состоянию здоровья, а этот — слабовольный, может и не выдержать, третий… В общем, сошлись на одном: это должен быть коренной житель, человек смелый, большой силы воли. Анна-Лииса не раз говорила друзьям, что готова отправиться в тыл противника на любое задание. Но сейчас речь шла о том, чтобы возглавить отряд. Она, конечно, и на такое пошла бы, однако предлагать свою кандидатуру сама не решалась. И тогда решили за нее. Как-то на узком оперативном совещании руководитель службы обеспечения сказал: — Имеется, товарищи, предложение. Может быть, оно кое-кому покажется странным. Но давайте обсудим… Что, если послать в тыл противника Анну-Лиису? Все посмотрели на него с недоумением. — Не удивляйтесь. Она местная жительница, знает язык, нравы, обычаи, в прошлом действовала в подполье, образованна, умна, миловидна, приобрела у нас опыт оперативной работы. Есть у нее, на мой взгляд, один недостаток — больно молода… — Это не единственный недостаток, — решительно возразил начальник оперативного отдела. — Мы, конечно, можем доверять этой девице здесь. — Он иронически ухмыльнулся, подчеркнув два последних слова. — Да, нам известно, что в свое время она была связана с революционной молодежью. Но тогда обстановка в Таллине была иная… И мы не знаем, как она ныне поведет себя там. — И снова ударение на последнем слове. — Я хотел бы напомнить, что она вышла из буржуазной среды, ее родители бежали в Швецию, куда она тоже в свое время имела удовольствие прокатиться. Но главное не в этом — она жила в Германии. По-моему, достаточно. — Нет, недостаточно! — резко возразил Василий. — Вам, должно быть, известно, что в той стране заграничные путешествия были не в диковинку вообще и для интеллигенции в частности. Это во-первых, а во-вторых… Ему трудно было говорить. Карандаш дрожал в руках. Василий взорвался было, но быстро овладел собой и спо-койпо стал перечислять все, что сделала Анна-Лииса в подполье: как стреляли в нее фашисты, как организовывала она, девушка, отряды народной милиции и как во главе одного из таких отрядов ночью ликвидировала банду фашистских головорезов. — Я вижу, вы хорошо изучили биографию Анны-Лиисы, — процедил начальник оперативного отдела. И, усмехаясь, спросил: — Может быть, вы знаете и другие качества этой девицы, о которых не принято говорить вслух? А может, кое-кому из присутствующих они еще лучше известны? — Он захихикал, нагло посмотрев в сторону Ивана. Василий стукнул кулаком по столу. — Здесь не балаган… Дело в том, что в штабе многие уже знали о взаимоотношениях Василия и Анны. Знали не только о их любви, уже прошедшей суровое испытание блокадой, но и о том, что, как только станет возможно, они поженятся. Недвусмысленные намеки до глубины души оскорбили Василия. Но он сдержался. — Простите, товарищи, несколько погорячился. Разрешите высказаться по существу… — И, чеканя каждое слово, не повышая голоса, продолжал: — Я полагаю, что товарищи тщательно взвесили все “за” и “против”, обсуждая вопрос о засылке Анны-Лиисы в тыл противника. Я полагаю, что они приняли это решение, основываясь не только на анкетных данных. Мне, по причинам вам известным, не совсем удобно выступать в ее защиту. Но, может быть, именно поэтому я решаюсь заявить со всей ответственностью коммуниста: она не подведет! Я ручаюсь за все! Василий, казалось, должен быть благодарен товарищу, который отводил кандидатуру Анны, любимой девушки, невесты. Ведь не на увеселительную прогулку снаряжали ее, а на дело смертельно опасное. А он, коммунист Василий, требовал: посылайте! Но обо всем этом подумалось позже. Около года хрупкая девушка во главе большого отряда действовала в тылу врага. Она оказалась смелой разведчицей. Информация, поступавшая от нее лично и от ее отряда, высоко ценилась штабом и нередко направлялась в Ставку. И вдруг гром среди ясного неба: радио гитлеровцев передало, что гестапо удалось раскрыть “большую группу русских шпионов во главе с опытной разведчицей”. Вскоре в Ленинграде получили и фашистскую газету с тем же сообщением. …Крылов тяжело вздохнул, снова зажег сигару, и в комнате стало так тихо, что слышно было, как Бахарев трет рукой подлокотник кресла. — Надо ли говорить вам, друзья, — продолжал Крылов, — какой это был страшный удар. И для штаба. И для Василия. Штаб лихорадило. Люди ходили как в воду опущенные. Тяжело переживая провал Анны-Лиисы, стараясь найти причины, анализировали данные, поступившие от других групп, обдумывали план ближайших действий. А начальник оперативного отдела оживился, словно нежданно обрушившаяся беда его не касалась. Он гремел: “Я вам говорил, предупреждал. Мы не имели права доверять этой девице. Мы обязаны были воздержаться. У нас есть опыт. А кое-кто тут стал паясничать: ах уж, мол, эти анкетные данные! Анкета — прожектор. Ездила за границу. Была в фашистской Германии. Да, в студенческие годы, но что это меняет? Может быть, уже тогда завербовали…” Он шумел, а все молчали. Трудно было возражать ему. Факты упрямы. Группа провалилась. Анна-Лииса в руках гестапо… Василия тогда отстранили от всех дел. Еще более похудевший, он ходил как неприкаянный. Но жил какой-то неясной надеждой. На что? Сам не знал. И все же надеялся, верил… Сведения о провале группы были разноречивые. И если вдумчиво проанализировать их, то версия о том, что Анна-Лииса предала, отпадает. Но начальник оперативного отдела сам не захотел этим анализом заниматься и другим запретил. “Пустое дело. Все ясно”. А месяца через полтора из Москвы пришло подробное сообщение о судьбе Анны-Лиисы и ее соратников. Гестапо “внедрило” в эту группу провокатора. Благодаря смелости, находчивости и строгой конспирации Анны большая часть отряда спаслась от провала. А что касается арестованных, то они, следуя примеру своего руководителя, держались стойко, приняли все муки пытки и никого не выдали. Осенью 1944 года родина Анны-Лиисы была освобождена. Вместе с наступавшими частями Советской Армии в столицу республики вошла и часть, в которой служили Василий и Иван. И в первый же день в штаб поступило донесение: наши солдаты с ходу ворвались в тюрьму и перестреляли гестаповцев, которые спешили угнать последнюю партию заключенных. Среди них девушка. Она просит немедленно доставить ее в штаб. Через час Анна-Лииса уже сидела рядом с Василием. Тяжко было слушать ее. О себе она почти ничего не сказала. Говорила о том, как мужественно держались товарищи. Один из них чудом остался в живых и сейчас поведал о бесстрашии и стойкости Анны. Сначала ее только допрашивали. Потом пытали. Затем начали действовать через родителей, вернувшихся из Швеции и ублажавших представителей рейха. Она не захотела видеть отца и мать. Анну уговаривали, сулили всякие блага. — Так оно было, друзья, — продолжал Крылов. — Как смогла все это перенести Лиза… — Полковник осекся и поспешил исправиться: — Как все это могла перенести Анна-Лииса, знает лишь она сама. Только с тех пор эта женщина носит платья и кофточки с высокими воротничками, чтобы прикрыть шрамы на шее. Но один шрам, тот, что на левой щеке, ничем не прикроешь… — Так это же Елизавета Ивановна! — воскликнул Бахарев. — Жена Василия Михайловича, генерала Клементьева! Я с ней рядом на вечере в клубе сидел… Шрам на левой щеке… Точно… Ну, а дальше, дальше как дело было? Начальник оперативного отдела как себя чувствовал? Крылов помялся. Не хотелось ему отвечать молодому работнику КГБ на этот вопрос. — Неплохо чувствовал. До поры до времени. Правда, он сам попросился в другой штаб. Позже и вовсе отстранен был. А Василий, что же… Поженились… И я на той свадьбе был… Все вспоминали, как мы вместе ухаживали за Анной-Лиисой. У них теперь двое ребят. Мирья долго жила с ними, детей нянчила. Умерла лет десять назад. А Лиза кафедрой иностранных языков заведует. Есть еще вопросы у лейтенанта Бахарева? Нет у Николая Андреевича вопросов. Ему понятно, для чего была рассказана эта история. — Спасибо, Иван Михайлович, и за рассказ и за… урок… — Какой же это урок. Просто так. Толика пищи для раздумий. Это ведь легче всего — тень на человека бросить. А ты попробуй докажи, что тень зря бросили. Тут и смелость, и принципиальность, и иные качества требуются. В общем, не нужно шарахаться из стороны в сторону. Ясно? Так вот, обстоятельства дела “Доб-1” таковы, что… Он помедлил, подыскивая подходящие слова. И тут на помощь пришел Птицын: — Обстоятельства по делу выявляются такие, что все улики оказываются весьма разноречивыми. И он, словно не было у него с Бахаревым никакого щепетильного разговора, стал развивать план ближайших действий. — Значит, так. Позвонить Марине. Раз. Если она согласится принять тебя, поехать к ней. Два. Узнать, как здоровье. Три. Послушать, что скажет гость. Ты, надеюсь, не забыл, что Марина обещала познакомить Зильбера с тобой. Посмотрим, как она будет выполнять свое обещание. Серго и Елена продолжают наблюдение. Но им уже нельзя показываться на глаза ни Марине, ни Зильберу. Подключим других. Мне докладывай два раза в день. Первый доклад жду сегодня вечером. Я буду здесь допоздна. …Птицын сидит в кабинете и продолжает все тот же трудный разговор с самим собой: “за” — “против”. “Ну, а если не Марина, то кто?.. Эх, Ландыш, Ландыш, ты, кажется, опять выручаешь нас…” Прошло уже несколько лет с тех пор, как Катя-Ландыш помогла раскрыть дело об утечке информации из секретного научно-исследовательского института. С тех пор она связала свою трудную и полную опасностей жизнь с советскими органами государственной безопасности. Уже несколько раз обращалась Катя с просьбой разрешить ей и ее мужу вернуться в СССР. Нет, ей не приказывали. Ее просили. Взывали к ее разуму. К ее сердцу патриотки. “Ну, еще годик… Закончим дело…” Потом всплывало новое дело. А к тому времени Катя завоевала доверие “хозяев”, стала в доме своим человеком. Она прошла жестокую проверку. Ей разрешили поехать в Белоруссию повидаться с родными, дали много денег, но поставили одно условие… Какое же это было страшное для нее условие, как хитро было все продумано! Она должна была выполнить поручение хозяев, используя служебное положение родного брата. — Среди друзей вашего брата, часто бывающих у него дома, есть человек, для которого главное в жизни деньги и красивые женщины, — сказали ей. — Мы его знаем. Подходящий мужчина. Вы должны познакомиться с ним. — Деньги вы мне дали. А кто будет той красивой женщиной? — боязливо спросила Катя. Служанку в ответ одарили снисходительно-насмешливой улыбкой. — Ты! Ты будешь этой красивой женщиной. Но убудет тебя. А твой… Перемучается как-нибудь. Служба, дорогая моя, есть служба. В Москве ей помогли “выполнить” это задание. — Вы не волнуйтесь, Катя, — говорил ей Птицын. — Все будет в порядке. Отчет вы представите в наилучшем виде. И ни один волос с головы вашего брата не упадет. Хозяева были довольны результатами ее поездки. Она стала уже домоправительницей, но тем не менее держали ее на известной дистанции. Не все доверили, но все она знала. Но многое, что могло бы помочь Родине, ей удавалось узнать. И настала пора, когда хозяева и их гости стали говорить в присутствии Кати о делах сугубо секретных. …И вот лежит перед Птицыным последнее сообщение Ландыша. Подполковник отхлебнул кофе и, не опуская чашку, уставился на фотографию туриста Альберта Коха. “Бывают же такие совпадения. И дефект указательного пальца. И на студентку вышел. Все совпадает. А фотография не та. Задала ты нам задачу, Ландыш”. В третий раз перечитывает подполковник письмо Ландыша. Год назад в доме Катиных хозяев появился гость — господин Альберт Кох, который прежде никогда здесь не бывал. Он приехал с письмом от господина Эрхарда, одного из специалистов по СССР. Господин Альберт Кох, инженер-физик, должен получить новое подданство, переехать в страну, где живет Катя, и стать сотрудником одного из институтов, поддерживающих научно-технические контакты с СССР. Ближайшая цель — через несколько месяцев отправить Коха в Москву. При этом следует предусмотреть осложняющие обстоятельства — господин Альберт Кох уже бывал в СССР в качестве туриста, и есть основания полагать, что он обратил на себя внимание контрразведки. Через некоторое время Ландыш сообщила, что ее хозяева определили Коха в нужный институт. И сейчас идет подготовка к поездке в Москву. Ландыш передала его словесный портрет. Птицын восхищается: “Молодец! Надо же уметь так точно схватить. Полное совпадение с фотографией Коха, хранящейся в архиве”. Среди других примет — сломанный палец… Какой именно, Катя уточнить не смогла. Обратила внимание, что палец в повязке, а руку физик держал в кармане. В Москве его свяжут с человеком, который будет полезен разведчику. Его стихия — уголовщина, спекуляция, контрабанда. Родом он из Одессы и уже успел познать, что такое тюрьма, исправительно-трудовой лагерь строгого режима и как за большие деньги покупают фальшивые паспорта и души фальшивых людей. В Москве у пего есть дама сердца, женщина, привыкшая жить широко. Дама очень перспективна: от нее могут потянуться нити к секретному подмосковному институту. Об одессите Катя много сообщить не может. Знает только, что даму свою он покорил необычайной галантностью, солидностью, а главное — широтой натуры: о нем говорили, что он не любит вести счет деньгам и утверждает, будто Госбанк только для того и выпускает их, чтобы они снова вернулись туда… На вопрос Коха, кто поможет ему установить контакт с одесситом, последовал ответ: “Пусть это вас не заботит, если надо будет, мы вам все это сообщим перед вылетом”. А пока он должен запомнить следующее: через несколько дней после приезда Альберта Коха в Москву ему позвонит в гостиницу человек и попросит к телефону Сергея Николаевича. Турист должен переспросить: “Кого?” Ему ответят: “Сергея Николаевича Пономарева… Из Ленинграда”. Турист может положить телефонную трубку на место и поспешить к Никитским воротам, в кино повторного фильма. Он должен купить на завтра на первый сеанс — десятый ряд, первое место. Рядом с ним будет сидеть человек с журналом “Природа” в руках. Это и будет тот самый джентльмен из Одессы. В Москве турист должен установить контакт с какой-то студенткой, с которой он однажды уже встречался. Точных координат ее Ландыш пока дать не может. Известно лишь, что студентка находится в какой-то связи с медициной. Но тут же Ландыш дважды оговаривается: все это сугубо предположительно. Она надеется, что ей все же удастся узнать поточнее и об уголовнике из Одессы, и о студентке, и о характере задания, с которым физик отправится в Москву. А главное, хотя бы ориентировочную дату выезда разведчика. Надеется… Это хорошо, что она надеется. Но прошло уже немало времени после этого достаточпо подробного сообщения, а от Кати ни слуху ни духу. В чем дело? Птицын сердито дует на чашку горячего кофе и приговаривает: “Кох ли это? Дефект указательного пальца подходит. Студентка — отлично. Все, кажется, совпадает. Но вот борода, усы да плюс медицина. Черт их побери, путают карты… Медицина? Мама — доктор? Может, это имелось в виду? А где одессит? Толстяк? Будем считать, что первую их встречу в кино мы проворонили. Но быть того не может, чтобы он вновь не появился на горизонте. Это, конечно, в том случае, если Кох есть Зильбер? А так ли это? Он, Птицын, сличал фотографии Коха и Зильбера, лишив туриста бороды и усов. Нет, не похожи. Кто же этот господин Зильбер? …В коридоре Бахарев встретился с Серго. — Генацвали! Дорогой мой! — Серго шел с распростертыми объятиями. — А, Серго. Забыл спросить тебя. Не обратил внимания на руку Марины? Кольцо было? Золотое, с маленьким бриллиантиком? Серго ответил, не задумываясь: — Не было. — Ты уверен? — Генацвали, если Серго говорит “не было”, считай, что это на камне высечено. А про кольцо у них разговор был… — И тут же он хлопнул себя по лбу. — Склероз, настоящий склероз. Забыл доложить подполковнику. Иностранец спрашивал у Марины, понравилось ли ей кольцо и почему она его не носит? И сказал, что отец будет очень огорчен, если не угодил подарком. — А она что? — Ничего не ответила, только усмехнулась. — Спасибо за информацию. Не забудь Птицыну доложить. Бахарев распрощался с Серго и пошел звонить Марине. Звонил он ей в тот день несколько раз. Трубку не поднимали. Наконец часов в пять ответила мама: “Марина плохо себя чувствует. Просит прощения, но подойти к телефону не может”. Вечером Бахарев приехал в комитет к Птицыну. — Что нового? — Никаких новых вестей. Мать уверяет, что дочь больна и к телефону не подходит. — Врет. С какой целью врет — не знаю. А то, что врет, — факт неоспоримый. Вот так. — У вас есть какая-то информация? — Садись, кофе пить будешь? Как угодно. Все равно садись. Есть важные вести. Три часа назад после долгого перерыва поступило сообщение Ландыша. Ей делали операцию. Наконец контакт с ней восстановлен. Ландыш сообщает, что за несколько дней до того, как заболела, записала разговор хозяйки с Альбертом Кохом. Мадам считает, что посылать Альберта, учитывая настороженность советской контрразведки, по меньшей мере рискованно. Даже если пустить в ход секреты лучших мастеров косметики, изменить фамилию. Тем более, как сказала хозяйка, и у них встретились серьезные затруднения г. оформлением туристских документов. Вернувшись из больницы, Ландыш узнала, что вместо Альберта Коха в Москву снарядили разведчика под фамилией Зильбер. Характер заданий, условия его работы в Москве те же, что и у Коха. В свое время он вместе с ним в одной туристской группе выезжал в Москву и должен попытаться продолжить кое-какие дела, начатые Кохом. Ландыш не оставляет попыток точнее узнать, кто должен выйти на связь с разведчиком. И вновь подтверждает: в разговоре несколько раз упоминалась какая-то студентка и джентльмен из Одессы. Передала словесный портрет, и у этого тоже дефект указательного пальца. Бывает же так! — Судя по тому, что Зильбер в Москве находится уже шестой день, первую его встречу с одесситом мы прозевали, — заключает Птицын. — А вторую не имеем права прозевать. — Но из всего сказанного не могу уловить, почему мать Марины говорит неправду? — Ты не торопись. Всему свой черед. Вот эту чашечку допью, и тогда… — Александр Порфирьевич, вы же всю ночь спать не будете. — Знаю. Давал слово: три чашки в день и не больше. Постепенно снижаю норму. Птицын пересел из кресла за столом на стул рядом с Бахаревым, положил руку на плечо Николая и ласково улыбнулся: — Давно говорил тебе, Коля, время от времени голову свою прячь в холодильник. Чтобы остыла. Па, читай… Это было сообщение о Зильбере. Примерно через час, после того как Бахарев разговаривал по телефону с Анной Михайловной, турист встретился с Мариной у Чистых прудов. Они заглянули в ближайшее кафе, и здесь Зильбер, передав Марине какую-то газету, сказал: “Как видите, я не забыл о своем обещании…” Что это за газета, попять трудно. Но, судя но разговору Зильбера и Марины, это была та самая газета, которую турист обещал принести ей еще тогда, мри норной встрече в ресторане “Метрополь”. И, видимо, газета на немецком языке: Марина тут же углубилась в чтение статьи, которая, если верить комментариям туриста, принадлежала господину Эрхарду, уже давно примкнувшему к той плеяде прогрессивных людей Запада, что поддерживают советскую политику мирного сосуществования. — Вы можете подарить мне эту газету? — Конечно. Ваш отец будет безмерно счастлив, когда узнает, что среди читателей его статьи и дочь… Потом они недолго прогуливались по бульвару. Турист проводил ее до станции метро “Кировская”. И уже перед самым прощанием у них возник какой-то спор. Марина пыталась что-то всунуть в карман туристу, а тот сопротивлялся и в чем-то убеждал ос. Не попрощавшись, Марина скрылась в вестибюле метро. Минут через десять и турист нырнул вслед за ней. Вышел он на станции “Охотный ряд”. Оглянулся кругом, посмотрел на часы. И отправился в мосторг. Перед входом еще раз посмотрел на часы. Постоял несколько минут, снова оглянулся, вошел в магазин. Был час пик. Его подхватила толпа людей, поднимавшихся на второй этаж. Зильбер протиснулся к шедшей впереди молодой женщине и что-то положил ей в карман. К сожалению, никаких ее примет зафиксировать не удалось, попытка следовать за неизвестной успехом не увенчалась. Так заканчивалось оперативное сообщение. — Шляпа! Не увенчалась! — кипятился Бахарев. — А тут, вероятно, и заключена разгадка… — Опять эмоции. Что ты будешь делать! С любым может случиться. Ну вот и с нами случилось… Бахарев смотрит на подполковника. — Как это понять, Александр Порфирьевич? Что значит “с нами”? — Вот так и надо понимать. Вдвоем мы сегодня действовали. Решил, что надо мне самому поближе к Зильберу присмотреться. И вот… Шляпы! — Александр Порфирьевич, простите за резкость. Это я от огорчения. — Зачем же. По справедливости сказано. Шляпы и есть. Но надо же реальную обстановку представлять. Ты был когда-нибудь в мосторге в час пик? То-то и оно. Адово столпотворение. Теперь — по домам. Завтра с утра снова звони Марине. — Александр Порфирьевич, может быть мне с Ольгой встретиться, попытаться у нее узнать, что там приключилось с Мариной: действительно ли она больна? — Ну что же. В этом есть свой резон. Утром Бахарев без особого труда узнал расписание занятий Ольги: в четырнадцать часов она выйдет из Института акушерства и гинекологии. …Стоял сумрачный осенний день. Утром прошел дождь, и воздух все еще был пропитан сыростью. Николай медленно прогуливался по аллеям парка, что почти вплотную примыкал к институту. На душе, как на улице, — то лазурь, то сумрак. Птицын в общем-то прав: “Ишь как тебя заносит”. Черт побери, неужели он окажется во власти эмоций, он, Колька Бахарев, уже побывавший в разных жизненных передрягах? Он снова вспомнил свой разговор с Птицыным о Марине, когда они возвращались домой. “Нет, хитришь! Тебе ведь не безразлична эта ершистая девушка. Но лейтенант Бахарев поступит так, как повелевает высший нравственный закон чекиста: если объективная истина, неопровержимые улики будут против Марины, он сумеет подавить любые личные чувства. И не кто другой, как он, обязан докопаться до этой объективной истины, не кто другой, как он, будет распутывать клубок улик…” Так, ожидая встречи с Ольгой, он “аранжировал” те самые “психологические нюансы”, на которые намекало начальство. Неожиданно в боковой безлюдной аллее показался Владик. Бахарев усмехнулся: “Ольгин поклонник заступил на вахту”. Впервые увидев Владика, он подумал: “Любовь зла, полюбишь и козла”. Что нашла эта красивая женщина в щупленьком, невзрачном пареньке? Теперь ему вспомнился рассказ Марины. Она говорила о цинизме подруги и в лицах представила, как однажды на девичнике после нескольких рюмок коньяка Ольга, закинув ногу за ногу, и попыхивая сигаретой, стала распевать какую-то фривольную песенку. — Чертовски примитивный парень! — говорила Ольга о своем поклоннике. Одна из девушек, хорошо знавшая Владика, спросила: — Зачем тебе понадобился этот замухрышка? — Ольга испытующе посмотрела на нее, на мгновение задумалась и резко отрубила: “Тайна секса…” Ольга вышла на улицу, окруженная ватагой юношей и девушек. Она сразу отделилась от студентов, помахала им рукой и свернула в сторону, где ждал Владик. И вдруг — Бахарев. — О, какая приятная встреча, Николас! — так она его называла с первого дня знакомства. Ольга без умолку что-то тараторила о том, как ей приятно было познакомиться с русским поэтом. Она настойчиво приглашала его зайти в общежитие. Не обошлось без шпильки: “Русские боятся встреч с иностранцами”. — В ближайший день нагряну к вам вместе с Мариной. — А вы давно видели Марину? — Мне кажется, что я не видел ее целую вечность. Звонил по телефону, и Анна Михайловна мне как-то неопределенно ответила. Говорит, что Марина все еще болеет, не ходит в институт, Ольга усмехнулась: — Дочь врача всегда, когда ей это потребуется, сможет представить в институт оправдательный документ. У вас его почему-то называют бюллетенем. Вчера я была у нее. Пили чай с клюквенным вареньем и слушали очень грустные пластинки. Настроение у нее скверное. И даже про ужин в ресторане, как пила, веселилась, танцевала, каким вы были милым кавалером, — про все это рассказывала с такой кислой физиономией, будто речь шла о визите к дантисту. Между прочим, она про вас часто вспоминала. И очень душевно. Видите, какая я благородная, — зову вас в гости и тут же рассказываю вам такое. Душа женщины — потемки. Это я не о Марине. О себе. Кстати, мне показалось, что она очень хочет видеть вас. Счастливый мужчина, которого рвут на части две молодые женщины! — Вам это только показалось, Ольга. — Нет, нет. По-моему, у нее будет какое-то дело. Какое? Право, не знаю. Мы очень откровенны друг с другом, у меня от Марины нет секретов, и у нее — от меня. Но женщины всегда будут женщинами. Марина ничего не ответила мне, когда я спросила, какое у нее срочное дело к Николасу… — Спасибо, Ольга, вы меня успокоили. Бахарев раскланялся, поцеловал ручку и пошел к остановке троллейбуса. В четыре часа дня, по расчетам Бахарева, Анна Михайловна уже возвращалась домой. И если Марина по каким-то причинам избегает даже телефонного разговора с ним, то уже по крайней мере с мамой можно объясниться. К телефону подошла мама. — Здравствуйте, Коля. Где вы пропали? Марина вспоминала вас. Спрашивала, не звонили ли вы. — А разве она отлучалась из дому? Мне казалось, что она не поднимается с постели. Замешательство мамы длилось не более секунды. — Да, вообще-то режим, как говорят врачи, постельный. Но у нее было какое-то неотложное дело. С вами, молодыми, совладать не так легко. У вас… Анна Михайловна не успела закончить фразы. Видимо, Марина вырвала у нее трубку и, не сказав даже “здравствуй”, спросила: — Хочешь меня видеть? — Конечно. Был бы очень рад, Марина. Я тебе звонил… — Ты можешь сейчас приехать? Жду. Дом, где жили Васильевы, стоял в глубине большого двора-сада с детской площадкой, беседкой-читальней, с большим самодельным, наскоро сбитым столом — приют домовых любителей “забить козла”. По фасаду пять подъездов, смотрящих во двор. Дорога от дома к троллейбусной остановке петляла, огибая корпуса-близнецы. Бахарев за сравнительно короткий срок хорошо изучил город, знал многие проходные дворы, парадные. У него был свой, профессиональный критерий в оценке домов. И с этой точки зрения дом Марины он оценил на пятерку. Шагая от троллейбусной остановки, Бахарев встретил Анну Михайловну. Она первой окликнула его: — Коля! — Здравствуйте, давно я вас не видел. — Вы нас совсем забыли… — Творю, Анна Михайловна. Днем и ночью. А как здоровье Марины? Сегодня, наконец, получил высочайшее разрешение навестить ее. Она уже выходит на улицу? Анна Михайловна покраснела. И, не отвечая на вопрос, попросила проводить ее до троллейбуса. Некоторое время шли молча. Первой заговорила Васильева. — Все как-то очень странно, Коля, складывается. Разрешите один, может и не очень деликатный, вопрос, Бахарев внутренне насторожился: — Хоть десять вопросов… — Вы ничем не обидели Марину в тот вечер, в ресторане? — Боже упаси! Анна Михайловна, что вы! — Это, конечно, мнительность матери. Но именно с тех пор она стала молчаливой, подверженной частой смене настроений, очень легко возбудимой. Я всегда была к ней снисходительна. Но есть предел и материнской снисходительности. Мы очень любим, уважаем, а главное — хорошо понимаем друг друга. И вот все это сейчас куда-то рухнуло. Она рычит на меня по каждому поводу, ничто не радует ее. А тут как-то днем, будучи больной, вскочила с постели и исчезла, не сказав даже, куда идет. Васильева говорила торопливо, и выражение ее лица непрерывно менялось — гнев, сострадание, мольба. — Не сердитесь… Крик материнской души. — Понимаю… Мать всегда остается матерью. Всегда тревожится за дочку. А когда дети становятся большими, то и хлопот больше. Азбучная житейская истина. — Хлопот… Куда уж больше… Набрала дежурств столько, что едва на ногах держусь. Марина хотела начать работать и пойти на вечерний факультет. А я и слушать не хочу. Сколько скандалов у пас было, пока отговорила. Но она девушка упрямая. Говорит, хочу одеваться модно, красиво. Пойду работать. — Но все же она вас послушалась. Значит, голова способна приказывать сердцу… — Вообще-то, пожалуй, вы правы. Но было однажды и такое. Приходит домой и достает из сумки две прекрасные кофточки. И говорит: “Это тебе, а это мне”. Я испугалась. “Откуда? — спрашиваю ее. — Где ты взяла деньги?” А она весело смеется: “Я, говорит, целый год тайком от тебя давала частные уроки. Вот и накопила…” Что ты с ней будешь делать! — Когда это она вам такой подарок сделала? — Давно, несколько лет назад. “Значит, утаила от матери, не рассказала ей о встрече с туристом, о подарке отца, ловко придумала байку о своей работе. Утаила — почему? Один вопрос снят, другой возник…” …Васильева пропустила уже три троллейбуса. Она то возносила Марину до небес, то низвергала в бездну. И между прочим, словно вскользь заметила, что не боится развенчивать Марину даже перед ним, Николаем, хотя знает, что он для ее дочери не просто знакомый. — Буду с вами откровенной, Коля. Я врач, а значит, в какой-то мере и психолог. Не могу не заметить, в каком нервозном состоянии пребывает дочь, ожидая встречи с вами. Потом задумалась, испуганно посмотрела на Бахарева: — Мать не должна была бы говорить вам это. Вы, мужчины, по-разному можете истолковать такую откровенность. Но я верю вам, Коля. Дай-то бог не ошибиться. А теперь прощайте. Спешу на дежурство. Напомните Маришке, в шкафу — ваши любимые пирожки с картошкой… И побежала к троллейбусной остановке. Бахарев никогда не изменял своим профессиональным привычкам: к дому он направился боковой дорожкой и, перед тем как зашагать вдоль фасада, на мгновение выглянул из-за торцевой стенки дома. Из третьего подъезда выпорхнула Марина. Она была в кедах и лыжной куртке, небрежно накинутой на плечи. Под мышкой держала какой-то сверток. Марина свернула в сторону Николая. Он уже подготовился к встрече. Но когда девушка оказалась у первого подъезда, оттуда вышел высокий, элегантно одетый мужчина лет под шестьдесят. Массивное тело он нес уверенно и прямо. Бахарев успел заметить, что у него, видимо, покалечена левая рука, в которой он держал чемоданчик на “молнии”. Марина поздоровалась и отдала ему пакет. Была их встреча заранее назначенной? Кто он и что за пакет передала ему Марина? Случай помог узнать имя, отчество и даже фамилию незнакомца. Спрятав пакет п чемоданчик, он неторопливо зашагал по двору, туда, где за большим столом буйствовали “козлятники”. Его окликнула какая-то женщина. — Аркадий Семенович! Товарищ Победоносенко, за вами задолженность. Аркадий Семенович повернулся и с усмешкой отозвался: — За мной? Простите, мадам, где — не вижу? — Перестаньте, пожалуйста, паясничать. Во-первых, у вашей остроты длиннющая борода, а во-вторых, здесь не Одесса. Из-за таких, как вы, наш ЖЭК на черную доску попадет. За три месяца задолженность по квартплате… — Боже мой, какая неприятность. Шутка ли сказать — черная доска. Какой позор, мадам! Слово джентльмена — завтра погашаю задолженность и плачу за месяц вперед. И, послав воздушный поцелуй, он пошел приветствовать игроков в домино. Вот таким, посылающим воздушный поцелуй, и запечатлел его Бахарев своей фотокамерой. Мысль сработала мгновенно, он тут же вспомнил сообщение Ландыша о человеке из Одесссы… Бахарев застал Марину за письменным столом: видимо, наверстывала пропущенное в институте. — У тебя еще и сейчас нездоровый вид. — Не жалуюсь. Я… Она умолкла, опустила голову и стала исподлобья разглядывать Бахарева. А он сидел тихо, не сводя с нее глаз. “Неужели она и есть “Доб-1”? Сейчас поведет разговор о Зильбере. Нет, вероятно, будет действовать хитрее. Предоставим ей инициативу”. Поначалу разговор явно не клеился. Бахарев мысленно укорял себя за какие-то неловкие вопросы, на которые следовали односложные ответы “да”, “нет”, “возможно”. Или же слегка насмешливый взгляд, в котором не трудно было прочесть: “А умнее ты ничего не мог спросить?” Чтобы вывести Марину из этого странного, явно неестественного для нее состояния, Николай решил предпринять последнюю попытку. — Хозяйка ты никудышная, Марина, — весело и совсем неожиданно для собеседницы заявил Николай. — Еще несколько таких томительных минут, и к твоим стопам падет труп. Человек умрет от голодной смерти… Я не обедал, а ты скрываешь, что в кухонном шкафу любимые мои пирожки с картошкой… И он рассказал о встрече с Анной Михайловной. Впервые за вечер она улыбнулась. И ласково погладила Николая по плечу. — Ты любимчик мамы. Не знаю только, за что. — О, если бы мы знали, за что нас женщины любят. За мудрость или за глупость, богатство или красоту. Философу Зенону однажды кто-то сказал, что любовь — чувство, недостойное мудреца. Он ответил: “Если это так, то сожалею о бедных красавицах, ибо они будут обречены наслаждаться любовью исключительно одних глупцов”. Марина расхохоталась, схватила Николая за руку и потащила на кухню. — Пойдем, мой дорогой философ, есть пирожки. Там и выясним, кто кого и за что любит. За кухонным столом разговор пошел более оживленный. Бахарев “выдал” несколько анекдотов. Марина ответила эпиграммой, передаваемой студентами из уст в уста. Вслед за эпиграммой была рассказана сплетня об именитом писателе, сплетня, попавшая в среду студентов “из самых достоверных источников”. Бахарев мысленно отметил: “Месяц назад передавала Би-Би-Си”. Потом стала расспрашивать о поэте, которого Бахарев как-то назвал “лучшим своим другом”. — Марина, — перебил ее Бахарев, — ты, вероятно, решила, что я по меньшей мере секретарь правления Союза писателей. А я всего-навсего скромный литератор, среди знакомых которого есть, правда, и звезды первой величины. Но если ты столь любознательна, то могу тебя познакомить с одним осведомленным товарищем: все обо всех… — Это поэт, драматург, прозаик? — К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос. По моим сведениям, он не обременен ни талантом, ни литературными трудами. Но в Доме литераторов — непременный гость. Мирная беседагрозила вылиться в перепалку. Уже были скрещены шпаги на романах Кафки и двух модных зарубежных фильмах, уже было замечено, правда с улыбкой, что у собеседницы интерес к литературным сплетням преобладает над интересами к самой литературе. Нет, это никак не входило в планы Бахарева, и он мысленно даже ущипнул себя: “Опомнись, что ты делаешь?” Если исходить из предположения, что Марина по поручению Зильбера перед большой встречей прощупывает его литературные симпатии и антипатии, то он повел себя по меньшей мере глупо. Видимо, не для модных литературных диспутов о судьбе современного романа разведчик Зильбер жаждет встречи с русским литератором. Да, но это, если исходить из предположения… А где доказательства? Какие есть основания предполагать? Марина за вечер уже не раз могла подготовить почву для встречи Зильбера с Бахаревым, а она будто и забыла о просьбе иностранца. — Мне кажется, что тебя вечно одолевает желание баламутить те миллиарды нервных клеток, что заложены в человеческом мозгу. Ты не перестаешь о чем-то размышлять. Это, вероятно, очень утомительно? Бахарев даже вздрогнул. Ему казалось, что он уже в совершенстве владеет столь необходимым искусством слушать собеседника, вести с ним разговор на любую тему, в то время как мысль лихорадочно работает совсем в другом направлении. И вдруг такой вопрос. — Так о чем же думает сейчас поэт? — Мне стыдно признаться, что в минуты наших словесных баталий на весьма возвышенные темы я думал о делах прозаических и даже низменных. — Эти дела имеют отношение и ко мне? — Непосредственно. Я думал о том, что хорошо бы нам с тобой выпить. — Ты с ума сошел, Коля! — Вовсе нет. Я предлагаю отметить твое выздоровление и завтра или послезавтра снова пойти в “Метрополь”. Кстати, я в долгу перед тем самым своим приятелем, всезнайкой. А он большой любитель выпить за чужой счет. Чудесно проведем вечер. Выпьем, потанцуем. Согласна? Марина опустила голову, стала нервно теребить салфетку, потом пристально посмотрела на Бахарева. И тут же закрыла лицо ладонями. — Что с тобой? Тебе нехорошо? Может, я предложил что-нибудь обидное? — Нет, нет. Не обращай внимания. — Так ты согласна? — Ну что же, пожалуй, я… И вдруг она вскочила со стула и с криком “нет, нет, не хочу” побежала к себе в комнату, упала на постель и зарыдала. Среди многих передряг, в которые приходилось попадать Бахареву, такой еще не бывало. Поначалу он собрался вызвать неотложку. Но пока беспомощно метался в поисках домашней аптечки, охал и ахал, безуспешно взывая почему-то к благоразумию — “ну будь же умницей, Мариночка”, — слабонервное существо пришло в себя. Разглаживая заплаканное лицо, до боли сдавливая виски, Марина встала с постели, извинилась — “прости, пожалуйста, нервы…” — и тут же плюхнулась в любимое кресло около торшера. Он сел рядом и вопрошающе, участливо смотрел ей в глаза. В мучительном молчании прошло минут пять. Наконец Марина вскинула голову и, не глядя на Бахарева, достала с полки книгу: …Я не безумна, Но разума хотела бы лишиться, Чтоб ни себя, ни горя своего Не сознавать! — Что с тобой, Марина, успокойся… — И Бахарев попытался перевести разговор на шутливый лад. — Великий сердцевед из Стратфорда противопоказан вам, сударыня. У вас легко ранимое сердечко. Ты успокойся и объясни толком: в чем дело, что случилось? — Нет, не надо успокаивать и не нужно допытываться. Сейчас у меня удивительно ясная голова… Тебе надо уйти, Коля. Так будет лучше… По крайней мере сегодня. Завтра придешь снова, хорошо? Был поздний вечер. Подняв воротник пальто, Бахарев неторопливо шагал по притихшей, безлюдной улице. Когда-то Птицын наставлял ученика: “Запомни, Николай, мы всегда в бою, всегда в поиске, даже тогда, когда нужно доказать невиновность человека. Это не менее важно, чем найти виновного”. А Марина? Виновата или не виновата? Может, сейчас перед ним один из самых трудных вариантов, когда нужно доказать, что на человека ошибочно брошена тень. Вроде бы именно к ней тянется нить от “Доб-1”? Но в глубине души живет сомнение: нити то обрываются, то вновь возникают. …В Комитете, несмотря на поздний час, его ждал Птицын. Так они условились. Бахарев сидит притихший — Александр Порфирьевич сегодня не очень доволен споим учеником. Обычно Птицын журил подчиненного не за то, что у того что-то не получалось. Журил, если знал: мог сделать и не сделал. — Как же ты так опростоволосился! Марина встречается с явно подозрительным иностранцем, что-то получает от него, а затем передает пакет какому-то франтоватому одесситу. А ты упускаешь его из виду, хотя знаешь о сообщении Ландыша: человек из Одессы… И вдруг неожиданный вопрос: — Послушай, а почему ты решил, что он одессит? Бахарев опешил от такого вопроса. Менее всего он был подготовлен к нему: в самом деле — почему? Только потому, что блюстительница финансовой дисциплины крикнула: “Это вам не Одесса!” Слабенький аргумент. Он посмотрел на Птицына — его лицо как глухая дверь. Человеку постороннему трудно понять: гневается он сейчас или нет, спокоен или волнуется. Но Николай хорошо знает: когда у Птицына замкнутое лицо — значит, особо лихорадочно работает мысль, а глухая дверь — чтобы никто не мешал. Бахарев тоже счел за благо не отвечать: шеф часто задавал вопросы, на которые и не ждал от собеседника ответа. Он, видимо, сам отвечал на них. — А вообще-то вариант возможный… — продолжал Птицын. — Удивительно знакомая фамилия По-бе-до-но-сенко! Мы где-то с ним встречались. А если это он, то, значит, одессит. И Птицын вполголоса стал мурлыкать про то, как с одесского кичмана бежали два уркана. Потом взглянул на часы. — Поздновато. В архиве уже нет и. дежурного. А в фотолаборатории? Там, пожалуй, кое-кто допоздна задерживается. Я предпочел бы словесному портрету фотографический. Через полчаса Бахарев вернулся из лаборатории со снимками. На Птицына смотрел человек, в котором он, с трудом напрягая память, узнал того самого… — Кажется, он и есть. Так ты говоришь, передала ему сверток? Туфли, завернутые в газету? Бахарев удивленно посмотрел на Птицына: — О каких туфлях вы говорите? Я понятия не имею, что было в том пакете. Может быть, и туфли… — Если это именно тот, о ком я думаю, то, вероятнее всего, в пакете были туфли… Стоявшие в углу старинные часы глухо пробили три раза. — До утра осталось недолго. Часов через шесть все прояснится. А сейчас по домам. Спать, спать. Советую отменно выспаться. Дело требует свежей головы. Легко советовать. И для Птицына и для Бахарева остаток ночи прошел в тревожных раздумьях. Бахарев вовсе не уснул, а Птицын долго вертелся с боку на бок и задремал лишь к рассвету. Оба, не сговариваясь, пришли в Комитет спозаранку. Им не терпелось скорее узнать, куда потянет та тоненькая ниточка, что нащупана Александром Порфирьевичем. С утра Птицын сообщил архиву кое-какие данные, а потом принялся за разбор почты. Бахарев сидел молча и ждал, когда Александр Порфирьевич, как обычно, протянет ему сводку о событиях минувшего дня и ночи. Так уж заведено: прислушиваться к эху любых событий, хотя на первый взгляд они не имеют никакого отношения к делу, которое ведут наши контрразведчики сейчас; связывать воедино что-то случившееся вчера, ночью, что-то заинтересовавшее Комитет госбезопасности с тем трудным поиском, который ведет определенная группа. Пусть все догадки окажутся мыльным пузырем, пусть кто-то из скептиков и улыбнется — “Эка, хватил!” — все равно надо проверить, проанализировать, нет ли тут затаенной связи, пока еще ничем не давшей знать о себе. Птицын никогда не изменял этим правилам. И от Бахарева того же требовал. В очередной сводке сообщалось о событиях разных, ничем друг с другом не связанных. …В научно-исследовательском институте неизвестным был оставлен у входа в лабораторию чемоданчик со взрывчатым веществом. …На машиностроительном доводе ночью неизвестные лица сорвали замок со склада ДОСААФ, где хранилось учебное оружие. Похищены два учебных пистолета. …В студгородке в двадцати почтовых ящиках были разложены газеты “Футбол”. На первой странице газеты — все то, к чему привык читатель “Футбола”, а на остальных — контрреволюционные призывы, гнусные измышления. На целую полосу — воззвание, подписанное “Союзом молодых интеллектуалов”. Опрошенный вахтер заявил, что никто из посторонних в корпус не проходил, если не считать гостя к студенту Владимиру Яковлеву. Он заявил, что идет к племяннику: низкорослый, полный дядя, в серой шляпе, модном осеннем пальто цвета маренго, клетчатом кашне. Вахтер обратил внимание на походку: гость шел, как боцман, переваливаясь с боку на бок. Владимир Яковлев показал, что никакого дяди у него в Москве нет и никто в гости к нему не приходил. Трое студентов, оставшихся по болезни дома, подтвердили, что действительно встретили этого гражданина на лестнице. Одна из студенток добавила: “По-моему, он косоглазый… И нос мясистый”. Птицын откладывает в сторону информационное сообщение. Минуту–другую барабанит пальцами по столу. Потом поднимается с места, идет к сейфу, достает листок бумаги и протягивает его Бахареву. — Вчера вечером получил. Но успел тебе показать. Сообщение нашего оперативного работника Снегирева. Читай. Бахарев изумлен: неужели тот самый? Низкорослый, полный, ходит покачиваясь… Снегирев сообщал, что Бородач вчера утром долго плутал на такси, пока не выехал на шоссе, ведущее в Архангельское. В Архангельском он гулял по парку, а потом свернул на тихую, немноголюдную аллею и присел на скамейку под ивой. Как и предполагал Птицын, Зильбер, видимо, решил приладить именно к этой скамейке металлический намагниченный контейнер. Снегирев проверил: металлическая коробочка величиной со спичечную была пуста. Снегирев направился за Зильбером. На полпути к выходу Бородач резко повернул назад к скамейке. Неизвестно, чем руководствовался разведчик, но он забрал контейнер. К полудню Зильбер вернулся в гостиницу, поднялся в номер и через полчаса вышел на улицу с серым клетчатым чемоданчиком в руках. Непринужденно оглянулся кругом, посмотрел на часы и направился к метро. Из вагона он вышел на станции “Комсомольская” и уверенно, будто по давно знакомому маршруту, зашагал к электропоезду на Загорск. Он сел в пятый вагон от хвоста. Пассажиров было немного — выбирай любое место. Зильбер устроился поближе к выходу. Положил чемоданчик на полку и углубился в чтение журнала “Техника — молодежи”. Минуты за две до отхода поезда в вагоне появился низкорослый, переваливающийся с боку на бок человек в серой шляпе, сером осеннем пальто и уселся напротив Зильбера. И тут Снегирев заметил, что на полке для багажа рядом с чемоданчиком Бородача оказался почти такой же чемоданчик толстяка, который тоже углубился в чтение журнала. Не имея еще никаких оснований связывать одной цепочкой Зильбера и толстяка, подчиняясь лишь какому-то неведомому шестому чувству, Снегирев уловил то мгновение, когда из-за журнала выглянуло мясистое лицо с косым взглядом, и щелкнул фотокамерой. На станции Мытищи толстяк вышел из поезда, и, когда он уже шагал по перрону, Снегирев увидел, что в руках у него чемоданчик Зильбера — тоже в серую клетку, но вперемежку с зеленой и с “молнией” вдоль всей крышки. Что было делать? Хозяин какого чемодана представляет наибольший интерес? Снегирев решил следовать за Зильбером — он ехал в Загорск, в излюбленную туристами Лавру… Птицын собрался было идти к генералу докладывать о сообщении Снегирева, которое, по его мнению, проливало свет и на события в студгородке, как раздался телефонный звонок. Это из архива — нашли дело одесских контрабандистов довоенных времен. Бахарев внимательно наблюдал за Птицыным, перелистывающим пожелтевшие листы. Наблюдал, с трудом скрывая улыбку. Он подумал: кто сказал, что лицо — это зеркало души? Вот лицо человека, в душе которого сейчас, вероятно, клокочет такое, что ахнешь. А лицо? Непроницаемо-бесстрастное. Такова с годами выработавшаяся профессиональная манера. И только подмеченное Бахаревым легкое дрожание пальцев говорило об огромном усилии воли, которое требуется сейчас шефу, чтобы скрыть волнение. Ведь, кроме всего прочего, это его, Птицына, молодость — одно из первых дел, которое поручили ему в органах государственной безопасности. Уже просмотрено много страниц — протоколы допросов обвиняемых, показания свидетелей, заключения экспертов. И, наконец… — Он самый! Теперь уже сомнений быть не могло — достаточно сличить хранящуюся в деле фотографию одесского льва, молодого Аркашки с Дерибасовской, с фотографией старого франтоватого Аркадия Семеновича По делу одесских контрабандистов Победоносенко проходил поначалу как свидетель, а уж потом оказался соучастником. Первоклассный одесский сапожник, он весьма искусно “работал”, как он сам выразился на допросе, всякие “шуры-муры” в элегантных дамских и мужских туфлях контрабандистов. “Шуры-муры” — это тайники в каблучках, под стельками для царских золотых монет и зелененьких долларов… Птицын перечитывает протокол допроса. — Занятный человек… Любил пофилософствовать… Нет, ты послушай, Бахарев, и оцепи: сидит перед следователем, а разглагольствует, как с кафедры… Спрашиваю его: “А какие у вас были побуждения, когда вы пошли на первое свидание с Мишкой-аристократом? Только не виляйте, говорите всю правду”. Отвечает: “Лучший способ скрыть свои побуждения — это говорить правду”. Спрашиваю: “Что руководило вами, когда вы в самый канун провала банды выгнали Мишку-аристократа и, не страшась соседей, истошно вопили на весь коридор: “Чтобы ноги твоей не было в моем доме!” Отвечает: “Есть черта, где человек должен остановиться. Нельзя всем жертвовать ради бизнеса”. Спрашиваю: “Вас очень активно использовали люди Мишки-аристократа. Но чем вы объясните несколько странное отношение к вам: вас считали своим человеком, но никогда не приглашали на семейные торжества, где обычно собиралась вся банда, не пригласили к столу даже в тот вечер, когда вы, заглянув в ресторан “Лондон”, застали там ваших друзей?” Отвечает: “Вы когда-нибудь читали Амфитеатрова? Нет? Жаль… Старик понимал толк в человеческой психологии. Он дал ответ на ваш вопрос: “Грязь на высокой скале и грязь на болотистой дороге — всё грязь. Но если бы грязь чувствовала и умела выражать свои чувства, то грязь на скале, наверное, почитала бы себя грязью возвышенной и презирала бы ниже лежащие грязи”. Я был нижележащая грязь”. Птицын покачал головой. — Что скажешь, Бахарев, каков Спиноза? Черт те что! Вероятно, я потому и запомнил его. Да и фамилия такая — По-бе-до-носенко. А в общем-то вопрос проясняется. Похоже, что одесский сапожник взялся за старое дело, только теперь у него хозяева, видимо, классом повыше. Марина же выполняла… Размышление вслух прервал стук в дверь. — Войдите… Входи, входи, Алексей Петрович. С чем пожаловал? — Дополнение к тому делу имеется. И сотрудник архива положил на стол пухлую папку: — Битый час искал. Это как чеховская лошадиная фамилия — не успокоишься, пока не вспомнишь. А помню — дело одесских контрабандистов имело продолжение, уже послевоенных лет. Прошу вас, Александр Порфирьевич. Птицын открывает папку, читает длинное, страниц на десять, каллиграфическим почерком написанное заявление. Заявление, видимо, сочинялось еще дома, и в приемную КГБ автор явился, все обдумав, взвесив. “Я, Аркадий Семенович Победоносенко, уроженец города Одессы, судимый по делу контрабандистов, ныне мастер сапожной мастерской, сообщаю нижеследующее: вчера вечером в пивном баре на Пушкинской площади имел откровенный разговор с самым отчаянным фраером Молдаванки, которого у нас в Одессе звали Косым и который просил сейчас называть его Ефимом Михайловичем. Судя по тому, как он с ходу атаковал меня, едва я заказал пару пива, я был уже давно у него на прицеле. Я сразу узнал в нем одного из шайки одесских контрабандистов, для которых когда-то работал всякие тайники в ботинках. Как и до войны, он был элегантно одет, те же усики, тот же мясистый нос, те же маленькие бегающие глазки, та же боцманская походка человека, у которого почти нет шеи. У пего наследственная одесская астма. Только волосы на макушке поредели и были, как говорят у нас в Одессе, зачесаны с разумной экономией… За несколько месяцев до того, как провалилась вся банда, упомянутый выше Косой был отправлен Мишкой-аристократом в центр готовить базу для “дочернего предприятия”, что, полагаю, и спасло его от карающего меча ВЧК–ОГПУ. Я спросил подсевшего к столу Косого: “А что тебе собственно надо от Победоносенко?” Он обнял меня и сказал: “Милый мальчик, я еще сам точно не знаю. Поговорим просто так. За Одессу, да благословит ее господь бог. Одесса — это, как сказал пат Панель, много моря, солнца и красивых женщин. Так. выпьем за упокой души твоей супружницы-красавицы, да будет земля ей пухом…” И он тут же вытащил из заднего кармана плоскую флягу с водкой, разлил ее в два стакана и чокнулся: “Бывай здоров, мальчик”. Это означало, что Косому уже все известно о послевоенном Аркашке. А откуда известно? Имею предположение, что это наши общие одесские дружки шепнули Косому про то, как после войны появился на Дерибасовской Аркашка Победоносенко с орденом Красной Звезды на груди, в выцветшей солдатской гимнастерке без погон и в сапогах, пошитых из трофейного шевро”. Далее следовало большое отступление — вопль души, из которого явствовало, что жизнь Аркадия Победоносенко развивалась по синусоиде — со взлетами и падениями. В сорок втором на пятом его рапорте начальнику лагеря с просьбой послать в штрафной батальон, на самый трудный участок фронта, появилась резолюция: “Удовлетворить. Отправить на Сталинградский фронт”. Стоял ноябрь 1942 года, когда на берегах Волги день и ночь гремели бои за каждую пядь земли, за каждое здание, лестничную клетку, когда огнем и кровью проверялись характеры, цементировались сплавы человеческого мужества и воли, любви к отчему дому и ненависти к его врагам. О том, как дрался солдат-штрафник Аркадий Победоносенко, автор заявления в КГБ счел нужным обронить лишь три слова: “Смотри прилагаемые характеристики”. А там — они тоже в деле — сплошь превосходные степени. После Сталинграда он перестал быть штрафником. Его перевели в саперы. Пятнадцать раз ходил в разведку, и на его счету было много разминированных полей, захваченных “языков”. За участие в штурме Берлина его наградили орденом Красной Звезды. Когда кончилась война, Победоносенко решил вернуться в родную Одессу. В заявлении подробно рассказывается, как нелегко было принять это, казалось бы, простое и естественное решение. Нет, это было не так просто — после Колымы вернуться в город, где все тебя знают, как “Аркашку с Дерибасовской”, жившего по принципу “деньги не пахнут”, водившего знакомство со всякой мразью. Он нашел в себе силу воли порвать с прошлым, хотя оно долго преследовало демобилизованного сержанта. Первоклассного сапожника назначили заведующим большой мастерской, где трудилось много молодых ребят, и Победоносенко терпеливо учил их “работать элегантный ботинок, точь-в-точь, как в Париже”. Но когда наступал воскресный день и Аркадий, посасывая трубку, гулял по бульвару, ему было тяжко. Он заглядывал в глаза прохожих, и ему казалось, что они странно посматривают на него. Так прошло года два. Тени прошлого постепенно перестали тревожить директора обувного ателье, и вдруг на бульваре Аркадий Победоносенко лицом к лицу столкнулся с высоченным дядей в брюках синего шевиота и кремовом, прекрасно пошитом пиджаке, уверенно размахивавшим тростью с костяным набалдашником. Победоносенко попытался сделать вид, что не узнает, но Рваное Ухо был не из тех, кто упустит нужного ему человека. В шайке Мишки-аристократа Рваное Ухо работал “на подхвате” и слыл деятелем цепким. Деваться было некуда. Поздоровались, поговорили о погоде, девушках на лимане, ценах на базаре, вспомнили друзей — иных уж нет, а те далече… Рваное Ухо пригласил поужинать. Победоносенко отказался. “Живот болит… Второй день манной кашкой пробавляюсь”, — на ходу придумал он. Рваное Ухо долго обхаживал Победоносенко: “Послушай, Аркаша, как ты считаешь: встретились на бульваре два кореша, которые в общем-то, отбросим частности, это не для деловых людей, неплохо относятся друг к другу. Ты имеешь что возразить? Нет? Отлично. Если эти два джентльмена, подчеркиваю, в общем-то неплохо относятся друг к другу и в общем-то могут быть взаимно, подчеркиваю, взаимно полезными, — почему бы им не пойти на союз, не держаться как братья-близнецы? Я что-нибудь неправильно сказал, Аркаша? Поправь меня… А теперь слушай: требуются золотые руки сапожника. Золотые руки за золотые десятки. Ты меня правильно понял, Аркадий? И забудь думать за комбинат бытового обслуживания”. Было сказано еще несколько ни к чему не обязывающих обе стороны фраз, и Победоносенко, извинившись — “У меня тут встреча с девушкой”, — попрощался, попросив три дня на размышление. Насчет свидания он не соврал. Дней двадцать назад Аркадий познакомился с московской работницей, лечившейся в одесском санатории. Легкое увлечение (сколько их было у Аркадия с Дерибасовской!), кажется, переросло в нечто более серьезное. Тяжело больная Таня, хлебнувшая в жизни много горя, была одинока. Он честно поведал Тане о своей жизни, и она поверила ему, когда он сказал, что с прошлым все покончено и нет такой силы, которая заставила бы его повернуть вспять. Она ему поверила, хотя и не скрыла, что ей трудно забыть его прошлое. В таких случаях он мрачнел и рассказывал легенду о грешнице, которую толпа хотела закидать камнями, и о Христе, который, обращаясь к толпе, говорил: “Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень…” Таню покорила искренность Аркадия, сила его характера. И вот — Рваное Ухо с его предложением. В тот вечер Таня вернулась в санаторий очень поздно; сперва он ее провожал, потом она его. Все было взвешено, все точки над “и” поставлены. На следующий день был взят расчет в сапожном ателье и билет до Москвы… Через два года после свадьбы Таня умерла — тяжелейшая болезнь почек сделала свое дело. И, как пишет в своем заявлении А. Победоносенко, “свет стал мне не мил”. Незадолго до смерти Таня, понимавшая, что дни ее сочтены, впервые за два года вновь повела с мужем разговор о его прошлом и сказала: “Клянись, Аркадий, что и после смерти моей… ни шагу назад…” И Аркадий поклялся. Встреча с Косым в пивном баре произошла ровно через год после смерти Тани — утром он был у нее на могиле… Нетрудно представить, что было на душе Победоносенко в те минуты, когда Косой добирался до самой сути “золотого дела”, о котором он говорил пока весьма туманно. Он дал понять, что о давней встрече Победоносенко с Рваным Ухом ему известно, так же как и о неожиданном исчезновении из Одессы Аркашки с Дерибасовской. — Однако человек не песчинка. Разве он потеряется на нашей грешной земле? — улыбался Косой. — Мир тесен, Аркаша… Вот и пьем мы с тобой пиво за одним столом. Только этот напиток не для меня. Пойдем, друг, в “Арагви”, грузинского коньячку пососем. Там и разговор закончим. Ты только не говори мне, мальчик, что у тебя животик вава, что ты на манной кашке сидишь. — И он, дружески обняв Аркадия за плечи, еще раз дал понять, что ему все известно, но он никаких претензий не имеет. Разговор был продолжен в “Арагви” в отдельном кабинете, — тут Косой чувствовал себя как дома. — Деловым людям, среди которых не только одесские шмаровозы, но и птицы куда более важные, нужна твоя, Аркаша, помощь. Платить будут зелененькими. В Одессу перебираться не нужно. Заказ будешь получать в Москве. Тут и наш главный шеф… И, видимо крепко выпив, с гордостью добавил: — Это тебе не Мишка-аристократ… Так чтобы ты знал: иностранец. Ясно? И сразу осекся, поняв, что болтнул лишнее. Косой подозрительно посмотрел на Аркашку, нахмурился и зло буркнул: — Все, что сказал, — как в могилу. Ты ничего не слышал, мальчик, ничего не знаешь. Иначе… И он резким движением полоснул ребром ладони по горлу. — Так как? Снова три дня на размышление? Не пойдет. Победоносенко лишь на какую-то долю секунды задумался, потом палил в два больших фужера коньяк, встал из-за стола и несколько торжественно провозгласил: — Выпьем за успех… — Так, значит, согласен? — обрадованно спросил Косой. — Согласен. Они условились о следующей встрече и разошлись в разные стороны. Вернувшись домой, Аркадий Победоносенко долго стоял перед висевшей на стене большой фотографией Тани. Потом сел за стол, достал из секретера несколько листов меловой бумаги и каллиграфическим почерком вывел: “В Комитет государственной безопасности…” Он не спал всю ночь. Вышел из дому на рассвете и долго-долго петлял по Москве, пока в девять утра, окончательно убедившись в том, что за ним нет слежки, не нырнул в приемную КГБ. …Птицын листает дело, по которому проходят Рваное Ухо, Косой, еще несколько одесских “деятелен” и человек с иностранным паспортом. О нем разговор на следствии шел уже заочно: почуяв недоброе, джентльмен вовремя ретировался. Птицы и листает дело и размышляет вслух: — И тут и в деле студгородка фигурирует Косой, косоглазый, толстый, мясистый нос, ходит, переваливаясь с боку на бок… Косой и человек с иностранным паспортом… Косой и Зильбер. И газета “Футбол” в студгородке. Что это, случайное совпадение? Или одна цепь? А у Бахарева свой ход мыслей. Он понимает: в принятой шефом схеме — Марина передает Победоносенко туфли, чтобы сделать в них тайники, — появилась трещина. Но не более. Ведь не сбросишь со счетов и такую версию: плюнул Аркадий Семенович на все свои клятвы покойной супруге и вернулся к старому. Вместе с Косым. Генерал Василий Михайлович Клементьев был в курсе новых обстоятельств, архивных материалов, неожиданного переплетения человеческих судеб: нити от двух на первый взгляд совершенно разноплановых дел — “Доб-1” и “Студгородок” — где-то вдруг сошлись в одном узле. Полковник Крылов уже докладывал Клементьеву об изысканиях Птицына, о Косом, об Аркашке с Дерибасовской, Бородаче — Зильбере, о Марине и прочих лицах, оказавшихся в сфере внимания тех, кто занят делом “Доб-1”. И вдруг устанавливается — пусть в порядке гипотезы — их причастность и к студгородку. Генерал попросил Крылова зайти к нему вместе с Птицыным, а пока принести все материалы, все, что имеет отношение к “Доб-1”. И подчеркнул: — Буквально все. Сообщения оперативных работников, Ландыша, фотографии. И дело контрабандистов тоже… Высоченный, всё такой же худющий, как и в пору войны, генерал слыл человеком гибкого ума. Он никогда не спешил с решениями, не поддавался настойчивому голосу чувств, умел разбираться в сложном их переплетении, находить то доброе, что нужно поддержать, хотя не для всех еще было очевидно это доброе. Филолог по образованию, он незадолго до начала второй мировой войны пришел в органы государственной безопасности с партийной работы. За плечами его уже был некоторый опыт, но он считал для себя обязательным продолжать освоение всех тонкостей этой сложнейшей сферы деятельности. А осваивать приходилось многое и разное, и порой, когда бывшему филологу казалось, что его подстерегает опасность стать дилетантом, он вспоминал слова университетского профессора: “Дело не в том, чтобы знать многое, а в том, чтобы знать самое нужное”. Сейчас для него, по его собственному разумению, “самое нужное” — это уловить, проанализировать то новое, что появилось за последнее время в методах вражеской разведки, то новое, что дает ныне знать о себе. Генералу интересна точка зрения коллег, помощников. Возникают ли у них вопросы широкого и дальнего, как он выражается, плана? Что скажут Крылов, Птицын, люди опытные, много видевшие в жизни и много знающие, но порой подвластные, как все смертные, опаснейшему роду недуга — безжалостной текучке… Генерал внимательно слушает Птицына. Александр Порфирьевич, как всегда, говорит неторопливо, время от времени голосом выделяет то, что ему кажется важным. А иногда он делает паузу и словно резюмирует: “Полагаю, что следовало бы принять такую схему…” Обратив внимание генерала на сообщение Снегирева, историю двух чемоданчиков в электропоезде, Птицын после очередной паузы продолжает: — Полагаю, что следовало бы принять за вероятное следующее: Толстяк — один из зильберовских агентов — забрал в поезде чемоданчик с так называемыми газетами “Футбол”. Выбор объекта — студгородок, — возможно, идет от студентки Марины: ей лучше знать, когда, где, каким образом сподручнее всего подбросить идеологическую бомбу. Тем более что в этом городке живут и ее товарищи по институту. В этой связи важно установить возможность еще одной схемы: Марина — Аркадий Семенович — Косой. Да, несколько лет назад сообщник одесских контрабандистов приходил с повинной в КГБ. Допускаю, что сделано это было под настроением: годовщина со дня смерти жены, которой он поклялся, что к прошлому возврата нет. А оно зовет. И Победоносенко пошел старой дорогой. Встретив Косого — ему тогда за чистосердечное раскаяние только шесть лет дали, — сразу нашел с ним общий язык. Обращаю ваше внимание, Василий Михайлович, что по времени все это сходится. Поразительнейшим образом. Неужели случайность? — Случайность? — переспросил генерал. — Конечно, бывают и случайности, Александр Порфирьевич. Несомненно бывают. Но случай благосклонен лишь к достойным. В распоряжении каждого из пас в течение дня появляется не менее десяти возможностей изменить к лучшему свою жизнь. А успех приходит лишь к тому, кто эти возможности умеет использовать. Согласны? Ну-ну. Продолжайте, Александр Порфирьевич. — Я хотел бы поставить несколько вопросов в развитие разговора о случайностях. Неужели случайно Зильбер встречался с толстяком и ловко передал ему чемоданчик? Неужели случайно в тот же день человек, удивительно похожий на толстяка из электропоезда, с тем же чемоданчиком в руках проникает в студенческое общежитие? Генерал снова перебивает Птицына: — Стоп! Неужели случайно сегодня утром в подмосковном городке в почтовых ящиках одиннадцати квартир лежали те же самые “газеты” “Футбол”? Мне сообщили об этом час назад… В комнате наступила тишина. Для Крылова и Птицына сообщение генерала — полная неожиданность. И оба они смотрят на генерала с нескрываемым изумлением. Александр Порфирьевич пытается логически связать подмосковный городок и студенческое общежитие, установить связь с Зильбером. Мысль работает в быстром темпе. Архангельское? Нет, не то… Совсем в другой стороне. Он стал вспоминать все сообщения оперативных работников, не упускавших из своего поля зрения Зильбера. Ничего связующего. Марина? Пока нет оснований даже для отдаленных ассоциаций. — У вас есть по поводу Подмосковья какие-нибудь догадки, вопросы, Александр Порфирьевич? — генерал первым нарушает молчание. — Догадок пока нет, а вопросы есть. Один и, пожалуй, самый главный. Это, так сказать, от нас двоих. — И Птицын кивает в сторону Крылова. — Что же, давайте вместе разбираться. Крылов стряхнул пепел с сигареты и аккуратно положил ее на край пепельницы. — Зильбер — вражеский разведчик. Это бесспорно. Сообщения Ландыша не оставляют в том сомнения… Мы еще точно не знаем, кто его агенты и на какие объекты он нацелен. Но знаем, что ото разведчик. Однако же разведчик не стал бы размениваться на подбрасывание листовок. Мы привыкли видеть в разведчике противника, подбирающегося к государственным тайнам. А тут, извольте видеть, организуется подбрасывание идеологической макулатуры. Кто он — мастер по наведению мостов между Западом и Востоком? Специалист по фабрикации и распространению листовок? Или же его интересуют государственные секреты? Генерал доволен. Вопрос поставлен правильно. На него надо отвечать. Как? Он не может еще дать ответа абсолютно бесспорного. Он может только высказать некоторые соображения. Явление подмечено новое, его еще нужно осмыслить. — И меня и вас учили распознавать стратегию и тактику врага. Имеются здесь проверенные десятилетиями формулы. Разведчик, прибывший с заданием вражеского центра, не станет заниматься, ему не позволено заниматься таким делом, как подбрасывание листовок. Это — классика. Но мы можем предположить, что Зильбер — разведчик, которого начальство обязало включить в сферу своей деятельности то, что принято называть идеологической диверсией. И вот извольте. — И генерал ткнул пальцем в ловко закамуфлированные газетные листы. — А теперь перейдем от всяких теоретических изысканий к сугубо практическим. Я вас попрошу, Александр Порфирьевич, взять все материалы, относящиеся к фальсифицированной газете “Футбол”… И в студгородке и в Подмосковье. По почерку видно, что эта диверсия направлялась одной и той же рукой. В ближайшее же время я должен получить от вас план операции. Мы обнаружили “газету” по одиннадцати адресам. Но у нас нет уверенности, что размах диверсии ограничивается этим. Может, следует опросить кого-нибудь из получателей “газеты”. Кого? Установите… Опрос людей по этому делу проведите сами… — Будет сделано. Я представлю вам подробный план операции. Разрешите идти? — Нет. Попрошу задержаться. Это еще не все. Настораживают противоречивые сообщения Бахарева. Умный, образованный малый, но увлекающийся. — Я ему, Василий Михайлович, не раз советовал — время от времени остужать свою голову. — Шутки шутками, Александр Порфирьевич, а молодого человека, видимо, нет-нет да и, как вы правильно заметили, заносит из одной крайности в другую. Кстати, у вас нет сомнений… как бы это деликатнее выразиться… — Клементьев запнулся, но Птицын понял его. — В его полной объективности? Вы это имели в виду? — Ну хотя бы и это, — сказал генерал. — Я ручаюсь за Бахарева, — резко отрубил Птицын. — Не надо распаляться. Вашего поручительства не требуется. Но человеку свойственно человеческое. Силу чувств никогда не сбросишь со счетов. Согласны? То-то же. Теперь давайте разберемся в предложенных вами вариантах. Я позволю себе заметить, что они еще не подкреплены в достаточной мере фактами. Ваше мнение, — обратился он к Крылову. — Да, пожалуй… Пока имеются только предположения, хотя и весьма основательные. Бахарев старается со скрупулезной точностью определить: это — за, а это — против… — А рисунок получился действительно сложный: мазками, — ни к кому не обращаясь, заметил Птицын. — Вот именно, — продолжал Крылов. — Что касается Аркадия Семеновича — не спешим ли с выводами? А между тем одна персона осталась пока в тени. В деле фигурирует, а о ней мы мало что знаем. — Вы имеете в виду Ольгу? — уточнил Птицын. — Да. — В институте о ней дают самые лестные отзывы. Активная общественница. Как-то на курсовом собрании резко выступила против группы крикунов. Выступила и дала такого жару, что крикуны сразу притихли… Хорошо зарекомендовала себя на практике, в коллективе поликлиники. Мать ее связана с участниками движения Сопротивления… — Почему же вы считаете возможным подозревать ее? Только потому, что она иностранка? — спрашивает Клементьев, и губы его сжимаются в узкую полоску. Птицын молчит. Его самого беспокоит этот вопрос. — Так как же, Александр Порфирьевич? — продолжает допытываться генерал. — По нашим данным, в катехизисе так называемых добродетелей этой иностранной студентки едва ли не главным пунктом является грим. — Как прикажете понимать? — Это женщина с искусным гримом на лице и на душе… — Опять из сферы предположений. А факты? — Есть и факты, над которыми нельзя не задуматься. Мы с Бахаревым терялись в догадках: откуда Зильбер узнал, что Марина пошла со своим знакомым в ресторан “Метрополь”? Вряд ли это случайная встреча. Кто мог навести туриста на след? И вспомнили. Когда молодежь возвращалась со студенческого вечера и Бахарев предложил пойти в “Метрополь”, только два человека слышали его слова — Ольга и Владик. Герта со своим кавалером ушла далеко вперед. Владика я исключаю. Остается Ольга. — Довод не очень серьезный, но все же… Тем более важно увидеть эту женщину, как вы выразились, без грима. — Но есть и другой довод: на пути к “Метрополю”, оставшись вдвоем с Бахаревым, Марина сказала, что ей надо позвонить маме и предупредить ее, что она поздно вернется домой. В будке телефона-автомата девушка задержалась недолго. — Ну и что же? — По наведенным справкам, в этот вечер матери Марины дома не было, она дежурила в больнице. Очередное дежурство, о котором дочь не могла не знать. — Ну и что же? — Если мама на дежурстве и не знает, когда дочь вернется домой, к чему предупреждать ее по телефону? Судя по всему, Марину никак не отнесешь к числу дисциплинированных дочерей. Да и не так-то легко -мы и на этот счет наводили справки — дозвониться дежурному врачу, когда больные еще бодрствуют. — Значит, снова Марина? Птицын молча пожал плечами и развел руками. — Нам не дано права разводить руками, Александр Порфирьевич. Я попрошу вас лично попытаться прояснить роль каждого из шести действующих лиц — доктор Васильева, Марина, Ольга, Победоносенко, Косой и Зильбер… Пора от гипотез переходить к фактам. Из студгородка Птицын вернулся быстро. Вахтер среди пяти предъявленных ему фотографий толстяков сразу опознал “дядю” студента Володи Яковлева. Линия Зильбер–Косой на схеме может быть из разряда пунктирных переведена в разряд жирно подчеркнутых. А вот что касается ее продолжения — Аркадий Семенович — Марина, тут дальше тонюсенького пунктира ничего нет. Снова, увы, только догадки. Правда, в деле одесских контрабандистов тоже есть фотография Косого. И нетрудно было убедиться в том, что человек в электропоезде и человек, разговаривавший с Аркадием, — одна и та же персона. Но значит ли это, что и Аркадий Семенович замешан в истории с “газетами” “Футбол”? Что же передала ему Марина во дворе? Какая связь между этой передачей и студгородком? И еще один более серьезный вопрос: кто из них двоих — Косой или Аркадий — тот самый человек, с которым Зильбер должен был связаться? Оба из Одессы, оба в прошлом причастны к шайке контрабандистов. Кто же связной Зильбера? Птицын поджидал Бахарева. Николай знал, что в одиннадцать Александр Порфирьевич вызван к генералу с докладом о ходе дела “Доб-1”, знал, что он долго и старательно готовился к беседе с Клементьевым. И сейчас, едва переступив порог кабинета, по одному лишь выражению его лица понял — разговор с генералом был трудным, хотя, как всегда, Птицын казался спокойным. — Какие новости, Александр Порфирьевич? Что генерал?.. — А что генерал? Требует от гипотез к документированным фактам переходить. Правильно требует. Про студгородок ты уже знаешь. А теперь такую же пакость в подмосковном городке сотворили… Птицын рассказал про свою поездку в студенческое общежитие и про то немногое, что ему пока известно о подмосковном городке. Бахарев, услышав название городка, стукнул себя по лбу. — Позвольте, позвольте, Александр Порфирьевич. Да ведь Марина там была… Зильбер, Косой, листовки, студгородок…. И Марина! Теперь все это сплелось в один узел. Опять она! Бахарев вспомнил, как Марина восторженно рассказывала ему про Дом культуры в этом городке, про чудесный воскресный день, проведенный на берегу пруда в веселой компании молодежи. Сейчас ему трудно восстановить в памяти, в какой связи зашел разговор о ее поездке. Мысль его тогда не задерживалась на этих мимолетно оброненных словах. А сейчас звено — к звену, факт — к факту, плотно, как патроны в обойме. Зильбер, Косой, листовки в студгородке… И вот — Подмосковье. Почти в одно и то же время. И Марина… Зачем она туда ездила? Где связь между первым, вторым, третьим? …Марина встречалась с Зильбером. Что-то передавала одесскому сапожнику, специалисту по тайникам в обуви, а на следующий день старый друг Победоносенко Косой встречается в электропоезде с Зильбером и через три часа подбрасывает листовки в студгородке. Ландыш сообщает: Зильберу поможет человек из Одессы. Не напрашивается ли сам собой общий знаменатель? Птицын вместе с Бахаревым составляет детальнейший план дальнейших действий, в котором учтены все значительные и малозначащие факты. Надо внимательно проанализировать адреса и выяснить, чем руководствовался человек, пославший “газеты” именно в эти квартиры. По какому принципу подбирал он их? Это, пожалуй, сейчас самое важное. — Я мало верю в такой вариант, но ведь бывает, что адреса подбираются попросту из бюллетеней по обмену квартир, — говорит Птицын. — Отправляйся в бюро обмена — пусть срочно дадут справку: фигурировали ли эти адреса в последних бюллетенях? Бахарев мчится в бюро обмена, а Птицын перечитывает несколько только что полученных оперативных сообщений. Увы, ни одно из них не вносит ясности. С утра Птицын еще не терял веры в то, что Победоносенко навсегда порвал с прошлым, что его встреча с Мариной — случайное совпадение обстоятельств. И вдруг… Сегодня Победоносенко поехал в… Архангельское. Купив путеводитель, о чем-то поговорив с киоскершей, Аркадий Семенович отправился в парк и исчез было из виду. Но вскоре обнаружился в музее. И — что особенно важно для Птицына: на безлюдной аллее со скамейкой под ивой, той самой, к которой прицеливался Зильбер, одессит не появлялся. И тут же рождается версия: “Зильбер потому и забрал тогда контейнер, что приспособил его к другой скамейке, в другом уголке парка. Куда исчез Победоносенко? Где он рыскал?” С Зильбером все ясно. Вместе с группой туристов он был в МГУ, в Дубне, Третьяковке, ЦУМе, ужинал в обществе советских ученых, смотрел “Лебединое озеро”. Однако несколько раз ему удавалось “отрываться” от группы. Вчера он заглянул и антикварный магазин, потом поехал на Ленинские горы. Со смотровой площадки любовался величественной панорамой Москвы. Задержался в сквере. Присел на скамейку рядом с двумя юношами, о чем-то спорившими. Вытащил из кармана газеты и минут пять читал или делал вид, что читает. Встал, пошел дальше. Вернулся к стоянке такси и отправился в ЦУМ. Протискиваясь к прилавку, сунул какой-то маленький пакетик в карман пальто рыжеволосой молодой женщины. Зильбер — в гостиницу, а рыжеволосая долго плутала по центру Москвы, пока не зашла в кино “Метрополь”, в синий зал. Нокогда кончился сеанс, в зале ее не оказалось. Птицын, когда его что-то озадачивает, почему-то усиленно теребит пальцем нос, будто ждет от него ответа. И сейчас так. Теребит нос и про себя чертыхается, воздавая должное ловкости неизвестной — уже второй раз она искусно исчезает из поля зрения. Думается, что и тогда в мосторге и сегодня действовало одно и то же лицо. Правда, та была блондинка. Но это просто — парик, грим. Мадам, надо полагать, маскируется, хотя действует нахально — один и тот же прием использует вторично. И еще одно сообщение. Снова о Победоносенко. Возвращаясь из Архангельского, Аркадий Семенович недалеко от дома заглянул в пивную, где встретился, судя по фуражке, с шофером такси. Видимо, давние приятели. Выпили шесть бутылок пива и по стакану столичной. Долго объяснялись друг другу в любви и дружбе. На прощание шофер достал из кармана заморскую коробку сигарет и, облобызав одессита, сказал: — Вот тебе, приятель, подарочек. Для твоей коллекции. Знаю, что собираешь эту дрянь. Давно приготовил для тебя, да все как-то забывал прихватить из дома… Победоносенко бережно принял коробку и стал внимательно разглядывать ее. — Что глаза пялишь? Экстра-класс! — И выразительно поднял большой палец. — Спасибо, друг. Сколько с меня, Ефим Палыч? Шофер рассвирепел., — Ты меня за кого принимаешь, Аркадий Семенович? — Гражданин таксист! Не надо делать столько шуму из ничего. Я вас умоляю… Победоносенко уже хотел было сунуть коробку в карман, потом что-то вспомнил, открыл крышку, достал лежавшие там несколько сигарет и бережно положил на стол. — Аркадий Семенович сигареты не уважает. Он признает только трубку. Ба! А это что за цифирь? Может, записывал что на память и забыл? — И протянул коробку шоферу. На внутренней стороне крышки было написано: ВК-68-75. — Кто его знает, что за цифирь. Я лично не записывал. Похоже, что пассажир, тот, что обронил сигареты, цифирь писал… Ты плюнь на эту цифирь. Плюнь да разотри. Коллекцию не портит. — А что за пассажир такой? Рассеянный с улицы Бассейной? — Это я тебя все хотел спросить, да недосуг было. Забывал. Странная, друг Аркадий, история приключилась… Вез я парочку за город. Симпатичные. Вроде как из Прибалтики. Так вот, понимаешь… — И шофер быстро, невнятно затараторил, глотая слова, а там, где их не хватало, начинал вдруг “разговаривать” языком жестов… — Подожди, подожди! Аркадий Семенович не любит, когда говорят так много и так быстро. У нас на Дерибасовской в таких случаях кричали: “Гражданин! Соблаговолите заткнуть фонтан!” Давай выпьем еще по сто, понюхаем пробочку и пойдем ко мне закусывать — имею предложить отличнейший пирог с капустой. Там мы с тобой примем еще по сто и уж в точности выясним — кто, куда, зачем ехал и что ты хотел спросить у гражданина Победоносенко. Друзья обнялись, расцеловались и, слегка покачиваясь, вышли из пивной. …Как и следовало ожидать, ни один из одиннадцати адресов подмосковного городка в бюро обмена не регистрировался и в бюллетенях не значился. Вариант бюро обмена отпал начисто. Более близкое знакомство с материалами дела, в частности с беглой характеристикой жителей тех квартир, в адрес которых были отправлены газеты-листовки, мало чем обогатило Птицына. Однако некоторые выводы, которые могут пригодиться в будущем, были сделаны. Квартиры эти, как правило, отдельные. Много студентов вузов и техникумов. Есть и врач — молодой человек, работающий в местной поликлинике, и педагог — преподает литературу в здешней школе. Идеологический снаряд выпущен с каким-то определенным расчетом. Каким? Птицын строил логические и алогические схемы. Он обратил внимание на то, что все получатели “газет” живут в одном микрорайоне. Как соотнести все это с поездкой Марины в Подмосковье? …Птицын включил транзистор и в ожидании Бахарева занялся кофеваркой. Ждать пришлось долго, и не одна чашка кофе была выпита, пока около пяти вечера Бахарев объявился. И сразу же попросил вызвать Снегирева. — Хочу показать ему вот эту фотографию. — И он положил на стол фотоснимок. — Кто она? — Ольга. — А при чем тут Снегирев? Думаешь, что это Ольга и выпорхнула из “Метрополя”? — Может случиться, что и так. Но вот факт абсолютно достоверный: в подмосковном городке Ольга проходила практику в поликлинике. У нее там широкий круг знакомых — врач, учитель, студенты… — И Бахарев подробно рассказал о своем сегодняшнем визите к Марине. …На сей раз Марина встретила Бахарева приветливо: чувствует себя лучше, была уже в- институте. Придется подналечь, чтобы наверстать пропущенные лекции, семинары. И тем не менее она не прочь в воскресенье отправиться куда-нибудь в лес, за город. На дворе стоит чудесная осенняя пора. И если Николай составит компанию, она будет очень рада. Николай тут же откликнулся шуткой: — С вами хоть на край света. Но у вас, кажется, есть излюбленные места в Подмосковье. Помнишь, ты мне рассказывала о веселом загородном пикнике. Восторгались живописными перелесками… И компания, кажется, была милая. — Да, да, вспоминаю. Это меня Ольга затащила туда. Она проходила практику в поликлинике и подружилась с тамошней молодежью. Чудесные ребята. Компания оказалась действительно милой. Жаль, что мы еще не были с тобой знакомы тогда. Тебе было бы там очень уютно. Между прочим, у костра с печеной картошкой шли жаркие литературные споры. Страсти — до белого каления… — О, я люблю такое общество. О чем спор шел? Марина на мгновение задумалась. — Если мне память не изменяет, началось с того, что один из студентов заявил, будто настоящее искусство независимо от жизни. Оно как бы интуитивно и отрешено от бренного мира. — Любопытная точка зрения. Нечто в этом роде я читал у австрийского психолога Зигмунда Фрейда. А что утверждали оппоненты? — Главным оппонентом, конечно, был учитель литературы. Тот так и сыпал цитатами. Стендаль, Белинский, Толстой… Тебя не хватало у костра, ты же у меня умненький, Коля, страшной силы эрудит! — А ты уверена, что я поддержал бы учителя? — Я как-то не задумывалась над этим, Коля. Но мне казалось, что ты… Она запнулась, недоумевающе посмотрела на Бахарева. — Конечно, равнодушного искусства я не признаю, Марина. Но, как говорится, не для печати исповедуюсь: когда учился в литинституте, идеи Зигмунда Фрейда были мне не безразличны. Таинственные подсознательные импульсы в творчестве художника… Их не так-то просто сбросить со счета. И вопрос этот не такой уж простой… А вообще-то отрадно, что ребята спорят. Я предпочитаю спорящих отмалчивающимся. — Но тогда спор зашел слишком далеко. Студента поддержал врач, а Ольга — учителя. Точнее так: то студента, то учителя. А потом объявила: если не прекратят спор, она немедленно уйдет. И представь, подействовало. Врач был влюблен в Ольгу. Она, кажется, и сейчас встречается с ним. Мы можем легко договориться и слона туда же махнуть… Меня что-то потянуло на природу. Ты поедешь? — Обожаю сказки осеннего леса… Аллеи, мощенные золотом… — Значит, поэт согласен? — Как видишь, я куда более сговорчив, чем ты. Она поняла намек на последнее бурное объяснение и тут же нахмурилась. — Не надо кукситься. Это случается. У одних отвращение к помидорам, у других — к ресторанам. Отныне и во веки веков будем ходить только в чайные или молочные — пить кофе и кушать кефир с миндальными пирожными. Договорились? Она иронически улыбнулась: — Как хочешь считай, но в “Метрополь” я не пойду. — Именно в “Метрополь”? — Пожалуй, что так, — именно в “Метрополь”. — Ну, а в “Националь”, “Арагви”, “Софию”? Я не буду скрывать от тебя, — возможно, это и порок, — но, когда у меня есть деньги, я смотрю на них весьма снисходительно. Какая-то неведомая сила влечет к ресторанному столику. Дьявольское наваждение — люблю эти злачные места, что поделаешь. А деньги у меня сейчас есть. Вот и тянет. А тут еще и подходящий повод — Марина выздоровела. Не пойдешь со мной, пойду один… Он говорил так искренне, что сам поверил в сочиненную на ходу легенду. — Нет, один ты не пойдешь. Мы пойдем вместе. Только не в “Метрополь”. — И добавила со смущенной улыбкой: — Тебе этого не понять. Я ведь суеверная. После нашего “культпохода” в “Метрополь” все и началось с моими нервами… — Высокие договаривающиеся стороны пришли к согласию. Отлично! — Скорей, скорей, — Птицын поторапливает шофера. Надо успеть попасть в подмосковный городок еще до закрытия поликлиники. К тому же в пути он принял новое решение: ему самому в поликлинике появляться не следует. Пришлось делать круг, чтобы заскочить к начальнику районного отдела милиции. Птицын ввел его в курс дела и отправил к главврачу. Причину визита придумали тут же: “Ищем преступника, который не то в июле, не то в августе долго бюллетенил”. Начальник райотдела милиции терпеливо, с бесстрастным лицом перелистал около двухсот историй болезней жителей городка, побывавших в поликлинике в июле. Против каждой фамилии ставил никому не нужную цифру — на сколько дней был выдан бюллетень, записывал адрес больного, фамилию лечащего врача. С длинным списком он вернулся к Птицыну поздно вечером. Птицын быстро отыскал среди адресов больных десять, интересовавших его. Одиннадцатого он нашел в списке врачей. И сразу вспомнил рассказ Марины о молодом хирурге — том самом, что тихо вздыхал об Ольге. Несколько озадачил ответ на другой вопрос — к кому на прием ходили эти больные. Только пять из них были у Ольги. Тут все ясна. Адреса списаны с историй болезни. А остальные? Все они были на приеме у старого, заслуженного врача. Кто же тогда дал Ольге их адреса? Птицын посмотрел на часы. Звонить к главврачу домой, чтобы попытаться найти ответ на вопрос? Поздно, да и к чему тревожить человека, который, вероятно, и без того основательно переполошился. Оставив необходимые инструкции милиции, он помчался в Москву, где его терпеливо ожидал Бахарев. Итак новый вариант: Ольга! Завтра с утра явится Снегирев, и Птицын надеется, что тот опознает по фотографии Ольги девушку в ЦУМе и кино “Метрополь”. А пока — по домам. Они вышли на улицу. Холодный ветер гудел на разные голоса. Вызванные из гаража машины еще не подошли к подъезду. Стояли молча. Поеживались. Каждый думал о своем. И вдруг Птицын простодушно спросил: — Жениться не собираешься? Бахарев привык к неожиданным вопросам Александра Порфирьевича и не удивлялся им, но этот вопрос насторожил. — С чего бы это вдруг… — С чего, с чего! Просто так. Интересуюсь. Вот и спрашиваю… — Сложный вопрос задаете. — И сразу переключился на шутливый тон. — Днями выяснится. А пока — туман, сплошной туман. — Странный ты. Ну давай, давай. Плыви в тумане. Вот и машины наши подошли… И они разъехались в разные концы Москвы. Всякое с Птицыным бывало — как-то целый месяц плутал по ложному следу. Но уже после того как нащупал правильную дорогу, никто не мог сбить его с курса. А с “Доб-1”, как он выражался, черт те что получается. Вчера вечером, кажется, все неоспоримо свидетельствовало: иностранная студентка Ольга… И вот с утра… Снегирев не подтвердил. — Нет, не похожа! Фигура вроде бы та же, а лицо? Есть что-то общее… Но скорее, нет. И прическа у той, в ЦУМе, была совсем другая. Значит, цепочка, связывавшая Ольгу, врача-практиканта в подмосковном городке с Зильбером, рвется. Что же остается? У Ольги на приеме в поликлинике были пять молодых горожан из одиннадцати, получивших но почте вражеские газеты-листовки… И снова раздумья — Ольга или Марина? И вдруг звонит Михеев. — Он в приемной… — Кто он, откуда вы звоните? — Из приемной. Сюда явился Победоносенко. …Птицын поднялся из-за стола навстречу Победоносенко, протянул руку, поздоровался, пригласил сесть, а сам занял свое любимое место на подлокотнике большого мягкого кресла в углу комнаты. — Будете курить? — Благодарствую. Воздержусь. — Кофейку? — Благодарствую. Предпочел бы перейти к делу. Птицын улыбнулся. — Не торопитесь. Я ведь ждал вас, Аркадий Семенович. Никому не говорил об этом, даже ближайшему помощнику, но был почему-то уверен, что придете. — Странно. Почему вы меня могли ждать? — Мы с вами знакомы… — Не имею чести. Правда, как поется в песне: “Одесса очень велика…” — Нет, мы не в Одессе встречались с вами, а в этом же доме. Хотя и не без посредничества Одессы. По делу шайки одесских контрабандистов. — А-а-а, вспоминаю, вспоминаю. У вас, чекистов, плохая привычка — извините за резкость. Вы всегда изволите усаживаться таким образом, что ваше лицо с трудом разглядишь, а собеседник — как на ладони. Теперь я вижу, что лицо знакомое. Да, встречались. Грехи молодости. Но я, кажется, искупил свою вину. Ведь в этом доме я бывал и после войны. Вам известно это? — Да, известно. Поэтому я и ждал вас. Верил в вас. Хотя тут недавно дрогнула моя вера. И все же ждал. — Спасибо… Минуту–другую гость молчал. Упершись локтями в стол, обхватил лицо ладонями. — Ну что же. Слушаю вас, Аркадий Семенович. Вместо ответа одессит достал из маленького чемоданчика изящные дамские туфли и положил их на стол. — Как понимать прикажете? Победоносенко все так же молча взял в руки левую туфлю, недолго повозился с ней, отвинтил четыре маленьких, тщательно замаскированных шурупа, легко отделил каблук. — Вот полюбуйтесь. Отлично сработанный тайничок. Хотите — кладите золотые, хотите — зелененькие. А может, и что-то более ценное. — И что же? — невозмутимо спросил Птицын, окинув беглым взглядом тайник. — Вернулись к старому, а потом совесть заговорила? Бывает… — Не надо так говорить, товарищ начальник. Зачем обижать старого человека. — Я бы вас еще не зачислил в старики… — Слышать комплименты в таком доме очень приятно. Но, увы, мне за шестьдесят. Это уже возраст, когда человек должен быть таким, каков он есть. Без камуфляжа… — И что же? — тем же невозмутимым тоном спросил Птицын. — Какой вы? — Победоносенко давным-давно сказал себе: “Забудьте думать, Аркаша, про старое. Вы не найдете там счастья”. Я пришел к вам с открытой душой. Поверьте, что эти туфли с тайником попали ко мне случайно. Соседка по дому знала, что я иногда… Он запнулся. — Не буду таить от вас. Готов понести наказание. Иногда Победоносенко тряхнет стариной и берет в руки изящный туфель, чтобы омолодить его. Я знаю, что этот вираж карается законом. Каюсь. Но не могу удержаться. Поверьте: меньше всего для заработка. Больше для души. Узкий круг клиентов… Принимаю только экстрамодельные. И всегда предупреждаю хозяйку: “Вы мне не объясняйте, что надо делать. Победоносенко знает это лучше вас. Туфель должен вернуться к хозяйке как новый. И все, что нужно для этого, Победоносенко сделает. Рубчики, набойки — это не моя стихия”. Я и ее предупредил… — Кого ее? — Соседку. Дочку докторши. Марину. Ту, что эти туфли дала в починку. — Что вы о ней знаете? — Слухи ходят разные. И он долго рассказывал о семье Марины. Рассказал все, что Птицыну и без того было известно. Потом снова о туфлях, которые он, согласно своему кредо, должен был вернуть в наилучшем виде и потому тщательно проверил каблук, стельки, подметки. — А глаз у Аркадия Победоносенко, слава богу, как рентген. Это знала вся Одесса. И вы тоже. Вы мне это сказали тогда, на допросе. Я не забыл… — И что же увидел глаз-рентген? — Гм. Странный вопрос. Разбудите Аркадия Победоносенко ночью, покажите ему новенький туфель, в котором какой-то прохвост смастерил тайник. И я его сразу же найду вам. Школа одесских контрабандистов, товарищ начальник, — это академия… — Итак, вы нашли в туфлях Марины Васильевой тайник. Кто еще знает об этом? — Почему вы задаете такие странные вопросы Аркадию Победоносенко? Кто приходил в этот дом, чтобы рассказать о встрече с Косоглазым? Кто, спрашиваю я вас? Кому одесские шмаровозы чуть не устроили в Измайлове темную за этот визит? Кому, спрашиваю я вас? У кого на спине рубец от ножевой раны и левая рука пошаливает? У кого, спрашиваю я вас? И он поднялся с места, скинул пиджак, задрал рубашку: — Вот он, рубец. Били и кричали: “Лягавый. Живым не быть тебе”. Смотрите, товарищ начальник. И не задавайте Аркадию Победоносенко странных вопросов. Птицын подал стакан воды. — Выпейте, успокойтесь… Все это нам известно. Я знакомился с вашим делом. Потому и сказал, что ждал вас и верил вам. Вы, видимо, превратно поняли мой вопрос. Ведь могло случиться, что в комнате, где вы, по вашему выражению, даете левый вираж, находился еще кто-то. — Никого. Я живу один и работаю ночью. Повторяю — для души. Это как у алкоголика. Обнаружив тайник, я сразу понял: “Аркаша, дело жареным пахнет. Это тебе не контрабанда”. И еще, товарищ начальник, хотел бы обратить ваше внимание на одно удивительное совпадение. Победоносенко достал из кармана подаренную ему шофером заморскую коробку от сигарет, раскрыл ее и протянул Птицыну. — Смотрите. Вам что-нибудь говорит эта цифра? — Давайте с вами условимся, Аркадий Семенович: в этой комнате вопросы задаю я, а вы отвечаете на них. — Простите, память короткая. Вы меня уже однажды предупреждали… — Победоносенко смутился и стал барабанить пальцем по столу. — Я вас слушаю, товарищ начальник, какие будут вопросы? — Откуда к вам попала эта коробка? — Подарок дружка, шофера такси. Он знает, что я коллекционирую папиросные коробки. Так вот… И Победоносенко рассказал Птицыну все, что узнал от дружка-таксиста. — И вот извольте — бывают же такие совпадения. Однажды шофер увидел эту женщину во дворе дома, где живет Победоносенко. Он поджидал друга на скамеечке. И вдруг замечает, как из подъезда выходят две стройненькие девушки и одна из них — та самая, что на такси с милым своим под Можайск катила. А навстречу им Аркадий Семенович шествует и галантно раскланивается с ними. Таксист не помнит, как это случилось, по в тот день он забыл спросить про девушку. Да и ни к чему она ему. А вчера, когда коробку дарил, вспомнил, хотя и был в состоянии крепкого подпития. — Бывает же так, товарищ начальник. Говорят, алкоголь обостряет умственную деятельность… — Возможно… Правда, мне самому не приходилось проверять сию мудрость. — Птицын сдержал насмешливую улыбку. Он внимательно рассматривает коробочку, открывает, закрывает ее, кладет в сторону. — Пойдем дальше. Много лет назад вы расстались с Косым. Помните, конечно, такого? — Ефима Михайловича Плешакова? — Это его настоящая фамилия? — Кто его знает, как в метриках записали. На Дерибасовской Косым звали… — Так вот, вернемся к первому моему вопросу: когда вы в последний раз видели Косого? Победоносенко насупился, даже скис как-то. — Видел несколько лет назад. На очной ставке. А слышал о нем не далее как на прошлой педеле. Есть у нас общий знакомый по Одессе. Заходил ко мне и говорил, будто на ВДНХ видел Косого в толпе гуляющих. Прискорбно, но факт. Не могу знать, как занесло его сюда — то ли срок кончился, то ли в бегах. Замечу, однако, товарищ начальник, что побаиваюсь, как бы этот тип со мной чего не сотворил. — И у сапожника слегка задрожал голос. — Мужчина он хоть и вальяжный, по темпераменту перебор имеет. Второй раз, — скажу вам по совести, — встретиться с ним очень неприятно… — Вы можете не беспокоиться, Аркадий Семенович. Соответствующие меры будут приняты. А теперь еще один вопрос: где работает ваш приятель-таксист? Победоносенко назвал номер парка. — Ну, что же, Аркадий Семенович, спасибо и до свидания. Договариваемся вот о чем: вы подождите в приемной, вам принесут туда туфли, и вы должны привести их в первородное состояние. Чтобы никаких следов. Туфли не спешите возвращать хозяйке. У вас есть телефон? Отлично. Вам позвонят. Тогда вы тотчас же отнесете туфли. И, конечно, ни гугу. Ясно? Можете идти. Впрочем, последний вопрос. — Слушаю. Птицын испытующе смотрит на Победоносенко, словно заранее сомневается в правильности его ответа. — Знаю, что, возможно, и обижу вас своим вопросом, но не задать его не могу: зачем вы ездили вчера в Архангельское? Победоносенко тяжело вздохнул: — А говорите, что верили мне, ждали меня… — Можете не отвечать на этот вопрос, если он вам неприятен. Итак, мы с вамп договорились… — Нет, нет, мы еще не договорились. Вы будете слушать Аркадия или что? Победоносенко будет рассказывать вам про Архангельское, про тетю Фросю, которая была для моей покойной супруги больше, чем сестра ее мамы. Если бы вы, видели, как эта старая женщина боролась с костлявой, стоявшей у изголовья моей Тани. Разве может Аркадий Победоносенко забыть такое! И он регулярно раз в неделю ездит в Архангельское к тете Фросе, которая торгует путеводителями, открытками всякими. Раз в неделю он привозит тете Фросе ее любимые конфеты. Есть еще вопросы к Аркадию Семеновичу? — Нет… Вы не сердитесь. У нас служба такая. Бывайте здоровы. …В ожидании туфель сапожнику пришлось задержаться в приемной. Птицына интересует — в какой стране, какой фирмой сделаны эти элегантные туфли. Но эксперт, исследуя сохранившиеся на стельке три (из скольких?) золотистые буквы и стертые очертания какого-то фирменного знака, сразу ответа дать не может. И, только перелистав множество каталогов, альбомов зарубежных обувных фирм, смог наконец назвать и страну и фирму. И указал при этом в заключении: “В СССР обувь не поставляет”. …Так, ясно, — значит, Марина не могла купить эти туфли в Москве, значит, кто-то привез ей. Подарок от Эрхарда? Или купила у кого-то? А может?.. А если Марина отдавала в починку чужие туфли? Чьи? И еще. Тогда во дворе сапожник раскланивался с Мариной. Но таксист в равной мере мог решить, что поклон адресован Ольге… И снова — Ольга или Марина? …Из Подмосковья Птицын вернулся к вечеру. Ему без особого труда удалось установить “биографии” и остальных адресатов: нее они были на приеме у старого, заслуженного врача Веры Павловны в те дни, когда Ольга проходила у нее практику. Они обе вели прием, и студентка могла, конечно, запросто списать адреса приглянувшихся ей пациентов. Значит, Ольга? А как быть со злополучными туфлями? И еще одно обстоятельство: сообщение Серго, разыскавшего таксиста. Ко всему тому, что уже было известно из рассказа Победоносенко, шофер добавил некоторые детали о своих пассажирах. Они ехали в гости к каким-то знакомым. По дороге несколько раз останавливались, любовались природой, фотографировали друг друга, у речки задержались. Шофер не может утверждать с абсолютной точностью, но ему показалось, что мужчина набрал в бутылку воду. Папиросную коробку он нашел вечером, вернувшись в парк. Она забилась в угол заднего сиденья. Когда была сделана запись, на каком участке пути — сказать не может. Не заметил. Что касается существа самой записи, то ее легко удалось расшифровать — номер военной машины. Есть основание считать, что она встретилась тогда в пути. Серго попытался с помощью таксиста нарисовать словесный портрет женщины, и получалось что-то похожее на Марину — нос, глаза и… Его прервал Бахарев — он находился здесь же, в кабинете Птицына. — Это была не Марина, Я решительно утверждаю… Сказано это было Бахаревым тоном категорическим, что случалось с ним не так часто. Птицын даже несколько удивился: — Что с тобой?.. “Утверждаю”, “решительно утверждаю”? — И тем не менее я утверждаю. — Только учти, что есть такая опасность: оставаясь при своем мнении, можно остаться в одиночестве… — Постараюсь избежать такой опасности. Так вот… Видимо, наш друг Серго, собирая материал для словесного портрета, был одержим навязчивой идеей: Марина, та самая, с которой он сидел за одним столом в ресторане. А я выдвигаю другую и, на мой взгляд, весьма основательную версию — Ольга, та самая Ольга, которая на студенческом вечере постаралась замять явно нежелательный для нее разговор о поездке с мужем в Можайск в гости к однокурснику. Почитайте мой соответствующий рапорт. Я вам докладывал, Александр Порфирьевич, что рыжеволосый парень говорил Ольге о ее супруге Германе, — гость попросил у него путеводитель по Бородино. Вспомнили? Так вот, разрешите провести вторичный опрос шофера… Через час Бахарев вернулся от таксиста. Из пяти предъявленных шоферу фотографий, в том числе и Марины, таксист сразу выбрал карточку Ольги. Более того. Сравнительный анализ почерка иностранной студентки — Бахарев уже давно заполучил фотокопии институтских работ Ольги и Марины — и человека, сделавшего запись на папиросной коробке, подтвердил полную их идентичность. Поздно вечером на квартире у Птицына раздался телефонный звонок. Звонил Бахарев. — Прошу прощения за беспокойство в поздний час. Не удержался, Александр Порфирьевич! Спешу доложить, — у него даже задрожал голос, — туфли с тайником принадлежат Ольге. Подробности завтра утром. Спокойной ночи. Для Николая она, однако, была не спокойной. И чем ближе развязка дела “Доб-1”, тем острее ощущалось, как к радостному чувству примешивалась неясная тревога. Марина! Она оставалась загадкой даже после того, как сегодня снята была столь тяжелая гиря с чаши ее весов — злополучные туфли с тайником. Однако не все гири сняты. А встречи с туристом, Кох, Зильбер? А приветы и подарки отца? Почему она, так много рассказавшая ему о своей жизни, утаивает эти страницы биографии? Что тут — страх, малодушие или нечто посерьезнее? Эта девушка хлебнула в жизни много горя — его хватило бы на пятерых. Но горести не подавили в ней ни ума, ни силы характера. И того и другого природа отпустила ей вдоволь. Так в чем же дело? Складывалась весьма сложная и запутанная схема взаимоотношений Марины со всеми теми, кто оказался в кругу причастных к “Доб-1”, к листовкам в студгородке и Подмосковье. Схема эта находилась в состоянии неустойчивого равновесия, и каждый день появлялись новые обстоятельства, тянувшие то в одну, то в другую сторону… Бахарев вышел из будки телефона-автомата, подошел поближе к дому Марины, глянул вверх. Как светлячок, мелькнуло в темноте Маринино окно. Не спит. Что делает, ершистая? Вспомнил их сегодняшний спор. Начался он с тем литературных, с обмена мнениями об одной из новинок в толстом журнале, а кончился дискуссией — что такое демократия? В разгар словесной перепалки Марина совершенно неожиданно дала “залп” афоризмом: “Мало иметь убеждения, нужно еще и уметь убеждать”. И тут же весело рассмеялась. Николай насмешливо спросил: — Как прикажете понимать вас, сударыня, — полное согласие с убеждениями Бахарева, который, однако, не мастак убеждать других? Вы жестоко ошибаетесь, сударыня. Потом они болтали о всяких разностях. Бахарев принес Марине польский журнал мод, и, когда зашел спор о модах и модницах, Николай Андреевич решил: теперь самое время сделать тот самый ход, что подготовлен и разработан им был вчера вместе с Птицыным. — Я глубоко убежден, Марина, что с модой бороться бесполезно. Она всесильна и покоряет всех… Представь, не далее, как полчаса назад у вас во дворе встречаю знакомую, Анну Петровну, из издательства… Пожилая, скромно одетая женщина, которую никак не причислишь к модницам. И что же оказывается: буквально помешана на модных туфлях… И в починку отдает их только какому-то своему, особому частному мастеру… Он в вашем доме живет… Анна Петровна уверяет” что это художник, маг… Что скажет сейчас Марина? Как будет реагировать? Отмолчится и, возможно, потом попытается проверить Бахарева? На этот случай Птицын предупредил сапожника: “Если кто-то поинтересуется, есть ли среди ваших клиентов Анна Петровна, отвечайте: “Да, есть такая…” Но она не отмолчалась. — Твоя знакомая права. Это действительно маг. Прекрасный мастер. Кстати, хорошо, что ты напомнил о нем. Чуть не забыла. Я отдала ему в починку Олины туфли… У Бахарева перехватило дыхание. А Марина продолжает. Говорит сбивчиво, смущается. — Сейчас ты будешь смеяться надо мной… Не надо… Грешна — люблю пофорсить. Меня пригласили на свадьбу подруги по институту и я решила блеснуть… Попросила на один вечер у Ольги ее туфли… Моднющие!.. Люкс!.. Еле уговорила ее… У нас это запросто, а у них не принято… И надо же… Когда возвращалась со свадьбы домой, у нас на лестнице оступилась, каблук сломала… Наутро вспомнила про мага, который в пашем доме живет. Побежала к нему. На мое счастье, у Оли пар десять всяких туфель. Про те она, видимо, забыла. А час назад позвонила. Раздраженная, злая. Отругала меня: “Почему ты такая необязательная?” Требует, чтобы сегодня же привезла ей туфли. Срочно понадобились… Я ей говорю, что не могу, жду тебя, а она: “Будет очень приятно видеть тебя вместе с Николас”. Бахареву хочется немедленно позвонить Птицыну, сообщить, что туфли с тайником принадлежат вовсе не Марине, а Ольге, что сейчас… Но сейчас лицо его должно выражать полное безразличие ко всему услышанному. А Марина продолжает: — Ты поедешь со мной? Я не настаиваю. Ну, если ты ничем не занят, тогда другое дело… На почитай “Литературку”, а я спущусь вниз к сапожнику за туфлями. …Ольга встретила их радушно. Держалась легко, непринужденно, все время щебетала, расточала улыбки, говорила, что очень рада видеть вместе с Мариной Николаса. На столе появились кофе, печенье, копфеты. Вскоре пришла Герта, чуть позже — Владик. Он чувствовал себя здесь как дома. — Давайте потанцуем, девочки… Владик ставит свою любимую пластинку и подхватывает Герту. А Бахарев в обществе Ольги и Марины ведет разговор о том о сем, а по существу ни о чем. Девушки жалуются на большую учебную нагрузку: почти не остается времени для развлечений. — Это никуда не годится. Так нельзя. Кстати, что вы собираетесь делать в воскресенье? — Студентам трудно далеко заглядывать, — ответила Ольга. — Я за вас решил. В воскресенье мы едем на ВДНХ. Гарун аль Рашид дает обед. Согласны? Первой откликнулась Ольга: — Конечно, согласны. Марина, а почему ты молчишь? Гарун аль Рашид может и раздумать. Не так ли? — Да, он такой. На него это похоже. — Бахарев подошел к Марине поближе: — Так как, Марина? Договорились? — Если это тебе доставит удовольствие, то считай, что договорились. …Пластинка продолжала крутиться и вместе с ней Владик с Гертой. Ольга погасила верхний свет, включила торшер, бросивший мягкий свет на журнальный столик. Тут лежали журналы “Смена”, “Здоровье”, “Наука и жизнь”. И два–три номера “Медицинской газеты”. — Вы все это выписываете, Ольга? — Нет, не все. Не хватает времени проглатывать так много информации. Я выписываю “Здоровье”, Герта — “Науку и жизнь”. А “Медицинскую газету” просматриваем в институтской библиотеке. Если заинтересуюсь какой-нибудь статьей, прошу этот номер газеты у тети Ани, Марининой мамы… Бахарев бросил беглый взгляд на газету. На белом поле — знакомое “Доб-1-38”. Легко представить, как учащенно забилось в это мгновение сердце Бахарева и как трудно ему было сохранить все то же приветливое выражение лица, не потерять дара речи… К своему дому он приближался уже в полночь, многое передумав, взвесив, оцепив каждый из сотен фактов, каждую из бесед, встреч, мимолетно оброненных фраз. Круг начинает замыкаться. И снова все та же тревожная мысль: “А что, если и Ольга и Марина? А что, если они действуют вдвоем? Как быть с ничем и никем не опровергнутой уликой: встречи с туристами, гонцами Эрхарда, хранятся в тайне”. Бахарев докладывал сразу Клементьеву, Крылову и Птицыну. Докладывал со всеми подробностями. Сообщал только факты, не комментируя, не делая выводов, и, против обыкновения, старался говорить бесстрастно. В заключение он положил на стол протокол повторного дактилоскопического исследования газеты, хранившейся в сейфе Птицына. Криминалисты сличили оттиски пальцев на газете и в разное время собранные Бахаревым оттиски пальцев Ольги, Марины, доктора Васильевой. Полное совпадение. — Это все? — спросил генерал, когда в комнате наступила тишина. — А выводы? Предложения? Бахарев волновался. Он не ожидал, что именно ему генерал задаст эти вопросы. Но быстро овладел собой. — Вывод таков: студентка Ольга — агент иностранной разведки. Прибыла в СССР с заранее подготовленным тайником в туфлях — надо полагать, для хранения и перевоза через границу собираемых ею данных, интересующих вражескую разведку. В частности, ее интересовали номера военных машин, их маршруты. Кроме того, занималась изучением настроений молодежи, главным образом студенческой. Есть основание считать, что она причастна к распространению антисоветских фальшивок в подмосковном городке. Что касается Зильбера, то направление его деятельности очевидно. Остается неясной роль той женщины, с которой он контактируется в Москве. — Кого вы имеете в виду? Бахарев слегка покраснел. — Студентку Марину. Но при этом нельзя не учитывать и такой вариант: две подруги, Ольга и Марина, действуют совместно. — Вы мне нравитесь, Бахарев. — Генерал откашлялся и продолжал: — В этой сложной коллизии вы достаточно стойко держитесь. Итак, что будем делать дальше? Первым подал голос Крылов: — Полагаю, что наступила пора арестовать Ольгу. А она уж прольет свет. — Ваше мнение, Птицын? — Пора такая, может, уже и наступила. Но я бы пока от ареста воздержался. — И я тоже. Излишняя поспешность. Хочу обратить ваше внимание на следующие обстоятельства. — И генерал, взяв лист бумаги, вывел на нем жирную единицу. — Первое. Как могла Ольга, будучи разведчицей, отдать подруге туфли с тайником? И далее. Ольге зачем-то срочно понадобились эти туфли. Зачем? Интересно было бы это узнать. По нашим сведениям, уезжать домой она пока не собирается. А Зильбер уедет через несколько дней. В чем тут дело? К сожалению, мы пока не можем ответить на эти вопросы. Второе обстоятельство. — И генерал вывел на листе бумаги двойку. — Зильбер присмотрел место для тайника в Архангельском. Даже “прилепил” контейнер, а потом снял. Ружье должно выстрелить. Зильбер — человек весьма рассудительный. И третье обстоятельство: встреча Зильбера и Бахарева. Кто-то должен сообщить разведчику, что в воскресенье Бахарев будет на ВДНХ. Кто это сделает? Марина? Ольга? Мы должны знать, кто подаст Зильберу сигнал. И четвертое. Не по степени важности. Связной Зильбера — толстый косоглазый человек, подбросивший газеты “Футбол” в студенческом общежитии. У нас есть его фотография, мы знаем и его биографию, а найти не можем. Между тем очевидно, что он должен выйти на связь с Зильбером. А возможно, и с Ольгой. Генерал отложил в сторону белый лист бумаги с четырьмя цифрами. — И если это так, то можно согласиться с Александром Порфирьевичем: не следует спешить с арестом Ольги. А что касается Зильбера, то вопрос о нем будет решен позже. Есть ли другие соображения? Вы продолжаете настаивать на аресте? — обратился он к Крылову. — Нет. — А вы, Николай Андреевич? Бахарев ответил неопределенно. — Пожалуй, не стоило бы… — Значит, полное единодушие “большого совета”. Отлично! Надеюсь, что в ближайшую неделю события начнут развиваться в более быстром темпе. “Большой совет” еще не закончился, как раздался телефонный звонок. — Слушаю. Так, так. Уже расшифровали? Молодцы. — Генерал быстро перелистывает груду бумаг, находит нужную ему и бегло читает. — Одну секунду… Да, Ландыш… С нетерпением ждем. Несите немедленно. В жизни Ландыша произошли серьезные перемены. Прежняя, молодая, хозяйка дома вышла замуж за коммерсанта и отбыла в недалекие края, продолжая, однако, свою деятельность на поприще разведки. В особняк прибыла молодящаяся дама, далеко перешагнувшая за пятьдесят. Карл представил ее как свою тетушку Элизабет. Она с успехом заменила племянницу — и как хозяйку дома и как разведчицу. Тут-то и появились неожиданные осложнения в работе Кати. В прошлом красавица, Элизабет и сейчас привлекала нужных ей людей былым своим искусством кружить головы. С годами потускнела, поблекла красота ее тела, но — увы (увы прежде всего для Кати) — в ней сохранилось любовное неистовство. Страшно взбалмошная, она начала побаиваться Ландыша: соперница! Бывавшие в доме гости — заморские и местные — все чаще заглядывались на миловидную Катрин, что приводило в бешенство мадам Элизабет. Избалованная вниманием мужчин, тяжело переживающая неумолимую кару времени, она жестоко мстила всем, кто хоть как-то подчеркивал увядание ее красоты. Стоило Кате показаться в гостиной, когда там были гости, и взгляд глубоко запавших серых глаз Элизабет обшаривал “домоправительницу” с ног до головы. И если бы она не побаивалась племянника — хозяином-то все же был он, и все связи с резидентами шли через него, — то совсем худо было бы Ландышу. А Карл доверял “домоправительнице”, активно привлекал ее к разным операциям, не обращая внимания на причуды тетушки. Катя чувствовала неприязнь Элизабет, догадывалась, в чем дело, но надеялась, что разум этой умной, волевой разведчицы возьмет все же верх. Но, увы, когда бушуют женские страсти, разум частенько меркнет. Элизабет казалось, что даже застенчивая улыбка Кати — западня для мужчин. Все эти обстоятельства поставили Ландыша в условия чрезвычайно сложные. Карл привлекал ее “к делу”, а Элизабет под любым предлогом оттесняла. Так продолжалось до тех пор. пока хозяйке не пришла блестящая, по ее мнению, идея. Как-то она сказала племяннику, что пора предоставить Кате работу с более широким полем деятельности. Она должна поступить переводчицей в организацию, обслуживающую иностранных туристов. — А почему бы не поручать ей время от времени, — предложила Элизабет, — сопровождать группы наших туристов, отправляющихся в СССР? Не считаешь ли ты, что здесь будет больше смысла? Карл согласился. “Резонно, тетушка…” Но тут же оговорил право на использование Кати и для других поручений. Элизабет презрительно усмехнулась. — У тебя дурной вкус, племянник… Карл вспылил. Они два дня не разговаривали друг с другом. И Катя со страхом наблюдала, чем все это кончится. Кончилось, однако, победой Карла, ибо в мире бизнеса последнее слово за тем, кто платит. Катя с семьей переехала в квартиру — в центр города, недалеко от особняка Карла. Она стала гидом-переводчиком, не очень-то обремененным трудовыми заботами. Но по-прежнему часто бывала в доме Карла. Предлог был найден самим Карлом и вполне подходящий: хозяин хочет в совершенстве изучить русский язык. И вот первое задание Кате. О нем речь идет в гостиной, где собрались Карл, Катя, Эрхард. А в центре всеобщего внимания — лысый, сухощавый джентльмен с протезом вместо левой руки. Собственно, сейчас хозяин уже не Карл, а этот джентльмен, хотя он предпочитает оставаться в тени и оттуда командовать теми, кто будет таскать для него каштаны из огня. Ландыш впервые присутствует в гостиной в качестве человека, которого готовят к серьезному заданию. Карл представил Катю. Разговор зашел о русском ученом-математике, весьма интересовавшем лысого. — Да, очень перспективный человек, — заметила тут же Катя, встречавшая фамилию ученого в русском научно-популярном журнале. — Это один из одаренных математиков, работающий в области радиоэлектроники. Джентльмен многозначительно посмотрел на Катю, одобрительно улыбнулся Карлу: “У вас смышленая помощница”. А Катя, словно не заметив, продолжала: — С какой точки зрения вас интересует этот ученый, господа? Его исследования? — На сей раз нас интересуют не только его исследования, но и его идеи. Так сказать, мировоззрение. Прошу прощения, что прервал вас. — И человек с протезом почтительно склонил голову в сторону Кати. — Наше внимание несомненно привлекут его исследования военно-прикладного характера. Но в данный момент нас весьма интересуют его политические настроения, необычные для советского ученого взгляды на устройство общества… Будем трезво оценивать обстоятельства, господа: вся эта философская эквилибристика наших достопочтенных кремлеведов — “единое индустриальное общество”, “конвергенция”, “эволюция равновесия сил”, “деидеологизация”, — увы, пока не дает ожидаемых дивидендов… Вы согласны, господа? — И, не ожидая ответа, жестко отрезал: — Итак, к делу. План операции обсуждался тщательно, с разными вариантами, с разными действующими лицами, с учетом условий, сложившихся в Москве. И тут Катя впервые услышала об иностранной студентке, которая учится в советском медицинском институте. Медичкой — такова ее кличка — подготовлены важные для разведки материалы, которые она должна была доставить сюда лично. Среди этих материалов — данные об интересующем разведку ученом: его сын дружит с любовником Медички. Находящийся сейчас в Москве Зильбер действует в тесном контакте с Медичкой. Она помогла ему связаться с весьма полезным человеком по кличке Толстяк — он проживает в маленьком городке центра России и в столице появляется с командировочным удостоверением коммерческого директора какого-то учреждения, занятого сбором утильсырья. Зильбер отправлен в Москву со свободной и широкой программой действий, нацеленной в первую очередь на молодежь. Многое зависит от беседы с Медичкой, исподволь изучающей настроения своих сверстников. Возможный вариант: установление контакта, желательно как можно более тесного, с советской студенткой, мать которой в свое время была репрессирована. Зовут студентку Марина, — и тут Ландыш не скрывает своего изумления, — Марина, не родная дочь Эрхарда! Ландыш, полагая, что это сообщение вызовет особенный интерес, передает некоторые подробности психологического порядка. Эрхард был несколько обескуражен, когда человек с протезом повел разговор о Марине. Самодовольный, полный сознания значимости своей персоны в штаб-квартире разведчиков, он как-то сразу сник, едва зашел разговор о его дочери. Немец уныло смотрел на человека с протезом, когда тот, обращаясь к Ландышу, наставлял: — Если упомянутого советского ученого русские отправят в заграничный вояж, вам надлежит поработать с ним в качестве переводчицы и… — На лице джентльмена появилась похотливая улыбка. — Вы сами знаете свое оружие, мисс Катрин. Но возможен и такой вариант; русские не пошлют математика на симпозиум. И тогда мы отправим вас в Москву вместе с туристской группой студентов-математиков. Вам надлежит, мисс Катрин, найти ход к профессору, действуя в контакте с Медичкой, используя собственные возможности и связи. Кажется, ваш дядюшка что-то преподает в университете? Человек с протезом, не ожидая ответа, поднялся с места, окинулвзглядом сидевших за столом. — Я хотел бы, господа, обратить ваше внимание на одну категорию советских людей, имевших родственников за рубежом или связанных родственными узами с репрессированными. Как вы знаете, теперь наступила “оттепель” — так, кажется, принято сейчас писать о России. Повышенная подозрительность уже не в моде. Ее публично осудили. И мы не можем не воспользоваться этим обстоятельством. — И он снова повторил: — Я имею в виду эту самую Марину, дочь врача… И тут Эрхард взмолился. Кто знает, какая струна зазвенела в его душе. — Сэр, я буду иметь честь убедительно просить вас оставить мою дочь вне поля вашего… Простите, вне поля нашего зрения… Сэр иронически улыбнулся: — Вы слишком сентиментальны, господин Эрхард. Нас не интересует, кто является отцом девушки, которая сможет помочь человечеству. И не надо больше напоминать мне об этом. И тоном, не терпящим возражений, объявил: — Итак, господа, вариант первый: профессор приезжает на симпозиум. Мисс Катрин знает, как ей в этом случае действовать. Об организации дела позаботится Карл. Вариант второй: профессора не послали за границу на симпозиум. Госпожа Катрин с группой туристов — студентов-математиков едет в Москву. За организацию дела отвечает господин Карл. Более детальные инструкции, пароль, явку мисс Катрин получит накануне отъезда… — Все? — Все, Василий Михайлович. — Сообщения весьма полезные. Главные действующие лица находятся под нашим наблюдением. Вот только Толстяк… Надеюсь, Александр Порфирьевич, что ваша группа сумеет найти его след. Прошу вас сегодня же разработать план действий оперативных сотрудников. Ну что же, все, кажется, ясно… — За исключением одного темного пятна, — заметил Бахарев. — Что вы имеете в виду, Николай Андреевич? — спросил генерал, хотя отлично знал, о чем пойдет речь. — Марина… Нам до сих пор неизвестно, чем закончилась беседа Зильбера с ней… — А ваше мнение каково? Нам важно знать вашу личную оценку линии Зильбер–Марина, — генерал нажал на слово “личную”. Бахарев молчал. Он сидел в углу комнаты, упершись взглядом в карту, что висела на стене, словно искал там ответа. Генерал встал из-за стола, подошел к лейтенанту и, обращаясь непосредственно к нему, продолжал: — Странное молчание… Я ведь все знаю, Николай Андреевич, все, так сказать, привходящие обстоятельства. Включая и то, как вы однажды отказались продолжать вести дело… Бахарев перевел взгляд с карты на генерала и тихо, едва слышно, сказал: — А вы о доверии к людям говорили, Василий Михайлович… Да и сами… Прибалтийская сага… Мы ведь знаем ее. Волнующая история… Генерал нахмурился. — Если бы вам не доверяли, товарищ Бахарев, то мы не сидели бы здесь вчетвером. Ясно? А психологическими коррективами никогда не следует пренебрегать. Ясно? Итак, я повторяю: какова ваша личная, да, да, подчеркиваю, личная оценка линии Зильбер–Марина? Смог турист одолеть этот барьер или нет? Бахарев перевел взгляд с карты на генерала. — Я лично допускаю такое… Может, и смог. — Бахарев говорил непривычно медленно, словно каждое слово процеживал сквозь сито. — У девушки сумбур в голове. И к тому же до сих пор, хотя прошло уже немало времени, она продолжает пребывать в состоянии некоторой озлобленности. От озлобленности до преступления — один шаг. — Насчет одного шага это вы правильно изволили заметить. На такой шаг противник тоже рассчитывает. Не знаю, сделан ли уже этот шаг. Нам не следует забывать, что отчим Марины был и есть агент иностранной разведки. Через лиц весьма подозрительных шлет дочери подарки. Дочь не может не догадываться, чем занимаются все они и чего добиваются от нее. И не считает нужным заявить об этом кому следует… Тут, знаете ли, есть над чем призадуматься. Василий Михайлович насупился, словно именно в этот момент он как раз и призадумался. — Теперь о сумбуре в голове девушки. Лично я стою тут за абсолютную монархию, за царя в голове… — Улыбка тронула его губы. — А Зильбер и рад этому сумбуру. Между тем нам до сих пор неизвестно, сумел ли Зильбер воспользоваться обстоятельствами, которые облегчают его работу, сумел ли выполнить задание центра относительно Марины? В разговор вступил Птицын. — Я не спешил бы с категорическим ответом на такой трудный вопрос. Картина складывается противоречивая, порой запутанная… — Согласен… Ваши предложения? — Усилить наблюдение за Зильбером–Ольгой, настойчиво продолжать выяснение линии Зильбер–Марина… Со всеми ее ответвлениями. — Согласен. Однако позволю высказать пожелание. Это не требование… Пожелание… Думается, что нам небезынтересно узнать, что это за сумбур в голове девушки, в какой мере она поддается влиянию человека, который захочет навести там небольшой порядок. Попытайтесь, Бахарев, задание, конечно, не главное, но немаловажное. Нам нужно знать, с каким человеком имеет дело Зильбер: небольшой ералаш в голове или нечто иное? К тому же прошу учесть: Зильбер уедет, а она останется среди нас. Ясно? Вот и отлично. Желаю успеха… Для Бахарева разговор с генералом — повод к серьезным раздумьям. Как понимать и как выполнить последнее пожелание генерала? Всякие раз, если кто-то смел атаковать, как говорится, основу основ, Марина, словно коршун, обрушивалась: “Не тронь!” Бахарев однажды с наслаждением наблюдал ее в такой яростной контратаке против Владика. — Это ты уж не тронь, пожалуйста, Владик. То, что моя мама, дочь санитарки из захудалой сельской больницы, могла только благодаря Советской власти стать врачом, — неоспоримый факт. И то, что мамина сестра, в прошлом батрачка и кухарка, при Советской власти председателем райисполкома была, — это тоже факт. И тоже неоспоримый. И ты полегче насчет коллективизации. С моей мамой поговори, она тебе расскажет, как жила их деревня до колхоза. Тут, Владик, мы с тобой драться будем… А через несколько минут она столь же яростно спорила с Бахаревым по поводу статьи, объективно анализирующей события первых месяцев войны. На следующий день Марина пригласила Николая на концерт: “У мамы абонемент в зал Чайковского. А сегодня у нее неожиданное дежурство*. В программе концерта любимый Бахаревым Шопен. И, возвращаясь домой, он восторженно говорил Марине о шопеновской музыке, о полонезе, пробуждающем в душе его что-то трепетное, не передаваемое словами. С этого, кажется, и начался их спор. Они сошлись на том, что симфоническая музыка в программах радио и телевидения, увы, все еще пребывает на положении падчерицы, а за попытки создать джазовые варианты фортепианного концерта Чайковского надо ссылать на необитаемый остров без права переписки… Но когда речь зашла о пошлости в эстрадной музыке, о примитиве во многих, к сожалению, ставших популярными, туристских и студенческих песнях, Марина вдруг взвилась. — Почему иногда молодежи отказывают в праве самой решать, что хорошо, а что плохо. И в поэзии, и в живописи, и в танцах, и в музыке… Когда же, наконец, исчезнет перст указующий? Разговор переключился в сферу отнюдь не музыкальную. Марина бушевала. — Весной нынешнего года наш старшекурсник написал туристскую студенческую песню. И слова и музыку. Я допускаю, что песня эта не без пошловатого налета. Есть в ней куплеты с подтекстом, с гнильцой… Но ведь автора на всех собраниях прорабатывали. Фамилия его стала нарицательной. Кто-то потребовал исключить парня из института. Но это уже… Слов не нахожу… Не нравится песня? Не пойте. Запретите ее петь на студенческих вечерах. Но шум такой к чему? Об авторе и его песне мало кто и слышал. А тут по всему институту слухи пошли… Да и не только по институту. Ну, что молчишь? — Как эта песня называется? — “Заря”. — А-а-а! “Заря”! Я кое-что слышал о ней. Как-то в одной компании профессор рассказывал про ту песню. Она, кажется, стала гимном клуба “Заря”. — Коля, прости меня, но ты какую-то ахинею несешь. Что за клуб? — Самый настоящий клуб. Автор песни и еще девять молодых балбесов из другие институтов решили создать клуб “Заря”. Со своим уставом. Главное в этом уставе: “Наше кредо — свобода мнений и вкусов”. Фокусники слова… Жонглеры… Между прочим, эти “борцы за свободу мнений” выпустили рукописный журнал, в котором есть вирши, принадлежащие автору “Зари”. Я слышал твой разговор с Владиком о маме и колхозах. Так вот, Мариночка, в тех виршах коллективизация поэтическими образами представлена в этаком виде, что и не поймешь… — Ты разговариваешь со мной, как с глупой девчонкой… Речь шла о музыке, о легком жанре, о праве молодежи на свои песни, а ты привел ни к селу ни к городу какой-то клуб, коллективизацию. Мепьше всего я ожидала этого от литератора Бахарева. — Ты не сердись. И клуб и коллективизация — все это и к селу, и к городу. Началось с туристской пошловатой песенки, а кончилось виршами против Советской власти… — Мой собеседник не отдает себе отчета в том, что он говорит… — Отдаю… Ты, Мариночка, не то чтобы уж совсем невежественна в некоторых вопросах нашего бытия, но, как говорится, не совсем, что ли, разбираешься в сложных деталях архимудрой социальной науки. Между прочим, Чайковский писал, что ни музыка, ни литература, ни какое бы то ни было искусство в настоящем смысле этого слова не существуют просто для забавы. Они отвечают куда более серьезным потребностям человеческого общества. Гендель мечтал о том, чтобы его музыка делала людей лучше. Но это так, к слову. Мы отвлеклись от истории с песней “Заря”, точнее — от продолжения этой истории… Так вот, этот самый клуб молодых свободолюбов… — Я впервые слышу о нем. Неужели всё так было? — У меня нет оснований не верить рассказу профессора. Солидный дядя… Девяносто килограммов. — И он улыбнулся, вспомнив Птицына, в свое время беседовавшего со взбалмошными юнцами из несостоявшегося клуба “Заря”. — Ну и прохвост, — в сердцах воскликнула Марина. — Кто, профессор? — Да нет же, автор “Зари”. И вообще вся эта гопкомпания. Бахарев мысленно отметил, что первая “разведка боем”, пожалуй, дала кое-какие результаты. Птицын получил одновременно несколько сообщений оперативных работников, действовавших под его началом в группе “Доб-1”. Ни одно из этих сообщений не привлекло внимания полковника — ничего нового к тому, что уже известно. Есть детали, подтверждающие и без того бесспорные выводы. И вдруг — черепашка вылезает из-под панциря! …Она долго прогуливалась в Архангельском, свернула на уединенную зет-аллею — так она обозначалась в деле “Доб-1”, — села на скамейку под ивой, оглянулась и, убедившись, что кругом безлюдно, стала прилаживать контейнер: видимо, Зильбер лучшей скамейки так и не нашел. Доставленная Птицыну фотография девушки и фотокопия шифровки, которую она положила в контейнер, не оставляла сомнений: Ольга! С ключом к шифру пришлось основательно повозиться. И все же ключ удалось найти. Записка предназначалась Зильберу — девушка явно побаивалась личных встреч. Разведчица сообщала, что в воскресенье Марина и Бахарев отправляются на ВДНХ. Там же, вероятно, они будут обедать в одном из ресторанов. Ольга в понедельник снова приедет в Архангельское, чтобы получить инструкции Зильбера после его встречи с Бахаревым на ВДНХ. Желательно уточнить: следует ли собранные ею и хранимые в разных местах материалы передать шефу через Зильбера или ждать ближайших зимних каникул, когда она сама поедет домой. Лично она считает более надежным второй вариант. …С наступлением сумерек на той же аллее появился элегантно одетый толстяк. Раза два он неторопливо прошелся по аллее, а потом сел отдохнуть на скамью под ивой. Операцию изъятия контейнера он провел ловко и незаметно, так по крайней мере ему казалось… К вечеру Птицын получил лаконичное сообщение: улица, номер дома и квартиры, куда толстяк проследовал из Архангельского. Хозяйка этой квартиры — Н.В.Вакулова. А через час пришло еще одно сообщение: более года назад по ходатайству одного из ученых Надежда Васильевна Вакулова была направлена на работу в научно-техническую библиотеку подмосковного филиала научного института. Покойный муж ее был научным сотрудником этого института. Птицын тут же пошел к генералу. Надо было решать — арестовать Косого или повременить? — Не будем спешить, Александр Порфирьевич. Арестовать Косого — значит подать Зильберу сигнал: “Спасайся, провалились!” Подождем… Согласны? — Я того же мнения. Никуда он от нас не уйдет. Вот только с Вакуловой как быть. Она ведь черт те что натворить может… — И все же подождем. Есть в этом резон. Между тем турист продолжал атаковать Марину. Сегодня после обеда она виделась с Зильбером в Сокольниках, в парке. В пять часов в кабинете Бахарева раздался телефонный звонок. — Слушаю. Где вы находитесь? Вас понял. Будет сделано. Постараюсь. Звонил Птицын из Сокольников. О характере разговора Зильбера и Марины можно было догадываться лишь по выражению их лиц — невозмутимо спокойное, несколько ироническое у Зильбера, злое, испуганное, полное негодования — у Марины. Беседа длилась около получаса. Только что Марина ушла из парка. Бахарев обязательно должен повидать се сегодня. В пять тридцать Николай позвонил Марине. Дома он не застал ее. К телефону подошла мама, она была очень взволнована. — Не знаю, что и думать, Марина снова в каком-то страшном трансе. Звонил ей все тот же бархатный голос. Спрашиваю Марину: “Кто это?” Отвечает раздраженно: “Знакомый”. Тут же собралась и ушла. Недавно звонила и сказала, что работает в библиотеке. Обещала к восьми вернуться. Поздно вечером Николай позвонил Александру Порфирьевичу домой. Позвонил только для того, чтобы сообщить: “Виделся. Разговор был недолгий. Она снова в состоянии нервного потрясения. Подробности при встрече”. Около девяти вечера Бахарев перехватил Марину на пути к дому и предложил погулять в ближайшем сквере. Стоял темный ненастный ноябрьский вечер. Шуршали опавшими листьями безлюдные аллеи. Но и тусклого света было достаточно, чтобы заметить бледность Марины. Такой она была и в тот вечер, когда он навестил ее после болезни. Теперь во взгляде мелькала тревога, желание что-то рассказать и боязнь проговориться. И видно, как трудно дается ей это молчание. Попытки завести разговор не увенчались успехом. — Мы так и будем молчать весь вечер? — спросил Бахарев. — Если это тебе неприятно, мы можем разойтись по домам, — ощетинилась она. И широким шагом направилась к выходу из сквера. Бахарев догнал ее, взял за руку. — Не надо, Марина. Не сердись. Да будет вам известно, сударыня, что даже классическая школа Цицерона признает право на существование такой разновидности красноречия, как… молчание. Вот я и пытаюсь “услышать” твое мнение. И “слышится” мне, как что-то невыносимо тяжкое легло на хрупкие плечи сударыни и сбросить это тяжкое не хватает у нее силы воли. Не так ли? Или у меня плохой “слух”? — Ты о чем? — О том, что на твоем хмуром челе начертано. Я ошибся? Она ничего не ответила, подняла воротник пальто, взяла Бахарева под руку, и вот так, снова молча, они шагали по укрытому золотом осени асфальту. Вдруг она резко повернулась к Бахареву и сказала: — Ты как-то похвалил меня, сказал, что я сильная. Это неправда, неправда. Безвольное существо, испугавшееся шантажа какого-то негодяя. — Ничего не понимаю, Марина. Объясни, пожалуйста, что случилось? Страх, смятение метнулись в ее глазах, она вдруг сникла, сгорбилась и, не поднимая головы, прошептала: — Так, просто так. Разыгравшиеся нервы. Пустое все это. Пошли домой. Уже поздно… Они направились к дому. Больше он не услышал от нее ни слова. Уже прощаясь, Бахарев напомнил о ВДНХ. — Ты не забыла? — Может быть, отложим на другое воскресенье? — Но мы уже договорились с Ольгой, а она с Владиком. Нет, это неприлично. — Неприлично. Гм! Неужели в мире, где столько подлости, еще существует такое старомодное понятие? Ну ладно. Договорились. Завтра на ВДНХ. Ты заедешь за мной? Буду ждать… Они оба тщательно готовились к этой встрече — разведчик и контрразведчик — Зильбер и Бахарев. Стороны продумали все детали. Даже количество мест за столом. В тот вечер, когда Николай был у Ольги, она, прощаясь с гостями, спросила: “В воскресенье на ВДНХ — это твердо? Я надеюсь, что Гарун аль Рашид заранее позаботится о столике на четыре персоны?” “Конечно, Гарун аль Рашид хорошо знает свое дело”. Так же хорошо он знает, что Ольга на ВДНХ не приедет: разговор должен быть в присутствии одной Марины. А столик — на четыре персоны. Все ясно: Зильбер попросит разрешения присесть за стол к “старым знакомым”. Ну что же, здесь их планы не расходятся. Бахарев тоже не случайно приглашал Ольгу с Владиком. Ему тоже нужен повод заказать стол на четверых. …Сервированный на четыре персоны столик стоит в углу большого зала. С полудня на белой скатерти лежит серая картонка с магическим словом: “Занято”. А над нею уже возвышается ваза с фруктами. Все шло так, как и предполагал Бахарев. Часика полтора они гуляли по выставке. Воскресный день для конца ноября выдался ясный, теплый. В павильонах многолюдно, и Марина, по-прежнему хмурая, неразговорчивая, сказала, что ей надоела эта толчея, что она предпочитает быть на воздухе. Да и вообще пора идти к Большому фонтану, условленному месту встречи с Ольгой и Владиком. У фонтана их не оказалось. Ждали десять, двадцать минут, полчаса. Николай предложил позвонить из автомата в общежитие и спросить у Герты, давно ли уехала Ольга. Нашли автомат. Позвонили и выяснили: “Тысяча извинений. Страшно болит голова. Лежу в постели и глотаю какие-то пакостные таблетки. К тому же и у Владика неожиданное задание по институту”. Марина, не скрывая своей радости, передает Николаю телефонный разговор с Ольгой. “А чему, собственно говоря, она радуется, — тому, что будут только вдвоем, или тому, что задуманная ею (или ею и Ольгой) операция развивается успешно?” Мысль эта не дает покоя Бахареву-контрразведчику, а Бахарев-литератор весело откликается: — Ну что же, раз так, шагаем в ресторан. Я чертовски голоден… Столик на четыре персоны к их услугам. Официант, узнав, что второй пары не будет, так поставил два свободных стула, что каждому ясно — без согласия хозяев не подсаживайся. Закуска, коньяк уже на столе, и постепенно хмурь исчезает с лица Марины. Ресторапное многоголосье, суетня официантов — народу полным-полно. Первая рюмка коньяка, ласковая улыбка собеседника, рассказывающего что-то интересное и смешное, делают свое дело. Лед, кажется, тронулся. Марина уже смеется. Коля пересаживается поближе к ней, поднимает рюмку и предлагает тост: — Я хочу выпить за свою проницательность и за твою силу воли. Я хочу быть правым. Ты — сильная, ты должна быть сильной… — Раз должна — значит, буду. Хотеть — это быть. Так, кажется, говорили древние? Они выпили, закусили, оба чмокнули от удовольствия, и вдруг рядом с их столиком, словно поднявшиеся откуда-то из подземелья, появились двое сухопарых изысканно одетых мужчин. В одном из них Бахарев сразу узнал Зильбера. Турист мастерски изобразил на лице своем крайнее изумление. — О, майн готт! Русские говорят — мир есть тесен. Я имел честь быть познакомлен с вами в “Метрополе”. Мадемуазель есть сама грация в танце… Лицо Марины перекосилось от бешенства. Николай мельком взглянул на нее и тут же подумал: “Вот, пожалуй, и ответ на твой вопрос, товарищ Бахарев: чему радовалась Марина?” Он никогда не видел ее в таком состоянии — сейчас Марина, кажется, готова на любую акцию, ничто и никто ее не удержит, надо поспешить как-то самортизировать “удар”. Он поднялся со своего места и, улыбаясь, продолжал разговор стоя. — Ты узнаешь, Марина, своего партнера? У господина… Не имею чести… Он запнулся. — Зильбера, Эрнста Зильбера… — И турист склонил голову в сторону Бахарева. — Так вот, у господина Зильбера бархатный голос и очень приятная, легко запоминающаяся внешность. Будем знакомы — Николай… — Очень приятно. Это есть мой коллега и друг — Ганс Рихтер. Мы есть туристы. Мы будем иметь много впечатлений. О, это чудесный городок. Я инженер-физик и имею возможность быть ценителем того, что демонстрируют русские. Это изумительно. Я видел в павильоне радиоэлектроники не только то, что есть сегодняшний день мировой техники, по и то, что ость завтрашний. Потом я есть немного голодный и делал предложение Гансу искать ресторан. Но, к сожалению, как говорят коммерсанты, спрос выше предложения. Все места заняты, и будем искать другой ресторан. После такого заявления гостей продолжать разговор стоя было уже невозможно — есть нормы приличия, долг хозяев, традиционное русское гостеприимство. В общем, все складывалось наилучшим образом. Пора приглашать гостей к столу, хотя Бахарев и догадывается, какая ярость клокочет сейчас в груди Марины. И тут же ловит себя все на той же мысли: неужели перекосившееся в злобе лицо, нескрываемое раздражение — лишь отлично сработанная маска? А под ней — полное удовлетворение: события развиваются так, как потребовал от нее Бородач, все идет по ею же разработанному и ею же твердо осуществляемому плану. Ведь может быть и такой вариант? Он, Бахарев, еще не уверен, что… Но на раздумье нет времени. Бахарев любезно приглашает туристов к столу и по-немецки говорит им: — Мы сможем объясняться и по-немецки. Если это устраивает гостей… — О да, конечно. В России многие отлично разговаривают и читают по-немецки. — И уже по-русски Зильбер добавляет: — Это есть очень приятно. Рихтер сердечно благодарит за приглашение, но у него деловое свидание, и он должен спешить. Бахарев, соблюдая “протокол”, увещевает гостя, хотя знает, что по замыслу Зильбера Рихтер должен удалиться — он тут был лишь для “фона”. И Рихтер удаляется — Бахарев обратил внимание на то, как тот пошел на негнущихся ногах, но еще пружинистой походкой кадрового вояки: турист! На столе появляется третий прибор. Обед продолжается. Идет оживленный разговор мужчин, в котором Марина не принимает участия, а лишь изредка подает какие-то реплики или односложно отвечает на вопросы Зильбера: “да”, “нет”. А тот заливается соловьем, расхваливая Москву, размах строительства, потом переключается на выставку. Гость, между прочим, не оставил без внимания павильон печати. О нем он тоже говорит восторженно. Блестящий взлет культуры, гигантские тиражи газет, журналов, книг, проникающих в самые глухие уголки России. Гость изумлен, восхищен. Но он не может не заметить… — Я не литератор… Вы больше меня есть специалист по этим делам. — Он уже знает, что его собеседник литератор, поэт, что у него широкий круг знакомых среди писателей разных возрастов, что его собеседник на короткой ноге с поэтами, о которых господин Зильбер премного был наслышан у себя дома: “Таланты, увы, не всегда признанные и поддержанные”. Так вот, гость не может не заметить, что, по мнению прогрессивных людей Запада, советская литература достигла бы куда больших вершин, если бы не… Тут турист запнулся и попросил прощения за то, что должен сделать небольшое критическое замечание. Он, конечно, понимает, что неприлично в доме хозяев говорить вещи, неприятные им, но, поверьте, — от души. — У вас это называют партийное руководство литературой… У нас это называют антигуманной, антидемократичной акцией. Я не есть политик. Я есть физик. Но я есть демократ и горячий поклонник свободы творчества. Мой большой друг, господин Эрхард, — он мельком глянул в сторону Марины, — крупный специалист по новейшей русской литературе, немного просвещает меня… — Разрешите и мне немного просветить вас, — сказал Бахарев. — Я тоже сторонник свободы творчества, но… — О, это очень приятно. Я имею просьбу моего друга Эрхарда познакомиться с такими литераторами, которые есть свободное творчество. Мой друг имеет большой интерес к произведениям молодых литераторов. Это есть будущее человечества. Молодые легко увлекаются, иногда впадают в крайности, но мы благодарны им за свежесть мысли. А это есть индивидуум, который имеет свой особый взгляд на общество, нестандартный. У вас их называют нигилистами. Мой друг пишет монографию и будет рад узнать, что есть нового у таких литераторов, что есть предмет их споров с официозной позицией. Я буду благодарен… Но Марина не дала ему закончить монолог. Она резко поднялась и, обращаясь к Бахареву, сказала: — Я себя очень плохо чувствую, Коля. Пойдем домой. Вы простите нас, господин Зильбер… Турист тоже встал и несколько растерянно смотрит то на Марину, то на Бахарева. — Это есть очень неприятно… — заговорил он. — Ресторан не имеет кондишен. Я хочу предложить госпоже небольшую прогулку в парке… Или кафе “Метрополь”, где есть очень уютно… — Нет, нет! Благодарю вас. Я иду домой. — И, не попрощавшись, пошла к выходу. Николай догнал ее: — Подожди, пожалуйста, меня в парке. Я рассчитаюсь. А гость? Право, не знаю, как с ним быть. — Я тоже не знаю. И знать не хочу. Бахарев вернулся к столу и позвал официанта: “Прошу общий счет”. Зильбер понял, что сие значит, и благодарно улыбнулся: “То есть русское гостеприимство… Я буду иметь предложение выпить за это радушие. И буду просить разрешить мне ответить вам, господин Бахарев. Мы будем провожать даму домой, а потом поедем ко мне, в гостиницу. Я буду иметь удовольствие предложить вам французский коньяк. Мы можем продолжить наш интересный разговор”. Бахарев согласился. Они оба вышли из ресторана, и Николай торжественно объявил поджидавшей его Марине: — Синьорита проследует до своего палаццо под интернациональным эскортом, после чего мужчины отправятся пить коктейль и продолжат свою беседу. Марина с тревогой и удивлением посмотрела на Бахарева, снисходительно улыбнулась Зильберу, и они молча зашагали по аллеям выставки. Надсадно гудел ветер, небо заволокло тучами, и первые капли надвигающегося дождя окропили землю. Зильбер раскрыл зонт, протянул его Марине, она поблагодарила и отказалась. Бахарев, наблюдавший эту сцену, не мог обратить внимания на то, каким ледяным холодом повеяло от дочери Эрхарда. Они сели в такси и через двадцать минут были у дома Марины. В пути она не проронила ни слова и так же молча вышла из машины, на прощание буркнув Зильберу что-то похожее на “ауфвидерзеен”. Зильбер остался сидеть в такси, а Бахарев выскочил, чтобы проводить Марину к подъезду. Николай попытался как-то отшутиться, шаркнул ногой, поцеловал ручку, но, когда их взгляды встретились, он понял: не место для шуток. Она стояла перед ним серьезная и печальная. Сейчас она не могла ничего сказать Николаю. Смогла только вполголоса промолвить: “Коля, я хочу, чтобы ты оставил гостя и пришел ко мне. Мамы нет дома, мне грустно и тяжко…” — Мы недолго задержимся, Марина. Мужской разговор. Ваш покорный слуга через час-другой будет у ваших ног… Марина скорее прошептала, чем сказала: — Не уходи, умоляю тебя. Попрощайся с ним. Не надо… Он ничего не ответил. Повернулся, и шагнул в темноту, туда, где стояла машина с господином Зильбером. В тот вечер Марина не дождалась Николая. “Мужской разговор” затянулся до полуночи. Птицын тщательно изучал отчет об этом “разговоре”. Для него было все важно — и интонация Зильбера, и то, как быстро турист реагировал на ответы Бахарева… Николай с тревогой вглядывался в лицо Александра Порфирьевича: “Ну как, справился?” Судя по выражению лица шефа, тот был доволен: разговор получился именно таким, каким замышлял его Птицын. Бахарев с честью вышел из трудного положения, блестяще выполнил все полученные им инструкции. Есть основания полагать, что Зильбер проявляет большой интерес к Бахареву, его “возможностям”, “литературным связям”, “взглядам”. В споры на самые разные темы — социалистический реализм, критерии литературы и кинематографа, молодежь и демократия, отцы и дети, гуманизм и диктатура, — споры, в которых Бахарев предстал перед разведчиком эрудированным литератором, нет-нет да и вплетались какие-то недомолвки, неопределенные замечания Николая: “Об этом стоит подумать… Возможно, в сказанном вами есть зерно истины…” Птицын понимал: разведчика должны были устроить даже те маленькие лазейки, которые оставлял этот пока еще не очень понятный ему молодой человек, с не очень стандартными — с точки зрения Зильбера — взглядами на жизнь. — Над чем вы сейчас работаете, что пишете? — поинтересовался Зильбер. — Заканчиваю повесть о молодежи. Думаю, что получится острая вещь. Конфликт отцов и детей. В семье советского работника растут эгоисты, себялюбцы. Любимые их слова — “дай”, “мое”, “хочу”, “не хочу”. Растут домашние идолы, которым все поклоняются. Включая отца. Он бессилен. Он пытался урезонить старшего сына, а тот ему отрезал: “Ты не лучше нас…” Бахарев развивает на ходу придуманный сюжет и видит, с каким вниманием слушает его турист. Зильбер попыхивает сигарой и спрашивает: — То есть ситуация, взятая из жизни? — Да, и в нашей жизни такое бывает. — Вы думаете, что вашу повесть опубликуют? — Хочу надеяться. Возможно, что придется потратить немало энергии в поисках снисходительного редактора. — В этих поисках вы можете рассчитывать на помощь прогрессивных людей, где бы они ни жили… Бахарев сделал вид, что не понял, на что намекает гость, и снова повел разговор о молодежи, о студентах. Зильбер охотно подхватил эстафету: — О, это есть отчаянные бунтари… И у нас и у вас. Вы, вероятно, слышали о них? — Я читал об одном таком лидере молодых бунтарей. Он, кажется, ваш соотечественник. У него есть очень оригинальное кредо: “Насилие — это есть радость”. Его программа — коктейль из идей Сен-Симона и Бакунина, — заметил Бахарев. — Но если говорить о главном в его кредо, то это антикоммунизм. — Вы есть слишком прямолинейный, господин Бахарев… Вы есть немного резкий в своих суждениях. Антикоммунизм — это есть формула пропаганды. — Зачем же такие тривиальные слова! Ведь вы тоже занимались пропагандой, господин Зильбер, когда говорили мне о свободах стран Запада, о законах свободного общества… Я не юрист, я литератор. Но, работая над повестью, я знакомился с некоторыми материалами, касающимися британского правосудия… В Англии на основании так называемого закона об “официальных секретах” человека могут упрятать в тюрьму только за то, что он взял в руки без разрешения документы, представляющие “собственность правительства”. А в моей стране для обвинения надо установить фактическую передачу материалов иностранной разведке… Да, да — фактическую… Я наводил соответствующие справки… И тогда юристы подбросили мне еще одну любопытную для литератора деталь: британское правосудие может посадить человека в тюрьму лишь за преступное намерение, а советский суд — за конкретные, доказанные деяния… Я это так, к слову… Я понимаю, что вас меньше всего интересуют нормы советского уголовного права и, конечно, еще меньше те из норм, которые карают за шпионаж. Это я все говорю к вопросу о пропаганде. Наступила пауза. Слегка растерявшийся было Зильбер быстро овладел собой и снова повел речь о том же: о контурах человеческого общества будущего, о “мире открытых сердец и умов”. — Вы умный, образованный человек, господин Зильбер. Это не комплимент. Вы в нем не нуждаетесь. Вы отлично знаете, что на нашей грешной земле два полярных полюса: капитализм и социализм. Третьего, как говорится, не дано… — Дано… — резко оборвал Зильбер. — Дальновидные люди — у нас, на Западе, и у вас, на Востоке, имеют другую точку зрения. В наш век космоса и атома мир делится не по социально-политическим системам, а по уровню экономического, научно-технического и, если хотите, военного потенциала. Капитализм и социализм трансформируются в единое индустриальное общество… — Общество не может существовать без идеи. — Единое индустриальное общество может. Оно деидеологизировано. Оно питается идеями не социальными, а куда более возвышенными и многозначащими — техническими… Бахарев улыбнулся и тоном, по которому трудно понять, шутит ли он, сказал: — Это позиция прожженного физика. Если бы я был физиком, то может быть… — Вы — молодой человек острого ума. Если бы мы имели возможность продолжить наш откровенный диалог завтра, послезавтра… Я верю в конвергенцию наших точек зрения… Так же, как и в конвергенцию социализма и капитализма… Не сбрасывайте со счетов великую техническую революцию нашей эпохи. — Я не сбрасываю, господин Зильбер. Но социальные последствия разные… Вы это учитываете? И Бахарев, с трудом сдерживая себя от того, чтобы не обрушиться на противника всей мощью своих аргументов, старался спокойно, в достаточно популярной форме, не обижая собеседника, разъяснить ему бессмысленность попыток буржуазных идеологов обвинить марксистов в игнорировании тех новых факторов, что порождаются научно-технической революцией. И каковы бы ни были эти факторы, включая резко возросшую степень обобществления производительных сил, капитализм по-прежнему использует научно-технический прогресс для роста прибылей монополий, для усиления эксплуатации трудящихся. — Согласитесь, господин Зильбер, что на фоне тех возможностей, которые открывает перед человеком современный технический прогресс, социальные конфликты в капиталистическом мире становятся особенно глубокими, вопиющими… Не так ли? Возможно, что я где-то и не точен… Я не настаиваю… Это тема спора… — О, у нас состоялся интересный диалог, господин Бахарев… Вы есть приятный собеседник. — Кто же мешает нам продолжить этот диалог? Через день, два… через месяц… — О, я буду приветствовать такую постановку вопроса, хотя несколько затрудняюсь сейчас ответить вам. Время покажет. Я верю в дальновидность советских литераторов и хотел бы выпить за их творческие успехи, за то, чтобы они всегда без страха высоко держали знамя гуманизма… Разговор пошел о литературе, именитых писателях. И гость пришел в восторг, когда узнал, что есть у Бахарева друг, знакомый с очень популярным на Западе советским писателем, повесть которого отвергнута толстым журналом. И что друг этот обещает Бахареву дать почитать повесть в рукописи, которая сейчас ходит по рукам… На пятнадцать часов был назначен разговор с генералом. Должна была собраться та же четверка: пора завершать операцию. Уравнение со многими неизвестными перестало существовать. Почти все известно. Утверждены постановления на арест Ольги и Косого… Если потребуется взять Зильбера — и тут соблюдены соответствующие нормы. А вот брать ли Зильбера, когда и где арестовать Ольгу, Косого? Тем более что обстоятельства на первый план выдвинули соображения, выходящие за пределы “Доб-1”. Беседа Зильбера с Бахаревым позволяет повести дело дальше, глубже, с расчетом на более отдаленные времена… У Птицына на сей счет есть некоторые соображения. Но он пока ничего не говорит о них Бахареву. Он хочет доложить генералу, выслушать его мнение, вернее, его оценку встречи Бахарева с Зильбером — доклад об этой встрече уже давно передан Клементьеву. И сейчас, в ожидании разговора с ним, Александр Порфирьевич неторопливыми глотками пьет горячий кофе. Тишину разорвал телефонный звонок. Птицын прижимает плечом трубку к уху. И вдруг он, человек степенный, весь преображается, начинает жестикулировать. Бахарев растерянно, ничего не понимая, — Птицын бросает в трубку односложные “да”, “нет”, “он самый”, “ясно”, — смотрит на подполковника. Наконец Птицын, стараясь быть сдержанным, объявляет: — Звонили из приемной… Марина пришла. Птицыну надо быстро решать, как быть с Бахаревым, — может, ему до поры до времени все еще оставаться… литератором? Вопрос серьезный и все из той же серии далеко идущих замыслов. Птицын звонит полковнику, генералу — их нет на месте. Надо немедля принимать решение: в приемной ждет Марина. И Птицын решает: “Придется тебе, Николай, еще некоторое время пребывать в литераторах…” …Она не сказала ни “здравствуйте”, ни “благодарю” в ответ на приглашение сесть. Сразу выплеснула: “Спасите!” И больше не могла сдержаться — к горлу подступил комок… — Успокойтесь, вот так… Я, простите, не очень понял вас: кого спасать надо? Последние слова были сказаны вежливо, учтиво, но достаточно строго. Марина растерянно посмотрела на Птицына: что означает этот вопрос? Когда она шла сюда, то десятки раз прикидывала, как спокойно, размеренно будет рассказывать обо всем, начиная с первых дней войны и кончая встречами с “туристами”, подарками отца, расскажет о его странной статье и ее подспудно зревших подозрениях, о домогательствах Зильбера и легкомыслии Бахарева. Все разложила по полочкам. И твердо решено было покаяться в собственной вине, объяснить, почему медлила, почему не пришла тогда, после беседы с Кохом. Но, как часто бывает в таких случаях, все заранее приготовленные слова в последний момент исчезли. Растаяли как ледышки. Когда она вошла в приемную КГБ, ей почему-то показалось, что главное в ее визите — спасти Бахарева… Она так и начала свой разговор с Птицыным. — Я хочу сказать о близком мне человеке… Бахареве Николае Андреевиче, литераторе. Поверьте, речь идет о весьма достойном человеке. Иначе я не пришла бы к вам. Сказала и запнулась, смутилась. То есть как не пришла бы? Она все равно пришла бы сюда и вовсе не потому, что Бахарев… У нее закружилась голова, она вдруг почувствовала недомогание, охватившее ее после бессонной ночи. Но нашла в себе достаточно сил, чтобы стряхнуть тяжесть. А Птицын все так же вежливо, но холодно продолжал: — Вы не ответили на мой вопрос, товарищ Васильева, — кого надо спасать: вас или упомянутого вами литератора? Марина тяжело вздохнула и, глядя в упор на Птицына, отчеканила: — И меня и его. Я пришла к вам с повинной… Птицын с живейшим интересом, словно для него все это открытие, слушает исповедь мечущейся девушки, отмечая точность бахаревских характеристик, точность нарисованного им портрета Марины. И про себя фиксирует: девушка ничего не утаивает. И про родителей, и про первую встречу с “туристом”, и про подарки Эрхарда, и про первые тогдашние сомнения, касающиеся истинного лица отчима; и про то, как не теряла надежду — “а вдруг вернется, раскается во всем и вернется”; и про “Метрополь”, и про танец с Зильбером… — Я его сразу узнала… Он был с Кохом, когда мы с ним второй раз встречались в кафе “Метрополь”. Подозрения незаметно, исподволь закрадывались уже тогда. Я догадывалась, какие это туристы. Но сама себе не решалась признаться в этом. До сих пор она говорила спокойно, ровно, глядя прямо в лицо собеседнику. А тут вдруг сорвалась, опустила глаза, и голос задрожал. — Это был мой первый ложный шаг… А за ним второй… Мы танцуем, гремит музыка, а Зильбер нашептывает: “Вам привет от папы… Он очень скучает без вас. Я привез вам небольшой подарок господина Эрхарда”. И я не успела опомниться, как он надел мне на палец бриллиантовое кольцо… Я принесла его с собой, вот оно. — И Марина, достав из сумки кольцо, положила его на стол. — Оно не принадлежит мне. Делайте с ним то, что считаете нужным. Умолкла. Собирается с мыслями. Вспоминает: — Во время танца Зильбер сказал, что имеет некоторые пустяковые поручения ко мне от господина Эрхарда. Я спросила: “Какие?” Он ответил: “Не стоит сейчас об этом”. И тут же сообщил, что хотел бы показать мне статью отца, опубликованную в одной из прогрессивных газет Запада. “Господин Эрхард немного занимается литературой и немного политикой. Ваш папа тоже хочет бороться за мир против империализма и фашизма. Жизнь многому научила его…” И многозначительно добавил: “Конечно, средства борьбы бывают разные… А газету я вам принесу. Нам надо еще раз повидаться. Но у вас, кажется, не принято встречаться с иностранцами в гостинице…” И назначил свидание у памятника Пушкину. Мы встретились там. Потом поехали в Архангельское. Гуляли. Обедали. После обеда я попросила у Зильбера обещанную газету. Он изобразил на лице смущение: “Не обессудьте, проклятый склероз. Приготовил для вас газету и в последний момент забыл положить ее в карман”. Позже я поняла — он соврал. Газета — повод для продолжения наших встреч. И действительно, он тут же предложил мне через два дня встретиться у Кировских ворот… — И вы встретились? — Да. Я пыталась вернуть ему кольцо, сказала, что не хочу получать подарки от чужого человека и очень жалею, что приняла такой подарок тогда, в первый раз… Зильбер сунул кольцо в карман моего пальто и сказал: “Вы никуда от этого не уйдете… Вот вам газета, прочтите его статью, и вы поймете, что ваш отчим не так уж далек от тех, кто стоит на весьма прогрессивных позициях… Я не сомневаюсь, фрейлейн Марина, и в вашей стране есть люди, которым придется по душе статья вашего папы… Да! Это так есть… Не смотрите на меня удивленными глазами. Я читал статьи этих людей… Там, у нас… Я мог бы вам показать очень интересный русский журнал, который издают на Западе. Вы нашли бы там прекрасные рассказы и стихи советских авторов. То есть люди, не имеющие возможности печатать свои произведения у себя дома… Я не политик, я ученый, но я не могу не преклоняться перед ними”. — Он назвал этот журнал? — Да, но я не запомнила… — “Грани”? — Кажется, так… Зильбер сказал, что если я пожелаю, то буду получать этот журнал. — По почте? — Он не уточнял… — И вы согласились? — Почему вы так говорите? Неужели я даю основания?.. — Ее измученное лицо ожесточилось. — Значит, отказались? Ну-ну… Не сердитесь. Не надо. Молодежь, она ведь любознательная: хочет знать, что за “Грани” такие… А что вы скажете о статье отца? О тех комментариях к ней, что были высказаны господином Зильбером? — Я плохо разбираюсь в политике, тем более в вопросах теории… — Жаль… Серьезный пробел в вашем вузовском образовании. — Бахарев тоже так считает. И все же я позволю высказать свое мнение… Автор — она избегала слов “отец”, “отчим” — обличает империализм и ратует за многообразие путей строительства социализма. И при этом, может быть, мне показалось, ловко маскирует подтекст: из всего многообразия путей он предпочел бы тот, который решительно отметает диктатуру пролетариата и руководящую роль партии… — Оказывается, вы не так уж плохо разбираетесь в политике, если уловили эти “мотивы” знакомой “симфонии”. Я, кажется, зря ополчился на вузовское образование. — Это не вуз… Это мой друг,Бахарев… У нас с ним был долгий спор. И, читая статью, я не раз вспоминала про тот наш большой разговор… Это был, пожалуй, единственный случай, когда я увидела своего друга в неожиданном для меня облике. — В каком же? Марина задумалась. — Несколько легкомысленный и вольнодумный, Николай вдруг предстал передо мной, если хотите, политическим бойцом, этаким воинственным агитатором, умеющим убеждать и драться за свои убеждения. А разговор у нас шел на острые политические темы… Я ведь привыкла к тому, что у нас в институте ребята-активисты иногда уклоняются от таких разговоров, отшучиваются… А Бахарев не уклонился, сам вызвал меня на спор. И я ему была благодарна тогда… Вот вам и ответ насчет подтекста в статье… И насчет комментариев Зильбера к ней… — Надеюсь, вы догадались принести нам газету со статьей господина Эрхарда? — спросил Птицын. — Отлично. Сейчас мы почитаем это прелюбопытнейшее сочинение. Птицын, неплохо знавший немецкий язык, бегло пробежал статью и тут же занялся тщательным изучением всей газетной полосы. И, к немалому удивлению Марины, стал даже на свет рассматривать ее. Затем он позвонил кому-то по телефону, сообщил название газеты, дату и заголовок статьи. — Проверьте, и как можно быстрее… Да, да, вы правильно поняли… Напоминаю — фамилия автора Эрхард… Ну-с, продолжайте, товарищ Васильева. Я вас слушаю… Как дальше развивались события? — Через несколько дней Зильбер снова позвонил мне и сообщил, что вчера в Москву приехал его коллега по институту, и он видел у пего в номере газету, в которой опубликована еще одна статья господина Эрхарда. Если она меня интересует, мы можем завтра пообедать в Сокольниках. Но газету он не принес, сославшись на внезапный отъезд коллеги в Ленинград. Однако счел нужным разразиться целой тирадой: “Жаль, что вы не прочтете этой блестящей статьи вашего отца… Вдохновенное слово о величии гуманизма, который, увы, иногда игнорируют даже там, где он должен стать знаменем людей, объявивших себя строителями новой жизни”. Глухим голосом Марина рассказывает об этой последней своей встрече с Зильбером. — В Сокольниках он начал действовать активнее, решительнее, почти в открытую стал требовать: “Вы обязаны стать помощницей отца… Не забывайте, что вы дочь господина Эрхарда…” От требований он перешел к убеждению: доказывал, что если я буду помогать отчиму, то это облегчит ему возвращение к семье. Потом отказался и от этой тактики. Стал прощупывать мои настроения, говорил о высоком призвании молодых бороться за гуманизм, демократию. И сразу дал понять, что он имеет в виду… Я не помню, как это случилось, но я рассказала ему о нашем студенческом поэте, авторе песни “Заря”. Она в рукописи ходила по рукам. Зильбер обрадованно воскликнул: “Это есть настоящий борец, Марина!.. Ваш папа всем сердцем с такими людьми”. И снова повел разговор о каких-то издаваемых на Западе русских газетах и журналах, где охотно напечатали бы подобные песни. — А вы не спрашивали у Зильбера, чем, собственно, вы должны помочь отчиму? О каких поручениях идет речь? — Нет, не считала нужным даже задавать такой вопрос, мне все было ясно. Но он сам, не дожидаясь моего вопроса, поспешил набросить туманную завесу: “От вас требуются сущие пустяки, Марина… Информация… Обычная информация о самых обычных фактах… В глазах любого человека — коммуниста или социал-демократа, капиталиста или рабочего — факт остается фактом… Это категория внеклассовая, вне партии…” Я слушала его и улыбалась. Он удивленно спросил меня: “Чему вы улыбаетесь? Разве я сказал что-нибудь смешное?” Я ответила: “Нет, не смешное… Тривиальное… Недавно я имела возможность выслушать примерно такую же точку зрения: одна из наших студенток доказывала своему другу, что есть такие неопровержимые факты, которые и для советского и для буржуазного писателя в одинаковой мере бесспорны. И тогда начался спор. Друг студентки рассказал любопытную историю о том, как один и тот же совершенно бесспорный факт был по-разному воспринят людьми, представляющими разные классы. Осенью 1920 года Петроград посетили два иностранца: он и она. Он, вернувшись домой, написал, что улицы Петрограда находятся в ужасающем состоянии: изрыты ямами и автомобильная езда по городу сопряжена с чудовищными жертвами. А перед ней — эти же улицы, изрытые ямами, предстали в ином облике. Неподалеку от Путиловского завода она увидела развороченную мостовую и баррикаду, сложенную в дни наступления белогвардейцев. И перед ее внутренним взором возникли баррикады Парижской коммуны, священные камни революции. Так один и тот же факт по-разному выглядел в глазах Герберта Уэллса и Клары Цеткин”. Зильбер вначале растерялся, потом улыбнулся: “О, это есть блестящий полемист… Друг вашей подруги есть отличный мастер коммунистической пропаганды… Но я еще более высокого мнения о русской студентке — у нее острый ум интеллектуала, который ищет настоящую правду… Я был бы рад беседовать с такой студенткой…” Ох, как мне хотелось отхлестать его, сказать, что такая студентка стоит перед ним, а ее друг — это Николай Бахарев, с которым господин Зильбер имел честь познакомиться в ресторане “Метрополь”. — Почему же вы не сказали ему этого? — Не хотела… Не хотела, чтобы господин “турист” причислял меня к тем молодым, о которых он говорил. Зильбер сделал бы из этого гнусные выводы. — Вам нельзя отказать в некоторой проницательности, товарищ Васильева. Итак, Зильбер, судя по вашему рассказу, атаковал вас и с фронта и с флангов… — Да, примерно так… Но было еще одно направление атаки: Бахарев… Только что я объяснила вам, почему не было сказано Зильберу, кто та студентка и кто тот “блестящий полемист”. А сейчас я подумала: жаль, что не сказала. Быть может, Зильбер тогда и не добивался бы встречи с ним. — С кем? — С Бахаревым… — Что вы можете сказать о нем? Марина не сразу отвечает Птицыну. Мысли у нее сейчас, как предгрозовые облака, растрепаны, лохматы и быстро бегут в разные стороны. А их надо собрать в один узел, чтобы ответить Птицыну. И она пытается это сделать. — Говорят, что настоящая привязанность слепа. Может быть, и так. Но я попытаюсь… На первый взгляд он кажется человеком легкомысленным. Но, пожалуй, это — обманчивое впечатление. Кто познакомится с ним поближе, тот увидит, что он вдумчив, умен, серьезен. Я уже вам, кажется, говорила… Однажды он даже предстал передо мной воинственным агитатором… Нет, нет — тонким, эрудированным полемистом. — Марина умолкла, задумалась, опустила голову, потом, глядя в глаза Птицыну, резко сказала: — И все же я смею утверждать, что этот человек несколько легкомыслен, есть в нем что-то от богемы, от прожигателя жизни. Бахарев любит рестораны, веселые компании, легко тратит деньги на себя и других, любит щегольнуть острым словом и острой мыслью. О таких говорят: для красного словца не пожалеет и отца. И думает он порой не так, как многие… Я не боюсь говорить вам об этом. — А чего же бояться. Я тоже люблю острую мысль. Самое опасное — стандартомыслие. Оно идет от равнодушия. А ваш Бахарев каков? — О, нет, он не из равнодушных. Нет, нет… Бахарев человек импульсивный, человек острой реакции. И эта реакция его… Я боюсь, что она будет понята господином Зильбером по-своему. Я боюсь, что он попытается… Марина старается точнее выразить свою мысль, но не находит подходящих слов. Птицын спешит ей на помощь. — Сделать с Бахаревым то же, что он пытался сделать с вами. Так? — Возможно, что и так… Это очень сложно… и страшно… Я не знаю, чем кончился их разговор… Она несколько растерянно посмотрела на Птицына. — Мне тяжело говорить вам все это… Я знаю, где я нахожусь… Мне трудно говорить так о близком человеке, которого я… Она осеклась, смутилась, а Птицын про себя отметил: “Пожалуй, я начинаю проникать в тайну, которую не отнесешь к категории государственных. Бот уж действительно — молодость не умеет таить своих чувств”. И снова пауза. Тяжелая пауза — девушка, кажется, задыхается от молчания, когда слова застревают в горле, когда хочется сказать очень многое, даже слишком многое. А Птицын не склонен нарушать молчание. С отрешенным выражением лица он смотрит куда-то в сторону и ждет. — Зильбер настойчиво добивался встречи с Бахаревым, — продолжает Марина. — Я это чувствовала, догадывалась, зачем нужна ему эта встреча… Я вам говорила о некоторых чертах характера Бахарева… Таким, вероятно, я нарисовала его портрет и в разговорах с Зильбером, когда мы были в Архангельском. Тогда у меня еще не сложилось окончательное представление о “туристе”. А потом было уже поздно. Он действовал тонко, хитро. Не могу не воздать должное уму, выдержке этого человека, его хватке. И она снова все о том же, об ухищрениях Бородача. — Зильбер избрал другую тактику. Он знал, как я люблю маму. Для меня нет на свете человека более дорогого, близкого… Хотя со стороны иным кажется, что я плохая дочь… — А как мама относится к вам? — Обожает и опекает как ребенка. — Да, все мамы на свете одинаковы… Ну, а вот, скажем, вы пошли в ресторан “Метрополь”. Пошли с человеком, не очень еще близким. Мама знала об этом? — Конечно. Я, правда, с трудом, но дозвонилась ей в тот вечер. Она дежурила в больнице. Птицын вспомнил, как они с Бахаревым терялись в догадках: кому Марина звонила из автомата на пути в ресторан — маме или Зильберу? Вопрос снят. — Это очень трогательно. Но я, кажется, прервал нить вашего рассказа. Прошу прощения. Вы остановились на том, что Зильбер повел атаку с другого фланга. — Да, это было так. — Она все теребит и теребит воротничок своей блузки, будто он душит ее. — Зильбер знал, что я дорожу спокойствием мамы… Да, да, это так… И Зильбер заявил, что, если я откажусь помогать отцу, он расскажет маме обо всем и предупредит, что на карту поставлена судьба ее дочери… Законченный негодяй! Когда он пустил в ход шантаж, я сникла и… — И поддалась? — Нет, нет… Это случайность… — Что вы имеете в виду? — Встречу Зильбера с Бахаревым на ВДНХ. Он появился там неожиданно. Мы с Бахаревым сидели в ресторане, когда… — Она на секунду умолкла и испуганно посмотрела на Птицына. — Нет, нет, я не организовывала этой встречи. Вы должны мне поверить. — В голосе ее — отчаяние. — Конечно, бывают и случайные стечения обстоятельств… Допустим… Но, может быть, случайность проявилась совсем в другом. Ну, скажем, вы случайно, без умысла, невзначай где-то обронили слово о ваших планах на воскресенье?.. Марина задумалась. — Нет, я никому не говорила. — Тогда разрешите последний вопрос: как вы считаете — Зильбер встречался с вашей мамой? — Нет, категорически нет. — Откуда такая категоричность? — Я сама все рассказала маме. И все мои сомнения — идти к вам или нет? — отпали после разговора с мамой. По ее настоянию я пришла к вам. — А я — то думал, что вас привело сюда доброе чувство к другу… — Птицын улыбнулся, поднялся с места и подошел поближе к Марине. — Вы не улыбайтесь. — Она теперь смотрела на него снизу вверх. — Это все не так просто. Вначале мне казалось, что только одна сила побудила меня прийти к вам — Бахарев. А теперь понимаю, что иначе поступить не могла… При любых обстоятельствах… Но разговор с мамой многое решил. — Мы-то не хуже вас знаем, какая она мудрая и сильная… Вот так… Марина поняла, что разговор закончен. Встала и спросила: — Я могу идти? — Да… Впрочем, задержитесь… Птицын снял телефонную трубку, набрал номер. — Как наши газетные дела, Сергей Петрович? Так я и предполагал — тот же почерк. Благодарю за оперативность. А справку пришлите… Для документации. И, уже обращаясь к Марине, Птицын сказал: — Ну вот, еще одна ваша загадка разгадана. Могу сообщить, что газета со статьей вашего отчима — чистейшая фальсификация, ловкая проделка, рассчитанная на простаков. В указанной газете за указанное число нет никаких следов сочинений господина Эрхарда. Газета с его статьей отпечатана тиражом в один экземпляр. Специально для вас… Вот так, товарищ Васильева. А теперь можете идти. До свиданья. Нам, вероятно, придется еще раз встретиться. Будьте здоровы… Как и следовало ожидать, незадолго до отъезда Зильбера Ольга снова вышла на связь с ним. В тайнике на зет-аллее она оставила для него письмо с закодированным текстом, фотокопия которого лежала на столе Птицына. Медичка сообщала, что решила не рисковать и не посылать с Зильбером все собранное и подготовленное ею, так как скоро сама поедет на каникулы. А еще через час в этом же парке появился Косой. Он долго бродил по аллеям, неторопливо приближаясь к заветной скамейке. Кругом тихо, ни души. Присел на скамейку, углубился в чтение газеты, которую держал левой рукой, а слегка дрожащей правой шарил в тайнике. Все на месте. Отлично. Сейчас он поедет на Белорусский вокзал, положит чемодан в камеру хранения, в ящик с шифром. Вечером Зильбер — ему этот шифр известен — заберет чемодан. И делу конец… Завтра рано утром Зильбер улетит домой, и тогда Косой облегченно вздохнет. В столь блаженном настроении Косой покидал парк, не подозревая, что завтра он уже будет сидеть… перед следователем и рассказывать, как все произошло. Летом служебные дела привели его под Можайск, и в воскресенье, прогуливаясь по лесу, он набрел на веселый пикник молодежи. Его пригласили выпить рюмку водки, за ней вторую, третью… На гостеприимство молодых он ответил широким жестом — принес бутылку армянского коньяка, купленную в ближайшем кафе. В состоянии крепкого подпития стал болтать об Одессе, о дружках, о своих связях и красивой жизни, о которой он сейчас, увы, может только вспоминать… Так он познакомился с Ольгой и ее мужем. Супруги оценили “перспективность” неожиданного знакомства. Договорились о встрече в Москве. Там разговор был более откровенным. Косой почувствовал, что по части красивой жизни еще не все потеряно. Ему хорошо платили за выполнение казавшихся безобидными поручений. Потом ему все стало ясно. И он был вполне доволен своей ролью связного. Этот тип уже давно жил по принципу “деньги не пахнут”. А новая хозяйка требовала расширять связи. Так появилась на горизонте дама из технической библиотеки научного института, о которой Ольга сказала: “Она нам пригодится…” Время от времени Косой получал подачки. И вот последнее задание — газеты “Футбол”, студгородок, тайник в Архангельском… Косого арестовали вечером на Белорусском вокзале. Он не возмущался, не выражал удивления, негодования, хмуро посмотрел сперва на одного, потом на другого молодого человека. Косой обронил перчатку, и сотрудник КГБ, подняв ее, сказал: — Не надо суетиться… Вот вы и перчатку чуть было не потеряли… Разрешите помочь чемодан до машины донести?.. На следующий день, рано утром, Бородач улетел домой. А через две недели к Птицыну поступило сообщение Ландыша. Оно было сравнительно короткое: Катя не знала, как развивались последние события по ходу операции “Доб-1”. Бородач докладывал хозяевам итоги своей миссии в Россию. Операция “Футбол”, по его мнению, осуществлена удачно. Новый связной Медички — Толстяк — показал себя достаточно ловким и расторопным. Медичка успешно действует в соответствии с заданиями центра. С ее помощью операции “Футбол” удалось придать более широкий размах. В ближайшее время она прибудет на каникулы и доставит важные сведения. Несколько сдержаннее Зильбер говорил о возможностях дальнейших контактов со студенткой Мариной Васильевой. Однако и здесь усилия не пропали даром. При ее содействии удалось установить связь с одним московским литератором. Характеристика, данная Зильбером литератору, вызвала повышенный интерес хозяев, в частности человека с протезом: литератор — друг Марины Васильевой, и он может повлиять на нее. Но это, конечно, не самое главное. Зильберу в упор был поставлен вопрос куда более серьезный. — Считает ли господин Зильбер возможным в недалеком будущем установить контакт известного вам деятеля русской эмиграции с Бахаревым? — Да, сэр, я допускаю такую возможность, сэр. Хотя мой собеседник весьма уклончиво реагировал на соображения, туманно высказанные ему в этом плане. Но мне показалось, что если его новую повесть откажутся печатать в России, то Бахарев не прочь будет воспользоваться моими предложениями. — Какими? — Сэр смерил Зильбера испытующим взглядом и тихо, но твердо потребовал: — Я попросил бы господина Зильбера подробнее передать эту часть разговора с Бахаревым. — Слушаюсь, сэр. — Он облизнул губы и, не шевелясь, со спокойно-бесстрастным лицом передал свой диалог с русским литератором. — Я сказал ему, что, будучи ученым, человеком, далеким от политики, случайно оказался в достаточно близких отношениях с редактором журнала русских эмигрантов “Грани”, издаваемого в Мюнхене, и работниками издательства “Энкоунтер” в Лондоне. И “Грани” и “Энкоунтер” охотно публикуют отвергнутые в России рассказы, повести, стихи… Тут же я назвал Бахареву фамилии нескольких авторов таких произведений. И это, кажется, произвело на него впечатление. Если не считать иронического замечания по поводу “Сказания о синей мухе” Тарсиса. “Неужели читающая публика Запада всерьез принимает этого шизофреника?” Я попытался “отстреляться” шуткой: “Люди, — заметил я, — бывают разные, и было бы не совсем справедливо ожидать, что каждый из нас обладает всеми добродетелями. К тому же прошу учесть специфику наших издательств — коммерция! Все, что вызывает интерес публики, может стать предметом бизнеса. Один из моих друзей в Англии работает сейчас в чисто коммерческом предприятии “Флегон пресс”. Когда, скажем, в советском журнале или в “Гранях” появляются произведения, интересующие западного читателя, то “Флегон пресс” незамедлительно размножает их и продает по достаточно дорогой цене. Вам следует с должным пониманием отнестись к этим законам жизни мира бизнеса. Тут ничего не поделаешь, господин Бахарев. В вашей стране тоже есть свои, непонятные нам законы издательского дела. У вас это называется партийностью литературы. Не так ли?” Бахарев в ответ неопределенно пожал плечами и, усмехнувшись, буркнул: “Да, да, конечно…” К чему относилось это его замечание, я не понял. — На чем же основана уверенность господина Зильбера в том, что Бахарев воспользуется связями с “Гранями” или “Энкоунтером”? — Прошу прощения, сэр, но я не выражал такой уверенности. Я лишь позволил заметить, что мне показалось, будто Бахарев несколько заинтересовался моими предложениями. Поверьте, сэр, для этого имеются некоторые основания. — Я попросил бы господина Зильбера аргументировать их. — Извольте, сэр. Бахарев спросил меня: “Как практически я смогу отправить свою рукопись в “Грани”, если вдруг — это игра моего воображения — появится такая необходимость?” Согласитесь, сэр, что подобные вопросы не задают зря. Я ему ответил: “Господин Бахарев может не беспокоиться… Вот вам моя визитная карточка, — и вручил ему карточку с адресом, известным сэру. — Когда у вас, господин Бахарев, созреет решение послать рукопись в “Грани”, или “Энкоунтер”, или во “Флегон пресс”, дайте мне знать. Хорошо? В ответ Бахарев многозначительно посмотрел на меня и повел бровями. Но, по своему обыкновению, ушел от прямого ответа. “Да, да, я понимаю ваше недоумение, господин Бахарев, — сказал я. — Мне знакома специфика вашей демократии. Это не совсем безопасно для вас — писать иностранцу… Мы с вами условимся о маленькой хитрости. Вы напишете мне письмо с просьбой прислать обещанный вам в Москве лечебный препарат… Обратный адрес можете указать любой, какой придет вам на ум… Далее все будет организовано должным образом…” Бахарев с живейшим интересом выслушал меня, а потом неожиданно рассмеялся. “Неужели вы серьезно полагаете, господин Зильбер, что я стану играть в эту конспирацию… Впрочем, кто его знает? Жизнь каждодневно преподносит удивительные сюрпризы. Обо всем сказанном вами надо подумать… Вы дали пищу для серьезных размышлений”. Он небрежно сунул мою визитную карточку в карман и тут же перевел разговор на нейтральную тему. Зильбер умолк, а человек с протезом, глядя слегка прищуренными глазами в бокал с вином, все продолжал одобрительно кивать головой теперь уже, вероятно, каким-то своим мыслям. — Мы еще вернемся, господин Зильбер, к вашему сообщению о московском литераторе. Вы правильно сориентировали Медичку постоянно держать молодого человека в поле своего зрения, изучать его настроения, взгляды. В частности, мы должны точно знать, не отправится ли он в зарубежный вояж, когда и куда. …Ландыш пока не имеет возможности сообщить точные координаты Медички, Толстяка и дамы из научного института. Принимает необходимые меры. Что касается Марины Васильевой, то ее координаты, видимо, известны: она неродная дочь Эрхарда. Он специально прибыл в связи с докладом Зильбера. Судя по некоторым репликам человека с протезом, с Эрхардом здесь не очень-то считаются, и вся работа с Васильевой велась Зильбером по собственному усмотрению, без всяких консультаций с Эрхардом. Ландыш передала содержание разговора Эрхарда с Зильбером, когда они остались вдвоем. В голосе бывшего учителя немецкого языка прозвучал упрек: — Я же предупреждал вас, господин Зильбер, с моей дочерью вам вряд ли удастся установить контакт… Как видите, даже сфабрикованная вами без моего ведома газета не очень-то помогла. Вы не сделали необходимых выводов из информации Коха, из моих комментариев к этой информации. Я уже не говорю о личной просьбе. Я имел честь просить вас, господин Зильбер, не впутывать девушку… Вы не пожелали внять этой просьбе… Потратили много средств, энергии, времени, подвергали риску себя и других… А польза какова? — Польза еще будет, господин Эрхард. Смею вас заверить. Контакт с литератором многого стоит. А что касается личных просьб… Что мне вам сказать? Сентиментальность — опасная для нас болезнь… Бахарев по-прежнему встречался с Мариной. Ей показалось, что теперь он уже не такой, как прежде: остепенился, его не тянет больше в ресторан, к шумному застолью. Иногда Николай куда-то исчезал на несколько дней, но накануне предупреждал: “Буду работать. Легко пишется…” Однажды она спросила его: “Когда же выйдет из печати твоя книга? Ты уже давно получил аванс”. Он тяжело вздохнул и стал сетовать на издательство: “Перенесли в план будущего года”. Бахареву и Марине все реже удавалось оставаться наедине. У них появился почти постоянный спутник — Ольга. Она всегда находила повод прийти к Марине именно тогда, когда там был Николай, и уйти именно в тот час, когда Бахарев собирался домой. Хозяйка нервничала, допускала бестактности, иногда даже грубила Ольге. Та делала вид, что не понимает, в чем дело, и продолжала… выполнять свое задание. …Ольгу арестовали в Бресте, когда она направлялась домой на каникулы. Все, что предшествовало предъявлению постановления и аресту, она восприняла с поразительной невозмутимостью, спокойствием — ни тени смущения, тревоги. Когда ее пригласили проследовать из вагона в кабинет административного здания КПП для осмотра личных вещей, она, улыбаясь, спокойно спросила: — Сейчас, вероятно, придет носильщик? — Да, конечно… — Благодарю вас. И всем своим видом подчеркнула: да, я понимаю, у вас такая служба. Таможенники, пограничники. Так во всем мире. Пожалуйста — вот все мои вещи… Видимо, тут какое-то недоразумение. Капитан, производивший обыск, делал это не спеша. Он аккуратно вынимал из Ольгиного чемодана одну вещь за другой, внимательно рассматривал белье, обувь, платье, блузы, шерстяные кофты, всякие безделушки, русские сувениры, бутылки коньяка и пакеты с зернами кофе. Понятые — механик железнодорожного депо и врач медпункта — поначалу проявляли повышенный интерес к необычным своим обязанностям, а потом свыклись со всей этой непривычной для них церемонией и, словно сговорившись, задремали в мягких старинных креслах. Ольга села рядом с понятыми. Вынув из сумочки губную помаду и зеркальце, принялась освежать бледную краску на губах. Потом спросила: “Разрешите курить?” — и стала попыхивать сигаретой, словно все происходящее ее не касалось и уж, во всяком случае, не волновало. Так прошло не менее часа. Капитан занес в протокол последнюю запись — под номером 27. Каллиграфическим почерком было выведено: “Сувенир — тульский самовар. Цена не обозначена”. Ольга повернула голову в сторону капитана и, улыбаясь, спросила: — Это, кажется, все? — Пожалуй, впервые в ее голосе прозвучало нечто подобное нетерпению. И с той же улыбкой, с той же неизменно холодной вежливостью последовал ответ: — Простите, это еще не все. Разрешите посмотреть вот эту сумочку? И капитан потянулся к лежавшей перед Ольгой на круглом столике черной кожаной сумочке. Понятые, впервые за два часа услышав человеческие голоса, встрепенулись, закашляли, заерзали на своих креслах и даже привстали. Сидевший у окна Птицын все время пристально наблюдал за Ольгой. Он подметил, как круто изогнулась ее искусно подчерненная правая бровь, как слегка порозовело бледное лицо и задрожали пальцы, ухватившиеся за ремешок сумочки. — Разрешите… Ольга разжала пальцы. — Пожалуйста… Капитан открыл сумочку и по-прежнему неторопливо выложил на стол пудреницу, расческу, носовой платок, тюбик губной помады, деньги, набор открыток, жевательную резинку… Когда сумочка опустела, он осторожно раскрыл ее пошире и ловко зацепил кончик клейкой ленты, скреплявшей внутреннюю обшивку с металлическим остовом. Лента легко отделилась, и внутри сумочки обнаружилось тайное отделение. Капитан попросил понятых подойти поближе к столу и на их глазах извлек из тайника несколько листков бумаги. Это тонкое плотное шелковое полотно весьма условно можно было назвать бумагой. В тайнике оказались три пронумерованных листка, исписанных убористым. почерком. Капитан взял лист № 1. Первая строка была жирно подчеркнута. Он вслух прочел ее: написанные по-немецки фамилия, имя, отчество и полное ученое звание. Это была фамилия известного в Москве математика. Капитан бережно отложил в сторону найденные в тайнике листы бумаги и подчеркнуто вежливо обратился к Ольге: — А теперь я прошу вас снять туфли… Вот здесь коврик… Чтобы не простудиться… Или вам угодно будет достать из чемодана другие туфли? Молча, ни на кого не глядя, Ольга сняла туфли и подала их капитану. Он достал из кармана перочинный нож, легко вывернул четыре шурупа и, когда каблук отделился, показал его понятым. — Прошу вас, товарищи понятые, осмотрите. Внутри каблука был тайник. Капитан и понятые, подписав протокол обыска, приложив к нему постановление об аресте студентки, вышли. Птицын остался один на один с Ольгой. Медичка поднялась, не зная, что ей делать дальше, поежилась, хотя в кабинете было тепло. — Вам холодно?.. Можете накинуть пальто. Нездоровится? Знобит? Да, бывает… Садитесь. У нас разговор будет недолгий, но сидя как-то удобнее вести его. Русские говорят: в ногах правды нет. У меня есть несколько вопросов к вам. Так сказать, предварительного характера. — Слушаю вас. — Кто была ваша попутчица в купе? Ольга ухмыльнулась. — Жена какого-то советника. — Какого? — Не знаю точно… Ливанского или ливийского. Ее муж работает в посольстве в Москве. — Куда едет? — В Париж. Пробудет там неделю, а потом домой. — Она знает, кто вы и куда едете? — Нет, она ничего не знает обо мне. Я пыталась говорить с ней по-французски, но она плохо знает язык. С большим трудом мы объяснялись с ней по-французски и по-русски. Она приняла меня за француженку. — Ваши родные ждут вас? Вы известили их о выезде? Письмом, телеграммой? — Я послала маме письмо, в котором сообщила, что выезжаю в Париж, пробуду там три дня, а в пятницу автобусом — домой. — Вы, вероятно, догадываетесь, что в этом маршруте произойдут некоторые изменения… А мамы на всем белом свете остаются беспокойными мамами, когда ждут домой своих дочерей. Не надо, чтобы ваша мама волновалась. Ольга вопросительно посмотрела на Птицына, стараясь понять его. — Думается, следовало бы отправить маме телеграмму и сообщить ей, что ваши планы изменились, что вы задержались в Москве. — Я охотно послала бы такую телеграмму, но как это сделать? Если я вас правильно поняла, то я больше не принадлежу себе… Так, кажется? — Да, вы правильно поняли… Впрочем, это нетрудно понять… Но о телеграмме мы могли бы позаботиться. Вот вам листок бумаги. Пишите. Ольга написала телеграмму и протянула ее Птицыну. — Ваша телеграмма будет отправлена. — Из Бреста? — Нет, из Москвы. А сейчас прошу вас… — И Александр Порфирьевич подал Ольге пальто. В тот же день Медичка специальным авиарейсом была отправлена в Москву. Вместе с ней полетел и Птицын. На первом же допросе Ольга собственноручно написала обстоятельные ответы на вопросы. Арестованная ничего не скрывала и даже не пыталась скрыть. Это, пожалуй, шло не от отчаяния, а от сознания: иного пути нет. Она вела себя так, словно давно ждала подходящего случая, чтобы рассказать советской контрразведке о своей шпионской работе. Ее не очень беспокоили утомительные допросы и, видимо, не очень тревожила перспектива суда. И это иногда озадачивало следователя. Однажды он спросил ее: — У вас сегодня такой вид, будто вам нездоровится. Может, прервем? Она устало вскинула на него длинные ресницы и несколько вызывающе ответила: — Как вам будет угодно. Лично я готова продолжать. — Вы пользуетесь прогулками? — Да, благодарю вас… — У вас есть сигареты? — Да, благодарю вас… — Вам дают читать книги? — Да, благодарю вас… — У вас есть какие-нибудь просьбы? — Нет. — Почему вы отказались от права встретиться с представителем консульского отдела посольства вашей страны? Ольга многозначительно посмотрела на следователя: — А что я скажу этому представителю, когда встречусь с ним? Что я — агент разведки? — Ну что же, как вам угодно… И она продолжала рассказывать, как все это было. Ольга никого не щадила: ни себя, ни своих хозяев. Она никого не старалась выгородить, оставить в тени. Ни на чью помощь не рассчитывала. Следователь уже знал, что эта молодая женщина в последние годы жила двойной жизнью: в институте — серьезна, вдумчива, сдержанна, достаточно прогрессивна в своих суждениях, оценках разных событий. Но это маска. Подлинное ее существо — легкомысленная женщина, падкая на сладкую, легкую, бездумную жизнь. Но такой она представала лишь перед узким кругом особо близких ей людей, которым доверяла. Теперь перед следователем сидела совсем иная Ольга: ни та, что носила маску, ни та, что так цинично смотрела на окружающий ее мир. Это была женщина, видимо принявшая какое-то очень трудно давшееся ей решение. Следователь пытался сам для себя сформулировать, что с ней произошло: прозрела, опомнилась? Нет, конечно, и все же было заметно, как внутренне она переменилась. И эта перемена в известной мере определяла ее поведение. Видимо, теперь Ольга поняла, что сделала ставку не на ту карту, что она проиграла, и не одна, а вместе со всей своей компанией, ставшей теперь для нее ненужной, далекой и даже враждебной. Она знала, что бывшие ее хозяева палец о палец не ударят для спасения или хотя бы облегчения ее участи. И Ольга избрала единственно правильный в ее положении путь: раз попалась, да к тому же с явными уликами, надо признаваться во всем. Говорит она тихим, размеренным голосом, глядя следователю прямо в лицо. — Завербовали меня тогда, когда я была глупой, наивной и беззаботной девчонкой, полагавшей, что самый сильный в мире человек — это тот, у кого деньги. Меня уговаривали: риска никакого, усилий потребуется мало, а вознаграждение солидное… Тогда я не понимала, что к чему. Поначалу они и не говорили мне, в чем будут заключаться мои обязанности, что и для кого я должна делать. Все рисовалось туманно, в общем плане: придется иногда выполнять отдельные несложные поручения, скажем, с кем-то познакомиться, кого-то о чем-то расспросить, что-то узнать, куда-то ненадолго поехать. Подчеркивали: “Все это будет хорошо оплачено”. И тут же строгим голосом предупреждали: “Все, о чем мы условились, должно сохраняться в тайне”. Я согласилась. Я раза три–четыре встречалась с Карен Милз и Груд Белан — это те, кто завербовал меня. Вначале я терялась в догадках, что же требуется от меня? Мне не давали никаких поручений, со мной разговаривали обо всем и ни о чем. Но постепенно в этих, казалось бы, ничего не значащих беседах я стала улавливать лейтмотив, звучавший, однако, неназойливо: антикоммунизм — кредо моих хозяев… Далеко не все мне было ясно, но я не задавала уточняющих вопросов. Мне дали понять, что все сказанное обсуждению не подлежит и должно быть принято как аксиома. Была в этих беседах еще одна важная тема — искусство конспирации, техника работы вдали от центра. Несколько месяцев со мной никто не встречался. Казалось, что обо мне забыли. И вдруг телефонный звонок Карен Милз: “Я должна вас повидать”. Место встречи было условлено давно, заранее: все тот же секретный кабинет приморского ресторанчика “Креветка”. Здесь мне и было объявлено, что я должна поехать в Москву учиться в медицинском институте. Все необходимое для этого будет сделано без моего участия… Незадолго до отъезда в Москву Груд Белан инструктировал меня. В Москве я должна изучать окружающих меня людей: профессоров, преподавателей, студентов, их родителей. Собирать о них как можно больше сведений: фамилии, имена, отчества, происхождение, адрес, материальное и семейное положение, способности, жилищные условия, состояние здоровья, увлечения, слабые и сильные стороны характера, пристрастия, политические и философские убеждения, религиозность, отношение к деньгам, служебная перспектива, отношение к советскому строю. По возможности нужно доставать фотографии этих людей, а также их документы — паспорт, билет члена Коммунистической партии, комсомола, профсоюза, воинский билет, пропуск в институт, учреждение, библиотеку, на завод. Перед отъездом я получила дополнительный инструктаж по работе с кодами, зашифровке и расшифровке секретных сообщений, по технике фотографирования, уменьшения текста до микроточки. Меня научили особым образом обрабатывать пленку, чтобы она становилась мягкой и вкладывалась в такие неприметные контейнеры, как батарея карманного фонаря, полый карандаш и даже полая пятикопеечная монета, распадающаяся на две части. Все это я использовала в своей работе. Когда я первый раз приехала домой на каникулы, то привезла данные на двадцать семь человек. Убористо были исписаны три листа бумаги — специально изготовленного для таких целей полотна: оно не шуршит и не прощупывается в тайнике. Эти листы я закладывала в тайник своей сумочки, заклеивала его и с успехом провозила через границу. На вашей пограничной таможне дважды осматривали мою сумочку, когда в ней находились конспиративные материалы, и каждый раз операция кончалась благополучно. Сумочку с тайником мне дала Карен, когда я впервые отправилась в Москву. Тогда же она подробно инструктировала меня, как ею пользоваться. Мне было преподано несколько практических уроков. Дома я три дня занималась обработкой списков. Доклад получился на двадцати листах машинописного текста. Для чего, кому нужны эти списки советских людей, основные сведения о них — я не знаю. Мне ничего не сказали. Я могла лишь догадываться, что большинство этих людей, а может быть и все, были занесены в картотеку нашей разведслужбы. — Которая и оплачивала вашу работу? — Да… Это так. — Продолжайте… — Во второй раз я привезла из Москвы материалы еще на одну большую группу советских граждан и несколько фотографий — десять–двенадцать, точно не помню. Кроме того, я передала Груду два комсомольских билета, три книжки членов профсоюза и пять пропусков в разные учреждения. Документы я выкрала у своих знакомых, выполнив эту операцию таким образом, что никто ни в чем не мог заподозрить меня. Фотографии и документы я провозила через границу в чемодане с двойной стенкой. Я пользовалась им несколько раз, пока Груд не запретил прибегать к такой уловке. Он сказал: “Все тайное со временем становится явным — советская контрразведка уже знает секреты таких чемоданов”. — Списки людей — это единственное задание, полученное вами от разведки? — спросил следователь. — Нет… Но началось с этого. А потом сфера моей деятельности непрерывно расширялась. Во-первых, сам круг людей, интересовавших разведку, расширялся. Я составила список известных мне иностранных студентов, обучающихся в Москве, и по возможности дала каждому из них характеристику. От меня требовали узнать каким-нибудь способом номера почтовых ящиков, адреса военнослужащих. — И вы нашли такой способ? — Да… Студентки, живущие в общежитии, получали письма и от военных — родителей, братьев, друзей. А на конвертах — обратный адрес. Почтальон бросал письма на стол в вестибюле… Был еще один способ. Во время учебной практики в Подмосковье ко мне на прием приходили жены военнослужащих. В историю болезни вписывались их адреса… Военные люди, воинские части — все должно было быть в поле моего зрения. Я следила за передвижением войск в дни подготовки к военным парадам. Записывала номера военных машин, въезжавших или выезжавших из ворот заводов, находившихся под моим наблюдением… Таких заводов было два. Я должна была сообщить, чем они огорожены, как просматриваются снаружи, сколько входов и въездов, какова система охраны, номера машин, стоящих перед административными корпусами… Пожалуй, все… — Подумайте, может это еще не все? Ольга задумалась, стала вспоминать. — Было и такое поручение — достать книги, в которых содержатся списки советских писателей, композиторов… — Вам удалось? — Не полностью… В одном доме я смогла похитить книгу со списками писателей… Но оказалось, что эта книга была издана несколько лет назад… Груда Белана не очень удовлетворила моя микропленка. Он сказал: “Здесь нет молодежи, влившейся в Союз писателей за последние годы”. — Были ли еще какие-нибудь специальные поручения? — Были… Покупать путеводители… Конверты с советскими марками… Малогабаритные будильники, которые можно использовать в качестве контейнеров… Составить подробный план-схему ГУМа. Потом я должна была взять пробу земли с названных мне четырех улиц Москвы. И еще — подыскать подходящие места для тайников… Потом попросили найти предлог, чтобы поехать в приволжский город и взять там пробу воды. Но я не смогла выполнить такое трудное задание. Хозяева были недовольны и требовали предпринять еще одну попытку. Это уже было в пору вторых летних каникул… Памятное для меня лето… В то лето Ольга стала женой Германа. Они встретились на веселой вечеринке в приморском ресторане “Креветка”. Было уже далеко за полночь, когда Ольга и Герман вышли на берег. В лицо резко ударил морской ветер, пахнущий йодом, водорослями и прелыми листьями. Домой идти не хотелось, они гуляли, любуясь лунной дорожкой на воде, вдыхая полной грудью острые ароматы моря. В ту ночь ей было очень хорошо, и она даже забыла о тяжком грузе, что взвалила на себя, дав согласие тем двум… …Арестованная умолкла, провела рукой по волосам, потом обеими руками обхватила голову. — Вы устали? — спросил следователь. — Вам не здоровится? — Нет, благодарю вас… Сейчас я продолжу свои показания… Та ночь глубоко врезалась в память. Так ведь бывает: одна ночь — больше чем год. Это произошло в ту пору моей жизни, которую нельзя измерить обычным счетом времени. Я впервые задумалась над тем, куда затянет меня ловко брошенная сеть, к чему приведет мое… Вы мне не верите, улыбаетесь? — Нет, почему же… Всякое бывает. Но я хотел бы знать, что это — разум восторжествовал? — Нет, увы, это было не так. В какую-то минуту пришла страшная мысль: “Подумай, какой дорогой ценой дадутся тебе те деньги, смотри, как бы ты не пожалела потом. Хватка у них железная, не вырвешься”. Но я по-прежнему оставалась верной принципу — брать от жизни все, что можно взять от нее. И в ту ночь, не знаю почему, мне казалось, что Герман, сын весьма обеспеченных родителей, молодой человек с большим будущим — он имел шанс пробиться в крупные журналисты — сумеет дать мне в жизни все, что хочется иметь взбалмошной женщине, и поможет порвать те узы, которыми я связала себя с разведкой. Страх и расчет! …Где-то далеко-далеко за лесом уже занимался рассвет, а они все еще шли и шли по берегу и уже в который раз объяснялись в любви и говорили друг другу возвышенные слова о верности, долге, о своем будущем. Позже, когда Ольга вспоминала про эти возвышенные слова, ей было как-то неловко и смешно. Вскоре сыграли свадьбу. На шикарном теплоходе молодые отправились в свадебное путешествие. Поздно вечером они вышли на палубу. Смотрели, как волны, разбиваясь о борт судна, рассыпались брызгами, как одиноко мерцали редкие звезды в туманном небе. Потом Ольга предложила пойти в каюту — стало холодно. — Подожди, я должен тебе что-то сказать… — И Герман боязливо оглянулся по сторонам. …В тот вечер муж сообщил ей, что он все знает о ее связях с Карен Милз и Грудом Беланом, что работать на них им придется вместе, помогая друг другу. — На какое-то мгновение, — продолжает свою исповедь Ольга, — передо мной открылось совсем другое лицо Германа: жестокое, свирепое; глубоко запрятанные под широкие брови глаза смотрели на меня холодно и расчетливо. Я молча выслушала его признание, молча смотрела на него. Он спросил: “Что ты молчишь? Нам будет хорошо. У нас будет много денег. Они должны платить и мне и тебе. А такая красивая, как ты, должна быть богатой, очень богатой…” “Но у нас будет много трудностей на пути к богатству”, — сказала я. И тогда, задрав нос кверху, Герман, словно вещая с амвона, изрек: “Per aspera ad astra!” (Через трудности к звездам!). — Вот они, эти звезды! — Ольга иронически улыбнулась и посмотрела на следователя глазами, полными глубокой печали и боли… — Но я, кажется, отвлеклась… Так на чем я остановилась? Да, свадебное путешествие… Первые радости медового месяца и горькое- похмелье… Родители мои словно чувствовали это и все допытывались: “Почему ты такая грустная?” Они, конечно, ничего не знали. Они прокляли бы меня… Отец — участник движения Сопротивления, среди подруг матери были коммунистки. А я…Продалась… Ну что же, быть по сему… Наступил день моего отъезда в Москву. Меня снова инструктировали. “Ваша главная задача — непрестанно расширять круг знакомых, изучать их, поставлять нам данные о них”, Я догадывалась, что в Москву под видом туристов приезжают мои “коллеги”. Но Карен строго предупредила: “Никаких встреч, никаких бесед с ними. Никто до поры до времени не будет вас инспектировать, и вы никому не подотчетны в Москве”. О выполнении задания я докладывала, когда возвращалась домой на каникулы. Тогда же сдавала все собранные материалы. Я приезжала в свой город и в тот же день отправляла открытку по условленному адресу — текст был стандартный: “Дорогая Рит! Вчера я вернулась из продолжительной поездки. Все хорошо, плохо только, что моя глухота прогрессирует, совсем неважно стала слышать. Привезла тебе обещанную гранатовую брошь. Скоро увидимся. Целую. Ольга”. Кто такая Рит? Понятия не имею. Думаю, что такой вообще не существует. Видимо, псевдоним, придуманный для связи с Карен и Трудом. Да, и эти тоже скрываются под псевдонимами. На второй день после того, как я опускала в почтовый ящик открытку, раздавался телефонный звонок. Меня вызывали на встречу. Сперва я отчитывалась устно, а потом мне говорили: “…об этом напишите подробнее”. И два–три дня я писала свой отчет. Сдавала его и получала вознаграждение. Деньги платили большие, но платили по-разному. Если в докладе оказывались сведения, представляющие особый интерес, ставка повышалась. Иногда даже до двухсот процентов. Так, в частности, было, когда вместе с подробной характеристикой студента МВТУ, моего поклонника, я представила сведения о его институте, его учебной практике в Севастополе, фотокопии с некоторых листов студенческого конспекта. Но иногда я оставалась в недоумении. Мне, например, казалось, что заслужу самой щедрой награды за свои сообщения о докторе Васильевой и ее дочери, студентке Марине. Глава этой семьи Эрхард оказался шпионом и в первые же дни войны бежал к гитлеровцам. Сейчас он работает на какую-то разведку. Однако это сообщение было воспринято равнодушно, спокойно, дополнительных вопросов не последовало. Вскоре я поняла, в чем тут дело: хозяевам многое уже было известно об Эрхарде и о его семье. И только значительно позднее от меня потребовали письменного доклада о докторе Васильевой и ее дочери Марине, их друзьях и знакомых. …Следователь внимательно слушает Ольгу, стараясь не прерывать ее. Но сейчас он не может не спросить: — Какую характеристику вы дали Марине? — Сложная, противоречивая натура. Остатки былой озлобленности, порой проявляющаяся склонность к фронде, особая точка зрения на некоторые острые вопросы советской жизни — все это не может не заинтересовать наших людей. Но при этом я предупреждала Белана: учтите, девушка честна, неподкупна, принципиальна, она стремится глубоко осмыслить окружающий мир и, в общем-то, любит свою страну, свой народ. И, как тигрица, набрасывается на того, кто посмеет чернить жизнь этого народа в главных ее проявлениях… Любовь и преданность своей стране в ней намного сильнее озлобленности и фрондерства. Купить ее нельзя. Скорее можно запугать — она несколько боязлива. Страх преследовал ее с детства… И у нее есть уязвимое место — слепая любовь к матери. Лишь бы не потревожить маму… Я говорила об этом и господину Зильберу. — Вы показали, что вам было запрещено встречаться с вашими коллегами по разведке. А как же Зильбер? — Мне сказали: обстоятельства могут сложиться так, что в Москве я должна буду встретиться и помочь нашему человеку. На этот случай был дан пароль: “У меня для вас имеется гранатовая брошь”. Человеку, который произнесет эту фразу, нужно верить, помогать, отвечать на его вопросы… Однажды ко мне в общежитие позвонил иностранец и сказал, что привез небольшую посылку от моих родных. Мы условились о встрече. Посылки не было. Был пароль: “У меня для вас имеется гранатовая брошь”. Это был Зильбер… После первых же его вопросов я поняла: среди других заданий разведчика есть и такое — проверить мою работу на месте. В частности, он попросил меня подробно рассказать, как выполнялась операция закладки тайника в Донском монастыре. Вопрос насторожил, точнее, напугал, усилил тревогу. — А для этого были основания? — Да, были… Летом ко мне приехал Герман и сообщил о важном поручении центра — это было, пожалуй, первое небезопасное дело, которое доверялось мне. Я получила от Германа материалы, необходимые для шифрования и расшифровки текстов, а также большую сумму советских денег. И тут же — инструкция: в начале сентября ежедневно бывать на улице Горького, на Главном телеграфе, и заглядывать в будку телефона-автомата — при входе первая будка справа. На стене будет знак “W”, начертанный угольным карандашом. Как только появится такой знак, я должна во второе воскресенье сентября рано утром, не позднее шести часов, отправиться во двор Донского монастыря и согласно полученному мною плану отыскать там тайник. Все, что передал мне Герман, нужно заложить в тайник. Кому это предназначено — я не знала и знать не должна. Во вторую субботу сентября объявление появилось. Я помчалась в общежитие. К счастью, подруга ушла в кино, и я имела возможность тщательно упаковать в газету… — Вы не помните, в какую? Ольга удивленно посмотрела на следователя. — Помню… В “Медицинскую газету”. — Вы ее выписываете? — Нет… Точнее, выписала на первое полугодие, а на второе пропустила сроки подписки. Но все те номера газеты, которые меня интересовали по ходу занятий, мне охотно давала доктор Васильева. Она давний подписчик этой газеты. — Ясно. Продолжайте. Итак, вы тщательно подготовили пакет. — И рано утром, сказав, что еду на аэродром провожать родственницу, отправилась в Донской монастырь. По инструкции в среду я снова должна была пойти туда же, на Главный телеграф. В той же будке рядом с “W” появится буква “R”. Это сигнал, подтверждающий, что все в порядке. Нет буквы “R” — значит, беда. Условленного знака не оказалось. Ни в четверг, ни в пятницу, ни в последующие дни… Я потеряла покой, страшно испугалась. Стала вспоминать до мельчайших деталей, как закладывала тайник. Мне казалось, что все правила конспирации были соблюдены строжайшим образом. И вдруг провал. Неужели это я виновата? Значит, за мной продолжают следить?.. И вот от Зильбера узнаю: человека, которому предназначалось содержимое тайника, провалил один из наших разведчиков, за что и понес суровое наказание. Там, в центре, естественно, догадались, в каком смятении я нахожусь, и, видимо, поручили Зильберу внести ясность: “Вы не виноваты”. — Передать вам поручение центра — это было единственное задание Германа? — Нет… Он должен был проехать на машине по дороге, проходящей через некоторые райопы Подмосковья… — Какие? Вот вам карта. Покажите. Ольга сразу же прочертила карандашом маршрут. — Мы воспользовались приглашением моего однокурсника. Его родители живут в деревне, дорога к которой идет примерно тем же маршрутом. — Что интересовало вашего мужа? — Линии электропередач, радарные установки, про-мышленпые объекты, встречавшиеся в пути военные машины. Он тайком записывал их номера… — Это его запись? — Следователь протянул коробку для сигарет, на которой был записан номер машины. — Нет, моя. Мы дублировали друг друга. Вечером мы долго искали эту коробку… — Что еще привлекало внимание вашего супруга? — Мы остановились на берегу реки, чтобы набрать бутылку воды… — Ясно. Как оценивал Герман результаты поездки? — Сдержанно… Хотя был очень доволен неожиданным знакомством. К нашему пикнику присоединился гражданин, отрекомендовавшийся Семеном Опанасенко. И Ольга подробно рассказала о том, что было уже известно следователю, — как человек по кличке Толстяк стал выполнять их поручения. — Герман дважды встречался с ним в Москве. Толстяк достаточно откровенно поведал о себе, о своих делах до ареста. Герман осторожно дал ему понять, что услуги таких людей всегда высоко оплачивались и будут оплачиваться. Тем не менее муж приказал мне до поры до времени держаться подальше от этого типа, пока он не посоветуется с хозяевами, пока не придет условная телеграмма: “Твое письмо получил, спасибо”. Такая телеграмма пришла. Значит, Толстяка можно использовать. Его фамилия значилась где-то там, в досье. Он до ареста, видимо, работал против вас. Но даже после получения телеграммы я должна была прибегать к услугам Толстяка осторожно, втемную. — Хороша темная! Вы же ему давали прямые шпионские поручения, — заметил следователь. — Да… Соблазнительно было. Когда Зильбер приехал в Москву, он при первой же встрече со мной поинтересовался Толстяком. И был весьма доволен, узнав, что человек этот как раз в эти дни находится в Москве. — Что вам известно о заданиях, которые выполнял Зильбер в Москве? — Я уже говорила: проверить мою работу на месте и лично познакомиться кое с кем, на кого я давала материал. — И это все? — Нет… Ему удалось перевезти через границу сфабрикованные газеты “Футбол”. Внешне они ни в чем не отличались от такого же советского издания. Ну, а по содержанию… Содержание вам известно. — Какова ваша роль в распространении этих фальшивок? — Я подсказала исполнителя — Толстяка. Из списка людей, за которыми я вела наблюдение во время учебной практики в Подмосковье, выбрала одиннадцать человек и дала их адреса. Это главным образом учащаяся молодежь. С некоторыми из них я познакомилась поближе на одном из лесных пикников, устроенном моим поклонником, местным хирургом. Мне казалось, что настроения этих молодых людей таковы, что фальшивка попадет на благодатную почву… Я дала Зильберу еще один адрес — студгородок, в котором бывала два-три раза и знала, как туда легче всего проникнуть, куда следует положить газеты… — Вы показали, что Зильбер имел задание установить контакт с Мариной Васильевой. Вы содействовали этому? — Частично… Когда мы всей компанией возвращались со студенческого вечера, Марина со своим знакомым Николаем Бахаревым пошла в ресторан “Метрополь”. Я тут же из автомата дала знать об этом Зильберу… Его заинтересовал друг Марины литератор Николай Бахарев, с которым я познакомилась в доме Васильевых. Мне казалось, что Бахарев именно тот человек, который может привлечь внимание шефа. Так я и охарактеризовала его в своем сообщении Зильберу. Для него было важно — Бахарев причастен к миру литераторов, но Зильбер был несколько озадачен, не найдя его фамилии в своем списке членов Союза писателей. Я объяснила ему, что Бахарев еще только начинающий литератор и у него все впереди, его, конечно, примут в Союз. Зильбер согласился со мной и стал настойчиво добиваться встречи с другом Марины. И не без моей помощи кое-чего добился. Мне удалось свести их вместе в ресторане “Колос” на ВДНХ, а Зильбер ухитрился каким-то образом затащить Бахарева к себе, в номер гостиницы. О чем они беседовали там, мне неизвестно. Перед отъездом, во время нашей мимолетной встречи, Зильбер на ходу, скороговоркой передал свои впечатления от этой встречи. Он сказал примерно так: “Ничего определенного сообщить не могу. Бахарев оказался молодым человеком с более сложной натурой, чем я предполагал. С ним надо работать, его нужно изучать. На таких выигрывают, но на таких иногда и проигрывают”. Последние его слова я запомнила хорошо… — Уезжая, Зильбер оставил вам какие-нибудь инструкции? — Он просил меня продолжать наблюдение и за Мариной и за Бахаревым, но не предпринимать без согласования с центром каких-либо активных действий. Кроме того, он сообщил мне о намерении центра использовать меня как передаточный пункт для доставки в Россию пропагандистских материалов на русском языке, в том числе и тех, которые пишутся в вашей стране, а печатаются в “свободном мире”. Зильбер сказал, что в ближайшее время будет организовано поточное микрофильмирование многих таких материалов. Микропленки через меня будут направляться определенным лицам для проявления, размножения и распространения. Я поняла Зильбера таким образом, что центр обеспечит доставку микропленок мне в Москву. А я, в свою очередь, обязана через тайники передавать эти микропленки третьим лицам. Кто они, Зильбер не сказал. В Москве я должна получать от каких-то лиц микропленки для отправки центру. Зильбер назвал всю эту операцию бесконтактной связью. Такую связь мы с ним отрабатывали в дни его пребывания в Москве. Зильбер сказал: “Пусть это будет для вас тренировкой”. Он привез с собой магнитный контейнер, внешне ничем не отличающийся от спичечной коробки советского производства. Только взяв его в руки, можно было определить, что он металлический и при соприкосновении с металлом накрепко прилипает к нему. Я имела возможность лично убедиться в этом, используя для отработки такой бесконтактной связи тайник в Архангельском. К тренировке был привлечен и Толстяк. Однако в последние дни пребывания Зильбера в Москве я вынуждена была прибегнуть к этому тайнику для оперативной работы — надо было срочно передать гостю кодированную записку. Так сложились обстоятельства… Поддерживать связь с Зильбером прежними способами — телефон, встреча в толпе покупателей у прилавка универмага — было уже опасно. — Вам предъявляется изъятая у вас при обыске записная алфавитная книжка в голубом кожаном переплете. Она принадлежит вам? — Да. — Дайте пояснения по существу некоторых записей. Что значит запись на последней странице: “Концерт Баха”. И рядом несколько цифр. — Зашифрованный телефон Бахарева. Из каждой пары цифр надо вычитать 25. — Он сам дал вам свой телефон? — Нет. Я выкрала из сумки Марины Васильевой записную книжку и переписала телефон Бахарева, а потом незаметно положила книжку на ее письменный стол. — На предпоследней странице есть такая запись: “Св. 40, Мол. 50”. Что это значит? Расшифруйте. — Пожалуйста: “Свечи стоят 40 копеек, молитвенники 50”. Это запись, связанная с заданием, которое я получила в Москве от мужа. Он передал ряд поручений деятеля русской эмиграции, действующего в контакте с моим шефом. При этом Герман подчеркнул: “Считай, что ты получила задание шефа”. — Как зовут эмигранта? — Истинная его фамилия мне неизвестна. А кличка — Константин. — Что требовал от вас Константин? — Я должна была собрать широкую информацию о некоторых художниках и литераторах, о литературных приверженностях молодежи, в частности студентов… И наконец, совсем новое для меня дело — побывать в московских церквах, побеседовать с верующими и священниками. — Что вы должны были выяснить в этих беседах? — Нет ли нарушений закона о свободе вероисповедания? Много ли среди верующих молодежи? Печатаются ли церковные книги, где их достать, сколько стоят свечи, молитвенники? Возрастной состав священников, содержание их проповедей. Как много свободных мест в церковных приходах для семинаристов, оканчивающих духовные училища? — Вы выполнили это поручение? — Частично. Я побывала в церквах Троицы в Хохловском переулке, Николы в Хамовниках и в церкви Донского монастыря. Беседовала с верующими и со священниками. Но считала, что еще не располагаю достаточно полной информацией для ответа на поставленные вопросы. Однако мне уже сейчас ясно: некоторые ответы верующих не обрадуют шефа. Богомольные старушки недовольны — священники покидают церкви и выступают с лекциями на атеистические темы. — А как с поручением касательно литературных приверженностей студентов? — О, это чрезвычайно емкое и многостороннее задание… Очень сложное, рассчитанное на длительное время… Я немногое успела… — Это все, что вы можете ответить на мой вопрос? — Я хочу добавить к сказанному следующее: я возлагала большие надежды на Бахарева. Но в беседах он высказывался по интересующим меня вопросам очень туманно. Мне кажется, что встреча Зильбера с Бахаревым была более результативной. Перед отъездом на каникулы я летала активнее контактироваться с Бахаревым. Но, увы, женская ревность! Марина вела себя весьма воинственно. И все же я буквально за несколько дней до отъезда договорилась с Бахаревым, что после возвращения в Москву мы пойдем ужинать в Дом литераторов. Конечно, вместе с Мариной. Он в шутку заметил: “Я обеспечу вам, Оленька, кавалера… Очень популярного писателя… Но, увы, обстреливаемого всеми калибрами официозной критики”. А потом обстоятельства сложились так… Она умолкла. Пауза длилась недолго. Ольга вновь заговорила, но голос ее внезапно стал глухим. — Я постараюсь искупить свою вину… Я сознаю ее… И готова подробнейшим образом ответить на все ваши вопросы. — При обыске в вашей правой туфле был обнаружен тайник. Кто дал вам эти туфли, как вы использовали их? — Туфли мне дала Карен, когда я в последний раз была дома на каникулах. За несколько дней до отъезда в Москву. Мы встретились на явочной квартире. Карен сняла со своей блузы гранатовую брошь, вынула из нее булавку и концом, противоположным острию, служившим ей отверткой, вывинтила четыре шурупа, крепивших каблук. И тут же ловко отделила его от туфли. Каблук был полый. Карен объяснила: “В этом полом каблуке ты будешь перевозить через границу микропленку. Отсюда в Москву. Возможно, что в будущем придется возить и из Москвы. Какую микропленку, узнаешь потом, в следующий приезд. А пока надевай туфли и носи их как можно больше. Считай это экспериментом”. Затем она попросила поставить каблук на место с помощью все той же булавки. У меня это сразу получилось. Карен была довольна. Между прочим, заметила: “Здесь удобно хранить ампулу с кураре”. И засмеялась. Я ничего не ответила. Я не была уверена, что это шутка. Кураре, как известно, яд… Тогда же Карен сказала: “Носи туфли до самого отъезда из Москвы и постарайся забыть, что под твоей правой пяткой тайник”. Видимо, она обладает каким-то даром внушения. Я действительно забыла, что у меня среди трех пар лакированных туфель — одинаково элегантных, красивых — есть одна пара с тайником. Как-то Марина попросила дать ей — она шла на свадьбу к подруге — на один вечер такие лакированные туфли. И я по ошибке из трех пар выбрала именно ту, что имела тайник. Беспечность обошлась дорого. Видимо, я плохо усвоила уроки конспирации. Я спохватилась только через несколько дней. Спохватилась, ужаснулась и тут же позвонила Марине… — Знали ли о вашей преступной работе Васильевы? Может, догадывались? — Нет. Ни в малейшей степени. — А ваши родители? — Нет… Я уже говорила — они прокляли бы меня. — Вы несколько лет занимались изучением политических настроений окружавших вас молодых людей. Не требовали ли ваши хозяева, так сказать, общих соображений о мировоззрении, тенденциях развития духовного мира советской молодежи? В прямой или иной форме? — Нет… Впрочем, однажды был такой разговор с Карен. Это во время моей последней встречи с ней. Она показала мне одну из газет с антисоветской статьей, подготовленной Мюнхенским институтом по изучению СССР. В ней красным карандашом были подчеркнуты строки, касающиеся молодежи. Карен попросила меня прочесть эту статью, обратив особое внимание на подчеркнутые строки. И спросила: “Как вы считаете, автор дает правильную оценку? Нам важно знать: что это — наша пропаганда или реалистическая картина? Мы не имеем права заблуждаться. В особенности там, где речь идет о мобилизационной готовности возможного противника”. Я хотела тут же ответить, но Карен остановила меня: “Я не тороплю вас с ответом. Вопрос слишком серьезный. Проанализируйте ваши многочисленные беседы с молодыми людьми в СССР. Завтра мы снова с вами встретимся. Я попрошу изложить ваши соображения письменно”. На следующий день я передала Карен свои письменные соображения по поводу статьи. Я не согласилась с выводами ее автора. Карен, видимо, была не очень довольна моим письменным ответом. Сухо поблагодарив за откровенность, она, однако, спросила: “А вы не ошибаетесь?” Я твердо ответила: “Нет, не ошибаюсь”. В тот день Марина Васильева пришла в Комитет госбезопасности уже по вызову. Следователь не сказал ей об аресте Ольги — для Марины она уехала домой на зимние каникулы. Но по характеру некоторых вопросов Васильева стала догадываться о повышенном интересе к жизни иностранной студентки. И откровенно рассказала все, что знала, что думала о своей подруге. Разговор был долгим и касался, конечно, не только Ольги, но и ее самой. Может, впервые здесь, лицом к лицу со следователем, отвечая на его вопросы, Марина остро ощутила, какая опасность висела над ней. А впереди еще один трудный разговор и неожиданное для нее, поистине ошеломляющее открытие. После допроса ее проводили в кабинет Птицына. Марина не удивилась встрече с ним. Она решила, что допрос будет продолжен. Васильева стояла перед Птицыным усталая, растерянная, поникшая, и бледное лицо ее выражало глубокое душевное волнение. Птицын предлагает ей сесть, а она все еще стоит, словно не слышит или не понимает его слов. А Александр Порфирьевич повторяет: — Садитесь же! Вот так… Кофейку не угодно ли? Воды? Извольте… Она выпила стакан воды. — Вы не волнуйтесь. Самое страшное позади. Я разговаривал со следователем. Он сказал, что ваши показания для дела важны, и при этом подчеркнул их объективность и откровенность. Со своей стороны я признателен вам за то, что вы в тот раз сами пришли к нам. Вы и тогда были искренни, но я не мог быть с вами откровенным до конца. На это были свои причины. Теперь они отпали. Сейчас я могу сообщить вам нечто такое, что должен был скрывать от вас… — Птицын запнулся на какое-то мгновение, окинул взглядом удивленное лицо Марины и продолжал: — Дело в том, что Николай Андреевич Бахарев — наш сотрудник. Больше того, он работает под моим началом и действовал по моим указаниям… Уже не удивление, а изумление на лице потрясенной девушки. Она силится что-то сказать, но, видимо, не может. Нет сил, нет слов. Перехватило дыхание, комната расплылась в каком-то тумане. Марина судорожно уцепилась за край стола. Сейчас на ее лице можно было прочесть не только изумление, но и досаду,пев и даже страх. Большие глаза ее вопрошали: “Зачем же так?..” И, перехватив ее взгляд, Птицын говорит: — Поймите, товарищ Васильева, так было надо! …В тот вечер Марина несколько раз подходила к маленькому столику в углу комнаты, поднимала телефонную трубку и начинала набирать номер. Наконец она решилась и все же позвонила Бахареву. Она слышала его нетерпеливый голос: “Алло! Алло! Кто говорит?” Не ответила. Молча опустила трубку на рычаг. И вдруг в ее почти потухших глазах сверкнула надежда. Марина снова звонит Бахареву и глухим голосом говорит: — Николай Андреевич! — Так она называет его впервые. — Я все знаю. Меня вызывали на допрос. Я была у вашего шефа… Мне сказали: “Так надо было…” Это и ваше мнение? Бахарев не сразу ответил. На какое-то мгновение ему захотелось весело, как он это обычно делал при встрече с ней, выпалить что-нибудь этакое, приятное, успокаивающее. Но он не выпалил. Помедлив, сдержанно, с трудом скрывая душевную теплоту, сказал: — Марина… Ты пойми… Это все очень сложно… — Мне ясно, — отчужденно-холодно отчеканила она. — Значит, и ты так считаешь… Значит… — Никаких “значит”, Мариночка! Ты должна все понять… — Бахарев умолк, словно подыскивал самые нужные сейчас слова. Никогда еще так остро не ощущал он, насколько глубока и полна его привязанность к этой девушке, столь необычно и сложно появившейся на его пути. Бахарев весь день готовился к этому разговору с ней. Он уже знал о встрече Птицына с Мариной. Знал о реакции генерала Клементьева на эту встречу. Бахарев находился в кабинете Александра Порфирьевича, когда к концу рабочего дня подполковнику позвонил генерал. Клементьев интересовался, как прошла беседа с Васильевой и, в частности, что сказали ей о Бахареве, сумели ли объяснить все… И, судя по выражению лица Александра Порфирьевича, генерал был чем-то недоволен. — Черт те что получилось, — отхлебывая горячий кофе, бурчал расстроенный Птицын. — Докладываю генералу: объяснили, мол, девушке коротко и ясно. Сказал: “Так надо было”. А генерал не без иронии заметил: “Это все, что вы могли сказать ей, Птицын? Маловато… Думал я, что для девушки, перенесшей столько горестей, найдете слова потеплее. — И добавил: — Позвоните ей и попросите, если может, пусть завтра придет ко мне”. И нам с тобой велено быть там. И Крылову. Об остальном, сказал, сам позаботится. Вот так… Ну, чего молчишь? Ишь как сияет товарищ Бахарев… …Бахарев продолжает все на той же ноте: — Мариночка, ну что же ты молчишь? Я взываю к твоему разуму и сердцу. Разреши мне сейчас приехать к тебе… — Нет, не надо… Нужно все обдумать. — Да, это все сложно, но объяснимо. Я хотел бы… Алло! Алло! Кто нас разъединил? Разъединила Марина. Не попрощавшись, она положила телефонную трубку. Затем, тяжело ступая, подошла к балконной двери, прижала голову к холодному стеклу — на улице шел мокрый снег. Стала прислушиваться: не раздастся ли телефонный звонок? Нет. Бахарев не звонил. Тишина! Только слышно, как по оконному карнизу без конца тенькает ледяная капель. Ее вывел из оцепенения звонок. Она бросилась в переднюю к телефону. “Николай… Пусть приезжает немедленно!” Но это звонил Птицын. — Марина! Сможете ли вы еще раз приехать к нам завтра? Когда? Когда вам удобно… Хорошо, в три часа. …Бледная и взволнованная, переступила она порог большой светлой комнаты. Генерал поднялся, зашагал ей навстречу. — Здравствуйте, — Марина! Рад вас видеть. Только хмуриться не надо. Знакомьтесь: Крылов Иван Михайлович. А с этими товарищами вы, кажется, уже знакомы. — И, улыбнувшись, кивнул в сторону Бахарева и Птицына. Марина смущенно, растерянно оглядывается по сторонам. На длинном полированном столе — ваза с красными розами. Коробка конфет. Что все это значит? Зачем ее сюда позвали? А генерал продолжает: — Присаживайтесь… Вот сюда… Что будем пить: кофе, чай? Николай Андреевич! Вы себя неприлично ведете — рядом такая девушка, а вы словно в рот воды набрали и никакого внимания. Я-то в ваши годы… Прошу вас… Бахарев краснеет и что-то несвязное бормочет в ответ. …Вот уже минут пятнадцать Марина сидит за этим длинным столом в обществе четырех чекистов и никак не может понять: зачем, собственно, ее сюда пригласили?! Генерал расспрашивает о занятиях в институте, интересуется здоровьем мамы, ее работой, настроением. — Я очень рад, что у вас дома все в порядке, что все тяжкое осталось позади… Ваша мама молодец. Передайте ей привет и наше пожелание доброго здоровья. А теперь хотелось бы несколько слов сказать вам, Марина… Вы, вероятно, догадываетесь — мы пригласили вас сюда не только для того, чтобы угостить чашкой кофе. Мы не без вашей помощи провели нелегкую операцию. Распутали сложный узел. Ваша роль при этом была трудной. Жизнь вас не баловала с детства. Но вы на очень важном рубеже смогли подавить чувство страха и пришли к нам, отбросив сомнения, колебания… Спасибо вам за это. У нас, Марина, суровая служба. И веления ее суровы. Что поделаешь? Порой приходится подавлять проявление самых сильных человеческих чувств… Простите за это небольшое отступление. Полагаю, что вы меня поняли. Поняли, к чему все это сказано… Генерал допил чашку кофе, встал с места, прошелся по кабинету и вскользь, словно только сейчас вспомнил, обронил: — Мы тут вчера посоветовались с руководством и приняли решение вручить вам этот скромный сувенир. — Он протянул ей часики, на крышке которых было выгравировано: “Марине Васильевой — от друзей”. — И еще один сувенир, на мой взгляд, куда более дорогой. Вот эти розы… Их уж пусть вам вручает Николай Андреевич. Впрочем, служебный кабинет — не лучшее место для столь лирической акции. Бахарев сегодня свободен, и сам решит, где их вручить. Николай Андреевич! Проводите, пожалуйста, Марину… А заодно постарайтесь помочь ей понять все, что еще осталось для нее неясным. Только не прибегайте, пожалуйста, к категорическим формулам, вроде: “Так надо было”. Никому еще точно не известно, так ли надо было или чуть-чуть, самую малость, но не так. А пока не смею задерживать… Впрочем, я совсем забыл: у вас, Марина, могут быть просьбы, вопросы? Она благодарно взглянула на высокого, скорее, долговязого обаятельного человека и покачала головой: — Просьб нет, а вопросы… Что ж, вы, кажется, мудро все решили… И время поможет… Спасибо вам… И за сувениры… и за уроки…А.Вайнер Г.Вайнер Право ходить по земле Пролог
 Мысли перепутались… Ужасная горечь невероятного открытия комом стояла в горле. Зачем она приехала сюда? Убедиться, что этот человек — преступник? Столько лет — и одно лишь предательство, ложь, целая жизнь, сплетенная из лицедейства… Зачем он жил? Что ему было дорого? Чего он хотел в своей никчемной жизни? И какой ценой?..
Она стояла на обочине тротуара, жадно вдыхала холодный воздух, пытаясь остановить, успокоить бешеный бой сердца, наметить план действий, принять окончательное решение — что делать?
Потом пошла узкой, протоптанной в снегу тропинкой к остановке автобуса на Сусоколовском шоссе. Шла медленно, усталой походкой. Она не замечала острого ледяного ветра, бившего в лицо жесткой снежной крупой, шла каким-то ломким механическим шагом, изо всех сил стараясь сбросить с себя тягостное бремя незаконченного разговора. Да что там кончать! И так все ясно. Надо позвонить. Она вспомнила, что на остановке автобуса видела телефонную будку. Да, надо позвонить — ей одной не развязать этот туго затянувшийся узел.
Принятое решение позволило наконец стряхнуть оцепенение. Она натянула перчатку и прибавила шагу. На слабо освещенном пустыре было безлюдно, раздавался лишь свист ветра да позади — негромкий скрип снега под ногами — звук чьих-то шагов.
Она вспомнила его перекошенное от ненависти лицо, сладкий ласковый голос, какие-то нелепые, лицемерные, визгливые слова…
Скрип снега позади усилился, кто-то нагонял ее, но не было сил и желания обернуться, она лишь слегка посторонилась на узкой тропинке, чтобы пропустить… Господи, как противно!.. Теперь все. И она довольна, что ей удалось все это понять, теперь все, теперь можно…
Она не успела додумать, потому что в это мгновенье ощутила резкий, острый толчок в спину, горячую боль в груди, и мир раскололся на части — оглушительный звон, чудовищный грохот полыхнули в ушах. Желтые тусклые фонари на автобусной остановке ракетами взлетели в черно-серое заснеженное небо, стремительно закружились огненной каруселью лампы в окнах домов, и пронзительный звон умолк. И все исчезло…
Шарапов говорит медленно, не спеша, оглаживая и ровняя слова языком, лениво проталкивает их между губами. Поэтому у него в разговоре нет восклицательных знаков, изредка — вопросительные и бесперечь — тире. Шарапов долго думает, потом веско заканчивает:
— Нет, махорочка, что ни говори, штука стоящая. Возьми вот сигареты нынешние, особенно с фильтром. Крепости в них никакой — кислота одна. Изжога потом. Кислотность у меня очень нервная — чуть что не по ней, сразу так запаливает — соды не хватает. А из махры к концу дня свернешь “козу”, пару раз затянешься — мигом мозги прочищает.
— Ну и как, прочистило сейчас?
— Трудно сказать…
Тихонов нетерпеливо барабанит пальцами по стулу:
— Непонятно, непонятно все это…
Шарапов спокоен:
— Поищем, подумаем, найдем.
— А если не найдем?
— Это вряд ли. И не таких находили…
— Тогда давайте думать! А не вести беседы про махорку!
Шарапов протягивает руку, снимает с электрической плитки закипевший чайничек.
— Ты, Тихонов, грубый и невыдержанный человек. И молодой. А я — старый и деликатный. Кроме того, я — твой начальник. Таких, как ты, — у меня тридцать. И с вами со всеми я думать должен. Поэтому думать мне надо медленно. Знаешь ведь, в каком деле поспешность потребна? А тут много непонятного.
Тихонов перелистывает первую страницу картонной папки, надписанной аккуратным канцелярским почерком: “Уголовное дело № 2834 по факту убийства гр-ки Т.С.Аксеновой. Начато — 14 февраля 196* года. Окончено ……” И говорит:
— Хорошо. Поехали с самого начала…
Мысли перепутались… Ужасная горечь невероятного открытия комом стояла в горле. Зачем она приехала сюда? Убедиться, что этот человек — преступник? Столько лет — и одно лишь предательство, ложь, целая жизнь, сплетенная из лицедейства… Зачем он жил? Что ему было дорого? Чего он хотел в своей никчемной жизни? И какой ценой?..
Она стояла на обочине тротуара, жадно вдыхала холодный воздух, пытаясь остановить, успокоить бешеный бой сердца, наметить план действий, принять окончательное решение — что делать?
Потом пошла узкой, протоптанной в снегу тропинкой к остановке автобуса на Сусоколовском шоссе. Шла медленно, усталой походкой. Она не замечала острого ледяного ветра, бившего в лицо жесткой снежной крупой, шла каким-то ломким механическим шагом, изо всех сил стараясь сбросить с себя тягостное бремя незаконченного разговора. Да что там кончать! И так все ясно. Надо позвонить. Она вспомнила, что на остановке автобуса видела телефонную будку. Да, надо позвонить — ей одной не развязать этот туго затянувшийся узел.
Принятое решение позволило наконец стряхнуть оцепенение. Она натянула перчатку и прибавила шагу. На слабо освещенном пустыре было безлюдно, раздавался лишь свист ветра да позади — негромкий скрип снега под ногами — звук чьих-то шагов.
Она вспомнила его перекошенное от ненависти лицо, сладкий ласковый голос, какие-то нелепые, лицемерные, визгливые слова…
Скрип снега позади усилился, кто-то нагонял ее, но не было сил и желания обернуться, она лишь слегка посторонилась на узкой тропинке, чтобы пропустить… Господи, как противно!.. Теперь все. И она довольна, что ей удалось все это понять, теперь все, теперь можно…
Она не успела додумать, потому что в это мгновенье ощутила резкий, острый толчок в спину, горячую боль в груди, и мир раскололся на части — оглушительный звон, чудовищный грохот полыхнули в ушах. Желтые тусклые фонари на автобусной остановке ракетами взлетели в черно-серое заснеженное небо, стремительно закружились огненной каруселью лампы в окнах домов, и пронзительный звон умолк. И все исчезло…
Шарапов говорит медленно, не спеша, оглаживая и ровняя слова языком, лениво проталкивает их между губами. Поэтому у него в разговоре нет восклицательных знаков, изредка — вопросительные и бесперечь — тире. Шарапов долго думает, потом веско заканчивает:
— Нет, махорочка, что ни говори, штука стоящая. Возьми вот сигареты нынешние, особенно с фильтром. Крепости в них никакой — кислота одна. Изжога потом. Кислотность у меня очень нервная — чуть что не по ней, сразу так запаливает — соды не хватает. А из махры к концу дня свернешь “козу”, пару раз затянешься — мигом мозги прочищает.
— Ну и как, прочистило сейчас?
— Трудно сказать…
Тихонов нетерпеливо барабанит пальцами по стулу:
— Непонятно, непонятно все это…
Шарапов спокоен:
— Поищем, подумаем, найдем.
— А если не найдем?
— Это вряд ли. И не таких находили…
— Тогда давайте думать! А не вести беседы про махорку!
Шарапов протягивает руку, снимает с электрической плитки закипевший чайничек.
— Ты, Тихонов, грубый и невыдержанный человек. И молодой. А я — старый и деликатный. Кроме того, я — твой начальник. Таких, как ты, — у меня тридцать. И с вами со всеми я думать должен. Поэтому думать мне надо медленно. Знаешь ведь, в каком деле поспешность потребна? А тут много непонятного.
Тихонов перелистывает первую страницу картонной папки, надписанной аккуратным канцелярским почерком: “Уголовное дело № 2834 по факту убийства гр-ки Т.С.Аксеновой. Начато — 14 февраля 196* года. Окончено ……” И говорит:
— Хорошо. Поехали с самого начала…
Часть первая Понедельник
1.
Ветер успокоился, и снег пошел еще сильнее. Было удивительно тихо, и эту вязкую, холодную тишину внезапно распорол пронзительный скрипучий вопль. Потом еще раз и еще, как будто кто-то рядом разрывал огромные листы жести. И смолкло. — Что это? — спросил Тихонов постового милиционера. — Павлины. Их тут, в Ботаническом саду, в клетке держат. Прямо удивление берет — такая птица важная, а голос у нее — вроде в насмешку. — Ладно. Дайте-ка фонарь. Тихонов нажал кнопку, и струя света вырубила в серебристой черни зимней ночи желтый, вспыхивающий на снегу круг, перечеркнутый пополам человеческим телом. Тихонов подумал, что в цирке так освещают воздушных гимнастов. Он опустился на колени прямо в сугроб и увидел, что снежинки, застрявшие в длинных ресницах, в волосах, уже не тают. Глаза были открыты, казалось, женщина сейчас прищурятся от яркого света фонаря, снежинки слетят с ресниц и она скажет: “Некстати меня угораздило здесь задремать”. Но она лежала неподвижно и с удивленной улыбкой смотрела сквозь свет в низкое, запеленутое снегопадом небо. А снег шел, шел, шел, будто хотел совсем запорошить ее каменеющее лицо. Тихонов легко, едва коснувшись, провел по ее лицу ладонью, погасил фонарь, встал. Коротко сказал: — В морг…2.
Тихонов держал сумку осторожно, за углы, медленно поворачивая ее под косым лучом настольной лампы. Черная кожа, блестящий желтый замок в тепле сразу же покрылись матовой испариной. Комочек снега, забившийся в боковой сгиб, растаял и упал на стол двумя тяжелыми каплями. Стас щелкнул замком и перевернул сумку над листом белой бумаги. Сигареты “Ява”, блокнот, шариковый карандаш, коробочка с тушью для ресниц, десятирублевка, мелочь, пудреница, белый платочек со следами губной помады. Из-за этого платка Стас почувствовал себя скверно, как будто без разрешения вошел в чужую жизнь и подсмотрел что-то очень интимное. Даже не в жизнь — сюда он опоздал. Он пришел в чужую смерть и, уже не спрашивая ни у кого согласия, будет смотреть и разбираться — до самого конца. Из бокового кармашка сумки Тихонов вынул удостоверение и конверт. В коричневой книжечке с золотым тиснением написано: “Аксенова Татьяна Сергеевна является специальным корреспондентом газеты… И сбоку — фото: лицо с большими удивленными глазами и улыбкой в уголках губ. Тихонов подумал, что обычно фотографии на документах почему-то удивительно непохожи на людей, личность которых они удостоверяют. А эта — похожа. Даже после смерти. Конверт был без марки, со штампом “Доплатное” и московскими штемпелями отправки и получения. Внутри лежал лист бумаги, неаккуратно вырванный из ученической тетрадки “в три косых”. Размашистым почерком: “Вы — скверная и подлая женщина. Если вы не оставите его в покое, то очень скоро вам будет плохо. Вы поставите себя в весьма опасное положение”. Тихонов покачал головой: “Неплохое начало…” “Москва, Теплый переулок, д. 67, кв. 12. Аксеновой Т.С”. Тихонов снял трубку: — Адресное? Тихонов из МУРа. Дайте справочку на Аксенову Татьяну Сергеевну, журналистку… Так, так. Все правильно. Нет, это я не вам. Спасибо. Обратного адреса на конверте нет. Письмо было получено два дня назад. В блокноте исписаны только первые две страницы. Собственно, не исписаны, а изрисованы. Какие-то фигурки, половина человеческого корпуса, потом незаконченный набросок одутловатого мужского лица. И отдельные короткие фразы, слова между рисунками: “Корчится бес”, “Белые от злобы глаза”, “Старик Одуванчик”, “Страх растворяет в трусах все человеческое”, “Ужасно, что все еще…” Тихонов пробормотал себе иод нос: — Как жаль, что я не владею дедуктивным методом…3.
…— Гражданка Евстигнеева, расскажите теперь все по порядку. — С самого начала? — С самого… — Значит, Нюра приехала ко мне насчет холодильника… — Нюра — это Анна Лапина? — Ну, конечно! Кто же еще! У нее очередь на ЗИЛ, а у меня на “Юрюзань”. Она, значит, говорит, что, мол, твоя очередь еще не скоро, а у меня… — Надежда Петровна, начните с того момента, как вы вышли на улицу. — Так, пожалуйста! Значит, полдевятого Нюра стала собираться, а я ей и говорю: “Давай до автобуса провожу”. А дом мой, значит, прямо напротив гостиницы “Байкал”, наискосок немножко. Я говорю Нюре: “Ты здесь не садись на автобус, здесь всегда народу полно. Пошли лучше через пустырь, там последняя остановка двадцать четвертого. Все сойдут, а ты сядешь, вокруг гостиницы объедешь, зато до самого центра сидеть будешь. За пятак как в такси поедешь”. Ну, и пошли, значит. Тропинка там утоптана… — Скажите, пожалуйста, тропинка прямо к автобусной остановке выходит? — Нет, остановка на Сусоколовском шоссе. А на краю пустыря, значит, дом шестнадцать стоит. Вот как его обойдешь, тут и остановка будет. Мужчина этот самый еще у начала тропинки нас с Нюрой обогнал. А впереди-то и шла убитая. — На каком расстоянии от вас шла женщина, которую убили? — А кто его знает? Вам же точно надо? А я разве меряла. Думаю, что шагов пятьдесят. А может шестьдесят. Если б заранее знать… Тихонов внимательно слушал, стараясь тщательно рассортировать все, что говорила эта расстроенная пожилая женщина. Ведь она и ее подруга Анна Семеновна Лапина были единственными очевидицами убийства. — Как выглядел мужчина? — Как? Обыкновенно вроде. Высокий, в кепке, пальто, кажись, было темное… …— Гражданка Лапина, а вы не разглядели его лицо? — Да где же? Темно ведь. Тропинка узкая, я спиной к нему повернулась, когда он нас обгонял. — По тропинке двое рядом могли идти? Или одному надо было посторониться? — Так я ж про то и говорю! Одному отступить надо было, не то нога в снег проваливалась. — А какая сумка у него в руке была? — Да это, по-моему, и не сумка вовсе, а чемоданчик. Вот вроде как студенты носят. — Вы бы могли этого человека опознать? Женщина подумала, помялась: — Не, боюсь грех на душу взять. Темно ведь было. Так и в тюрьму человека ни за что упечь можно. — Так просто человека в тюрьму не упекают… Давайте дальше. На тропинке вас было четверо: вы с Евстигнеевой, перед вами мужчина, перед ним — та женщина… — Правильно. Когда дошли до середины пустыря, женщина уже подходила к самому краю, а мужчина ее нагонял. Потом пошел впереди. Потом подняла голову, смотрю — ни его, ни ее не видать. Прошли мы еще немного, а она, горемыка, глядь, лежит на снегу. А его уж и след простыл. — Давайте еще восстановим последний момент, когда все были на тропинке. Вы видели, как он обгонял женщину? — Да, видела. — После этого они сразу исчезли из виду? — Нет. Я еще видела, как он шел немного впереди, а она сзади. — Сколько метров было приблизительно от вас до них? — Да, так, если на глаз, метров пятьдесят, наверное. — А от них до дома шестнадцать? — Метров тридцать, — неуверенно сказала Лапина. — Если мы выедем на место, вы сможете показать, где вы все находились? — Думаю, что смогу…4.
“…ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Я, судебно-медицинский эксперт Сорокин, на основании изучения обстоятельств дела и данных судебно-медицинского исследования тела гражданки Аксеновой Т.С, двадцати восьми лет, с учетом: 1) характера раневого канала, направленного сзади вперед, сверху вниз, несколько слева направо и слепо заканчивающегося на внутренней поверхности четвертого левого ребра; 2) особенностей краев раны — круглой формы, ровных, без осаднения; 3) наличия в левой лопаточной кости округлого отверстия, повторяющего форму оружия, диаметр которого соответствует размеру раны; 4) отсутствия поясков осаднения и ожога, — прихожу к заключению, что смерть Аксеновой наступила в результате проникающего ранения левого легкого и сквозного ранения сердца с последующей тампонадой его, причиненного длинным (не менее 17–18 см) остроконечным орудием, действующим по направлению своей продольной оси, вероятнее всего, толстым шилом…” Тихонов даже присвистнул: — Ничего себе! Шилом! Шарапов еще раз внимательно просмотрел акт экспертизы. — Да-а, дела… У Шарапова привычка такая: “да” он говорит врастяжку, будто обдумывая следующее слово. — Шилом. Надо же! Так что у тебя есть, Стас? — Вот смотрите, Владимир Иваныч: план, составленный по обмеру и показаниям Евстигнеевой и Лапиной на месте убийства. Длина тропинки — сто восемнадцать метров. Тело Аксеновой лежало на расстоянии двадцати четырех метров от дома шестнадцать. Обе свидетельницы утверждают, что неизвестный обогнал Аксенову метров за десять–двенадцать от этого места. Это-то и непонятно. После того, как он ударил ее шилом в спину — больше ведь и некому, — она сделала еще около двадцати шагов и упала, даже не вскрикнув. Шарапов осмотрел лист с одной стороны, потом зачем-то перевернул его вверх ногами. С обратной стороны лист был покрыт столбиками цифр; они умножались, складывались, делились, вычитались. — Что это за арифметика? Стас прищурил глаз от дыма. — Да пришлось вспомнить — “пешеход вышел из пункта А в пункт Б, через час следом за ним выехал велосипедист…” Шарапов кивнул: — Понял. Что получили? — Исходные данные у меня очень приближенные. Я сделал три варианта: на разную скорость ходьбы убийцы, убитой и свидетельниц. Потом три варианта на разную засечку интервалов, через которые Евстигнеева и Лапина видели Аксенову и убийцу на тропинке. Потом привел их к средним результатам. — И что? — Несообразность. Лапина говорит, что, взглянув в последний раз перед собой, никого на тропинке не увидела. А убийцу, по моим расчетам, она должна была увидеть. Уже после того, как Аксенова упала. — Ладно, поехали на место…5.
Все длилась эта бесконечная ночь. Снегопад немного стих и прожектор с оперативной машины просвечивал почти всю тропинку — от дома шестнадцать до корпусов гостиницы “Байкал”. Шарапов сказал: — Здесь она упала. Ему осталось пройти всего метров десять — потом он исчез в тени от дома шестнадцать. Видишь, домзаслоняет свет фонарей на шоссе. Поэтому Лапина его и не видела. — Может быть, — сказал Тихонов. — Но что-то здесь не то… Он махнул рукой — и прожектор на оперативной машине погас. Мгла непроницаемая, прошитая белесыми стежками снегопада, повисла над пустырем. Они прошли по тропинке до шоссе, где ветер на столбах с визгом раскачивал фонари. Последней дорогой Тани Аксеновой, которую она не прошла до конца. Здесь снегопад сатанел совершенно, мокрые снежинки липнули к лицу, лезли в рукава и за шиворот. Хлопнула сухо, как затвор, дверца машины, и Шарапов сказал: — На Петровку…Вторник
1.
Ключ слегка заедало в замке, и, чтобы открыть дверь, его надо было быстро покрутить несколько раз налево-направо, подергать туда и обратно. Тихонов чертыхнулся, но ключ повернул все-таки нежно, дверь открылась. В кабинете было сине от утренних зимних сумерек и холодно. “Черти хозяйственники, — меланхолично подумал Стас, — окна, наверное, заклеют к Первомаю”. Стекло покрылось толстой узорной изморозью. Не снимая пальто, Тихонов подошел к столу и включил электрическую плитку. Медленно, лениво вишневела спираль, теплые струйки воздуха стали ласкаться о покрасневшие замерзшие пальцы. “Перчатки на меху надо купить”, — так же безразлично подумал Стас и сразу забыл об этом. Снял пальто, толстый мохеровый шарф бросил на спинку стула. После вчерашней ночи он чувствовал себя разбитым. От теплого воздуха плитки его снова потянуло в сон. “Хорошо бы пойти в ночные сторожа. Сидишь себе в тулупе, в валенках, в малахае на свежем воздухе. И спишь. Красота. А утром сменился — и снова спишь. Лафа!” Стас засмеялся тихонько, вспомнив это слово. Во время войны у всех мальчишек высшую меру блаженства обозначало слово “лафа”. А потом, так же неожиданно, как и появилось, исчезло. Тихонов потянулся изо всех сил — затрещали суставы. Бабушка говорила в детстве: “Смотри, выскочат все кости из гнезд, будешь вбок-поперек расти”. Тихонов встал, походил по кабинету. Начнем обзванивать автобусное хозяйство. Звякает диск телефонного аппарата. Шесть цифр: — Пожалуйста, дайте начальника эксплуатации. Шесть цифр: — Попросите к телефону старшего диспетчера. Шесть цифр: — Линейную службу прошу. Шесть цифр: — Начальника четвертой колонны. А! Очень приятно. Говорит старший инспектор МУРа Тихонов. Нет, нет, с вашими ничего не случилось. Вы мне сообщите, пожалуйста, каков интервал движения двадцать четвертого маршрута в районе Владыкина между двадцатью и двадцатью одним часом. Сколько? Одиннадцать минут? Так. Теперь второй вопрос. Сообщите фамилии водителей, проехавших Владыкинский конечный круг с двадцати часов двадцати минут до двадцати часов сорока пяти минут. Записываю. Гавриленко — двадцать двадцать шесть, Демидов — двадцать тридцать семь, Ласточкин — двадцать сорок восемь. Спасибо. Когда они работают сегодня? Очень хорошо. До свидания. Так… Шоферы будут в пять. Поеду к Аксеновой домой. Ну и разговор мне там предстоит! У родных такое горе, а мне ведь детали нужны. Ладно, поеду, посмотрю по ситуации…2.
Тихонов вышел на Петровку, обогнул Екатерининскую больницу, двинулся по Страстному бульвару к Пушкинской площади. На воздухе сонливость прошла. Негромко поскрипывал под каблуками снег, заваливший скамейки высокими “купецкими” перинами. Стас на ходу зачерпнул ладонью ком тяжелого мягкого снега, скатал тугой жесткий шарик и бросил его в ствол старого развесистого тополя. Снежок с хрустом разбился, с ветвей посыпались пышные белые хлопья. Впереди шла высокая тощая старуха. Она обернулась и сказала хрипло: — Ты что, со вчера не проспался? Ишь, бездельник, шутки придумал! Стас быстро ответил: — Миль пардон, мадам! Старуха погрозила прямым пальцем, похожим на обгорелый сучок: — То-то! Тихонов знал эту старуху. Летом она прогуливала на веревочке по Страстному бульвару огромного рыжего петуха по имени Пьер. Обычно старуха громко беседовала с этим дурацким Пьером по-французски. Поэтому, чтобы не связываться сейчас с ней, Стас сразу выложил все свои познания во французском. Помогло. Стас подумал, что каждому человеку, видимо, отпущен какой-то лимит любви и он должен непрерывно расходовать его, чтобы не разрушить баланс своей жизни. Очень это обидно: людям нужно еще так много доброты и любви, а кто-то любит бессмысленного рыжего петуха… Около стеклянного навеса кинотеатра “Россия” толпились первые зрители. В витрине “Известий” вывешивали фотомонтаж “Вчера и завтра Якутии”, школьники положили на снег у памятника Пушкину цветы. Тихонов сел в троллейбус. На Кропоткинской сиреневым облаком поднимался над бассейном пар, мятыми светлыми кругами еще горели над водой прожекторы. По Метростроевской, с лязгом размахивая кривыми железными руками, ползли снегоуборочные машины, и шоферы самосвалов, глядя, как проседают под грудами снега кузова, кричали: — Ха-а-рош! Москва жила своей жизнью. Тихонов поднимался по лестнице медленно, останавливался на площадках, прислонившись к дверям, думал. Больше всего его страшила минута, когда он позвонит и из-за двери спросят: “Кто там?” Кто там? Десятки раз раньше звонил, спрашивали, и он отвечал: “Откройте. Из уголовного розыска”. Иногда в ответ можно было получить через дверь пулю или плотный заряд дроби. Так убили Толю Панкратова. Молодой был совсем, забыл, что отвечать надо, стоя сбоку от двери. Мерзкий холодок под ложечкой в таких случаях не проходит никогда. Но и к этому привыкаешь. Нельзя только привыкнуть к необходимости сказать кому-то, еще неизвестному, за дверью: “Ваша дочь сегодня убита…” Ну, Стас, так кто там? А? Капитан милиции Тихонов, двадцати восьми лет, холостой, последний год в комсомоле, по мнению начальства, способный работник, по собственному убеждению — человек, еще не нашедший своего призвания и не решивший начать новую жизнь. Самое глупое, до чего может додуматься человек, — это решить начать новую жизнь. Стас знает это точно. Волевые люди, принявшие такое решение, мучаются долго, пока не выработают какие-то эрзацы, хотя бы внешне не похожие на прошлое. И продолжают спокойно и весело жить по-старому. А вот с неволевыми людьми — просто беда. Стас — человек безвольный. Часто он просыпается с твердым решением начать новую жизнь, обдумывает все ее аспекты в троллейбусе, по дороге на работу. Вместо обычной шутки Стас сухо козыряет постовому в воротах и не бежит по лестнице на четвертый этаж, а дожидается лифта. Открывает вечно барахлящий замок в своем кабинете, садится за стол и обдумывает рапорт начальству об увольнении из милиции. Потом прикидывает, кем он сможет работать на гражданке. Лешка Пинчук, бывший следователь первого отдела, стал корреспондентом “Московской правды”, Тихонравов — заместителем директора самолетостроительного завода. По общим вопросам, конечно. А Иван Петренко пошел администратором в цирк. Правда, Петренко не сам ушел, а выгнали его из милиции… Потом раздумья Стаса обрывает телефонный звонок, и тягучий голос Шарапова гудит мембраной в трубке: — На проспекте Мира вооруженное ограбление сберкассы. Инкассатор ранил одного из бандитов. Ты — старший группы. Савоненко, Ластиков и Дрыга с тобой. Давай в темпе. Тихонов почти автоматически вскакивает, передергивает затвор своего “Макарова”, засовывает его на ходу в задний карман брюк и бежит вниз к оперативной матине. И ныряет с головой в колготу розыска, преследования, звонков, обысков, опознаний. А вечером, поднимаясь в лифте к себе домой, он прислоняется к красной исцарапанной стенке, потому что ноги дрожат от усталости и уходящего напряжения, и думает, что Дрыгу надо завтра послать домой к вернувшемуся из тюрьмы Колюне-Иконостасу; а Лепилина-эксперта надо заставить сделать новые снимки в косопадающем освещении: на сейфе были следы; и поехать со следователем к прокурору — получить санкцию на обыск у Галки-Миллионерши, а фарцовщика Берем-Едем надо взять прямо утречком… Знаем, куда золотые диски поплыли! И еще надо, надо, надо… Стас падает в постель и засыпает мгновенно, не успев подумать, что так и не начал сегодня новую жизнь и прошедший день был похож на десятки других. Об этом он вспомнит только утром. Ио завтра об этом будет некогда думать. Завтра дело будет в разгаре. О новой жизни придется подумать, когда дело закончится и наступит пауза. Но тогда позвонит Шарапов, как позвонил вчера: — Стас, женщину убили во Владыкине… Тихонов поднялся до четвертого этажа, остановился, вынул из кармана записочку: “5 этаж, квартира 12”. Все, надо идти. Он повернул на последний марш и увидел, что дверь в квартиру отворена. Стас вошел в прихожую. Здесь стояли тихие, заплаканные люди. Значит, опоздал. И впервые Тихонову стало легче от того, что кто-то его опередил. Полный мужчина негромко говорил по телефону, иногда голос его срывался на визг: — Это же не люди, а бюрократы, я вам говорю! Это же что-то невозможное! Я же сказал, чтобы автобус послали в морг! Он с маху брякнул трубку на рычаг и повернулся к Тихонову. — Здравствуйте. Арон Скорый, заведующий редакцией. Иначе говоря, заместитель главного редактора по хозяйственной части. Ах, какое горе! Кто бы мог подумать! Вы, если не ошибаюсь, Копстантип Михайлович? — Нет. Я, наоборот, Станислав Павлович. Но это не имеет значения. — Видит бог, что да, не имеет. Перед горем все равны. Да-да-да. “Вот привязался Скорый-Почтовый-Пассажирский, — с досадой подумал Стас. — А кто же это Константин Михайлович? Она вроде незамужняя…” — Простите. — Он отодвинул расстроенного толстяка и вошел в комнату. Седая женщина, повязанная черной косынкой, сидела в углу на диване. Взгляд совершенно остекленел. Она не плакала, а только тихонечко раскачивалась и повторяла беспрерывно: — Донюшка, моя донюшка, за что же ты меня так? Таточка моя нежная, за что же ты? Что мне жить без тебя? Донюшка моя, донюшка… Около нее, обняв за плечи, сидела девушка с опухшими красными глазами и говорила: — Ну, мамочка, дорогая, перестань! Перестань, мамочка… Женщина все время раскачивалась. — Донюшка моя светлая, солнышко мое, Таточка, убили меня вместе с тобой, Таточка… Стас осторожно прошел к окну. Вдруг женщина подняла голову и увидела Тихонова: — Вы с работы Таточкиной? Стас немного растерялся, неожиданно остро почувствовал свою неуместность здесь и сказал угрюмо: — Я из милиции. Женщина смотрела на него долго, внимательно, и Стасу стало нестерпимо страшно — такое чудовищное страдание было в этих набрякших выцветших глазах. — Подойди, сынок, — сказала женщина вдруг охрипшим голосом. Стас подошел. — Наклонись. — Стас нагнулся, она провела ледяной ладонью по его лбу, и он сразу вспомнил, как ночью прикоснулся рукой к уже окоченевшему лицу Татьяны. — Дочку мою, Таточку, убили, — сказала женщина тихо. И тут что-то хрустнуло в ней, и она в голос, от всего рвущегося сердца закричала: — Уби-и-ли-и! Донюшку мою! Кровиночку мою родную! Девушка обняла ее, охватила крепко, как будто хотела остановить рвущийся из нее крик. — Мамочка, перестань! Ты убьешь себя!. — Ой, Галенька, что жалеть-то мне? Убили меня сегодня, не хочу больше жить. Зачем жить мне? Как домой пойду, если завтра положат ее в землю ледяную? Какая-то старуха громко зарыдала. Стас окаменел. Женщина повернулась к нему: — Сынок, дожить хочу только, как поймают этого ирода! Если не поймаешь его, зря живешь ты на земле. Слышишь, это мать тебе говорит! Галя крикнула: — Ну зачем ты, мамочка! Посмотри, на человеке и так лица нет. — Ни на ком сейчас лица не должно быть! Галюшка, человека убили! Дочь мою убили! Все люди на земле кричать должны — человека убили! Какого человека уби-и-ли-и-и!.. …Тихонов целый час расспрашивал в соседней комнате Галю обо всем, что могло иметь отношение к убийству Тани. Ничего, ничего, ровным счетом ничего девушка не могла сообщить полезного. Уже перед самым уходом вспомнил: — А кто такой Константин Михайлович? — Это Ставицкий — Танин приятель. Одно время они даже пожениться хотели. Но он скрыл от нее, что был женат. А она врунов ненавидит. Вот и пошло у них вкривь и вкось. Но все-таки они видятся иногда… Девушка не замечала, что говорит о Тане, будто она должна скоро прийти…3.
Тихонов шел по улице, раздумывая, где лучше встретиться с шоферами — поехать в парк или перехватить их на остановке “Владыкинский круг”. Оба варианта имели свои плюсы и минусы. В парке можно было поговорить обстоятельно — на линии водителей поджимал график. Но встреча на остановке психологически целесообразней — им придется вспоминать только нить событий — обстановка же полностью сохранялась. С этим нельзя не считаться. Впрочем, подумал Стас, если это не пройдет, вызову их на Петровку и попробую копнуть глубже. Он приехал во Владыкино задолго до пяти и решил еще раз пройти по тропинке. На том месте, где упала Таня, снег был уже плотно утоптан, по тропинке деловито шагали люди. Стас дошел до гостиницы “Байкал”, бессознательно считая шаги. Потом повернул обратно. Здесь она упала. Лапина говорит, что вот тут убийца еще шел впереди. Сколько же шагов сделала Таня со смертельной раной в сердце? Тропинка заворачивала за дом шестнадцать и кончалась на автобусной остановке. Евстигнеева помнит, а может быть, ей кажется, что она помнит, будто сразу после того, как они нашли Таню, раздался гул уходящего автобуса. Шофер Гавриленко не помнил. — Бес его знает! У меня длинных мужиков в черных пальто и кепках, почитай, сотня за день проедет… Тихонов на него и не очень-то рассчитывал. Машина Гавриленко ушла в двадцать двадцать шесть. А Евстигнеева говорит, что они вышли, из дома минут двадцать девятого. За шесть минут они дойти почти до самой остановки не могли. Убийцу, вероятнее всего, увезли Демидов или Ласточкин. Увез Демидов. Толстый, с маленькими серыми глазками и красным носом в голубоватых прожилках, он говорил спокойно, ковыряя каблуком кирзового сапога снег около кабины. — Когда народу много, еще совестятся. Вроде все на тебя смотрят — давай пятак. А как пассажиров сзади нет, так некоторые мимо кассы все боком шмыгнуть норовят. Проездной, мол. А я двадцать девять лет в автобусе баранку кручу — меня хрен обманешь. Я “зайца” издаля вижу и сразу ему по радио в салон: “Гражданин, предъявите проездной билет или опустите деньги за проезд в кассу”. Так вот этот, что вы спрашиваете, этот — нет. Он вошел аккурат вот здесь, и еще какая-то старуха тоже. Старуха пятак в заднюю кассу бросила, а он стоит, в карманах мелочь копает, билет брать не торопится. Я микрофон включил и говорю: “Граждане, приобретайте абонементные книжечки стоимостью пятьдесят копеек на десять поездок. Они экономят ваше время”. Тут он подошел к окошечку, засмеялся и говорит: “Батя, давайте сэкономим мое время”, — и купил книжечку. Опустил билетик в кассу, вернулся ко мне и говорит — окошечко у меня открыто было: — А гетеродин, батя, в радиоле твоей менять надо. А то смотри, хрипом своим распугаешь всех пассажиров. Это он верно заметил: динамик мой — ни к черту. Вот и все. Потому и запомнил. А так бы — нет. Много же людей — и молодых, и длинных, а про пальто черное и говорить не стану. Вообще-то, парень вроде приличный… Рассудительный дядя, молодец. Тихонов спросил: — А где сошел этот парень? — Ну-у, этого я, конечно, не заметил. Народу на следующей остановке много село, да и ни к чему мне смотреть за ним. А вообще-то, ежели не секрет, на кой он вам ляд сдался? — Дело в том, что, по всей видимости, этот “приличный” парень, перед тем как сел в ваш автобус, убил человека… — Ну-у! Этот парень?! Да-а-ют, бандюги… И ограбил? — Не думаю. Скажите, Иван Михалыч, узнали бы вы этого парня? — А то как же! Я же с ним разговаривал… — Ладно. Если вспомните еще что-нибудь или новости какие появятся — позвоните мне по телефону девяносто девять — восемьдесят четыре. Фамилию свою я вам уже сказал — Тихонов. Всего хорошего. — Всего. Если будет чего, уж конечно позвоню… Зимний день догорел, стало совсем темно. Вспыхнула зеленая световая вывеска на крыше гостиницы, зажглись фонари на Сусоколовском шоссе. Небо расчистилось немного, и в рваных прорехах сизых облаков стало видно беспокойное мерцание скупых маленьких звезд. Сильно похолодало. Тихонов ежился на пронизывающем ветру, тер руками покрасневшие уши. Долго стоял на остановке, пропуская гудящие, наполовину пустые автобусы. О чем-то думал. Потом махнул рукой и сел в очередную машину. В тепле его разморило, и снова захотелось спать. Он приехал на Петровку, поднялся к себе. От смены холода-тепла его била мелкая противная дрожь. Стас снял телефонную трубку. — Тихонов у аппарата. Дайте, пожалуйста, запрос на Ставицкого Константина Михайловича. Постарайтесь подготовить к завтрашнему утру.Среда
1.
Газетно-издательское объединение находилось в огромном сером доме с галереями, длинными балконами, круглыми окнами. Дом был похож на старый пассажирский корабль, во время наводнения случайно попавший на городскую улицу и застрявший здесь навсегда. Тихонов знал, что редакция газеты помещается в левом крыле на четвертом этаже. Он шагал по коридору, раздумывая о том, какие можно было бы здесь устроить замечательные велогонки. На бесчисленных дверях белели таблички с фамилиями. Рядом с туалетом почему-то висела черная стеклянная табличка: “Ходи тихо. Работают”. У входа в комнату четыреста четырнадцать было написано: “Беляков С.Н., Степичев Ю.М., Аксенова Т.С, Пушкина А.Н.”. Тихонов коротко постучал. — Войдите… В комнате за одним из столов сидел парень лет тридцати, в красивом дубленом полушубке. Меховая шапка с длинными ушами валялась рядом на стуле. — Мне нужен заведующий отделом Беляков. Парень повернул к нему кудрявую светлую голову с худым хищным профилем: — Беляков вышел. Будет через полчаса. Я — Степичев. Могу быть полезен? — Да, можете. Я — Тихонов из МУРа. — Садитесь сюда, это Танин стол. Подождите немного, я сейчас закончу свои дела и — к вашим услугам. Танин стол был завален какими-то газетами, исписанными листами, гранками, вырезками из журналов, на шестидневке были расчеркнуты и загнуты листы. Крышка с чернильного пузырька была свинчена, в нем торчала обкусанная деревянная школьная ручка. Под стеклом на столе большая цветная фотография: космонавт гасит купол парашюта на бесконечном, залитом солнцем поле. И надпись на фотографии: “Доброму и умному товарищу, прекрасному человеку, Танюте Аксеновой…” Степичев разбирал на своем столе какие-то бумажки, быстро читал, некоторые складывал в верхний ящик стола, остальные рвал. На угол сложил стопку потертых блокнотов. Позвонил куда-то и попросил приготовить досье по Таймыру. Задвинул ящик, запер, ключ положил на стол Белякова. — Все. Можно ехать. — Он сел верхом на стул, достал пачку сигарет, протянул Тихонову. — Спасибо, не курю. Далеко собираетесь? — Талнах, Северный Таймыр. Гидростанцию и металлургический комбинат пускать будут. Там-то все в порядке, а вот у вас как — по-прежнему ничего? — Ноль. На вас надеюсь — думаю, поможете. Вы когда последний раз Аксенову видели? — В понедельник, около пяти. — Потом она ушла? — Нет, я ушел первым. Таня еще оставалась. Я ее звал ужинать — она сказала, что ей надо поработать. — Больше никого в отделе не было? — Нет. Собственно, заходил Беляков. Но он в понедельник был “свежей головой”, так что в отделе почти не показывался. — Как это — “свежей головой”? — На каждый номер выделяется человек, который приходит, когда верстка номера уже готова и вылавливает из него “ляпы”. — Понятно. Вы не обратили внимания, какое у Тани было настроение в этот день? Степичев пожал плечами: — Трудно сказать. Вроде бы нормальное. Она ведь вообще была очень спокойной. — Спокойной или флегматичной? Степичев взмахнул сигаретой: — Это, знаете ли, только в школьном учебнике люди разбиты на четыре подкласса: флегматики — холерики, меланхолики — сангвиники. В жизни сложнее подогнать человека под эти рамки. Таня была обычной молодой женщиной — веселой, добродушной. И, кроме того, когда вот так внезапно погибает близкий человек, в первое время почему-то уходит из памяти самое главное. Мелочи какие-то, остаются пустяки. — Вы не знаете, были у нее враги? — Не думаю. Недоброжелатели какие-нибудь, наверное, как у всякого человека, были. Но такие, чтобы убить, — вряд ли. — А что она в понедельник днем делала? — Сейчас подумаю. Дай бог памяти. Так, с утра она писала отчет о командировке… — Простите, а когда она приехала из командировки? — В субботу утром. Таня ездила на лавсановый комбинат в Ровно, неделю там была. Привезла очерк. Да! Говорила, что нашла какой-то поразительный материал для рубрики “На моральные темы”, но что-то ей еще должны были не то прислать, не то она должна была проверить. Я сам был в закрутке и как-то пропустил это мимо ушей. Да оно, собственно, сейчас уже не имеет значения… Стас спросил как бы между прочим: — Аксенова не замужем? — Нет. У нее был один человек. Не знаю даже, как его назвать, — жених, что ли. — Вы о Ставицком говорите? Степичев взглянул на него удивленно: — А вы уже о нем знаете? — Пока очень мало. Я как раз и хотел что-нибудь интересное о нем узнать. — Да ничего, по-моему, в нем нет интересного! Актер! Таким всю жизнь не хватает одной роли, чтобы стать знаменитыми. — Я хочу вам напомнить — мы об обстоятельствах убийства почти ничего не знаем. Нам лишь известно, что Таню убил высокий молодой человек в темном пальто с чемоданчиком в руке, — сказал спокойно Стас. — Во-первых, Ставицкий ходит в сером пальто, а во-вторых, я не верю, что он может быть к этому причастен. — Во-первых, я вам не сказал, что подозреваю Ставицкого, — мне просто надо лучше знать людей из окружения Аксеновой. А во-вторых, в уголовном розыске “Не верю!” — это не аргумент. Мы предпочитаем факты. — Видите ли, я его не люблю и не могу быть объективным. А вам необъективность сейчас может только навредить. Да и действительно я его очень мало знаю. Встречался с ним несколько раз, и мне он не понравился. По-моему, просто хлыщ, который дома снимает с себя интеллигентность, как пиджак. Мне иногда казалось, чт.о Таня его терпит, потому что дала себе слово сделать из него человека. А может быть, я и неправ, не знаю…2.
Беляков вошел в комнату стремительно, рывком. В руках он держал сырой еще оттиск газетной полосы. Беляков был очень мал ростом, очень прям, очень озабочен. — Здравствуйте, товарищ Тихонов. Я — прямо из типографии. — Стас встал, шагнул навстречу. — Сидите, сидите. Вот здесь мы даем Танин очерк, который она привезла из командировки. На желтоватом листе бумаги выстроились колонки сереньких букв, аккуратно огибая белые пятна, куда втиснутся клише фотографий. Сбоку шел высокий трехколонник, названный “Много ли человеку доброты надо?”. Под заголовком — фамилия Тани в траурной рамке и жирным шрифтом официальное: “Когда верстался этот номер, трагически погибла молодая талантливая журналистка Т.С.Аксенова. Читатели хорошо знают…” Степичев поднялся. — Ну, я поехал, — он обнял Белякова за плечи, пожал Стасу руку, — желаю удачи. — Из Норильска телеграфируй, — сказал Беляков. — Пока. Дверь захлопнулась, и долго еще из коридора доносились четкие шаги Степичева. Беляков снял очки и, высоко подняв их, стал протирать платком. Как у всех очень близоруких людей, глаза у Белякова без очков сильно скашивались к носу и лицо становилось незащищенно голым. “Глазные мышцы от постоянного напряжения слабеют”, — подумал Стас. Беляков надел очки и снова стал руководяще озабоченным. — Мы потрясены этой трагической, нелепой гибелью, — сказал он и доверительно добавил: — Наш главный хочет снестись с вашим руководством на предмет выделения группы самых сильных оперативных работников для расследования этого из ряда вон выходящего дела. — Благодарю за внимание, — усмехнулся Тихонов, — только самых сильных мало, а преступлений еще вполне хватает. Так что, если все самые сильные будут заниматься одним делом, для преступников будет не жизнь, а малина. Кроме того, мы занимаемся не следствием, а оперативным розыском преступника. Следствие ведет прокуратура. — Не обижайтесь, товарищ Тихонов. Я, наверное, неудачно выразился. Я просто хотел сказать, что этому убийству надо уделить чрезвычайное внимание. — Я не обижаюсь, товарищ Беляков. А что касается чрезвычайного внимания, то оно уделяется у нас всякому убийству. — А как вы думаете, поймают убийцу? — Я за это зарплату получаю, — сказал зло Стас и вспомнил спокойное шараповское: “Найдем. И не таких находили”. — А все-таки случается еще, что такие преступления остаются нераскрытыми? — Случается. — Вот видите! — Что я вижу? Убит человек. Надо выяснить, почему. Тогда уже будет проще найти — кто убил. Для этого берем всю совокупность объективных обстоятельств вокруг убитого и отметаем все лишнее — налицо мотив и субъект преступления. Беляков смотрел недоверчиво — разыгрывает его оперативник, что ли? Стас говорил спокойно, слегка улыбаясь, скрывая душившую его злость. — Да-да, как у Родена — берем каменную глыбу и отсекаем все ненужное. — Но ведь это, наверное, дьявольски трудная задача, — растерянно произнес Беляков. — Нет. Если привыкнуть, то ничего, — успокоил Стас, подумав: “Ох, милиция, милиция! Горький, черствый хлеб!” По лицу Белякова было видно, что он в Стаса не верит. “Медаль надо было надеть”, — усмехнулся про себя Стас. — Все это так непостижимо, нет никаких логических объяснений всему свершившемуся, — сказал Беляков и очки его запотели. — Даже не знаю, как вы это распутывать будете. Боюсь, уйдет убийца от кары. Больше всего Стаса бесило, что Беляков молод. Ну, старый, какой-нибудь пенсионер со сквера, обыватель доминошный бормотал бы такое — понятно. Но молодой совсем парень — это уж черт те что! Только бы не сорваться, спокойно: — Как я понимаю, вы хотите получить от меня расписку в том, что я обязуюсь найти убийцу. Такой расписки я вам не дам. И никто не даст. Потому что я — человек. И всякий другой оперативник — молодой или старый — только человек. Поэтому мы можем ошибаться, не знать, не понимать, не предвидеть. И все-таки мы ищем и, как правило, находим. — Каким же образом? — с интересом спросил Беляков. — На моей стороне закон, все люди, общественное мнение, — устало сказал Тихонов. — Наконец, я человек, а он — волк, человеко-волк, и рано или поздно мы его загоняем за флажки. — Да-а, это по-своему убедительно, хотя довольно общо, — упрямо сказал Беляков. — Ладно, предлагаю эту криминалогическую дискуссию перенести на внеслужебное время. Я хотел бы с вашей помощью ознакомиться с архивом Тани Аксеновой… Около трех часов Стас задвинул последний ящик стола, откинулся на стуле. Все. Не нашлось ничего интересного. Беляков тоже устал от напряжения — он расшифровывал Стасу некоторые непонятные Танины записи. — Вот посмотрите ее последний блокнот. Она забыла его у меня на столе, уходя в понедельник. “Предпоследний, — подумал Стас, — последний был у нее в сумке”. Он взял из рук Белякова красную ледериновую книжку, долго листал. Записи и пометки о людях, каких-то кораблях, атомной электростанции на Чукотке, сказка о диком олене Хоре и очень много фраз — вставочек, наподобие режиссерских ремарок: “Гораздо больше экспрессии”, “Это одеяло лжи, сшитое из лоскутков правды”, “Потеря темпа”, “Врет так интересно, что не хочется спорить”. Видимо, у Тани была привычка механически записывать отдельные мысли. Уже в самом конце шли наброски очерка о людях Ровенского комбината, который завтра будет напечатан в газете. На последней странице написано: “М.П.Синев, А.Г.Громов, Шурик, А.Ф.Хижняк”, “Говорят, что микробы проказы могут прожить в организме, объективно не проявляясь до пятнадцати лет”, “В плотине моральных устоев открылся слив для всех человеческих нравственных нечистот”, “Трусость — детонатор жутких поступков”. Какие-то птички, галочки. Больше ничего нет. — Тут тоже ничего нет, — вернул Стас Белякову блокнот. — Скажите, Аксенова не заявляла в план каких-либо материалов, связанных с проблемой преступности? Или, может быть, с судьбами жертв фашизма? — Нет. Это вообще не относится к тематике нашего отдела. А проблемами фашизма занимаются международники… Она мне сказала, что сдаст какой-то интересный материал, но я в понедельник был очень занят… — Когда вы видели Таню последний раз? — Подождите, сейчас я точно скажу. Третью полосу приносят в половине шестого. Да, в половине шестого я зашел в отдел, и Таня с кем-то говорила по телефону. Да-да, она еще мне показала рукой — подождите, мол. Но меня вызвали в секретариат, и я решил зайти позднее. Заглянул минут через сорок — ее уже не было. — А о чем говорила Таня, вы не слышали? — Видите ли, я не имею обыкновения слушать чужие разговоры. — Жаль, — сказал Тихонов. — Жаль, что не нарушили в тот раз обыкновения. В отделе кадров Стас быстро перелистал личное дело Аксеновой. Последняя характеристика для поездки в международный дом отдыха журналистов в Варну. “… Зарекомендовала себя… деятельный и инициативный журналист… ведет большую общественную работу, политически грамотна… морально устойчива…” “Не придумаешь лучшего способа обезличить человека, — подумал Тихонов. — Смешные какие-то сохранились рудименты в нашей жизни. Характеристика! Кого она — такая — может охарактеризовать? И вообще это нелепо: хорошим работникам характеристики не нужны, их и так знают, а плохих характеристик, по-моему, вообще не дают…” Кадровик спросил задумавшегося Стаса: — Что-нибудь неясно? — Неясно. Что обозначает, например, “морально устойчив”? — Ну, как же! Значит, зарекомендовал себя хорошо… — Деятельным и активным? — Хотя бы. Устойчив в быту и на производстве. Не было аморальных проявлений, персональных дел там всяких. — Замечательно, — усмехнулся Стас. Последний листок в деле — выписка из приказа: “Командировать специального корреспондента т. Аксенову Т.С. в город Ровно на строительство химического комбината с 3/II по 10/II-196* г.” Десятое — это какой день? Стас достал карманный календарь. Так, десятое — четверг. Значит, она должна была выйти на работу в пятницу, а Беляков говорит, что вернулась в субботу. Надо бы узнать, не объясняла ли она как-то задержку. Тихонов вернулся обратно по коридору, но в комнате никого не было. На столе Белякова лежала записка: “Я на редколлегии. Буду в 17 часов”. Стас взглянул на часы. Пора возвращаться на Петровку.3.
Шарапов приоткрыл дверь в кабинет Тихонова: Стас внимательно рассматривал несколько документов, отпечатанных на машинке. — Давно приехал? — Час назад. Заходите, Владимир Иваныч. — Чего-нибудь привез? — Так, кое-что. Как говорится в процессуальном кодексе, документы, “характеризующие личность”. Шарапов подошел к Тихонову, присел на край стула. — Ну? — В редакции у нее был. Почитайте ее характеристику. — Тихонов протянул фирменный бланк редакции. Шарапов почитал, прищурился: — Да-а, для уголовного розыска здесь маловато… — Здесь для кого хочешь маловато. Разве что для другого кадровика. Взыскание, видишь, было и три поощрения. Высшее образование у нее и вела общественную работу, а в самодеятельности не участвовала. Я, конечно, с товарищами ее беседовал — те, как о живой, о ней говорят. А мне сейчас важнее всего узнать ее живую. При наших исходных данных шансы выйти на убийцу минимальные. Мотив надо искать. Пока мы не установим мотив нападения, преступника не найти. Будем крутиться на одном месте… — Пожалуй, — сказал Шарапов. — Хочешь, давай прикинем по вариантам. Ну, во-первых, ее могли убить из корысти. — Вряд ли, — возразил Тихонов. — По обстановке преступник никак не мог ее ограбить — люди сзади шли. Да и сумочка Аксеновой при ней осталась. На богатое наследство тоже рассчитывать не приходилось… Шарапов кивнул: — Значит, отпадает. Тогда — ревность. — Вот это очень возможно. Молодая, красивая. Мог какой-нибудь мерзавец загубить женщину — лишь бы другому не досталась. Мне вообще кажется, что мотив скрыт где-то в ее личной жизни. И письмо это… Шарапов сказал: — Пошли дальше. Хулиганство. Обстоятельства убийства вполне подходят для этой версии: разгулялся, пьянчуга, ну и ткнул шилом ни в чем не повинного человека… — Могли убить, — продолжал Тихонов, — на семейной почве. Нет, это сразу отпадает… — Остается еще убийство из мести или для сокрытия другого тяжкого преступления, — задумчиво сказал Шарапов. — Таких данных у нас пока тоже нет, но отбрасывать эти мотивы рано. — Рано, — согласился Тихонов. — Ну, и последнее: эксцесс. Аксенову мог убить какой-нибудь сумасшедший, либо на нее напали по ошибке, приняв за другого человека. Шарапов грустно улыбнулся: — Прямо весь уголовный кодекс перебрали. Значит, какие оставим направления? — Я думаю, что в первую очередь надо пройти по ревности и хулиганству. Потом будем думать о мести, это понятие широкое и многое охватывает. Попробуем проверить эксцессы. — Конечно. — Шарапов поднялся, повертел в руках характеристику. — Не забудь только: ее могли убить за то, что она слишком много знала о ком-то. В общем, работенки нам, видимо, хватит…4.
СВОДКА-ОРИЕНТИРОВКА 16 февраля 196* года, № 138 …В отделениях милиции проверить, нет ли среди граждан, доставленных за хулиганские действия, мужчины, сходного по приметам с разыскиваемым. Ориентировать общественность, народных дружинников на выявление лиц, имеющих колющее оружие типа шила. Запросить все медицинские учреждения о поступлении больных, имеющих раны от такого оружия, для выяснения обстоятельств ранения. Информировать о происшествии персонал психиатрических лечебных учреждений, так как не исключена возможность задержания с колющим оружием психически больных.Уголовные дела о всех аналогичных преступлениях, в том числе и приостановленные, немедленно представить в Управление. Зам. начальника Управления полковник милиции Санин5.
В середине дня дверь без стука растворилась и перед. Тихоновым во всей своей пылающей рыжей красе возник оперативник из семьдесят третьего отделения Саша Савельев. — Большой привет, — сказал он так, будто они расстались вчера, а не встречались последний раз год назад, когда брали в Останкине вооруженного рецидивиста по кличке Крот. — Привет, — сказал несколько озадаченно Тихонов. — Ты как попал сюда? — Да вот, начальство рассудило, что ты без меня никак не управишься. Решили двинуть меня на усиление. — Он смотрел на Стаса ласково-сочувствующе. Потом пояснил: — Понимаешь, Шарапов звонит мне сегодня и тонким голосом просит: “Помогите, пожалуйста, Александр Иванович, а то без вас Тихонов ни с места”. Пришлось мне его уважить. Тем более, что убийство произошло на моей территории. Так что с сегодняшнего дня имеешь заместителя. Тихонов засмеялся: — А мне Шарапов ничего не говорил еще… — Это он твои нервы бережет. Дает возможность привыкнуть. — А что будешь делать, заместитель? — с интересом спросил Тихонов. — Я себе уже обеспечил фронт работ. Ты что думаешь, мы сводок-ориентировок ваших не читаем? — Думаю, что читаете. Давай ближе к делу. — Я вчера одного парня задержал… — Хорошее начало — половина дела, — усмехнулся Стас. — Вот и я так считаю, — серьезно кивнул Савельев. — Зовут парня этого Алексей Якимов. Не сахар, конечно, этот парень. Хотел меня бабахнуть молотком по голове. Представляешь, Тихонов, по такой голове — молотком?! — Ужасно, — посочувствовал Тихонов. — А ты что? — А я ничего, — сказал Савельев. — Связал я его. И водворил в камеру предварительного заключения. Тихонов посмотрел на жилистую сухопарую фигуру Савельева и подумал, что Якимов необдуманно выбрал себе партнера для драки. Правда, не мог знать Якимов, что тщедушный на вид Савельев — признанный в своем районе самбист. — А из-за чего у вас произошел конфликт? — спросил Стас. — Он бульдозерист в стройуправлении. Зарабатывает хорошо, и как получка — начинается покорение Ермаком Сибири. Напивается и идет безобразничать в женское общежитие. К женщинам, видишь ли, Якимова влечет во хмелю. Я его еще в прошлом месяце предупредил: хоть одно заявление — и схватка будет переведена в партер… — И, как я понимаю, заявление вчера поступило? — По телефону. С воплями. На этот раз Якимов запер комендантшу общежития в стенном шкафу, а сам направился, заметьте себе, в душевую. По-моему, там в окошках полопались все стекла. От дамского визга. А потом приехал я, и все остальное тебе уже известно. — Прекрасная история, — сердито хмыкнул Стас. — Не понимаю только, какое она имеет… — Отношение к твоему делу? Самое прямое. Пять лет назад Якимов был осужден за нанесение тяжких телесных повреждений. Мне как-то и в голову не приходило посмотреть — что именно у него произошло тогда. А вчера я с ним занялся плотнее, посмотрел справку по его делу. Вот тут и прояснились некоторые подробности. Оказывается, в тот раз, будучи, как пишут в протоколах, в состоянии сильного алкогольного опьянения, он пристал на улице к совершенно незнакомому человеку и без всякого повода ударил его длинной, заостренной на конце отверткой. Теперь понимаешь? — Н-да, интересно…6.
Тихонов с сожалением отодвинул на край стола томик уголовного дела о хулиганстве Якимова. Очень, очень заманчивая напрашивалась аналогия… Вышел он на свободу недавно — и вот опять начал гастролировать. Не его ли работа — убийство Аксеновой? Способ нападения, во всяком случае, такой же. Но всю неделю Якимов работал вечерами. Да и приметы его отличаются от примет парня, которого видели Евстигнеева и Лапина. Все же на всякий случай надо поточнее проверить, где был Якимов в понедельник вечером. Зазвонил телефон. — Тихонов. — Але, Тихонов, Демидов говорит. — Да, да, Иван Михалыч, слушаю. — Сейчас со мною снова ехал парень, про которого ты спрашивал, тем же рейсом… Стас неожиданно охрип: — Где он? — А кто его знает? На Цветном, у цирка, из автобуса вышел. А сел здесь же, у “Байкала”, из чемоданчика книжку достал и читал всю дорогу. — Ах, черт возьми! Что же ты его не задержал? — Так откуда я знаю — задерживать его или нет? У нас такого уговора не было. Ты ж позвонить в случае чего просил… — Это верно, — сказал с досадой Тихонов. Подумал, переспросил: — Тем же рейсом, говоришь? И с той же остановки? — Двадцать тридцать семь. От “Байкала”. Тихонов подумал еще немного: — Тогда вот что, Иван Михалыч. Завтра в это время мы с тобой поедем. Если парень войдет в машину, ты мне знак подай… — Ладно. Посигналю два раза. — Договорились. Привет.Четверг
1.
Тихонов захлопнул дверь, но замок опять не выпускал ключ. Стас аккуратно поводил им сбоку набок, резко дернул на себя. Ключ вышел. Стас повернул голову и в длинном сумеречном коридоре увидел Шарапова, издала узнал его раскачивающуюся походку. — Далеко собрался? — Беседовать за жизнь со Ставицким. — А чего ты его к себе не вызвал? — Нецелесообразно. Когда я задаю ему вопросы у него дома — это милая беседа. Когда мы мило беседуем на Петровке — это допрос. А допрашивать его пока еще рано. Пока надо просто мило беседовать с ним. — Ну, давай, собеседник! Ишь ты… — ехидно улыбнулся Шарапов. В четверг с утра потеплело и снова пошел снег. Стас постоял на углу, прикинул: на Кузнецкий мост можно проехать сорок вторым троллейбусом. Можно пешком. Решил идти пешком по бульварам. Надо еще раз не спеша все обдумать. Это дело пугало своей непонятностью, бессвязностью, отсутствием очевидных мотивов. Нет, это не хулиган просто так ткнул шилом. Когда ткнули шилом, эта история не началась, а закончилась. На заснеженном пустыре у гостиницы “Байкал” поставили точку. Какие-то незримые страсти давно бурлили подо льдом. А промыло лед на владыкинском пустыре. Но почему? И кто? Как это было записано в блокноте у Тани: “Микробы проказы могут жить в человеческом организме до пятнадцати лет…” Шарапов держит в ящике стола забавную головоломку — маленький разноцветный шарик. Достаточно дернуть за кольцо — и он распадается на дюжину причудливых частей. Стас в первый раз изрядно попыхтел, пока сложил из них шарик. Но там были все части. Все. И он знал ото заранее. А здесь? Стас уже прикинул десяток стройненьких версий. Из имеющихся фактов. Но достаточно было любую версию чуть натянуть на жесткую раму достоверности, как она начинала позорно трещать, обнажая прорехи очевидных домыслов. Придется идти единственным путем — искать недостающие части. — Ничего, — упрямо сказал Стас, нажимая на кнопку звонка. — Мы этот шарик еще сложим… Ставицкий оказался совсем не таким, как представлял себе Тихонов. Ничего в нем не было изнеженного и хлыщеватого. Высокий — вровень со Стасом — красивый парень открыл дверь, мельком глянул на удостоверение, спокойно сказал: — Заходите. Я ждал вас. — Это почему же? — Было бы грубейшей ошибкой следствия не поговорить с человеком, который, быть может, лучше всех знал убитую. Стаса неприятно царапнуло слово “убитая”. Все-таки о любимом человеке! — Вот я решил этой ошибки не допускать. Стас снял пальто, замешкался, вроде искал, куда повесить. На вешалке висело серое короткое пальто, на сундучке лежала черная замшевая куртка. Стас простовато улыбнулся: — Извините за нескромный вопрос: сколько стоила эта куртка? Ставицкий удивленно взглянул на него: — Семьсот двадцать форинтов. Я ее в Венгрии купил. А что? — Мне вот такую же предлагают. Девяносто рублей хотят. Дорого, наверное? — Это дело любительское. Охота пуще неволи… — Да я вообще не знаю, пойдет ли она мне. Черный цвет — боюсь, что при моей фактуре на факельщика буду похож. — А вы примерьте эту. — Можно? — Конечно. Стас натянул куртку, посмотрел в зеркало. Теплая, с подстежкой, шерстяным воротничком. До середины бедер.Сказал: — И зимой можно носить вместо пальто. — Можно, — ответил Ставицкий. — Хотя я в ней обычно только в машине езжу. Помолчал, подумал, потом сказал: — Ну, что, наверное, маскарад можно кончать? Куртка сидит неважно — оттопыривается пистолет в заднем кармане. А зачем вам надо было осмотреть мою куртку? Стас быстро глянул ему в глаза, спокойно ответил: — Куртку — не надо. Я хотел осмотреть себя в куртке. Мы же с вами одного роста. А насчет пистолета вы ошиблись. Это коробочка с мятными конфетами “Эвка”. Угощайтесь! — Вот и хорошо. Поставим все точки над “ё”. Значит, подозреваете? — Нет. Нет достаточных оснований. А вот серьезно поговорить — есть о чем. Ставицкий сердито хмыкнул: — Как же это вы для такой серьезной беседы пистолет не взяли? Тихонов удобно уселся в кресло: — А я его попусту с собой не ношу. Он же ведь, черт, тяжелый. Да и таскать его повсюду — потерять можно, голову потом за него снимут. — Мне казалось, что вы без этого обязательного криминального атрибута никак не обойдетесь. — Дело в том, что этот атрибут для меня такой же инструмент в работе, как для бухгалтера — счеты или для вас — коробочка с гримом. Вы же не берете ее с собой, отправляясь в магазин или в гости? — А вы пришли, чтобы прицениться к моей куртке? — Нет. Я пришел к вам в гости. Правда, в гости ходят по приглашению. Но специфика работы понуждает меня пренебречь некоторыми условностями. Поэтому я решил лучше прийти в гости к вам, чем приглашать вас к себе. Так, мне кажется, лучше. — Кому лучше? — Вообще лучше, — сделал неопределенный жест рукой Стас. — Видимо, вы полагаете, что допросы в неофициальной обстановке более эффективны? — Я уже сказал, что это не допрос. А что касается эффективности — несомненно. Я вам напомню о причине и цели своего визита, — тихо сказал Стас, и голос его стал жестким. — Убита при непонятных обстоятельствах женщина, которую вы, по моим сведениям, любили, на которой собирались жениться и были ею не так давно отвергнуты. Во всяком случае, я мог рассчитывать на вашу всемерную помощь в розыске убийцы. Поэтому я пришел сюда. В этой, как вы говорите, неофициальной обстановке она бывала много раз, здесь еще должно быть эхо ее голоса, и вы должны это помнить и рассказать мне все, имеющее отношение к делу. — Но вы же подозреваете меня. Это кощунство! Стас посмотрел на него и сказал: — Подозрения, уложенные в рамки уголовного закона, являются только следственными действиями. И все! Бы мне лучше расскажите, что вы делали в понедельник вечером. Ставицкий походил по комнате: — В театре я был свободен. Позвонил Тане в редакцию около пяти, может, в половине шестого, предло жил встретиться, поговорить. Она куда-то торопилась, сказала, что ей надо с кем-то увидеться. Велела позвонить в среду. Я поехал к Генке Григорьеву… — Кто это? — Мой приятель — тоже актер. Его не оказалось дома. Там рядом с ним кинотеатр “Прогресс”. Делать было нечего — зашел на семичасовой сеанс. Потом поехал в ресторан, поужинал и отправился домой спать. Вы удовлетворены? — Почти. Вы откуда звонили Тане? — Из дома. — Через сколько вы вышли? — Вскоре. Минут через тридцать, наверное. — Где живет Григорьев? — На Ломоносовском проспекте. — Каким транспортом ехали к нему? — Четвертым троллейбусом. — Итак, складываем: пять тридцать — вы звонили Тане, плюс полчаса на сборы — шесть. Минут пятнадцать ходьбы до остановки четвертого троллейбуса, плюс минут тридцать езды. Значит, без четверти семь вы были у Григорьева. Так? — Так. — Когда вы уходили из дома, кто-нибудь из соседей вас видел? — Понятия не имею. Я как будто никого не встретил. — Идемте дальше. Дома у Григорьева вас кто-нибудь видел? — Нет, я же сказал, что его не было. — А может, кто-либо из его родственников? — Нет. Никто дверь не открыл. — Ладно. Без пяти семь вы в кинотеатре. Какой демонстрировали фильм? — Какая-то импортная белиберда. — А точнее? Видно было, что Ставицкий напрягся: — “Вернись, Беата!” — Прекрасно. Когда закончился фильм? — Около девяти. — Так это же короткий фильм. Что так долго? — Журнал был длинный. — Не помните, о чем? — Новости науки и техники. — Прямо из кино поехали ужинать? — Нет. Была хорошая погода, снегопад, и я дошел до метро “Университет”, а оттуда почти до моста через Москву-реку. Там сел в такси. — В каком ресторане ужинали? — Дома актеров. Приехал туда около десяти. — Какой швейцар дежурил? — Новый какой-то. Я его не знаю. — Ладно. Вы не запомнили, кто из официанток вас обслуживал? — Да, конечно. Надя. Она может подтвердить. — К сожалению, она может подтвердить только то, что вы пришли в ресторан около десяти. Она же с вами не ездила к Григорьеву и не смотрела “Вернись, Беата!”. Покусывая губы, Ставицкий сказал: — Что ж, алиби у меня нет. Но это еще ни о чем не говорит. — Конечно, не говорит. А куртку свою вы когда последний раз носили? — Неделю назад. А может быть, дней десять. Не помню. Если бы знал, что предстоит разговор с вами, повесил бы на нее табличку: “Ношено первого февраля с 17.30 до 22.00”. — Да вы не сердитесь, — миролюбиво сказал Стас. — Посмотрел бы я на вас в моем положении, — зло дернул головой Ставицкий. Он достал из стенного бара небольшую пузатую бутылку, вытащил пробку. — Хотите попробовать? Это “Реми Мартин” — один из лучших в мире коньяков. — Спасибо, я не хочу. — А что, в вашем Скотленд-Ярде не пьют? — В Скотленд-Ярде — не знаю, не был. А в МУРе — пьют. Только не на работе, — спокойно ответил Стас. Ставицкий налил немного коньяка в высокий фужер, выпил разом, долго морщился, нюхая кусочек мармелада. Тихонов встал, подошел к окну. На улице шел снег, все было серо и тоскливо. Стас почему-то вспомнил, как школьный учитель Коростылев говорил: “Окно — две системы измерения, дающие нам возможность познать третью”. Ставицкий сказал вялым голосом: — А Тани уже нет… Тихонов обернулся. Ставицкий, понурившись, сидел в кресле. Потом взял сигарету и стал чиркать спичкой, но руки у него дрожали и спички ломались. Наконец затянулся, и кадык на худой шее дернулся вверх-вниз. И весь он был уже не красивый и спокойный, а нервный, угрюмый и напуганный. Ставицкий несколько раз затянулся и сломал сигарету в пепельнице: — Про нее, про мертвую, трудно говорить. О мертвых о всех стараются говорить хорошо и забывают мелочность, жадность, всякую человеческую труху. Потому что, когда кто-то неожиданно умирает, люди вокруг пугаются — ведь и с ними могло такое приключиться! И они невольно проникаются признательностью к умершему — что это случилось с ним, а они вот живы. Оттого и говорят хорошо обо всех скопом — о хороших и плохих. — Мрачноватая у вас философия, — буркнул Стас. — Да бросьте, не философия это никакая. Просто меня злит, что о Тане будут говорить, как обо всех. А она совсем другая! Ставицкий помолчал, закурил новую сигарету. — Можете смеяться, если хотите, мне это безразлично. Но Таня была святая. Очень ироничная, очень веселая святая. А на ее работе это особенно трудно — быть святой. — Быть святым вообще трудно, — пожал плечами Стас. — А почему ей — особенно? — Она слишком много видела разного. А большое видение иногда порождает цинизм. Особенно у молодых. Таня шутя называла себя “прорабом человеческих душ”… “Большое видение”. “Цинизм”. Красиво… Тихонов наклонился и сказал тихо: — Простите, вы Таню Аксенову любили? — Во-первых, сейчас это уже не имеет значения, а во-вторых, это мое, личное, и лучше этого не касаться. — Несомненно. Но Таня убита при очень непонятных обстоятельствах, и я бы хотел знать о ней как можно больше. Ведь Танина смерть — это не только ваше личное дело. — Понятно. Ну, условимся, что любил. — Любили. Или условимся, что любили? — Любил. — Вы из-за Тани разошлись со своей женой? — И это знаете? — Я это знать обязан. Так как же? — Нет, не из-за Тани. Просто тот брак был уже бессмыслен. Совершенно чужие люди. Елена не хочет этого понять до сих пор. — Елена Букова, ваша бывшая жена, знала о ваших отношениях с Аксеновой? — Да. На этой почве у нас были острые конфликты. Она требовала, чтобы я прекратил встречи с Таней и вернулся. — Аксеновой это было известно? — Нет. То есть в конце концов она узнала. Ей кто-то стал присылать анонимные письма. Думаю, что это работа Елены. “Так. Это уже теплей”, — мелькнуло в голове у Стаса. — А почему вы сразу не рассказали обо всем Аксеновой? — Ха! Надо было знать Таню. — Ставицкий налил себе еще коньяка, выпил. — Она бы сразу меня к черту послала. Она мне и так говорила: “Очень ты всегда красиво беседуешь…” А я уж так заигрался, что вел себя как школьник, прогулявший уроки, — все равно накажут, поэтому прогуливал все дальше и дальше, надеясь на какое-то чудо. Думал, что со временем это потеряет свою остроту и всякое значение. Это была, как говорится, ситуационно обусловленная ложь. — А потом? — Потом Таня получила какое-то письмо. Ну, а врать я больше не мог. И тогда пришел конец всему. — Вы письмо это видели? — Нет. Таня даже разговаривать со мной не захотела. Но я надеялся, что в среду все выяснится. — Вы почерк своей жены хорошо помните? — Да. А что? — В сумке Тани я нашел письмо с угрозами. Она получила его за два дня до смерти. — Но это не то письмо! То она получила месяц назад. Если можно, покажите мне его. — Пожалуйста. Дрожащими пальцами Ставицкий достал из конверта письмо. Взглянул мельком. — Нет, это не ее рука. — Вы посмотрите внимательней. — Да что смотреть! Что я, почерка Елены не знаю? Слава богу… — Прочтите письмо… Ставицкий быстро пробежал письмо глазами, порывисто вскочил на ноги, затравленно глядя на Тихонова. — Что скажете?.. — Я здесь ни при чем! — срываясь на фальцет, закричал Ставицкий. — Ни при чем, понимаете?! — Не устраивайте истерик, — спокойно сказал Тихонов. — Я не слабонервный… Вот к чему приводит ваша “ситуационно обусловленная ложь”… Или как там вы ее называете. — Вы не смеете… не смеете, — прошептал Ставицкий и неожиданно зарыдал, прикрыв руками лицо. Сквозь разорванную всхлипываниями фразу до Тихонова донеслись слова: — …Смерть Тани — крест на мне… крест… до конца дней… — Потом подбежал к Тихонову и снова закричал: — Послушайте, вы не смеете думать, что я замешан в этом деле! Я не убийца!.. — Успокойтесь, — неприязненно сказал Тихонов. — Криком вы ничего не докажете. Ставицкий опустился в кресло и снова закрыл лицо руками: — Боже мой, боже… Как все это ужасно! Какой-то бессвязный нервный бред, как в пьесах Ионеско… — И добавил безразлично: — Впрочем, вы этих пьес не видели, у нас их не ставят… — Отчего же, я их читал, — сказал насмешливо Тихонов. — И даже носорога в себе выискивал, как он рекомендует. Не нашел, правда. А, кстати, Шекспира вы давно перечитывали? Или Чехова, скажем? Ведь у вас в оперетте их тоже не ставят? А полезно было бы вспомнить… Там и о благородстве есть, и о человеческой глубине, и о любви тоже… О настоящей любви, я имею в виду… Ну ладно, давайте к делу. К письму, то есть… Значит, если предположить, что Букова имела к нему отношение, напрашивается вывод: такой щепетильный вопрос она могла доверить только очень близкому человеку. Кто может быть ей настолько близок? — Вероятнее всего, это Зинка Панкова, ее подруга, — быстро, не задумываясь, сказал Ставицкий. — А кто она, эта Панкова? — Актриса, вместе с Еленой работает в театре музыкальной комедии… Ставицкий налил себе еще коньяку. Глаза его влажно блестели. — Ужасно! Как ужасно все это!.. Невыносимо! С одной стороны — это ужасное горе, а с другой… Признаюсь честно, разговоры с вами отнюдь не содействуют душевному спокойствию. Ерунда, конечно… Главное, что в этой драме все так непоправимо… Стас по-прежнему стоял у окна, смотрел на падающий непрерывно снег и думал: “Небольшой ты человечек-то оказался. Не верю я твоему горю. Ладно, неси дальше свой дешевый пластмассовый крест…”2.
Вернувшись к себе, Стас включил плитку, достал из сейфа несколько папок с уголовными делами, присланными ему для ознакомления из разных районов. Позвонил Саша Савельев. Но у него тоже ничего интересного не было. Тихонов подумал, что надо бы еще раз внимательно осмотреть одежду Тани. — Вот что, Савельев, — сказал Стас. — Ты мне завези, пожалуйста, вещи Аксеновой. А от меня поедешь в домостроительный комбинат, точно разузнаешь, как Якимов провел понедельник. — Насчет Якимова я уже интересовался, — ответил Савельев. — Он с пяти до одиннадцати вечера вместе с другими рабочими был в Свиблове: там они временный водопровод чинили… В управленческой столовой было, как всегда, полно народу. Тихонов злился, но есть все-таки хотелось, и пришлось выстоять длинную очередь. Щи были почти холодные, зато шницель назывался “по-африкански”. Шарапов уныло шутил, что его делают из львов пополам с хлебом. После щей есть расхотелось. Тихонов лениво жевал невкусный шницель и думал, что надо было спросить Ставицкого о том, чем кормили в понедельник в ресторане. “Не верю, не верю я ему. Это не отчаяние, это душевная расхристанность”, — пробормотал Стас и пошел наверх. Савельев уже ждал его. Передав Стасу большую картонную коробку, он умчался по своим многочисленным делам. Стас включил свет, открыл коробку. Черное мохнатое пальто с седым норковым воротничком. Крохотнее отверстие в черной ткани, его только на свет и разглядишь. Серая шерстяная кофта. Крупные толстые петли, они образуют строгий, красивый узор. А где же все-таки отверстие? Сразу и не найдешь. Впрочем, его может и вовсе не быть. Ведь если это шило, то острие могло пройти между петлями, раздвинуть их, не задеть ткань. Так оно, наверное, и было. Нет, вот отверстие. Меленькая круглая дырочка. Пятнышко крови. Красивая пушистая вещь, связанная крупными петлями… Стас достал из стола сильное увеличительное стекло. Повертел в руках. Может быть, отверстия в одежде подскажут форму оружия? Нет, эта линза сейчас бессильна. Надо бы звякнуть экспертам-криминалистам, у них техника помощнее. Но уже поздно. Завтра.3.
В половине восьмого Тихонов вышел на улицу. Синеватые пятна фонарей вырывали из промозглой снежной куролеси ссутулившиеся фигуры прохожих, размытые очертания неуверенно ползущих автомобилей, мохнатые купы деревьев над оградой “Эрмитажа”. Тихонов поднял воротник. Ох и злится зима, прямо до костей пробирает сырая стужа. А Вася-шофер, как всегда, не спешит. — Сто лет тебя дожидаться, — ворчит Стас, усаживаясь в машину. — Небось мозоли на руках от домино набил. — Что-то вы не в духе сегодня, Станислав Палыч, — улыбается Вася. — Разве вы со мной опаздывали когда? На автобусной остановке у “Байкала” Стас наметил себе дистанцию: от фонаря до фонаря — шестьдесят шесть шагов. Он ходит по тротуару, постукивая время от времени ботинком о ботинок, смотрит, прикидывает. Все-таки интересно — за три дня парень побывал здесь дважды. Вряд ли это случайность. Значит, реальные шансы встретить его здесь сохраняются. Это было бы ловко! Сразу же многое стало бы на свои места. Конечно, взять его — еще не все. Это еще пойди докажи, что именно он убил Таню… У остановки автобуса уже собралась небольшая очередь: немолодая женщина с ребенком, две девчонки-школьницы, два солдата. Двадцать двадцать шесть. Подтормаживая и скользя по накатанному асфальту, к тротуару прижимается автобус. Машина Гавриленко. Со скрипом раскрываются створки задней двери, пассажиры торопливо поднимаются в машину, уехали. Опять один в этой проклятой ледяной крупе. Не встретил. Но парень поедет следующей машиной. С Демидовым. Должен поехать. Иначе какого черта здесь мерзнуть? Какие крохотные дырочки в пальто Аксеновой, в платье, в кофте. Всего несколько пятен крови. И нет человека. Глупо, нелепо. Из-за угла дома показывается длинная мужская фигура, приближается к остановке. Следующий автобус — демидовский. Тихонову уже не холодно. Человек приближается, подходит к столбу остановки. Высокая цигейковая шапка-москвичка, темное, заснеженное на плечах пальто. Он? Какого черта, в нем же роста — метр с кепкой. Просто издали показался длинным и одет совсем по-другому. Нервишки, проклятые, играют. Хорошо было классику говорить — “учитесь властвовать собою”. А где, интересно, учиться? На юрфаке эту дисциплину не преподают. Тихонов зябко поводил плечами, спина, ноги замерзли. Очень холодно все-таки. Подходят, взявшись за руки, маленький крепыш-лейтенант и девушка в полосатой меховой шубке. Девушка ест мороженое и с увлечением объясняет лейтенанту, что “…Надька — такая врушка, всем говорит, будто она на втором курсе, а сама на первом, и в театр она ходила вовсе не с парнем, а со своей теткой, надо же!..” В очередь встали еще несколько человек. Они к тихоновским делам явно никакого отношения не имеют. Стас чувствует, что сейчас подъедет Демидов, а парня все нет. Вот бежит к остановке мужчина в сапогах и кожаной шубе, и тут же из-за угла показывается автобус. Это демидовский. Тихонов видит, как Демидов озабоченно вертит головой, встречается с ним глазами. Парня нет. Автобус стоит минуту. Наконец дверцы захлопываются. Тихонов бормочет чуть слышно: “Постой, постой еще минуту. Сейчас он подойдет”. Демидов, умница, понимает. Автобус мелко дрожит, ждет. С неба просеивается белесая сырость, садится на лицо, на плечи, на окна автобуса. Вдруг щетка снегоочистителя делает широкий взмах, оставляя за собой влажный стеклянный полукруг. В нем — озабоченное лицо Демидова. Тихонов пожимает плечами и автобус трогается — у него расписание. Форсаж, голубоватая струя выхлопа у поворота. Уехал. Надо ждать. В конце концов. Длинный — так Тихонов окрестил парня — с пим не договаривался ездить только на демидовском автобусе. Тихонов ходит по заснеженному тротуару, пальцы совсем окоченели, нос, щеки — отваливаются. Форс держим, шелковую маечку носим. Кисло бы нам сейчас в теплом бельишке было?.. Какая крохотная дырочка в кофте, даже петля не спустилась. Как ей, наверное, больно было! А может, сразу сознание потеряла? Нет, вряд ли. Ведь еще шагов двадцать прошла. Может, бежала? Нет, Евстигнеева и Лапина говорят — шла. Не спеша шла. Упала молча, руками даже не взмахнула. Прошел автобус, еще один. Подвыпившая компания выбралась из гостиничного ресторана. Прошли мимо. Тихонов узнал, что в Красноярске шашлык куда лучше, чем здесь, а проект Нефедова все равно зарежут. Если не в главке, то в министерстве уж обязательно… Дальше торчать тут глупо. Отложим до завтра. Голова, как утюг, тяжелая…Пятница
1.
Тяжелая, обитая сияющей бронзой дверь неохотно приоткрылась и табличка “Служебный вход” сразу потеряла свою магическую неприступность. — Вам кого? — спросил швейцар, величественный, в седых бакенбардах и пижамной полосатой куртке. — Либердей Гордеича, — буркнул Тихонов. Швейцар не понял, но переспрашивать не стал и указал рукой на лестницу. Тихонов поднялся на второй этаж и среди длинного ряда безымянных дверей быстро отыскал ту, на которой было написано: “Инспектор по кадрам”. Заперто. Тихонов еще раз дернул ручку. По коридору шла женщина с ведром и щеткой. — Чего дергать-то? Ведь заперто! Марианна Ивановна пошла за пирожками. Будет скоро. Ты сядь, подожди. — Слушаюсь. Сяду, подожду. Тихонов уселся на красный бархатный диванчик и стал рассматривать развешанные на степе фотографии актеров в разных ролях. Прямо напротив висел хорошо сделанный портрет — “Заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР К.М.Ставицкий в роли графа Люксембурга”. “Да ведь он же раньше тоже в этом театре работал”, — вспомнил Тихонов. Ставицкий был в блестящем цилиндре, смокинге, с тростью и накинутом на одно плечо плащом. Красивый парень, ничего не скажешь. Потом подумал: “А все-таки алиби у вас нет, гражданин Люксембург”. Тихонов встал и пошел вдоль стены, читая подписи под фотографиями. Ага, вот Букова… в роли Пепиты в оперетте Дунаевского “Вольный ветер”. Букова была похожа на этикетку одеколона “Кармен” — с веером и завитой прядью на щеке. “Такие нам страсти бог послал”, — покачал головой Стас. Почти в самом конце коридора он нашел портрет Панковой — Элизы Дулитл в оперетте “Моя любимая леди”. Здесь Элиза уже не оборванка — она леди, элегантная, стройная, с очень умным лицом. Ну-ну. Дверь в конце коридора вела на крутую железную лестницу. Стас спустился по ней и неожиданно оказался за кулисами. Здесь было полутемно. Причудливыми волнами застыли складки занавесов и кулис, чернел провал оркестровой ямы, зыбь партера уходила в глубину зала, где очень далеко ночными бакенами краснели буквы “Выход”. Рабочий, возившийся где-то наверху, над сценой, кричал: “Электрики! Электрики, черти, луну снимайте!” И голос его булыжником катался в пустой бочке зрительного зала. “Смешно, что мы часто не только не задумываемся над сущностью явлений вокруг пас, но даже не подозреваем о существовании у них какой-то оборотной стороны, — подумал Стас. — Нас четко держит в русле привычных представлений изначальная заданность событий и людей. В театре всегда должен быть праздник, на космодроме бывают только запуски, актер обязан всегда быть благородным и прекрасным. Причем заложено это так глубоко, что обычно и в голову не приходит спросить: “Почему?”. Это аксиома, как точка, — обязательно пересечение двух прямых. Хорошо бы запретить аксиомы. Их придумали наверняка о-очень умные люди. Аксиомы мешают заглядывать за установленный ими предел…” Стас тряхнул головой и поднялся обратно по лестнице. Дверь — “Инспектор по кадрам” — была приоткрыта. Стас представился пожилой женщине, сидевшей за старинным письменным столом. — Мне нужно посмотреть несколько личных дел… — Творческих? — деловито спросила инспектор. — Как? — не понял Тихонов. — Ну, служащих или артистов? — Артистов. — А в чем дело? Кто-нибудь проштрафился? — Да нет, что вы! — засмеялся Стас. — Просто в силу профессиональной любознательности. — А чье именно дело вам требуется? — Видите ли, я бы хотел посмотреть несколько… — Ясно, ясно, — догадалась Марианна Ивановна. — Вот шкаф с личными делами, кто вам нужен — ищите сами. Секретничаете все! Тихонов сказал: — Вы не обижайтесь, пожалуйста. Ведь у нас, в уголовном розыске, специфика: спросим иногда про Петрова, и уже готова версия: то ли у Петрова что-то украли, то ли он у кого-то украл. В общем, в какой-то краже Петров замешан… Кадровичка засмеялась: — Да ладно уж, я эту шутку еще в двадцатом году от артиста Александра Вишневского слышала. Трудитесь… Тихонов взял несколько личных дел. Букова Елена Николаевна. Анкета: тридцать два года. Образование — высшее. Копия диплома. Характеристика в девять строчек. Автобиография. Тоже несколько строчек: родилась, училась, поступила… Копии приказов: зачислить в театр, предоставить отпуск, объявить благодарность. Присвоить вторую категорию. Заявление об отпуске, еще одно. “Ей богу, — подумал Тихонов, — у швейной машинки паспорт и то разговорчивей: что она умеет делать, чего нет; когда хорошо работает, когда плохо; кому на нее жаловаться…” Тихонов вздохнул и вернулся к автобиографии. Четкий, почти каллиграфический почерк. “Выработанный”, — вспомнил Тихонов термин экспертов-почерковедов. Не спеша, наверное, писала, выводила. А вот прошлогоднее заявление об отпуске. Здесь Букова явно спешила — зачеркивала, некоторые слова не дописывала. Все равно, строчки круглые, гладкие, как на школьной доске. Да, не густо. Тихонов открыл тоненькую папку с надписью “Панкова З.Ф.”. Так, Зинаида Федоровна, тридцати одного года, автобиография: школа, театральная студия, эстрада, театр. Присвоена вторая категория. Вот и все. Взысканий нет. Благодарность — “За творческие успехи” — ко дню Восьмого марта. Отпуск, еще отпуск, трудовая книжка. Все. Ближайшая подруга Буковой. Задушевная. Ставицкий говорил, что Панкова принимала очень близко к сердцу его разрыв с женой. В автобиографии, конечно, об этом ничего нет. И не может быть. Почерк какой корявый. Двоечницей, наверное, в школе была. Не то “К”, не то “Н” — не разберешь, одинаково пишет. Постой, постой. Эти буквы кто-то еще пишет так же. “Н” похоже на “К”, и “К” похоже на “Н”. Тихонов отложил папочку, полистал “для дела” еще несколько. Потом спросил: — Скажите, пожалуйста, в какое время приходит в театр Панкова? — Видите ли, Панковой сейчас нет в Москве. В Ленинграде у нее старушка мать. Недавно она серьезно заболела, и Панковой предоставили отпуск за свой счет. Завтра она должна выйти на работу. — А когда она уехала? — В понедельник вечером или во вторник утром. Я точно не знаю. Зине неожиданно сообщили о болезни матери, и она договорилась об отпуске с режиссером Колосковым по телефону. — Ясно. Автобиографию Панковой и ее заявление я, с вашего разрешения, возьму… — Тут, видимо, какое-то недоразумение. — Колосков, коротко стриженный молодой человек, нервничал. — Зины с понедельника нет в Москве, она уехала к больной матери. Стас быстро просчитал в обратном порядке: четверг — раз, среда — два, вторник — три. Аксенова погибла в понедельник. Спросил: — А как это произошло? — Часов в десять вечера она позвонила мне домой, была очень взволнована. Сказала, что с матерью плохо и она немедленно выезжает и Ленинград. Зина просила оформить ей отпуск до пятницы. — Значит… — …завтра она обязательно должна быть к двенадцати часам, у нас крайне ответственная репетиция. Прямо из театра Тихонов поехал к Панковой домой, в Кривоколенный переулок. Дверь открыл представительный мужчина в сапогах и галифе. — Зинаида Федоровна? Она в отъезде, — сказал он задумчиво. — Да вы заходите. Знакомый ей будете? — В общем-то знакомый. А она давно уехала? — спросил Тихонов. — Порядочно. Дня три-четыре, значит. — Три-четыре? — Да я вам точно скажу. В воскресенье, значит, я ей сказал, чтобы она жировку за свет и газ рассчитала — ее очередь. Она говорит: “Ладно, Павел Кузьмич, к вечеру сделаю”. Смотрю — вечером ее нет. Известное дело — артисты! А в понедельник сидим, телевизор смотрим, слышу — дверь у нее хлопнула. Я сразу к ней в комнату, а она сидит на диване, чемодан пакует. Я, значит, ей: “Ты что, Зин, уезжаешь? А жировка?” Она говорит, закрутилась, мол. с делами, забыла, говорит, жировку вывесить. И дает ее мне. А сама уехала, на гастроли что ли, в субботу обещала вернуться. — Что же она, прямо так в полночь и укатила? — вежливо удивился Тихонов. — Да нет, часов одиннадцать было, аккурат телевизор кончился, как я к себе зашел. — Ну, спасибо, папаша, — сказал Стас, глядя через его плечо на листок с расчетом за свет и газ, пришпиленный к кухонной двери. Теперь окончательно ясно, откуда эти корявые, совпадающие “Н” и “К”. — Водички нельзя попить? — Это пожалуйста, воды у нас вдоволь, вон из крапа третий день течет, а слесарям плевать… — Сосед, бормоча, пошел на кухню. Стас протянул руку, отцепил от двери счет, опустил его в карман. “Состава преступления нет, — подумал он. — За малозначительностью кражи и отсутствием вредных последствий”. Пить совершенно не хотелось, но Тихонов цедил воду, невкусную, с запахом железа, леденящую зубы.2.
На сей раз замок открылся сразу и это обрадовало Тихонова — замерзли руки и проделывать фокусы с ключом ужасно не хотелось. “За это я сейчас вызову наконец слесаря”, — злорадно подумал Стас. Дуя на пальцы, он набрал номер комендантского отдела, но там никто не снимал трубку. Стас посмотрел на часы — обед. Замок в этот день починить было не суждено. Тихонов уселся за стол, с удовольствием вытянул длинные ноги, снял телефонную трубку, набрал номер, подождал. — Алло? Савельев? Ты чего не звонишь? Я? Давно пришел. Минут десять. Ну, ладно, ладно. Ты Демидову фото Ставицкого показывал? Не опознает? Значит, правильно. А чего мне не веселиться? У меня, мой друг, свои тайные радости. Теперь, старик, вся надежда на пассажира. Значит, в шесть ты, как из пушки, готов и ждешь моего звонка. Потом достал из сейфа расчерченный на квадраты лист и стал аккуратно, с явным удовольствием густо заштриховывать клетку, в которой было написано “К.М.Ставицкий”. Закончив, долго рассматривал лист, любуясь своей работой. Сложил его, спрятал в сейф, щелкнул замком, надолго задумался…3.
В Ленинградский уголовный розыск ТЕЛЕФОНОГРАММА 18 февраля 196* г. 14 час. 25 мин. Исх. № 171ф … Но указанному адресу прошу срочно проверить факт болезни гр-ки Панковой Екатерины Сергеевны и пребывания у нее дочери — Панковой Зинаиды Федоровны. О результатах сообщите немедленпо по телефону 99-84. Передал — Тихонов Принял — Петровцев4.
Перед вечером пришла Трифонова, эксперт-трассолог из НТО. — Нечем мне вас порадовать, Станислав Павлович. Очень уж трудную задачу вы мне задали. — Простые я сам решаю, — усмехнулся Стас. — Видите ли, Станислав Павлович, в подобных случаях ткань — очень плохой следовоспринимающий объект. Лишь в самых редких случаях она фиксирует форму орудия, которое на него воздействовало. Поэтому уже сейчас ясно, что по поводу повреждений на пальто и платье потерпевшей мы вам никакого заключения не дадим. Трифонова сняла очки и задумалась. Потом вздохнула и продолжала: — Что касается кофты, то тут особый разговор. Вы, конечно, знаете, что такое негативный след? Тихонов хмыкнул что-то не очень определенное. — Грубо говоря, это появление следа, которого не должно быть. И вот мне кажется, что на кофте есть такой след… — Не понял, — честно признался Тихонов. — Объясню, — терпеливо сказала Трифонова. — Вы мне вчера изложили механизм нападения, как вы его себе представляете и каким он выглядит по материалам дела. Кофта, которую вы мне передали для исследования, сделана из синтетической широковолокнистой шерсти методом крупной вязки. В этой кофте есть отверстие от оружия нападающего. Я провела эксперимент: шилами круглой и трехгранной формы я во многих местах прокалывала кофту… У Стаса захватило дыхание. …— и ни в едином случае отверстия в ткани кофты не оставалось. Это подтвердило мое предположение о том, что ткань подобного типа оказывает лишь косвенное, так сказать, побочное сопротивление острию оружия. Она пропускает его между отдельными нитями, проскальзывающими вдоль иглы шила… — Но этого не может быть, — растерянно сказал Стас. — Давайте поднимемся к нам в лабораторию, и я вам все покажу, — тихо сказала Трифонова. Стас взглянул на часы. Без пяти шесть. Он снял трубку телефона, набрал номер: — Савельев? Я задерживаюсь. Бери кого-нибудь и поезжай на автобусную остановку к “Байкалу”. Жди не меньше часа. Я буду все время на месте. Они поднялись на шестой этаж, прошли длинным коридором, заставленным какими-то громоздкими станками, приспособлениями, ящиками. В одном из простенков стояли изрядно помятый капот “Волги” и переднее крыло с разбитой фарой. Трассологическая лаборатория помещалась в двух маленьких комнатах. Весь угол первой комнаты занимало огромное сложное сооружение. Оно было похоже одновременно на весы с товарной станции, токарный станок и телескоп. На полу вдоль стен были расставлены разные, вроде обычные вещи, являющиеся для кого-то страшными вещественными доказательствами: гипсовые следы чьих-то ног, сапог с четким отпечатком автомобильного протектора по голенищу; выпиленный из двери замок с явными следами взлома и рядом с ним ржавый, изогнутый в конце ломик; жаровня с торчащими из нее шампурами. “Чего только не стекается сюда со всего города, — подумал Стас. — Здорово похоже на лавку “Старье — берем!” Хотя, если вдуматься, понятие старья весьма относительно — сегодняшнее старье завтра неожиданно становится антикварной ценностью”. Стас улыбнулся и сказал: — Вы знаете, Анна Сергеевна, я вот оглядел вашу контору и вспомнил, как давным-давно, когда я еще был мальчишкой, в нашем доме жил дворник — татарин Баба-хан. И рассказывал он нам, пацанам, сказки, которые слушали мы, естественно, с восторгом. Несмотря на то что мужчин он обязательно называл “она”, а женщин — “он”. Помню, была у него сказка о том, как обидел багдадский халиф своего судью за справедливость его решений. Закинул судья от досады их багдадский УПК*["16] в реку и открыл на базаре лавку старья, да не простую, а волшебную. Ходил он по богатым домам, и, если покупал в них вещь, добытую злом и насилием, превращалось все остальное в этом доме в хлам и рухлядь. А сама вещь стояла в лавке, пока не приходил настоящий хозяин, и, если он был добрый человек, волшебник превращал вещь в новую и возвращал ее ему. Вот вы, Анна Сергеевна, и есть тот самый багдадский волшебник. — Да ну вас, Станислав Павлович. Вы всегда что-нибудь придумаете. — Трифоновой было под пятьдесят, но смущалась и краснела она, как девочка. — Ну хорошо, — засмеялся Стас. — Вернемся к нашим баранам. — Для начала давайте повторим эксперимент, Станислав Палыч, — сказала Трифонова. Много раз, во всех направлениях, они прокалывали ткань кофты разными шилами и тут же внимательно рассматривали ее. Результат во всех случаях был один и тот же: от ударов не оставалось никаких следов, острие шила беспрепятственно проскальзывало сквозь пушистые волокна. — Да-а, что-то тут не то, — растерянно пробормотал Тихонов. — Но как же с отверстием?.. — Вот сейчас мы его рассмотрим под микроскопом, — сказала Трифонова и положила кофту на предметный столик прибора. — Поглядите, нити петли в том месте, где находится отверстие, обрезаны ровно, как бритвой. А вот экспериментальный участок, смотрите внимательно, я ввожу шило… Между рядами нитей, напоминавших — под сильным увеличением — ровные линии бревен в плотах, Тихонов увидел огромный металлический стержень с зазубренным концом. Конец стержня спокойно раздвинул два соседних “бревна”, и они, изогнувшись, легко скользнули по нему. — И вот петля, которую я для пробы разрезала ножом, — сказала Анна Сергеевна, и Тихонов увидел новый участок ткани, где несколько “бревен” были разрезаны пополам. В местах среза торчали лохматые разной длины волокна, а некоторые из них, оставшиеся целыми, мягкими мостками соединяли разрезанные нити. — Теперь вам понятно? — спросила Трифонова. — Теперь мне понятно, что ничего не понятно, — сказал Стас. — А может быть это не шило вовсе, а острая узкая отвертка?.. — Это ближе к тому, что мы видим, — задумалась Трифонова. — Но нам ведь нужен достоверный вывод, а но гипотеза. Так? — Так, — отозвался Стас. — Мы можем сделать вот что. Поскольку отгадка, возможно, таится в свойствах ткани, надо обратиться к специалистам. Давайте, пока не поздно, я съезжу в лабораторию профессора Роговина. Там большие знатоки искусственного волокна. Может быть, они нам все разъяснят. — Не поздно? — А я, как чувствовала, договорилась с научным сотрудником лаборатории Левиным. Он меня будет ждать.5.
В девять вечера пришел Савельев. — Ничего, — флегматично сказал он. — Я — на остановку, тут как раз и автобус демидовский подъехал. Переглянулись мы с шофером и — гуд бай. Савельев моргал рыжими ресницами. — Посмотрел еще несколько автобусов — и сюда. Ошибся шофер, наверное. — Это почему же? — Потому что, уж если б тот парень здесь ездил, так ездил бы. А то — появился и исчез. Так не бывает. — Логика железная, — засмеялся Стас. — Ну, ладно. Я буду домой собираться, да и ты иди отдохни. Завтра к десяти приезжай ко мне… Его перебил звонок телефона. Савельев поглядел на телефон с опаской — какие еще новости в десятом часу? По отдельным репликам Тихонова и его уничтожающему взгляду Савельев понял, что новости имеют к нему самое непосредственное отношение. — Пошли к Шарапову, — сказал Тихонов, положив трубку. — Кто звонил-то? — спросил Савельев. — А то ты не понял! — зло рявкнул Стас. Презрительно протянул: — “Так не… быва-а-ет”… Сейчас нам с тобой объяснят, как “бывает”, теоретик! Шарапов сидит нахохлившись, на желтом пергаментном лице резко обозначились морщины. Он крепко сцепил пальцы, руки тяжело лежат на столе, и смотрит он куда-то в бок. Тихонов тоже уставился в пол. — Да-а, дела… — говорит Шарапов. — Как же это ты, Тихонов? Ответа он, видно, не ждет, понимает, что отвечать тут нечего. — Значит, говоришь, подъезжает Демидов к Самотеке, а впереди Гавриленки автобус? — Гавриленки, — сумрачно подтверждает Стас. — У светофора перед строящейся эстакадой задержался. — Ну и…? — Ну и выскочил из этого автобуса Длинный, сел на один рейс раньше, наверное. Демидов его сразу узнал, а что поделаешь? — А ты-то где же был? Стас зло глянул на Савельева, сидевшего с невинным и даже чуть сонным видом на диване. — Да вот, как на грех, закрутился тут с экспертами… Савельеву стало неловко. Он тряхнул ярко-рыжим чубом: — Я за ним выходил, товарищ подполковник. К демидовскому автобусу. Кто ж его знал, что он к Гавриленке сядет? — А-а, — протянул Шарапов. — Значит, не сдержал он обещания-то? — Какого обещания? — опешил Савельев. — Ездить только рейсом двадцать тридцать семь… Савельев покраснел тяжело, пятнами. Лучше уж помолчать. Стас что-то шептал себе под нос, загибал пальцы, потом вдруг сказал: — Никуда он не денется. Сегодня не взяли — завтра возьмем… Раз он тут крутится… — Да-а? Завтра возьмем, говоришь? — протянул Шарапов. — А может, через недельку возьмем? — Неожиданно разозлился: — Адресочек знаете? — Какой? — спросили разом Тихонов и Савельев. — Гарнизонной гауптвахты. На случай, напомню: Семеновская, двадцать шесть. — Я, между прочим, недельку там с удовольствием отдохнул бы, — едко сказал Стас. — Правильно, молодец. Сделал дело — отдыхай смело. — Да ну, Владимир Иваныч. Сказал — возьмем, значит — все. — Ну-ну, — покачал головой Шарапов. В кабинет заглянул дежурный: — Тихонов здесь, Владимир Иваныч? Ему телефонограмма из Ленинграда. Стас поднялся с дивана, подошел к дежурному, взял листок. Прочитал. — Панкова действительно была в Ленинграде, — с удивлением сказал он. — Из ЛУРа сообщают, что мать ее хронически больна. Только что Панкова выехала московским поездом… Шарапов подумал. Сказал: — Встретишь ее на вокзале. Привезешь сюда. Помолчал, потом, растягивая слова, добавил: — Я думаю, она много чего рассказать может. В лоб не начинай, за жизнь побеседуй… Длинного завтра найди… — Ну… — Без “ну”. Найди — и точка.6.
Тихонов еще раз внимательно перечитал телефонограмму, посмотрел в темное заиндевелое окно. — У нас с тобой, Савельев, есть еще около девяти часов — надо успеть. — Чего успеть? — Найти Длинного. — Ты что, шутишь? — Самое время. У тебя дома есть телефон? — Нет. А что? — Тогда звони к себе в отделение, скажи, чтоб к жене кого-нибудь послали — предупредить. Дома только завтра будешь, — сказал Стас, достал из стола чистую бумагу и стал писать что-то в столбик. Потом поднял голову, задумчиво посмотрел на Савельева. Оперативник дремал на стуле. Почувствовав взгляд Тихонова, встряхнулся, зябко поежился. — Стас! А Стас, есть очень хочется… — Сочувствую. Мне тоже. — Идем вниз, в буфет. Работать после будет легче. Тихонов взглянул на часы: — Двадцать минут одиннадцатого. Уже закрыто. Теперь буфет по ночам не работает. — Чего так? — спросил недовольно Савельев. — Наверное, в связи с сокращением преступности, — пожал плечами Стас. — А есть действительно убийственно хочется. Представляешь, сейчас бы шашлычок по-карски? А? И бутылочку-другую “Телиани”? — Ой, не мучь! Тихонов пошарил в карманах, нашел рубль, пригоршню мелочи. — Давай, Савельев, шапку в охапку и — чеши в гастроном на улицу Горького. Там до одиннадцати. Колбаски любительской возьми и булок. За полчаса обернешься. А я пока чай смастерю и подготовлю фронт работ. Савельеву не очень-то хотелось выходить сейчас на мороз, но перспектива просидеть голодным всю ночь тоже не слишком грела… Тихонов допил чай, стряхнул крошки и колбасные шкурки в пустой пакет, ловко бросил его через всю комнату прямо в корзину. — Ну, хватит, что ли, тешить плоть? Ты еще свой ужин не отработал. Не хлебом единым жив оперативник! — сказал Тихонов. — Конечно, не хлебом, — буркнул Савельев, — за работу в твоей бригаде молоко надо получать — вредное производство. — Садись, старик, рядом, и, как говорят в Одессе, слушай сюда. Здесь список телефонов. Я разделил его поровну. Бери аппарат и начинай… Заканчивался пятый день поиска.Суббота
1.
Тусклый зимний рассвет вползал в окно неслышно, мягко, как кошка. Тихонов нажал кнопку, настольная лампа погасла, и знакомые очертания предметов, потеряв свою четкость, расплылись в голубом сумраке кабинета. Веки были тяжелые, будто налитые ртутью, а голова — огромная и звенящая, как туго надутый аэростат. Тихо посапывал Савельев. Он устроился на четырех стульях у стены, подложив шинель Тихонова и накрывшись своим стареньким пальто какого-то невероятного розового цвета. Стас встал, потянулся, потер кулаками глаза и медленно, вязко, как о чем-то постороннем, подумал, что сегодня, наверное, все кончится и тогда можно будет спать, спать, спать. Он подошел к Савельеву, легко потряс его за плечо: — Вставай, вставай, старик! Уже четверть девятого… Савельев резко дернулся, не открывая глаз, сунул руку под голову, под шинель, наткнулся на спинку стула и проснулся. Он сел, улыбаясь, все еще с закрытыми глазами, сказал: — Сон хороший снился… На его бледном лице затекли от сна складки, набрякли глаза. Приглаживая руками красную шевелюру, спросил: — Стас, у тебя зеркала нет? Видок, наверное, тот еще! — Ты ангорского кролика видел? Сходство сейчас замечательное. — Он же белый, по-моему? — недоверчиво протянул Савельев. — Цвет и выражение глаз одинаковые. — У тебя, между прочим, сходство с киноактером Тихоновым сейчас тоже минимальное, — ехидно заметил Савельев. — Слушай, Стас, а сколько я проспал? —Часа полтора верных. Ну все, старик, поехали. Поезд приходит в девять десять. Значит, в полдесятого я здесь, а ты бери Длинного и прямо сюда… Панкова сказала: — Учтите, что в двенадцать у меня репетиция. — Собственно, длительность нашего разговора зависит от вас. Мне-то всего пару вопросов надо задать. “Красивая женщина, — подумал Стас. — Хотя времечко уже и начало точить эту красоту. Хорошо держится”. — Итак, приступим к делу. Расскажите, пожалуйста, что вам известно о взаимоотношениях в семье Ставицких? — Ах, так трудно говорить с посторонними об интимной жизни своих близких! — Ничего страшного, Зинаида Федоровна, — успокоил Стас. — В милиции, в исповедальне и у доктора интимные стороны жизни охраняются профессиональной скромностью собеседника. Так я вас слушаю. — С Алешенькой Буковой мы дружим уже лет пятнадцать… — Вы имеете в виду Елену Николаевну? — Да, конечно. Мы все ее так называем… Панкова говорила страстно, похрустывая длинными красивыми пальцами: — Тяжкая драма. Развалилось окончательно это теплое, доброе человеческое гнездо, созданное тонким интеллектом Буковой и высоким артистизмом Ставицкого. А Алешенька еще надеется… Высокая, еще стройная, в изящном костюме джерси, она время от времени вставала и нервно ходила по кабинету. “Ишь затянулась… — неприязненно посмотрел на нее Тихонов. — Был бы я режиссером — сразу на третью категорию обратно бы перевел…” — Простите, а чем вы объясняете уход Ставицкого от жены? — М-м, точно я не могу этого утверждать, но чем вас, интересных женатых мужчин, можно скорее совратить с пути истинного? — кокетливо сказала она. — Как говорят французы: “Шерше ля фам”*["17]. — Я только интересный, но неженатый, — сказал Тихонов, напряженно думая о чем-то. — Ну, тогда у вас еще все впереди, — заверила Панкова. — А вы не знаете, где надо искать эту женщину? — спросил Стас. — Право, затрудняюсь вам сказать. Это ведь только мои догадки. — И Букова тоже не знает? — Скорее всего — нет. Она бы мне сказала. — Прекрасно. У меня будет к вам просьба: напишите мне обо всем этом. Можно покороче. Раз в шесть. Звонок. Стас рванул трубку. — Тихонов. Да, да, слушаю, Савельев. Куда?! На работу? Совместительство? Давай туда. Жду. Удачи, старик. Панкова за соседним столиком быстро писала объяснение. Тихонов подошел к окну. По заснеженной Петровке сновали троллейбусы, женщина несла перед собой, как щит, новый латунный таз, лениво протащила свой возок мороженщица. Тихонов негромко барабанил пальцами по стеклу, напевая под нос: А на нейтральной полосе цветы Необычайной красоты… Прошло утреннее оцепенение, его уже сотрясал азарт охотника, идущего по верному следу. Все, сеть заброшена… — Все, я написала. Стас подошел к столу, взял у Панковой объяснение, прочитал. Довольно улыбнулся, положил листок в стол. — Вот видите, наша беседа заняла меньше часа. Давайте я вам отмечу пропуск на выход. — Прекрасно, я как раз успеваю в театр. Тихонов поставил на пропуске свою корявую, немного детскую, подпись и потянулся к тумбочке за штампом. Достал, подышал на него. Панкова встала. Стас еще раз дыхнул на штамп и отложил его в сторону. — Простите, Зинаида Федоровна, я забыл вам задать еще один вопрос. — Пожалуйста. Стас тихо сказал: — Вы зачем писали письма с угрозами Тане Аксеновой? Панкова бледнела стремительно, кровь отливала от лица, как будто сердце ее остановилось. — Какие п-письма? Я вообще не люблю писать письма. И я не знаю никакой Аксеновой. — Не знаете? Но это же вы предложили — “шерше ля фам”? — Боже мой, если вы говорите об истории со Ставицким, то я не имею к этому никакого отношения. — Вот что, Зинаида Федоровна. Если вы хотите успеть на репетицию, то давайте не будем транжирить наше время. Хотя боюсь, что на репетицию вы сегодня все равно не попадете. А роль благородной подруги из вашей пьесы вам придется репетировать здесь, со мной. — Не запугивайте меня! — крикнула Панкова, и из глаз ее брызнули слезы. — Театральная общественность не допустит!.. Вы еще молоды… — Чего не допустит театральная общественность? Моей молодости? — спросил вежливо Тихонов. — Наоборот, она ее скорее будет приветствовать. Так, знаете ли, интереснее… — Вы — мальчишка, — сказала Панкова, и лицо ее теперь покрылось красными пятнами. Стас покачал головой: — Как жаль, что мы не в магазине. Там хоть висят плакаты “Будьте взаимно вежливы!”. Тем более что я еще не понимаю причины вашего гнева и испуга. — Вы меня напрасно пытаетесь впутать в эту неприглядную историю! Сейчас не бериевские времена! — кричала Панкова. — Ну-ка, тише, — вдруг резко сказал Стас, и Панкова сразу смолкла. — Насчет времен вы правильно сказали. А в скверную историю вы себя впутали сами. Он открыл ящик и разложил на столе четыре листа бумаги. — Вот ваша автобиография из театра. Вот счет за газ из вашей квартиры. Вот ваше объяснение, которое вы сейчас написали. А вот это, — он поднес листок к глазам Панковой, — письмо Татьяне Аксеновой. — Я ничего не понимаю, — сказала растерянно Панкова. — Понимать нечего. Не надо быть почерковедом, чтобы увидеть: все бумаги написаны одной рукой. — И что? — А то, что это письмо найдено в сумке убитой Татьяны Аксеновой. — Убитой? — с ужасом переспросила Панкова. — Да-да, убитой. За три часа до того, как вы поспешно убыли в Ленинград. — Но клянусь вам. это случайность! Ужасное, роковое совпадение! Я действительно писала ей письмо, но ничего подобного и в мыслях не имела. — Панкова зарыдала по-настоящему. Стас налил ей в стакан воды. У Панковой тряслись руки, и вода текла некрасивой струйкой по подбородку, рассыпалась темными каплями на платье. Она затравленно, не отрываясь, смотрела Стасу прямо в глаза. Тихонов отвернулся к окну. За стеклом летели сухие снежинки, в полдень было так же сумрачно, как и на рассвете. Панкова плакала. Стас, прислушиваясь к ее всхлипываниям, вспомнил, как сидела окаменевшая мать Тани, приговаривая все время: “Донюшка моя, доня…” И подумал с ожесточением: “Плачь, плачь. Не жаль мне тебя. Таня, когда умирала, не плакала…” Тихонов сел за стол, собрал бумаги, положил в ящик. — Вы успокоились? Давайте продолжим. Но учтите: если вы будете снова врать, то уже сами — как вы писали Тане — “поставите себя в весьма опасное положение”. Панкова кивнула: — Но зачем вы так грубо со мной говорите? Вы же воспитанный человек… — А вы бы хотели, чтобы я вас называл Зиночкой и шаркал ножкой? Нет уж, увольте! Вы что-то не очень раздумывали об этике, когда писали Аксеновой письмо с весьма прозрачными угрозами. А человек этот убит. Так что обойдемся без реверансов. Нам нужна правда. Намерены вы говорить только правду? Панкова снова кивнула. Лицо ее стало некрасивым, обвисшим, со множеством мелких морщинок. — Зачем вы написали письмо? — Лена была так несчастна! И она надеялась, что, если эта женщина оставит Костю в покое, он вернется домой. — Вы снова говорите неправду. — Почему? — Это… это… — Стас вспомнил фразу из блокнота Тани Аксеновой. — Это одеяло лжи из лоскутов правды. Вы же прекрасно знаете, что Таня была не в курсе семейных дел Ставицкого. И специально информировали ее письмом. После этого Таня указала Ставицкому на дверь. Поэтому говорить о том, чтобы она “оставила его в покое” нелепо. Правильно? — Ну, значит, я оговорилась. Это же непринципиально! — Нет, принципиально. Потому что вы рассчитывали так: получив письмо с угрозами, Таня испугается и заставит Ставицкого вернуться к Буковой. Так? — Ах, может быть, и так! Но ведь, ей-богу, я действовала из лучших побуждений. Я хотела восстановить семью. Кто мог знать, что… — Что? Кончится убийством? — Я не имею к этому никакого отношения! Ведь это так страшно — убить человека… — Боюсь, что вы не очень хорошо представляете, как это страшно — убить человека. Вы мне лучше скажите, кто мог совершить это убийство в интересах Буковой? — Клянусь, я не знаю!.. — Ладно, допустим. У Буковой есть сейчас мужчина, как это называется, поклонник, который готов ради нее на все? Мгновение подумав, Панкова ответила: — Да, есть. — И сразу заторопилась: — Но я его видела всего несколько раз. — А что, Букова его скрывает? — Нет, мне он просто не понравился. — Подробнее! — Ну, у него какие-то скверные манеры, очень разухабистые. Вообще он… не нашего круга. И… нетрезвый. — Как он выглядит? — Высокий, по-моему, шатен, худощавый… — Как зовут его? — Тихонов задержал дыхание. — Ника. По-моему, Ника. Или Кока… — Его зовут Никита Казанцев? — спросил спокойно Стас. — Наверное, — обрадовалась Панкова. — Полного имени я не знаю, но, кажется, его так и звали — Ника. — Посидите здесь. Я скоро приду. — Тихонов подергал ручку сейфа и вышел.2.
— Через полчасика. Владимир Иваныч, сможете побеседовать с Никитой Казанцевым, проходившим у нас под условной кличкой Длинный. Савельев поехал за ним. Шарапов поднял глаза от бумаг: — Но-о! Нашел-таки? Ну, хвались подвигами. Как вышел? — Я его вычислил. Как Леверье планету Нептун — на кончике телефонного диска! — Ну-ка, ну-ка… — Вот смотрите. Эта идея сформировалась у меня окончательно вчера, когда я ушел от вас. Интервал между автобусами — одиннадцать минут. Как же Демидов смог догнать Гавриленко на середине маршрута? Позвонил в парк. Оказывается, Гавриленко на семь минут опоздал к владыкинской остановке. Застрял у Самотеки, там эстакада строится. Тогда меня озарило: Длинный появляется на остановке три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, ровно в полдевятого, что, вероятнее всего, связано со сменами на работе. Надо было угадать самое главное: куда он ездит из Владыкина — домой или на службу. Подумал и решил: домой. Вот почему: во-первых, в пользу этого говорит само время его поездок. Вечерние смены везде начинаются от пятнадцати до семнадцати часов — значит, поздно. А точные — от двадцати двух до двадцати четырех часов — значит, рано. Во-вторых, я сделал допущение, скорее социологическое… Шарапов усмехнулся. — Не смейтесь, не смейтесь, — сказал Стас. — Женщины обычно ездят на работу очень точно, а возвращаясь, имеют в графике своего движения отклонения в среднем около часа. Это связано с хозяйственными заботами. Мужчины, наоборот, имеют в дороге на работу отклонения до пятнадцати–двадцати минут, а уходят довольно точно. Поэтому я решил, что он ездит домой. Отсюда у меня пошел следующий этап. Парень должен работать где-то близко. В этом я не сомневался. Сначала я допустил, что он приезжает сюда на каком-то другом транспорте и делает пересадку. Однако этот вариант я отбросил. Объясняю. Приехать во Владыкино он мог только на восемьдесят третьем автобусе, идущем от Сокола, и электричкой Савеловской железной дороги. Автобус не годится: парень едет к цирку, а туда проще добраться этим же маршрутом по Лихоборскому шоссе. — А электричка? — спросил Шарапов. — Не годится, — покачал головой Стас. — Станция Окружная там действительно недалеко. Но зато от станции к остановке идти проще и ближе по тротуару, чем по пустырю. Кроме того, в этом промежутке времени только две электрички останавливаются на Окружной — двадцать десять и двадцать тридцать одна. Если бы он приезжал в двадцать десять, то уезжал бы на автобусе в двадцать двадцать шесть, а если в двадцать тридцать одна, то раньше, чем на автобус в двадцать сорок восемь никак не попадал бы. А он-то ведь в двадцать тридцать семь ездит! Значит, ясно — работает он где-то близко. — Резонно, — кивнул головой Шарапов. — Так где же это “близко”? Место убийства практически совпадает с остановкой автобуса. Я решил сделать первую прикидку: на карте района провел циркулем круг с центром в месте убийства. Длинный шел к остановке по пустырю с северо-запада. Поэтому половину круга в юго-восточном направлении я заштриховал сразу. Остался сектор, образованный Сусоколовским шоссе, железнодорожной линией и оградой Ботанического сада. Из-за линии он прийти не мог: полотно проходит по высокой обледенелой насыпи, на которую с той стороны не вскарабкаешься. Выйти из Ботанического сада он тоже не должен был — там у ворот, на полкилометра ближе, есть остановка. Вывод: Длинный шел из глубины владыкинского жилого массива. С работы, заметьте себе, товарищ Шарапов! — Ну-ну-ну, — заинтересованно сказал Шарапов. — Вот тут и встала проблема — где же он может работать? И начали мы с Савельевым подбивать бабки. В намеченном для розыска районе имеются такие предприятия: завод, фабрика, комбинат бытового обслуживания, столовая, шашлычная, один ЖЭК и две гостиницы — “Байкал” и “Заря”. Начали с завода металлоизделий. При этом не забудьте, что Длинный ходит с работы через день в двадцать тридцать. На заводе служащие уходят в пять, вторая смена заступает в четыре, а третья — в одиннадцать ночи. Савельев еще проверил, нет ли у них сотрудников, работающих до восьми-полдевятого. Нет. Значит, отпало. Берем фабрику головных уборов “Свободный труд”. Труд у них, видимо, действительно свободный, потому что работает этот гигант легкой индустрии до семнадцати часов, после чего запирается на замок. Потом началась эпопея с магазинами. А их — шесть штук. Ужас! Два промтоварных, два продмага, один культтоварный и булочная. С промтоварными и форпостом культуры, правда, все решилось быстро: в понедельник они все выходные. В булочной никто через день не работает. В продмагах — время не совпадает, к тому же в одном из них работают только женщины. Столовая закрывается в девятнадцать. Умерло. — Шашлычная — до половины одиннадцатого. На всякий случай через ОБХСС проверили: никто в восемь–полдевятого там работу не заканчивает. Дошли до комбината — закрывается в семь. Точка. Тогда настал черед гостиниц. Тут мне прямо нехорошо стало: около двух тысяч работников. Ну, благословясь, приступили. Узнаем: дежурные рабочие — электрики, мастера по ремонту пылесосов и полотеров, радисты — работают по двенадцать часов через день, с восьми тридцати до двадцати тридцати. Наконец-то! Начали с “Байкала” — ближе к автобусной остановке. Нашлось там таких дежурных двенадцать человек. Кто работал в понедельник — среду — пятницу? Шесть. Скольким из них до тридцати? Четверым. Кто длинный? Двое. Кто такие, где живут? Один — в соседнем доме. А радиомастер Никита Александрович Казанцев живет в Большом Сухаревском переулке, дом тридцать шесть, квартира семьдесят девять — в пяти минутах ходьбы от остановки двадцать четвертого автобуса “Госцирк”. Вот так. — Молодец, — сказал Шарапов. — Молодцы! — И засмеялся: — Нептун, одно слово… Зазвонил телефон. Шарапов снял трубку. — Савельев? Где, внизу? Прямо вместе с ним поднимайтесь ко мне…3.
Высокий парень в черном пальто был чуть бледен, но держался спокойно. Только руки судорожно мяли кепку. В кабинете Шарапова он прислонился к стене, принял независимую позу. Савельев, помахивая чемоданчиком, взял его под локоть: — Вы проходите, проходите. Присаживайтесь. Беседовать-то долго придется. Парень дернулся: — Не хватайте руками! Не глухой. — Вот и хорошо, — миролюбиво сказал Савельев. — Садитесь вот, с товарищами потолковать удобней будет. — Всю жизнь мечтал, — усмехнулся парень. Шарапов и Тихонов молча рассматривали его. Потом Шарапов провел пальцем по губам, будто стер слой клея между ними: — Что в чемоданчике носите, молодой человек? — А вам что до этого? Все мое, вы там ничего не забыли. — А чего дерзите? — А вы привыкли, что здесь перед вами все сразу в слезы — только отпустите ради бога. — Нет. Кому бояться нечего — с теми легко без слез обходимся. Так что в чемоданчике? — Возьмите у прокурора ордер на обыск и смотрите. — А прокурор, наверное, сейчас сам пожалует. С вами знакомиться, специально. Казанцев нервно вскочил, щелкнул никелированными замками лежащего перед ним на столе чемоданчика, откинул крышку. Тестер, мотки проволоки, пассатижи, паяльники, припой. В отдельном гнезде на крышке тонкая длинная отвертка, слабо мерцающая блестящим жалом. Тихонову изменила выдержка: — Вот оно, шило!.. — Это не шило, а радиоотвертка, — сказал, презрительно скривив рот, Казанцев. — Знаю, знаю, гражданин Казанцев! Это мы поначалу думали, что шило, — сказал Стас и повернулся к Савельеву. — Подготовь для Панковой опознание и мотай за Буковой. Парень не моргнул глазом… Казанцев захотел сесть с краю. Рядом уселись еще двое. Панкова вошла в кабинет, и Тихонов подумал, что глаза у нее, как на скульптуре Дианы, — большие, красиво вырезанные, без зрачков. Он сказал: — Посмотрите внимательно на этих людей. Успокойтесь, не волнуйтесь. Вспомните, знаете ли вы кого-нибудь из них? Панкова долго переводила взгляд с одного на другого, потом на третьего, и Тихонову показалось, что она избегает смотреть в лицо Казанцеву. Он увидел, как побледнел Казанцев. И глаза Пайковой были все такие же, без зрачков. Она сказала медленно: — Не-ет. Я никого из них не знаю. — Потом уже тверже добавила: — Ники здесь наверняка нет…4.
Тихонов горестно всхлипывал, бормотал, с кем-то спорил, и сон, горький и тяжелый, как дым пожара, еще клубился в голове, когда он услышал два длинных звонка. Он сел на диване. Оконная рама встала на пути голубого уличного фонаря, расчертившего стену аккуратными клетками-классами. Ребятишки чертят такие на асфальте и прыгают в них, приговаривая: “Мак-мак, мак-дурак!” Тихонов сонно подумал: “Я бы и сам попрыгал по голубой стене. Но я уже наступил на “чиру”. Сгорел. Мак-мак-дурак!” Снова требовательно загремел в коридоре звонок. “Все-таки действительно звонят. Я-то надеялся, что приснилось”. — Он нашарил под диваном тапки, встал, пошел открывать. За дверью кто-то напевал вполголоса:Часть вторая Следующий понедельник
Сегодня у Шарапова день начался удачно. Аферист Костя Корсунский, которого долгих три месяца искала специальная опергруппа, появился в ресторане “Берлин”. После роскошного обеда жулик щедро расплатился с официантом и вышел на улицу. У дверей его ждали Савоненко и Дрыга. Корсунский хорошо знал Савоненко. Раскланялись они изысканно. Корсунский сказал: — Как я понимаю, уважаемый гражданин Савоненко, вы намерены освободить меня от расходов на такси? Оперативник кивнул, распахивая широким жестом дверцу милицейской “Волги”: — Правильно понимаете, Костя… Сейчас Корсунский сидел в соседнем кабинете и давал подробнейшие показания, расставляя точки на целой серии нераскрытых афер, гирей висевших на шее Шарапова. Хорошая была операция! Ей-богу, хорошая. Шарапов, откинувшись на спинку кресла, отдыхал, слегка прикрыв веки, и его круглое широкое лицо расплылось больше обычного. Стасу показалось, что Шарапов дремлет, когда он приоткрыл дверь кабинета. Стас захотел повернуть обратно. Но дело надо делать. Он вошел в кабинет, Шарапов поднял на него глаза, и улыбка пропала. Наверное, и хорошее настроение тоже. Никуда не денешься, надо подойти, сесть у стола и докладывать, чувствуя, как с каждым словом взваливаешь на Шарапова свой нелегкий груз. — Владимир Иваныч, беда, — тихо сказал Стас. — Оправдались мои худшие предположения. Аксенова убита пулей, и мы всю неделю шли не в ту сторону. Пропало самое дорогое время… Шарапов неожиданно улыбнулся, но улыбка была грустной: — Не волнуйся, малыш. Известно, время — самый злой наш враг. И самый коварный. Да ничего — мы времени зря не тратили. Жаль, главная версия наша оказалась ошибочной. Но и узнали мы за это время многое. Да-а. Все это нам еще пригодится. Раскрутим мы это убийство, не вешай носа. Чаю хочешь? Нет? Ну, садись тогда, рассказывай по порядку. Тихонов достал из бокового кармана свернутые в трубочку бумаги, разгладил их ладонью, полистал. Не поднимая глаз, начал рассказывать: — Когда я понял, что эксперт-медик ошибся и мы следом за ним идем в тупик, я всех на ноги поднял: Вчера ведь было воскресенье, а надо было срочно договориться о повторной судебно-медицинской экспертизе. Ну, свет, как говорится, не без добрых людей: всех обзвонил, обошел, все обеспечил — сегодня в одиннадцать утра экспертиза начала работу. Минут через сорок эксперт — вы его знаете — профессор Павловский нашел пулю. Тихонов глубоко вздохнул. Достал из кармана пиджака картонную коробочку. В вате лежал небольшой продолговатый кусочек темного металла. Шарапов потянулся к коробочке, взяв ее в руки, внимательно рассмотрел пулю. — Калибр пять и шесть, — сказал Тихонов. — Да-а. Пять и шесть, — повторил Шарапов. — Слушай, Стас, а как же все-таки получилась ошибка? — Понимаете, Владимир Иваныч, произошел редкий казус — мне это профессор разъяснил. Пуля пробила сердце, перикард, ударилась в ребро, скользнула по нему вниз, раздвинула межреберные мышцы и — Тихонов заглянул в лежащие перед ним бумаги — застряла в подкожной клетчатке передней грудной стенки. Вот Павловский прямо пишет: “След от пули на ребре эксперт принял за конец раневого канала с осаднением от острия оружия”. — Ясно, — сказал Шарапов. — Окончательно сбила первого эксперта с толку картина происшествия: шла женщина, ее обогнал парень, после этого она упала. Все ясно. Редко, но бывает и такое. Еще какие-нибудь выводы профессор сделал? Тихонов снова заглянул в бумагу: — Два. Во-первых, что смерть наступила мгновенно от паралича сердца. И что, следовательно, больше чем один–два шага Таня после выстрела сделать не могла. Во-вторых, стреляли, по-видимому, издалека, поскольку полностью отсутствуют характерные следы близкого выстрела. Вот, в общем, и все. Шарапов сидит, подперев щеку рукой, прикрыв глаза. Долго, неторопливо думает. — Да-а. Развалилась, значит, вся наша постройка. А ведь через пару дней уголовное дело надо передавать но подследственности — в прокуратуру. Ума не приложу — что мы им передадим? Тихонов безнадежно машет рукой. — Ладно, — говорит Шарапов. — Надо искать оружие… — В первую очередь надо выяснить, откуда стреляли, — хрипло говорит Стас. — Казанцев явно отпадает: стрелять он мог только в упор, а экспертиза это отвергает напрочь. Кроме него, Евстигнеева и Лапина на пустыре никого не видели… Тихонов задумывается надолго, потом, нащупав решение, вскакивает: — Вот что, Владимир Иваныч. Направление выстрела, мы определим экспериментально! Шарапов с сомнением прищуривает глаз: — Как это? — Очень просто. Я договорюсь с НТО — они нам сделают из парафина бюст человека — фантом называется. Профессор точно обозначит в нем раневой канал. Используем этот фантом для следственного эксперимента. Положение Аксеновой в момент выстрела нам известно. Рост тоже. В раневой канал вставим трубку и на пустыре провизируем траекторию полета пули — получим место, откуда стреляли. — Сомнительно что-то… — Ничего сомнительного, все по науке будет. — Подвела нас крепко твоя наука, с шилом-то, — покачал головой Шарапов. — Нечего теперь на зеркало пенять, — разозлился Стас. — Подсунул эксперт удобную для нас версию, мы в нее и вцепились. Спешим все… Взгляд Шарапова потеплел: — Ладно, парень. Не в Сочи спешили… Вперед урок будет. Так что решаем с экспериментом? — Я считаю, надо проводить. — Ладно, пробуй, только на месте обставь все поаккуратней, без лишнего шума, народ не мути. Тихонов сделал несколько шагов по комнате, упрямо сказал: — Это еще как сказать — насчет народа. — А что? — Мне кажется, эту операцию широко надо провести, с размахом. Народ обязательно соберется, будут спрашивать: что? да как? да зачем? Объясним. Люди другим расскажут. Глядишь, кроме Евстигнеевой да Лапиной еще свидетели найдутся. Может, кто-то выстрел слышал. Или подозревает кого-нибудь. Да мало ли еще что! Беспокоюсь только, как бы не спугнуть стрелка этого… — Не-е, — улыбнулся Шарапов. — Что нет, то нет. Дело не то. Здесь нам от преступника таиться нечего. Мы розыск сейчас в открытую ведем. Если убийца даже поймет, что мы на правильном пути, помешать нам ничем не сможет. Он сейчас затаился, на дне где-то лежит. А если попытается подняться, воду нам мутить, гляди, и наведет на свой след. Шарапов размял сигарету, стряхнул со стола табачинки, закурил. — Помню, разматывали мы в Филях одно дело. Лёлик-Каин, рецидивист, человека убил. Ну, среди прочего узнали мы, что с убитого золотые часы сняты, “Омега”. То ли Каин пронюхал, что мы эти часы ищем, то ли сам сообразил от улики избавиться, только решил он их сплавить. Подобрал в “Ландыше” одного пьющего компаньона-командировочного, напились оба. А когда до поцелуев у них дошло, поменялся с ним часами: у того “Полет” был, он ему за них и отдал “Омегу”. Проспался компаньон, видит обновку. Однако трезвый он принципиальным оказался. Приходит в девятое отделение, ищите, говорит, мои часы, мне, мол, чужого не надо. Дежурный уж было его наладил на выход, да тут, к счастью, Володя Дранников случился. Бросил глаз на “Омегу” и обомлел. Ну, а когда командировочный обрисовал, с кем гулял да часами менялся, ясно стало — Лёлика работа. Так-то, друг, — поднялся Шарапов. — Преступник нам здесь не помеха. Ну, что ж, давай, организовывай эксперимент. Посмотрим, что получится.Следующий вторник
1.
Девяти еще не было, когда на утоптанную площадку за гостиницей “Байкал” въехали сразу три машины: микроавтобус УАЗ с большим прожектором на крыше кабины, сверкающая лаком “Волга”, поджарый пронырливый “козлик”. На боковых обводах машин четко выделялась красным по синему надпись “милиция”. Из “Волги” вышли, щеголяя новыми милицейскими шинелями, Шарапов и Тихонов, к ним присоединились эксперты-криминалисты и судебный медик. Савельев, тоже в форме, открыл заднюю дверцу “козлика”, помогая выйти Евстигнеевой и Лапиной. Тут же находились участковый инспектор местного отделения милиции и понятые. Как и ожидал Тихонов, необычное зрелище за несколько минут собрало приличную толпу. Люди негромко переговаривались, наблюдая, как криминалисты вынесли из УАЗа макет человека и установили его с помощью штатива в том месте тропинки, где погибла Таня Аксенова. Это место, посовещавшись, показали Евстигнеева и Лапина. Более любопытные из толпы расспрашивали участкового — что случилось? Участковый, проинструктированный Тихоновым, давал объяснения, ему оживленно и доброхотно помогали окрестные мальчишки, всегда осведомленные обо всем лучше всех… К одиннадцати часам визирование было закончено. Выводы специалистов не оставляли никаких сомнений: выстрел произвели из гостиницы “Байкал” с высоты третьего этажа. Оставалось решить — где же находится конкретное место выстрела? Таким местом, как показали расчеты, могли быть лишь окна пятьдесят восьмого и пятьдесят девятого номеров гостиницы, либо окно примыкающей к этим номерам лестничной площадки. Более конкретного вывода сделать не удалось, потому что ни Евстигнеева, ни Лапина не смогли достаточно точно описать положение Аксеновой в момент падения — а небольшие отклонения в этом положении уже создавали различные предпосылки для определения фактической траектории полета пули. Важно было одно: прицелиться в Таню убийца мог только из тех окон, которые установили эксперты, — ни из какого другого попасть в нее на том месте тропинки, где она была убита, оказалось невозможным. Разъехались машины, разошлись по своим делам люди. Тихонов направился в гостиницу. В длинном гостиничном коридоре пахло вишневым вареньем. Даже устоявшийся годами запах пыльных ковров, мокрых тряпок и вечно перекрашиваемых стен не мог перебить его нежного, слегка горчащего аромата. Когда Тихонов отворил дверь пятьдесят девятого номера, вишневый пар волной метнулся в лицо. Доктор Попов пил чай с вишневым вареньем. Варенья было много — целое ведро. Эмалированный зеленый сосуд источал не меньше вишневого запаха, чем целый цветущий сад. На столе важно шипел блестящий электрический чайник. — Добрый день. Я из Московского уголовного розыска, инспектор Тихонов. Попов посмотрел на него с нескрываемым удивлением. Проволочные золотые очки были сдвинуты у него к кончику носа, и оттого, что он смотрел все время как-то снизу, взгляд у него получался хитроватый и в то же время удивленный, будто говорил: вон ты какой, оказывается! Из регистрационной карточки в гостиничном журнале Тихонов знал, что Александр Павлович Попов проживает здесь вместе с супругой три недели, прибыл в Москву из Кинешмы, цель приезда — защита диссертации, место работы — городская клиническая больница, должность — заведующий отделением. Попов, приглядевшись к Стасу, сказал: — А я вас помню. Присаживайтесь, будем пить чай и беседовать. Постараюсь быть вам полезным, чем смогу. — Помните? — переспросил Тихонов. — Простите, а откуда вы можете меня знать? — Я вас видел на месте происшествия. Около тела убитой девушки. — Да-а? — издал неопределенный звук Стас. Попов быстро потер ладони, будто они у него сильно озябли, и сказал немного застенчиво: — Видите ли, у меня довольно редкая зрительная память. Если я видел человека хотя бы раз, я запоминаю его навсегда. Иногда это приводит к ужасным последствиям. — А именно? — поинтересовался Тихонов. Попов усмехнулся: — Память на события и факты отстает. Облик человека я запоминаю, а при каких обстоятельствах и где мы встречались — не всегда. Увижу такого человека и начинаются мои мучения… Пока не припомню, откуда мы знакомы, не могу успокоиться. А длится это иногда неделями. Вот и представьте мою участь… Тихонов засмеялся: — Ну, я — то вас сразу избавил от этих мучений. Простите, а как вы оказались на месте происшествия? — Да ведь в гостинице почти мгновенно стало известно о случившемся. А я здесь жилец со стажем — знают, что я врач, поэтому ко мне сразу же прибежали, сообщили о несчастье и попросили осмотреть женщину. Правда, пока я оделся и добежал, там уже была скорая помощь. Так что мои услуги не понадобились. Кстати, судя по вашему визиту, убийца еще не найден? — Нет, еще не найден, — сказал Тихонов. — А вы здесь в командировке? — Я буду на следующей неделе защищать диссертацию. В институте усовершенствования врачей. — А какая тема вашей диссертации? Разумеется, если это не секрет? — Какой там секрет! — рассмеялся Попов. — Я занимаюсь исследованием воздействия ионизирующего излучения на эндокринную систему. — Любопытно, — заметил Тихонов. — Так сказать, открытия на грани наук? — Вообще-то да, — сказал Попов. — Здесь медицина весьма перспективно смыкается с физикой. — И что главнее? — Я человек заинтересованный, мне свою работу хвалить вроде неудобно, но думаю, что это одна из самых интересных и малоисследованных областей медицины… Попов выключил электрический чайник, снял с него небольшой фарфоровый — для заварки, налил Тихонову ароматный янтарно-коричневый напиток. — С собой возите? — с улыбкой кивнул Стас на чайники. — Аз грешен, без чая дня прожить не могу, а в буфете разве чай?.. — немного смущенно отозвался Попов и положил в блюдечко варенье для Тихонова. — Так вот, эндокринная система руководит всем обменом веществ в организме… — Проходили… — сказал Тихонов без особого энтузиазма. — …Было замечено, — с увлечением продолжал Попов, — что облучение способно вызвать резкие изменения обмена веществ и это можно использовать в лечебных целях, при раке например. — Попов расстегнул объемистый портфель, достал из него огромную рукопись и раскрыл ее на какой-то весьма сложной схеме. — Вот из этих таблиц видно, что облучением гипофизарно-гипоталамической области у молодых животных можно резко замедлить рост и созревание… — Лихо, — сказал Стас, сообразивший, что если он хочет успеть вернуться сегодня на Петровку, надо увести Попова немного в сторону от излюбленной темы. — А ваша супруга — тоже врач? — Да-а, — удивленно посмотрел на Тихонова поверх очков Попов. — Она хирург, на скорой помощи работает… Служба у нее тяжелая — мотается вот вроде тех, что тогда на пустырь выезжали… Тихонов поторопился задать следующий вопрос: — А почему в тот вечер, когда вас на пустырь пригласили, пошли вы, а не ваша жена — ведь ей это по роду деятельности ближе? — Как же она могла пойти, когда ее в тот вечер и в Москве-то не было,— сказал Попов. — Как не было?! — Видите ли, какая тут история — мне ведь еще пятого февраля надо было “защищаться”. Но неожиданно заболел профессор Перемогин, а он у нас не только признанный корифей этой проблемы, но и мой официальный оппонент. Решили защиту на две недели перенести — до его выздоровления. А жена сейчас в отпуске, приехала поддерживать во мне “моральный дух”. Она и говорит — раз так, давай-ка я пока, до защиты, вернусь домой, чтобы надолго ребят без надзора не оставлять. Ну, и уехала — только вчера вернулась. А из гостиницы мы ее и не выписывали, чтобы тут пока кого-нибудь не подселили: добивайся потом отдельного номера! — По-о-нятно! — протянул Стас. — Так, значит, вдень убийства вашей жены в Москве не было? — Ну, конечно же! — раздосадовался его несообразительностью Попов. Он налил Тихонову еще чашку чая, в синее блюдечко с надписью “Общепит” добавил несколько ложек вишневого варенья. — Угощайтесь, угощайтесь, свое как-никак варенье-то… — Спасибо. — Тихонов придвинул к себе чашку, небрежно спросил или просто подумал вслух: — От работы вас оторвало то происшествие… — Как раз нет, — покачал головой Попов. — Я, наоборот, решил сделать передышку, попросил горничную включить в холле телевизор и смотрел “Кинопанораму”. А она тем временем в номере убиралась… Так что меня прямо из холла вызвали… — Попов ненадолго замолчал, потом, по-видимому, его кольнула какая-то неприятная мысль и он с подозрением посмотрел на Тихонова. — А если бы и от работы… какое это имеет значение — там ведь человек пострадал!.. — Что вы, что вы, доктор, — поспешил успокоить его Тихонов. — Я не к тому вовсе… Р^онечно же надо было сразу… — И перевел разговор на новые рельсы, кивнув на стоявший в углу футляр от ружья: — А вы, Александр Павлович, охотник?.. Попов оживился. Он встал, подошел к футляру, щелкнул кнопками и с нескрываемым удовольствием достал охотничье ружье — новенькое, блестевшее воронением и свежим лаком. — Охотник, любитель оружия и, не буду скромничать, неплохой стрелок к тому же! — сказал он гордо, и, если бы в его глазах не светилось счастье коллекционера, добывшего вожделенную вещь, его слова прозвучали бы хвастовством. — Это “ижевка”, ИЖ-58! Ах, красавица… — Он передал Тихонову ружье. — Ложа — ореховая, посмотрите, какая великолепная резьба по дереву! А? К тому же — двустволка! — М-да, оружие серьезное, — сказал Тихонов, внимательно осмотрев ружье. — Но оно ведь не нарезное, гладкоствольное?.. — Ну и что же, что гладкоствольное! — возмутился было Попов и тут же объяснил снисходительно: — Зато калибр — двадцать восемь, медведя положить можно! — Да у вас разве в Кинешме медведи встречаются? — с сомнением спросил Тихонов. Попов пожал плечами: — Вообще-то про медведей я не слыхал. Но все-таки приятно. Тихонов встал: — Спасибо за чай, варенье и беседу. — Да что вы! — замахал руками Попов. — И того, и другого — сколько угодно. А жена вот-вот из города вернется — тогда разговоры наши до полуночи продлятся. — Попов весело засмеялся. — Заходите. — Очень возможно, что я вас еще побеспокою. Вы уж извините…2.
Тихонов набросал карандашом схему и протянул Шарапову: — Вот, посмотрите, Владимир Иванович. Эксперты утверждают, что выстрелить могли только из этих трех окон — номера пятьдесят восемь, пятьдесят девять и окно лестничной клетки. В номере пятьдесят восемь проживает инженер-строитель из Львова Козак Лев Алексеевич в главный бухгалтер из Кромска Лагунов Дмитрий Михайлович. В пятьдесят девятом номере — врач из Кинешмы Александр Павлович Попов с супругой. Все они проживали в своих номерах и в прошлый понедельник. И кто-то еще, нам не известный, мог выстрелить из третьего окна на лестнице. — Соображения? — Козака и Лагунова я еще не видел — они со своими командировочными радостями возвращаются около пяти. С Поповыми разговаривал. — Что-нибудь интересное есть? — Есть. Варенье. Любите вишневое варенье? — Чего-о? — Варенья, говорю, вкусного целое ведро есть. Приглашали еще заходить. — Тебя все на сладкое тянет, — ухмыльнулся Шарапов. — А кроме варенья что интересного? — Он в институт усовершенствования приехал, диссертацию защищать, а докторша — болеть за него. Я специально для вас даже записал тему диссертации — запомнить не смог. — Тихонов достал записную книжку, полистал и важно объявил: — “Состояние гипоталамо-гипофи-зарно-тиреоидной системы при воздействии ионизирующего излучения”. Во как! — Что ж, тоже красиво. Гипоталам — был бог, кажется? Тихонов захохотал: — Бог был Гименей, которому пели эпиталаму. Шарапов неожиданно разозлился: — Что ты ржешь, как жеребец? Некогда было мне эту ерунду древнюю изучать. Ты после учебы с девчонками в оперы ходил да на танцы, а я учебники на дежурствах между операциями читал. Ты еще лейтенантских звездочек не нюхал, когда я “Почетного чекиста” получил! Ишь тоже еще Леверье отыскался… — Владимир Иванович, не воздвигайте искусственной проблемы отцов и детей! — Тоже мне ребеночек! Животик не болит от вишневого варенья? Я ж тебя знаю — сметал, наверное, полведра? — Ну-у, Владимир Иванович, вы не правы. Я же сластей вообще не ем! — Ладно, ладно, давай дальше. — Дальше — окно на лестнице. Вот окно это мне не нравится. Лестничная клетка находится в конце коридора и выход на нее из бокового прохода. Этакий аппендикс. Площадка из коридора не просматривается. Лестницей пользуется в основном обслуживающий персонал — горничные, монтеры, слесари. По существу, это черный ход. Выходит он во двор гостиницы. Дверь внизу обычно запирают в десять вечера. Наверху лестница переходит в чердачную площадку. Дверь на чердак заперта и была когда-то опломбирована. На петлях висят обрывки проволоки, а в углу я отыскал смятую пломбу. Пол там очень запылен, и на бетоне нечеткие следы ног. Перекопали мы чердак сверху донизу, но ничего не нашли. Отпечатки следов на всякий случай мы сняли. Надеялся я, все-таки, стреляную гильзу найти — нет, ничего. Сейчас поеду беседовать с Козаком этим и с Лагуновым. А лестницей еще придется заняться…3.
— Я вам объясню, из-за чего произошло убийство, — сказал Козак. — Не надо быть всевидящим пророком, чтобы объяснить, из-за чего могли убить молодую интересную женщину. Любовь. Да, да, любовь! Это страшная штука, должен вам заметить. Меня самого однажды чуть не убили из ревности. Тихонов внимательно смотрел на него: Козак был чрезвычайно наряден, мал ростом и невыносимо энергичен. Он без устали катался по небольшому номеру на своих коротких ножках, ловко обходя все препятствия на пути. — Да-да, я вам серьезно говорю. У меня был такой острый роман в Смоленске. Неповторимая дама! Волшебный экстерьер! Я не женился на ней случайно. Когда я уехал из Могилева в Минск… — Вы же сказали, что в Смоленске… — Да, но ведь мне потом пришлось перевестись в Могилев, и она приезжала ко мне. О, эти незабываемые прощания и встречи на вокзале! Я получил тогда строгача с понижением в должности… — За прощания на вокзале? — Нет, к сожалению, за встречи, — ловко обогнул тумбочку Козак. — А вы смеетесь? Зря, зря, товарищ Тихонов. Ваше лицо мне симпатично, поэтому я с вами так откровенен. Скажу вам тет-а-тет, как мужчина мужчине, — сколько я горел из-за женщин! Как горел, боже мой! С дымом, с треском! Но не могу я бороться с чувством прекрасного в себе! — И давно вам так тяжело? — Первый выговор я схлопотал лет двадцать назад. — Козак чуть не налетел на стул. — Просто вам надо жениться по любви, — сказал участливо Тихонов. — Ах, милый мой, я уже четырежды был женат по любви. — Слушайте, Козак, у вас не сердце, а дворец бракосочетаний. Вашу бы энергию, да на мирные цели… — Интерес к женщинам — стимул любого творчества, -обиделся Козак. — Все великие люди были неравнодушны к женщинам — Леонардо да Винчи и Рафаэль, Петр Первый и Наполеон, Пушкин и Толстой. Это же достоверный факт! — А вы, мол, замыкаете этот славный ряд? — Я не Рафаэль и не Наполеон… — Заметил, — кивнул Стас. — …Но и я имею перед человечеством заслуги, — важно сказал Козак. — По части чего? — вежливо осведомился Стас. Тут Козак обиделся всерьез. Он полез в шкаф, достал чемодан, из него потертую кожаную папку с надписью “На подпись”. Папка распахнулась с треском. Почетные грамоты, благодарности, вырезки из газет свидетельствовали о трудовых успехах инженера-строителя Л.А.Козака. Среди бумаг лежала фотография еще совсем молодой, очень красивой женщины. — Это моя супруга, — с гордостью сказал Козак. — Четвертая? — съехидничал Стас. — Практически, — замялся Козак. — А теоретически? — как клещ, привязался Стас. — Видите ли, сложные житейские обстоятельства помешали нам с четвертой оформить брак официально. — Строгач или понижение? — сочувственно спросил Стас. — Перебросили в сельское строительство на Львовщину, — вздохнул Козак. — Там вы и познакомились со своей нынешней, пятой супругой? — Да, ее папа, мой тесть, начальник межрайонной конторы “Сельэлектро”… Стас неожиданно вспомнил, что Львов не так уж далеко от Ровно, куда Таня ездила в командировку. “Пора начинать атаку”, — подумал он. — А ее папа, ваш тесть, намного вас старше? — На четыре года. А что? — А то, что я хочу узнать, как вы провели вечер прошлого понедельника? — Вечер? Прошлого понедельника? — споткнулся Козак. — Да-да, уважаемый Лев Алексеевич, именно вечер прошлого понедельника. И подробнее. Козак подумал. — Часов в пять я уехал из гостиницы. Походил в городе по магазинам, потом поехал к друзьям, в гости. Говорил он не спеша, и Стас почувствовал, что Козак думает над каждым словом. — Когда вернулись в гостиницу? — Было уже поздно, но время я не заметил. — Сколько времени вы ходили по магазинам? — Часов до восьми. — В каких магазинах побывали, если не секрет? — В Марьинском универмаге, в комиссионном магазине на Октябрьской улице, потом в комиссионке на Колхозной, еще в нескольких… Вот жене сумку купил. Тихонов взял у него из рук изящную черную сумку, повертел в руках, откинулся в кресле. — Приятно поговорить с вами, Лев Алексеевич. — Почему? — насторожился Козак. — Потому что ваш рассказ напомнил мне один старый, но ужасно смешной анекдот. Разрешите его вам поведать? — Сделайте одолжение, — растерянно развел руками Козак. — Вернулся один человек из отпуска и рассказывает друзьям: “Как только, говорит, я приехал в Кисловодск, так сразу же пошел на море и искупался”. “Позвольте, — говорят друзья, — ведь в Кисловодске же нет моря!” “Так вот, я не знал, что в Кисловодске нет моря, пошел и искупался”, — отвечает курортник. Правда, смешно? — Смешно, — согласился Козак. — Но какое это имеет… — Отношение? — спросил Стас, перехватив напряженный взгляд Козака. — А такое: вы не знали, что по понедельникам промтоварные магазины в Москве закрыты, — пошли и купили сумку. Смешно? Это был чистый гол. Козак даже бегать перестал. Он стоял посреди комнаты, нервно вытирая губы концом своего элегантного галстука. Тихонов невозмутимо крутил в руках сумку. Козак решил выкатить мяч в центр и начать игру сначала. — Простите, я, видимо, перепутал. Да-да, я купил сумку во вторник. — А к друзьям тоже во вторник ездили? Козак замешкался на мгновение: — Не-ет, в гостях я был в понедельник… — Кто ваши друзья? Где они живут? — Стас достал записную книжку. — Их фамилия Алешины. Они живут на Юго-Западе. — Телефон есть? — Нет. Должны скоро установить. — Когда вы приехали к ним и сколько там пробыли? — Около шести. А уехал поздновато. — Они, наверное, смогут подтвердить, что вы провели у них весь вечер? Козак заерзал. Он затянул узел галстука до отказа, потом растянул его совсем, отстегнул верхнюю пуговицу сорочки, снова подтянул узел. — Вы сейчас помнете свой прекрасный галстук, — спокойно сказал Тихонов. — Так как же насчет Алешиных? — Я вам могу поклясться честью, что я провел там весь вечер, по мне бы очень не хотелось, чтобы вы этот факт у них проверяли! Тихонов удивленно поднял брови: — Это почему же? — Вы же интеллигентный человек! Вы же понимаете, что всем всего не расскажешь. Вы же знаете, что ваш приход может быть неправильно истолкован. Представляете, как это звучит для простых людей, где-то немножко обывателей, — о друге дома расспрашивают из МУРа! Ведь это же не просто. Это же МУР! Это же звучит как! — Гордо! — мрачно отрезал Тихонов. — Но доводы ваши я считаю неубедительными. Тем более что честному человеку нечего бояться, если официальное лицо наводит справки во имя закона. Поэтому нам придется вместе поехать сегодня к Алешиным. — Но это же невозможно! — с отчаянием сказал Козак. — Возможно. Очень возможно. Я вам это точно говорю, — отозвался Стас. — Но цело в том, что Алешина сейчас нет дома. — То есть как? А где же он? — В командировке, — упавшим голосом сказал Козак. — А где же вы были тогда?.. — Я же говорю — в гостях у Алешиных. — Так-так-так, — забарабанил Тихонов пальцами по ручке кресла. — Вы уж формулируйте тогда точно — у Алешиной, а не у Алешиных. — У Алешиной, — покорно вздохнул Козак. Тихонов задумался. Просто смех и грусть берут, когда подумаешь, с чем только не сталкиваемся на работе. Впрочем, это тоже объяснимо. Мы же ходим всегда, как пограничники, вдоль тонкой линии, разделяющей нормальное и извращенное. Но у пограничников — полосатые столбы, распаханная полоса, на пей остаются следы. Л мы эти столбы ставим сами и полосу пашем на себе. Поэтому в разговоре нельзя поставить деликатную точку, нельзя на обыске тактично отвести взгляд от чужого белья, нельзя не видеть чужих пороков и слабостей. Как это трудно — иметь большие права, которые во сто раз тяжелей наших нелегких обязанностей. Но иначе нельзя — мы ставим столбы между людьми и убийцами. Убийство — не абстрактная картина, здесь непонятного и недосказанного быть не может. И кто-то должен копаться в чужой грязи и крови, чтобы не было вообще грязи и пролитой крови. Тихонов провел ладонями по лицу, будто умывался, потом встал: — И все-таки, Лев Алексеевич, я должен вас огорчить: к Алешиной нам сегодня придется поехать. — Но вы убедитесь, что все это ерунда, и сами же потом будете смеяться. — Может быть. Но, как говорит мои начальник, хорошо смеется тот, кто смеется без последствий. Отворилась дверь, и в комнату вошел высокий седой человек. Он подошел к Тихонову, сказал звучным веселым басом: — Здравствуйте! Лагунов. — И крепким мужицким пожатием стиснул ему руку.4.
— …Нет, дорогой мой, у вас архаические представления о нынешней периферии! — сочно захохотал Лагунов. Его лицо красно, крупные черты подвижны, небольшие седые усы вздыблены. — Небоскребы у нас, на Орловщине, не строят, как на проспекте Калинина, скоростную химчистку налаживают второй год — это все верно. Но вот вы, столичные жители, всегда немного кокетничаете с нами, провинциалами: “Ах, у нас такая спешка всегда, такой ритм жизни бешеный!” Так ритм — что? Уже давно нужны другие категории, другие определения. Я бы сказал, что надо нынешнюю жизнь мерять ее наполнением, насыщенностью… Да и ребята у нас сейчас хорошие растут, грамотнее нас, глубже жизнь знать хотят. Мне тут как-то сын — семнадцать лет парню — говорит: “Папа, а где бы взять почитать Пруста?” Я ему — снисходительно так: “Вон в шкафу пятитомник стоит. Прочитай сначала “Фараона” — отличная вещь. Помолчал мой Алеха, потом говорит: “Папа, я Болеслава Пруса читал, я про Марселя Пруста спрашиваю”. Бах! Я чуть от стыда не сгорел. А ведь мы их воспитывать должны. Вот мой сосед Брэдбери читает. Я посмотрел — сложно, конечно, но чертовски интересно…. Да, видать, чтобы кого-то воспитывать, надо самому учиться здорово! — А вы как думали… — рассудительно сказал Тихонов. Лагунов быстро повернулся к нему: — Вам, молодой человек, хорошо. А вот мне где время взять? У меня вон была намечена целая программа, а я за все время в Большой театр один раз вырвался. Как раз в тот день, когда здесь все это случилось… — Надо же… — равнодушно отозвался Тихонов. — Конечно, скромничать не буду, на выставке Юона побывал, — сказал Лагунов, загибая пальцы. — Потом посмотрел музыкальное ревю… Но ведь раз в год?! — А спектакль хороший был? — спросил Тихонов. — Отличный. “Князя Игоря” давали. Великолепно все это — в музыке такая мощь, что после спектакля чувствуешь себя причастившимся к великой силе духа. Я бы детей-школьников в обязательном порядке водил на эту оперу, — засмеялся Лагунов. — Исполнители пожиже стали, — сказал Стас. — Кто Кончака-то поет сейчас? — М-мм… этот… о, черт!., ну… — Лагунов замялся, выжидательно посмотрел на Тихонова, но тот не сделал никаких попыток ему помочь. Лагунов беспомощно развел руками, и Тихонов наконец смилостивился: — Огнивцев? — Огнивцев? — повторил Лагунов. — Н-нет, фамилию забыл… Как же его?.. — И вдруг обрадованно закричал: — А-а! Сейчас я вам точно скажу — у меня же программка была! Лагунов вынул из тумбочки добротный, уже потемневший бумажник из свиной кожи, вывалил из него на стол ворох бумажек и стал перебирать их толстыми сильными пальцами. — Сувениры как-никак, — смущенно улыбнувшись, сказал он доверительно. — Ага, так. Это программа музыкального ревю… билет на выставку… так-так… билет в Большой… так, телеграмма — не то… ага, вот она, программка! Ведерников! Ведерников! — Он аккуратно сложил бумажки, бережно спрятал их в тумбочку и сообщил Стасу: — Конечно, хороший он певец, Ведерников, но, кто Максима Дормидонтовича Михайлова слышал, тот может сказать, что был знаком с половецким ханом лично. — Лагунов провел ладонью по усам. — И все-таки здорово — получил большое удовольствие! — Дмитрий Михайлович, а когда вы узнали про убийство? — спросил Тихонов. — Да сразу же! Как пришел я за ключом — времени уже около одиннадцати было, — мне горничная Ханя и рассказала. Минут за десять до этого тело увезли, а они все — горничные — в окна глазели. — А в город вы уехали задолго до убийства? — Так я ведь и не знаю, когда ее убили-то. Мне потом рассказали, что в гостинице шум поднялся, когда ее нашли — около девяти, что ли. А мы со Львом Алексеевичем в пять уехали. — Лев Алексеевич-то куда направился? — Видите ли, мы договорились ехать в половине шестого, но в пять ему позвонили, и он куда-то заторопился. А мне надо было жене письмо дописать, он не стал меня ждать и уехал. Минут через десять–пятнадцать поехал и я. — Значит, вы запирали номер? — Да, конечно. — А кому из дежурных сдали ключ? — Ну, дорогой, я этого уж не помню. Сами посудите — сколько их там. А вечером я взял ключ у Хани. Это я точно запомнил, потому что именно она рассказала мне про убийство. — А когда приехал Козак? — Затрудняюсь сказать. Но, наверняка, поздно. Я еще, помню, дослушал последние известия по радио, потом почитал с часок и заснул. Тихонов спросил: — Вы не слышали, когда Козак вошел? — Слышал. Я проснулся на мгновение, он мне еще сказал: “Тише, тише. Все в порядке, свои”. И я снова уснул. — Он вам не показался взволнованным? — спросил Стас. Лагунов захохотал: — Знаете ли, спросонья да еще в темноте определять нюансы душевного состояния я не берусь. На журнальном столике у кровати Козака лежала книга — томик Брэдбери. Тихонов лениво перелистал книжку. На титульном листе — штамп: “В дар Народной библиотеке им. А.П.Чехова на добрую память о читательнице Суламифь Яковлевне Панкиной”. Тихонов улыбнулся, хлопнул переплетом, встал: — Ну, простите, Дмитрий Михайлович, за отнятое у вас время. — Да что вы говорите! У меня и дела-то все закончены, билет домой заказан. Хочу успеть у себя еще и на лося сходить — через две недели отстрел заканчивается. — До свиданья. — Всего хорошего. Если будете в наших местах, на Орловщине, — заезжайте. Я вас такой лосятинкой жареной угощу, пальчики оближете. — Если будет возможность — с удовольствием. Спасибо. До встречи.5.
В холле Савельев вел душеспасительную беседу с томящимся Козаком. Увидев Тихонова, Козак привстал. — Мы едем или вы, может быть, передумали? — Одну минуту. — Стас подошел к столу дежурной по этажу. — Скажите, пожалуйста, кто работал на вашем этаже в тот понедельник? — Наша же смена. Мы дежурим сутки, а потом трое свободны. В понедельник как раз мы и работали. — Кто из жильцов пятьдесят восьмого номера сдавал вечером ключи? — Ей-богу, не помню. У меня же сорок номеров на этаже, да и прошло больше недели. Разве упомнишь? — А когда они вернулись в гостиницу? Дежурная подумала, помялась, покраснела: — Знаете, я в тот день белье сдавала, намаялась. Поэтому часов в десять прилегла вздремнуть немного — мне же всю ночь сидеть. А здесь Ханя осталась. Давайте ее спросим. — А кто это — Ханя? — Горничная наша — Ханифя Гафурова. — Давайте сюда вашу Ханифю. Гафурова, быстроглазая моложавая женщина, сказала, что ключ забрал Лагунов. Он пришел вскоре после того, как с пустыря уехали милицейские машины и “скорая помощь”. — Очень веселая был, все песню напевал, из театра пришел. — Кто веселая? — Лагунов. Все пела, тихо, правда: “О дай-ка, дай-ка мне свободу”. — А Козак когда пришел? Ханифя задумалась, потом весело сказала: — Задремал я, не слышал. Но шибко поздно было, я в три часа задремал. — Не боитесь, что гостиницу из-под носа украдут? — Не. У нас кража никогда не был. — Удивительно, что не было, — хмуро сказал Тихонов. — А никто не приходил в этот день к жильцам в пятьдесят восьмой номер? — Может быть, приходил. Не видел я, — сказала Ханифя. — У нас учет сейчас — шибко дел много. Мы только в полночь смотрим, чтоб чужие в номерах не бывали. — Спасибо, вы свободны, — сказал Стас и снял телефонную трубку. Набрал две цифры. — Абонированный “голубая звезда”. Дайте телефон репертуарной части Большого театра. Есть, записываю. Отбой. Набрал помер. — Большой? Добрый день. Из милиции говорят. Сообщите, пожалуйста, какой спектакль шел четырнадцатого числа на основной сцепе. “Игорь”? Прекрасно. Заодно уж, подскажите, кто пел партию Кончака? Ведерников? Хорошо. А замен не было? Нет? Когда оканчивается спектакль? Отлично. Всего доброго. Повернулся к Савельеву: — И к Лагунову больше вопросов не имеем. Ты, Савельев, поезжай домой, выспись как следует, завтра будешь нужен. А со Львом Алексеевичем мы сейчас предпримем одну прогулку… В автобусе Стас позорно заснул. Он долго клевал носом, потихоньку наклонялся вперед, вдруг резко встряхивался и откидывался назад. Потом голова его съехала набок и уютно легла на мягкий ондатровый воротник сидевшего рядом Козака. Козак сидел, не шелохнувшись, хотя ему было неудобно и тяжело. В автобусе было холодно и тихо, лишь завывал мотор, когда машина с разгона въезжала на обледенелую гору, да голос водителя, охрипленный динамиком, называл остановки. На Херсонской улице Козак осторожно постучал ладонью по колену Тихонова: — Мы приехали, нам пора сходить. — Да-да, войдите, — сказал Стас и проснулся. Он протер глаза, чертыхнулся, спросил: — Давно я уснул? — От самого метро, почти сразу, — сказал Козак. — Ничего страшного, я вас понимаю, сам устаю на работе. На Херсонской было темно, с близких деревьев ветер доносил запах хвои и сухого холода, гребешки сугробов вспурживало белым дымом. Тихонов зябко поежился, взглянул на огоньки микрорайона, стоявшего в стороне от остановки, невольно рассердился: — Давайте, ведите, — и пропустил Козака вперед. На заснеженной пустынной улице холодный ветерок с крупой, как в аэродинамической трубе, продувал насквозь, заныли щеки и пальцы. Тихонов засунул руки в подмышки и, сгорбившись, медленно шел за бойко вышагивающим Козаком, лениво думал: “А я ведь даже не пощупал его слегка в автобусе — прекрасный будет номер, если он сейчас вынет “пушку” и вложит в меня пару полноценных свинцовых пломб. Ну и черт с ним. Можно было бы полежать хоть немного до “скорой помощи”. Однако эта мысль добавила Стасу силенок. Он выпрямился и быстрым шагом догнал Козака, взял его под руку и стал с интересом расспрашивать о перспективах сельского строительства на Львовщине. Легкими незаметными движениями ощупал карманы Козака. Потом улыбнулся и сказал: — Лев Алексеевич, в какой-то степени я склонен верить в вашу непричастность к трагическому происшествию на пустыре… Козак остановился, прижал руки к груди и сказал: — Дорогой товарищ Тихонов! Я же говорил вам об этом с самого начала. Так зачем нам идти сейчас в этот дом — смущать покой и моральное состояние замечательной женщины. Давайте лучше вернемся и выпьем по случаю благополучного разрешения всех вопросов бутылку коньяка! Тихонов покачал головой: — Нет. К Алешиной мы пойдем все равно. Но я заинтересован в вашей предельной искренности… — Можете на нее рассчитывать, — снова приложил руку к сердцу Козак. Для этого он даже сдернул перчатку. — Вот и расскажите мне подробно о том, как вы в понедельник уезжали из гостиницы. — Мы договорились с Лагуновым часов в пять вместе выехать в город. Он сел писать письмо жене и писал очень долго, так что мне стало жарко, и я уехал. — Пар изо рта Козака вырывался четкими круглыми клубочками. — И все? — спросил Тихонов. — Вроде бы все. — Чтобы вызвать вас на полную откровенность, предложу небольшой психологический тест. Хотите, например, чтобы я подробно рассказал, что и в каком кармане у вас находится? — Хочу, — нетвердым голосом сказал Козак. — В левом боковом кармане пальто у вас лежит связка из семи или шести ключей. И спичечная коробка, в которой мало спичек. В правом кармане — папиросы “Три богатыря”. В левом боковом кармане пиджака — дамская расческа. В правом — перочинный нож с двенадцатью разными приспособлениями, изготовленный заводом “Красная заря”, ценой пять сорок. Да, и еще там лежит носовой платок. В левом внутреннем кармане пиджака у вас деньги, а в правом — портмоне. В портмоне — билет в купейный вагон скорого поезда Львов — Москва, счет за десять дней проживания в гостинице, сильно почерканный список разных вещей, командировочное удостоверение. Да, забыл совсем, квитанция на отправленную телеграмму. Там, где бумажник перегибается, отпорота подкладка и под ней — фотография Алешиной. В отдельном карманчике — десять рублей целой купюрой. — Пятнадцать: десять и пять, — совсем плохим голосом сказал Козак. — Может быть, — кивнул Стас. — Ну, и, заканчивая наш опыт, могу сообщить, что в верхнем карманчике у вас лежит коричневая кожаная книжечка с тиснением: “Министерство сельского строительства УССР”. Как, все правильно? — В бумажнике есть еще записка в Госплан, — тихо сказал Козак. — Но откуда вам все это известно? Стас многозначительно ответил: — Профессиональная тайна. За ее разглашение я могу угодить под суд. Но если я вас убедил, что знаю о гражданине Козаке гораздо больше, чем он думал, и вы станете искреннее, то обещаю на обратном пути рассказать, как я это узнал. Так почему вы не дождались Лагунова? Какая вам звонила женщина? — сделал “накидку” Стас. — Пуся. Пуся Алешина. — Ну-ну. И еще: говорил ли вам Лагунов, что собирается в театр? — Да, кажется, говорил. Да-да, говорил, что хочет попасть в какой-нибудь театр, если повезет с билетами… Дверь открыла высокая полная брюнетка в скромном голубом халатике. — Ой, ты не один! — Она смутилась и убежала в глубь квартиры. Из-за двери спальни доносился ее приглушенный грудной голос, чуть в нос: — Ну, Львенок, как тебе не стыдно приглашать друзей, не предупреждая меня заранее. Мне же вас и угостить нечем! Козак нервно ходил под дверью: — Пусенька, это не мой друг… То есть нет, я не так сказал — друг, конечно, конечно. Но, видишь ли, у нас такое щекотливое дело… Пуся вышла из спальни в нарядном черном платье, разрисованном павлиньими хвостами. И Тихонов вспомнил, как жутко орали павлины в ту ночь. — Что ты лопочешь, Львенок? — спросила она снисходительно, направляясь к Стасу с протянутой рукой. — Тихонов, — представился он. — Полина Владимировна, — кивнула Алешина. Она возвышалась над маленьким Козаком, как океанский фрегат. — Ты помнишь, Пусенька, в прошлый понедельник, когда… — торопливо забормотал Козак. — Минуточку, — остановил, его Стас. — Я работник уголовного розыска. Глаза Алешиной стали квадратными. — Мне нужно знать, где провел вечер и ночь четырнадцатого февраля — в прошлый понедельник — ваш приятель Лев Алексеевич Козак. У Алешиной челюсть отвисла аккуратным балконом. Она несколько раз глотнула воздуха и раскатистым голосом, постепенно набиравшим силу, дала залп: — Да вы что?! Да как вам не стыдно задавать мне такие вопросы? Этот человек, — она ткнула рукой в сторону Козака, — действительно бывает у меня в гостях. Но очень редко и всегда в благопристойное время! Я замужняя женщина, и ваши вопросы оскорбляют меня! Я инженер-экономист! И последний раз я его видела не меньше года назад! — Как год назад, Пусенька? Ведь позавчера… — заверещал Козак. — Замолчите, грязный человек, и не втягивайте меня в ваши плутни! — Одну минуточку, — постучал Стас ключом о графин, как будто утихомиривая страсти на собрании. — Полина Владимировна, я прошу вас серьезно отнестись к моему вопросу, потому что речь идет об убийстве. — Пусенька, родная моя, пойми, речь идет об убийстве, — застонал Козак, пытаясь обнять Алешину за талию. Алешина одним движением отшвырнула его от себя: — Позвольте, позвольте, гражданин! Я вас знать не желаю и видела последний раз в прошлом году в присутствии своего отсутствующего супруга. И попрошу вас не марать моего доброго имени! Не смейте больше за версту подходить к нашему дому. Я еще к вам на работу сообщу о вашем недостойном поведении! — Пусенька, о чем ты говоришь! Пойми, что все это очень серьезно, а товарищ Тихонов вовсе не имеет в виду чего-то другого… — Прекратите эти неприличные разговоры. Я официально заявляю, что вас здесь не было, и я вас вообще… плохо знаю… — Как плохо знаешь? — взвизгнул Козак. — Как не был? Как не был?.. Алешина зловеще сказала: — Вон отсюда, негодяй! Карлик! Тихонов почувствовал, как его затопила волна омерзения и злости. “Хорошо бы ванну принять”, — подумал он механически. Встал. Алешина подошла к нему: — Вы убедились, что его здесь не было? — Нет, не убедился. А все, что я видел здесь, — гнусно. Гнусно! — И быстрыми шагами вышел из квартиры. Козак понуро шагал сзади и негромко бормотал: “Я такой любвеобильный и добрый человек… Кто мог знать?..” Тихонов остановился и подождал его: — Слушайте, Козак, я не любитель заниматься доносами, по если я хоть раз еще услышу от вас слово “любовь”, я напишу любимой пятой жене письмо с описанием ваших похождений… — Не буду, — покорно согласился Козак. На остановке долго ждали автобуса. Тихонов совсем замерз и проклинал себя, свою работу, блудливость Козака, подлость Алешиной, зиму, автобусное расписание. В автобусе было совершенно пусто. Козак побежал к кассе с возгласом: — Я возьму билеты… — Мне не надо. Мне полагается бесплатный проезд. — Неужели? — пришел в восторг Козак. — А что же вы думали, что я к вашим дамам еще на собственные деньги должен ездить? — Нет, конечно. Это только справедливо. Минут десять молчали. Тихонов немного отогрелся, вспомнил испуганно-возмущенный вид Козака, и ему стало смешно. Козак, видимо, тоже успокоился и робко сказал: — Если вы только не передумали, товарищ Тихонов, и у вас не будет, упаси бог, неприятностей на службе, расскажите, пожалуйста, как вы узнали, что лежит у меня в карманах. Тихонов засмеялся: — Меньше о шашнях думать надо, тогда будете наблюдательней. В левом кармане ключи — вы продавили мне ими бок, сидя рядом в автобусе. Там у вас лежало еще что-то твердое, я все не мог понять. Но когда вы спрыгнули с подножки, загромыхали спички. Ясно? Когда мы шли по тротуару, в узких заснеженных местах вы прижимались ко мне правым боком и я ощущал какую-то гладкую плоскую поверхность. В пепельнице на столе я видел окурок папиросы с изображением трех былинных молодцов. Что же еще вам держать в кармане, как не “Три богатыря”? Перочинный нож? Ну, это совсем просто. Под столом валялась картонная коробочка из-под него с описанием всех его достоинств. Когда я пришел в номер, вы, как воспитанный человек, сразу надели пиджак. При этом я заметил, что левый внутренний карман у вас застегнут булавкой. Для надежности. Ясно, деньги. — Да, но откуда вы узнали, что лежит в бумажнике? — Проще простого. Железнодорожный билет и счет за гостиницу вы сохраняете для отчета. В гостинице надо оплачивать каждые десять дней, а живете уже тринадцать. Судя по куче свертков и пакетов на вашей кровати, вы покупали для дома разные разности. Чтобы не забыть чего-нибудь, жена дала вам списочек — из него вы вычеркивали уже купленное… — А пятнадцать рублей? — Заначка. На прощальный бал с Пусенькой. Все просто. — Незабываемо… — восхищенно сказал Козак. Тихонов сонно глядел в окно, задумчиво отбивая пальцем на замерзшем стекле только ему известный ритм. Потом спросил: — Послушайте, Козак, вы читать любите? Козак подозрительно покосился: — Вообще-то… как любой интеллигентный человек… то есть конечно… если есть время. — Понятно. А какой жанр вас больше привлекает? — Это даже трудно сказать, — замялся Козак, но сразу же воспрянул: — Мне близка интеллектуальная фантастика! Особенно английская. — Вы полагаете, что Брэдбери — англичанин? — Ха-ха! — сказал нервно Козак. — А что — нет? Впрочем, я всегда предисловие читаю потом, чтобы не создавалось предвзятое мнение. — Так какое же у вас сложилось непредвзятое мнение? — Великолепно, великолепно. Правда, я ее не дочитал еще до конца, потому что совсем недавно достал с большим трудом. Вы же знаете, как трудно достать Брэдбери! — Угу, — кивнул Стас… В центре Тихонов сошел. Он постоял на остановке, и со стороны могло показаться, что он забыл, куда ему надо идти. Стас достал из кармана какую-то схему из квадратиков, соединенных стрелками. Снежинки падали на листок и слабо искрились под неживым светом уличного фонаря. Стас стряхнул ручку и, прислонив книжку к столбу, стал аккуратно заштриховывать квадратик, где была вписана фамилия Козак. Зачеркнув половину, Стас остановился, подумал. Закрыл книжку, засунул ее глубоко в карман и медленно пошел домой. Была ночь, была уже среда, пятнадцать минут третьего.Следующая среда
1.
Винтовку, из которой убили Таню Аксенову, нашел в среду Савельев. Он позвонил Тихонову утром и сказал своим немного сонным голосом: — Але, Тихонов, это Савельев говорит. Я вроде бы винтовку ту самую нашел. Приезжай сюда, в отделение, с пацанами поговорить надо. Тихонов от такого сообщения немного обалдел: — С какими пацанами? — Приезжай, здесь потолкуем… — Я тебе все по порядку, — сказал Савельев. — Эксперимент, значит, наш вчерашний, шуму наделал много. Вес только об этом и толкуют. Пошел я “в люди”: народ-то взбудоражен — собираются все, обсуждают, каждый свою версию строит. Человек двадцать до вечера в отделение явилось — свою помощь предлагают, подозрения высказывают, ну и тэ дэ и тэ пэ. Захожу я в булочную, тут о том же разговор. Слышу — одна тетка другой подробно все происшествие излагает, а потом резолюцию накладывает: ничего, мол, удивительного, хулиганье распустилось… Вон Гафурова — дворника — сын Муртаза сегодня в обед притащил ружье и давай вместе с приятелем по птицам палить! Я, само собой, уточнил у тетки адрес, фамилию и — к Гафуровым. Вызвал тихо Муртазу, шепнул ему: “Ну-ка давай, мол, ружьишко свое!” Муртаза постеснялся немного, поотнекивался, слезу, конечно, пустил. Потом, само собой, объясняет: “Винтовка-то у приятеля, Сережки Баранова, лежит”. Пошли к Сережке. Там без лишнего шума эту винтовочку и изъяли. Калибр — пять и шесть десятых. Тот, что мы ищем. Оба пацана здесь, в разных кабинетах сидят. Разговаривать прямо сейчас будем? — Конечно, — рассеянно отозвался Тихонов, рассматривая винтовку. Обыкновенная пятизарядная винтовка калибра пять и шесть десятых миллиметра. Необычной была только деревянная ложа — короткая, грязно-белого цвета, выструганная, похоже, ив доски. — Побеседуй с Сережкой, — сказал Тихонов. — А мне давай Муртазу… Через порог ступил маленький плотный мальчишка лет четырнадцати. Он молча прошел к указанному Тихоновым стулу, сел, закрыл глаза и неожиданно громко заревел на одной низкой нудной ноте. Стас с интересом смотрел на него, ждал. Муртаза ныл довольно долго. Тихонов терпеливо дожидался. Муртаза осторожно приоткрыл один глаз, остро зыркнул из-под черной челочки. — Ну хватит, что ли? — сказал Тихонов. — Где ты это таким фокусам научился? — Нигде, — спокойно сказал Муртаза и открыл второй глаз. — Только не бейте, дяденька! — Что-о? — спросил удивленно Тихонов. — Не бейте, говорю. — Ладно, не буду, — усмехнулся Тихонов. — Ты запомни только — советских граждан никто бить не смеет. А ты — советский гражданин. Муртаза сразу приосанился, важно сказал: — А как же! Конечно. Я сам все расскажу. Тихонов поддержал: — Я в этом и не сомневаюсь — ведь тебе скрывать нечего? — Ага… — Муртаза собрал под челочкой мелкие морщинки, задумался. Черные хитрые глазки смотрели сосредоточенно. — Значит, было так. Иду я утром в школу, а по дороге машина снегоочистительная едет. Знаете, такая, снег передом загребает, а сбоку он, как из пушки, вылетает. Я, конечно, постоял, посмотрел. Ну, проехала эта машина, а снег по краю, как ножом обрезала. Гляжу, из сугроба срезанного, около дороги, какая-то гладкая палка торчит. Подошел поближе, стал ее из сугроба тащить, гляжу — винтовка! Жалко только — одно дуло было. Я обрадовался, хотя она и без приклада была. Побежал к Сережке Баранову — он хвастался, что у него патроны есть. Взяли мы с ним доску, обстрогали, приладили к дулу… — К стволу, — поправил Тихонов. — К стволу, — повторил Муртаза. — Все хорошо получилось. Ну, решили попробовать, как она стреляет… — Так-так… — Взяли патроны, зарядили винтовку и пошли во двор. — Когда? — спросил Тихонов. Муртаза подумал немного, быстро взглянул на Стаса. — Вчера. Ну, бабахнул я разик. По вороне… — Попал? — Не-е. Сережке дал стрельнуть — все-таки его патроны-то. Он попал. — В кого? — негромко спросил Стас. — В кого, в кого! В ворону! Она как раз в развилке на клене сидела… — А потом? — Потом все. Похоронили ворону и разошлись. Тихонов поднялся, походил по кабинету. Повернулся к мальчишке: — А в тот день, что винтовку нашел, ты в школу ходил? Муртаза горестно покачал головой и, тяжело вздохнув, сказал: — Сережка Баранов тоже не ходил… — А когда же все-таки ты нашел винтовку? — На той неделе. — Точнее? — Точнее? Так, в понедельник я был в школе, потом мы всем классом ходили в кино. А вот на другой день я школу и прогулял. Во вторник, значит, нашел. Сразу вместо школы к Сережке побежал… Тихонов переспросил: — А первый раз когда стреляли? — Я же говорю — вчера! — Ой ли? — покачал головой Стас. — А как же, — заторопился Муртаза. — Пока деревяшку приделали — два дня. Потом еще подождали… — Чего же это вы ждали? — насторожился Тихонов. Муртаза прищурил маленькие глазки: — А вдруг хозяин винтовки найдется? Увидит ее у нас и сразу отнимет! Подождали, подождали, а вчера и решили ее попробовать. — Значит, сколько же раз вы всего стреляли? — Так я же говорю — два раза, — нетерпеливо сказал Муртаза. — А сколько у Сережки патронов было? — Пять. — Остальные где? — Вот они, — мальчишка полез в карманы, вывалил на стол кучу очень полезных вещей: механизм от старых часов, круглую батарейку, несколько значков, моток тонкой проволоки, авторучку без колпачка. Глухо звякнув, на стекло выпали, поблескивая латунными гильзами, три патрона. — Ладно, — сказал Тихонов. — Кто твои родители? — Отец работает дворником в нашем доме. А мать — горничная в гостинице “Байкал”. — Подожди, подожди, — стал припоминать Тихонов. — Ее как зовут — Ханифя? — Да-а. А откуда вы знаете? — Ты же сам сказал. А к матери на работу ты ходишь? — Иногда хожу, — сказал Муртаза. — Денег на кино попросить или еще чего… — Ясно. А в прошлый понедельник ты у нее был? После кино? Муртаза опять задумался, потом неуверенно сказал: — Н-не помню. Я, кажется, до кино к ней заходил… Тихонов усадил Муртазу на скамеечку в коридоре, вызвал Савельева. Из его короткого рассказа Стас понял, что приятель Муртазы, Сережка Баранов, повторил объяснения Гафурова слово в слово. — Вот что, Савельев, — сказал Тихонов. — Ты сейчас свяжись с трестом благоустройства и на всякий случай проверь: работала ли пятнадцатого февраля снегоочистительная машина на Владыкинском проезде. Узнай, в какое время работала. И не забудь спросить, какая машина — плужная или шнековая? А я поеду с винтовкой в Управление. Пускай эксперты с пей поколдуют.2.
Баллистическую экспертизу проводил старый опытный эксперт НТО Шифрин. Его заключение было лаконично и недвусмысленно: “…Установлено совпадение индивидуальных особенностей канала ствола оружия и пули: ширины и крутизны следов от полей нарезов. Отмеченные признаки дают основание сделать вывод о том, что пуля, изъятая из тела Т.С.Аксеновой, стреляна из представленной на исследование винтовки номер БВ 806237, производства Тульского оружейного завода, обнаруженной у несовершеннолетних Гафурова и Баранова. Фототаблицы прилагаются”. — Ошибки не может быть? — недоверчиво спросил Тихонов. — А вы посмотрите фото, — пожал плечами Шифрин. — Сопоставьте разные таблицы и вы увидите, как совпадают мельчайшие детали оболочки пули и канала ствола. Пуля стреляна из этой винтовки — это так же верно, как то, что сегодня среда и вы стоите передо мной! — Хорошо, — сказал Тихонов. — Вы меня убедили. И я вам очень благодарен, Юрий Петрович. Вы себе даже не представляете, как нам сейчас важнополучить оружие, из которого было совершено убийство! — Почему не представляю, — добродушно сказал Шифрин. — Я шесть лет следователем работал. Потому так и старался. Стас помолчал, потом сказал: — Вы ведь почтовые марки собираете, да? Эксперт оживился, влез пятерней в густую черную бороду, скрывавшую изувеченный шрамами подбородок — след лабораторного эксперимента с самодельной миной, явно заинтересовался: — Собираю, собираю! Это все знают. А вы хотели мне что-нибудь показать? Стас засмеялся, обнял Шифрина за плечи: — Ничего подобного. Вы заслужили большего. Когда-то, еще студентом, я насобирал целый альбом всякого барахла. Но одна марка у меня есть по-настоящему ценная: Леваневский, 1935 год, с перевернутым штемпелем “Москва–Сан-Франциско”. В знак искреннего уважения к науке я ее вам дарю. — Этот подарок столь же щедр, сколь и неожидан, — растроганно сказал эксперт. — Но у меня нет сил его отклонить. Я даже не уверен, что смогу с вами расквитаться за этот царский подарок. Во всяком случае, я подумаю над этим вопросом. — Не надо думать над этим вопросом, — сказал Тихонов. — Потому что я хитрый. Я вам принес еще работу… — Где, какую работу? — засуетился Шифрин. — Вот три патрона. Их надо исследовать по вашей линии, но в основном с позиций судебного химика. Вопрос: имеют ли эти патроны что-либо общее с пулей Аксеновой? Эксперт подумал, что-то прикинул, сказал: — Результаты будут завтра, что-нибудь к обеду. Устраивает? Кстати, вы полагаете, что пуля Аксеновой и эти патроны — из одних рук? Тихонов хитро прищурился: — Срок меня устраивает. А вот свои предположения насчет патронов я пока оставлю при себе. Вы уж не обижайтесь, но я не хочу, чтобы ваша симпатия ко мне распространилась на выводы экспертизы. Знаете, когда хочется сделать приятное человеку… Шифрин засмеялся: — Не морочьте мне голову. Какого черта вам исследовать эти боеприпасы, если бы вы не подозревали, что они из одного источника? Но не сомневайтесь, я не меняю науку на симпатии, даже под бременем такой редкой марки…3.
В Дзержинском районном тресте благоустройства вежливая девушка-диспетчер сказала Савельеву, что у них ведется строгий учет уборки улиц. Посмотрев документы, она сообщила, что во вторник, пятнадцатого февраля, Владыкинский проезд очищался от снега с восьми до девяти утра шнеко-роторным снегоочистителем номер МОН семнадцать сорок шесть. — Вопрос исчерпан, — сказал Савельев вошедшему Стасу. — Снег действительно во вторник чистили, так что Гафуров не врет. — Снег-то чистили, — отозвался Тихонов. — Но вовсе не факт, что он взял винтовку в снегу. Давай проверять дальше. — А что еще проверять? — Смешно, по сейчас нам придется искать погибшую от рук этих злодеев ворону. А в ней — пулю. Одевайся, поехали. Мальчишки сразу показали место, где они закопали ворону. — Первый раз присутствую на такой эксгумации, — покачал головой Стас. Однако здесь их ожидало разочарование — ворона была прострелена навылет, пули не было. Тихонов уже хотел уезжать, но Савельев, у которого терпения почему-то всегда оказывалось больше, деловито спросил мальчишек: — Ворона-то где сидела, когда вы стреляли? — Вон, в развилке клена, — показал Сережка на старое ветвистое дерево. Савельев сказал: — Вы здесь минутку погодите, — и с озабоченным видом куда-то ушел. Вернулся он скоро, волоча за собой ветхую деревянную лестницу. Скинув свое замечательное розовое пальто на руки Стасу, Савельев приставил лестницу к дереву, ловко и быстро влез наверх и закричал: — Здесь? — Чуть повыше! — показал Муртаза. — И левее, — уточнил Сережка. Савельев достал из кармана носовой платок, осторожно обмел прилипший к коре снег, уткнулся носом в развилку. Глядя на его рыжую шевелюру, Тихонов улыбнулся: “Ну чистый дятел”. А Савельев продолжал методично обметать снег. — Есть! Вот входное отверстие виднеется. Выковыривать будем или как? — Или как, — отозвался Стас. — Будем выпиливать участок, где находится пуля. Слезай, надо достать инструменты и сходить за понятыми. Надевая пальто, Савельев досадливо морщился: — Скажи на милость, где сейчас понятых найдешь — на морозе-то стоять! Без них не обойдемся? — Нельзя, брат Савельев, — сказал Тихонов. — По закону вещественные доказательства с понятыми изымать надо. Значит, быть по сему!..4.
В коридоре Тихонов встретил худощавую подтянутую девушку — инспектора отдела разрешений. — Добрый вечер, Галочка, — сказал Стас. — А я как раз к вам собрался. Вы проверили тот номер, который вам Савельев днем принес? — Здравствуйте, товарищ Тихонов, — официально сказала девушка. — Задал же мне работки ваш Савельев! Ведь у нас винтовки числятся по фамилиям тех лиц, которым выданы разрешения на пользование оружием, поэтому все пришлось в обратном порядке проверять. Должна вас огорчить: винтовки, интересующей вас, на нашем учете нет и не было. Справочку пришлю завтра… “Этого следовало ожидать, — размышлял Тихонов по дороге к себе. — Вряд ли кто бросит на улице винтовку, зарегистрированную на его имя. Но владельца теперь уже надо найти во что бы то ни стало — адесь может начаться очень интересная ниточка”. Тихонов вошел в кабинет, включил настольную лампу — при неярком ее свете комната не казалась такой унылой. Достал из ящика стола записную книжку, полистал, снял трубку. — Алло, связь? Примите заказ на Тулу. Гормилиция, уголовный розыск, Хохлова. Хохлов отозвался сразу, как будто ждал звонка Стаса. — Привет, Толя, — сказал Тихонов. — Как жив? Вот и отлично. Толя, у меня к тебе срочная и очень важная просьба. Добро, ты же знаешь — за мной не пропадет. Так вот, слушай. Поедешь на оружейный завод, в отдел сбыта. У меня есть винтовка — ТОЗ-17 за номером Вера–Борис восемьсот шесть двести тридцать семь. Запиши. По этому номеру установи дату выпуска — раз. По дате выяснишь номер партии — два. По номеру партии тебе скажут, по какой накладной эта партия была отпущена — три. Ну, а по накладной уже легко установить получателя — четыре. Все понял? Номер винтовки записал? Значит, сделаешь? Понимаю, что не сегодня. Но завтра, старик, жду звонка обязательно. А копию накладной сразу же вышли фельдсвязью. Все, салют! Тихонов устало вздохнул и стал собираться домой.Следующий четверг
1.
“…Для комплексного химико-баллистического исследования представлены три объекта: № 1 — три патрона калибра 5,6 мм, изъятые у подростка Гафурова. № 2 — одна пуля калибра 5,6 мм, извлеченная из дерева по протоколу от 23 февраля 196* г. № 3 — одна пуля того же калибра, послужившая причиной смерти Аксеновой Т. С… …На основании результатов химико-баллистического анализа, приведенного в исследовательской части настоящего заключения, экспертиза приходит к следующим выводам: 1. Пули, взятые из объектов 1 и 2, абсолютно одинаковы по форме, твердости, весу и химическому составу и являются изделиями одной производственной партии. 2. Пуля, обозначенная как объект № 3, по твердости и химическому составу отличается от объектов №№ 1 и 2. С учетом особенностей технологии изготовления патронов можно категорически утверждать, что объект № 3 не относится к партии изделий, которой принадлежали объекты №№ 1 и 2. Эксперты: Шифрин Варламов” Тихонов отложил в сторону заключение экспертизы. Так, ясно. Похоже, что мальчишки здесь ни при чем: у них другие патроны. Если бы еще иметь уверенность, что Муртаза действительно стрелял по птице… Но этого патрона нет, и он безвозвратно потерян. Смешно получается: пока что все, кого мы подозревали, — невиновны: Панкова, Казанцев, Муртаза… Кто же преступник? И где он?..2.
Тихонов сидел за столом, опершись подбородком на сцепленные ладони, смотрел бессмысленно в окно… Остается минимальная надежда на винтовку. Может быть, удастся найти владельца и начать разматывать от него новую версию. Все старые можно считать исчерпанными. Врач Попов, Лагунов, Козак, Муртаза. Поиски людей, которые могли попасть на лестницу гостиницы, ничего реального не дали. Дальше искать негде. Нет следов. Вернее, не видно их. Следы должны быть, не может быть, чтобы убийца не оставил никаких следов. Ах, если бы можно было поговорить с Таней! Ведь она наверняка незадолго перед смертью уже все знала. Возможно, догадывалась, что ее хотят или могут убить. Или нет? Она не ребенок — наверняка бы заявила. Может быть, один из многих людей, с которыми я разговаривал, десять дней назад брал ее на мушку. А она шла спокойно, не знала. Вот оно: чужая душа — потемки. Не влезешь. Это тебе не Козака шерлокхолмскими фокусами удивлять. Скоро придется поехать к матери Тани и сказать: “Следствие по делу приостановлено из-за нерозыска преступника…” Зря ты живешь на земле. Ты ничего не созидаешь, ничто не рождается в твоих руках. Ты ешь хлеб за то, что бережешь людей от выползней. Не уберег. Выползней не нашел, не раздавил каблуком. Ушли обратно, скрылись… и снова придут — убьют, разорят, опаскудят. А что делать? Ну не виноват я! Не могу я рассматривать незримое, не могу ощупать бесплотное. Ведь я человек только, и я исчерпал все свои возможности. У меня мозг болит, как будто я выжал его рукой… Тихонов потер ладонями лицо, встал, походил по кабинету, подошел к окну, сел на подоконник. Из-под стекла поддувала холодная, тонкая, как лезвие, струйка. Снег, снег. Скорее бы весна, что ли! Тихонов повернул к струе воздуха разгоряченное лицо, закрыл глаза. Условимся, что преступник попал в круг моего поиска. Проскочить мимо него я мог по двум причинам: абсолютная маскировка или меня подвела проклятая заданность восприятия, аксиомы несчастные. Надо научиться в работе ничего не воспринимать заранее как неоспоримый, безусловный факт. У всякого факта может быть тьма интересных нюансов. А ведь кто-то же говорил с Таней вечером в понедельник. Во Владыкино ее, совершенно ясно, заманили. Но кто? Каким способом? И, самое главное, зачем? Нет, стой, стой, снова сбился с мысли. Начнем сначала. Приехала она из командировки в субботу. Отсюда снова поедем вперед. И каждый факт надо взять на ощупь. Надо выяснить все насчет командировки. Отправлюсь-ка я опять в редакцию. Беляков встретил Стаса теплее, говорил с ним вроде сочувственно. “Хороший видок у меня, наверное”, — подумал Тихонов. На Танином столе было уже пусто, аккуратно вытерта пыль и только под стеклом еще лежала фотография счастливо смеющегося космонавта с надписью “Доброму и умному товарищу, прекрасному человеку…” Беляков перехватил взгляд Стаса, извиняющимся тоном сказал, тяжело вздохнув: — Ничего не попишешь, жизнь продолжается… — Да, жизнь продолжается, — кивнул Тихонов. — Но в какой-то миг она остановилась. Нам надо вернуться к нему. Вы сказали мне, что Таня вышла на работу в субботу, двенадцатого, а командировка у нее была по десятое. Откуда это расхождение? — Разве? — удивился Беляков. — Я, честно говоря, не помню уже. Может быть, мы с ней договорились раньше. Не помню. — Постарайтесь вспомнить, это важно. — Вообще-то у нее были отгулы за дежурства, может она использовала? Не могу вспомнить, говорила ли она мне… — Напрягите память, свяжите с какими-то событиями! У вас же должна быть творческая ассоциативная память. Помните, как у Чапека: “О, шея лебедя, о, эта грудь…”? — Не помню, — развел руками Беляков. — Ладно, — сказал Тихонов. — Мы с вами в прошлый раз смотрели блокнот Аксеновой. Он у вас сохранился? — Да, я оставил его себе на память. — Одолжите его мне на несколько дней, — попросил Стас, — я его верну потом. С видимым сожалением Беляков достал из стола блокнот: — Только, пожалуйста, верните, не забудьте. — Хорошо, — сказал Тихонов, листая блокнот. Все то же самое. И в конце эти непонятные фразы. И фамилия “А.Ф.Хижняк”. — Вы не знаете, случайно, кто такой Хижняк? — спросил Стас, показывая Белякову запись. Тот близоруко щурился, долго внимательно смотрел, полистал страницы в обратном порядке, пожал плечами: — Тут полно разных фамилий. Она ведь со многими людьми встречалась. Вот здесь еще какие-то: Ли, Дербаремдикер, Синев, Громов… “Но Хижняк — последняя фамилия. Потом ее убили, — сказал себе Стас. — А может быть, здесь вообще никакой связи нет…” В бухгалтерии Стас долго рассматривал отчет Аксеновой по командировке, пытаясь вместе с Таней повторить маршрут. Билет на самолет Москва — Ровно, счет за шесть дней проживания в гостинице, железнодорожный билет в купейный вагон. Восстановим снова. В Ровно Таня прилетела третьего февраля. Счет в гостинице открыт тем же числом. Закрыт девятого. Минуточку, от третьего до девятого — семь дней. Значит, она поселилась в гостинице во второй половине дня и в первой половине уехала, — поэтому ей посчитали шесть дней. Поезд от Ровно до Москвы идет около суток. Если она уехала в середине дня девятого, то в середине дня десятого она должна была быть в Москве. А Галя, ее сестра, категорически утверждает, что Таня приехала в пятницу утром, — одиннадцатого. Где же еще она была почти целые сутки? Тихонов взял железнодорожный билет и внимательно посмотрел на свет. На темном квадратике картона были видны еле заметные светлые точки компостерных щипцов… — Этот билет выдан железнодорожной кассой станции Ровно на скорый поезд номер шестнадцать, который прибыл на наш вокзал десятого февраля в шестнадцать часов двадцать минут. Но в Брянске десятого числа билет был прокомпостирован на сутки. Затем его владелец сел в двадцать три сорок на московский поезд и прибыл в Москву одиннадцатого февраля в восемь часов утра. — Билетный кассир взглянул на отчужденное лицо Тихонова и добавил: — Нет, нет, вы не сомневайтесь, у нас четкий график и перевозки на учете. — Конечно, конечно, — согласился Тихонов и спросил: — А когда этот скорый прибыл в Брянск? — Сейчас посмотрим по расписанию, — кассир пробежал карандашом по колонке цифр, — десятого февраля в девять пятнадцать утра. — Спасибо… Тихонов вышел на привокзальную площадь. Часы на башне громыхнули четыре раза. Холодный сырой ветер с Москвы-реки хватал разгоряченное лицо. Тихонов, задумавшись, прошел остановку, вышел на Бородинский мост. Вода в реке не замерзла, коричневая, грязная, подернутая легкими клочками пара, она несла изгрызанные желтые глыбы льда. Тихонов стоял на мосту, облокотившись на перила, на едком пронизывающем ветру, и смотрел в темную рябую глубину. На мутном сморщенном зеркале воды он пытался начертить какую-то схему. Потом с остервенением плюнул вниз, как будто река скрывала все, будто она не пускала к истине… Почему Брянск? Причем здесь вообще Брянск? Брянск-то откуда здесь взялся?..3.
ТЕЛЕФОНОГРАММА Вх. № 83/1 Московский уголовный розыск Капитану милиции Тихонову …Винтовка выпущена заводом 23 января 1965 г. и по накладной № 231234 отправлена Брянскому облепортторгу. Инспектор Тульского уголовного розыска Хохлов Позвонив по телефону в Брянский облепортторг, Тихонов узнал, что эта винтовка в апреле 1965 года была продана городскому клубу ДОСААФ… СРОЧНО! В БРЯНСКИЙ УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК Управлением Московского уголовного розыска разыскивается владелец винтовки ТОЗ-17 № ВБ 806237, которая в апреле 1965 года была куплена Брянским городским клубом ДОСААФ. Необходимо установить, в чьем ведении находилась эта винтовка и каковы данные о ее местонахождении в настоящее время. О результатах проверки прошу известить нас незамедлительно. Начальник отдела Управления Московского уголовного розыска Шарапов4.
СРОЧНО! Начальнику отдела Московского уголовного розыска Шарапову Сообщаю, что винтовка ТОЗ-17 № ВБ 806237 действительно была приобретена 21 апреля 1965 года городским клубом ДОСААФ и использовалась для спортивно-стрелковых целей, находясь на ответственном хранении завскладом оружия Хомякова В.С. 29 июня 1965 года из помещения клуба были похищены различные предметы, в том числе и вышеуказанная винтовка. В ходе следствия установлен и разыскан гр-н Плечун С.Я., совершивший эту кражу. Плечун признал себя виновным и выдал следствию часть похищенных предметов, пояснив, что остальные вещи он в разное время продал нескольким лицам. В частности, похищенную винтовку Плечун продал на городском рынке за сорок пять рублей неизвестному мужчине, внешность которого он описать затрудняется. Плечун заявил, что при встрече мог бы опознать этого мужчину. Однако принятыми мерами розыска установить покупателя винтовки не удалось. Судьба оружия неизвестна, и оно находится в нашем розыске. При наличии данных о нем просим информировать Брянский уголовный розыск. Для сведения сообщаю, что Плечун содержится в Ярцевской исправительно-трудовой колонии, почтовый ящик 344… “Ну что ж, Стас, вот ты уже, как говорится, достиг определенных успехов: нашел своим брянским коллегам похищенное имущество”, — грустно подумал Тихонов. И “судьба” этого “имущества” — страшная судьба — стала известна. Вот так оно и нанизывается цепочкой: головотяпство в клубе, где не обеспечили сохранность оружия, потом некрупная и в мировом масштабе неважная кражонка, которую совершил мелкий жулик Плечун, потом этот неизвестный покупатель — на черта ему краденая винтовка? А потом — смерть Тани Аксеновой… Как уследить здесь, в этой цепочке случайностей, где начинается закономерное? В растяпе кладовщике? Нет. В воришке? Не похоже: сам он сидит в колонии, а винтовку еще раньше продал… Покупатель? Здесь начинается темнота. Что за любитель оружия такой? Осталась ли винтовка в его руках или путешествовала дальше? Неясно. Но мне нужен этот покупатель и его надо искать. Как хлеба ищут. Ну что ж. Примем первые меры… СРОЧНО! ФОТОТЕЛЕГРАММА Отдельное требование в порядке статьи 132 Уголовно-процессуального кодекса Начальнику Ярцевской исправительно-трудовой колонии Направляю нумерованные фотографии четырех мужчин. Прошу, с соблюдением требований статьи 165 УПК РСФСР, предъявить их для опознания гр-ну Плечуну С.Я., отбывающему наказание в Ярцевской ИТК. Материалы опознания вышлите в наш адрес: Москва, К-6, Петровка, 38, Управление МУРа. Начальник отдела Шарапов Тихонов открыл сейф, достал пачку фотографий, внимательно осмотрел их. Потом отобрал четыре, подколол их скрепкой к телеграмме. Подумал немного, взял из пачки еще одну фотографию и присоединил ее к первым четырем…5.
Брянск, Брянск. Значит, все-таки не случайно появился он в деле. Аксенова едет в командировку в Ровно, возвращаясь назад, останавливается на день в Брянске. Никто не знал, что она туда собирается. Вернувшись, никому не сказала о том, что была там. Через шестьдесят часов ее застрелили на пустынной тропинке во Владыкине из снайперской винтовки, украденной в Брянске и в Брянске же купленной неизвестным. Слишком много совпадений. Никто из прошедших по делу людей в Брянске не живет. И все-таки искать надо, видимо, там. От недосыпания и напряжения остро резало глаза. Стас нажал кнопку настольной лампы — и полумрак раннего зимнего вечера, слегка подсвеченный голубыми уличными фонарями, затопил кабинет. Выход должен быть, он где-то рядом. В Брянске? Вероятно. Но после записей в блокноте с фамилией Хижняк идет жирная черта. И такая же черта перед ровенскими записями. Так что скорее этот Хижняк в Ровно, чем в Брянске. О чем там в блокноте?.. “Микробы проказы живут пятнадцать лет… Открылся слив для всех человеческих нечистот… Трусость — детонатор жутких поступков…” Это в предпоследнем блокноте. А в последнем, из сумки? Подожди, подожди, там есть что-то похожее. Так: “…Страх растворяет в трусах все человеческое… Белые от злобы глаза…” Рисунок человеческой фигуры… “Корчится бес”. Нет, уверен, что все это связано какими-то глубинными каналами с Хижняком. Так где же он — Хижняк — в Ровно или в Брянске? Интересно, это у него “белые от злобы глаза…”? Искать надо начинать с Ровно. Думаю, там Аксенова решила ехать в Брянск.Следующая пятница
1.
— Просыпайся, молодой человек! Чай проспишь. Тихонов открыл глаза и сразу зажмурился — так ослепительно сверкало солнце в безбрежной белизне полей. Он потер руками глаза, привычно провел ладонями по лицу, тряхнул головой. Пожилая проводница добродушно улыбалась, стоя в дверях купе: — Ну что умываешься, как киска после еды? — Для красоты. А кстати, мамаша, вы не знаете, почему “после еды”? — Как же. Сказка есть такая. Поймала кошка мыша и приготовилась его кушать. А мышь давай ее совестить — как же ты, мол, не умывшись, есть собираешься? Послушалась кошка, отпустила мыша и стала умываться, а он — ноги в руки… Теперь кошки только после еды умываются. А ты вот можешь чай свой проумывать… — Чай — ладно, — засмеялся Тихонов. — Мне бы мыша своего не проумывать. — Оперся на полку и спрыгнул вниз. В туалете под полом вагона особенно громко стучали колеса, изредка взвизгивая на крутых поворотах. Тихонов долго полоскался и фыркал под холодной водой, докрасна вытер лицо и руки, причесал жесткий ежик волос. Посмотрел в забрызганное зеркало и подумал: “Побриться бы сейчас — в самый раз”. Но бритвы не было. Впрочем, не было у него с собой не только бритвы. Вообще ничего не было. Он не успел заскочить домой и уехал на вокзал прямо с Петровки. Проводница, проверяя у дверей вагона билет, удивленно спросила: — А багаж? Тихонов ухмыльнулся: — Иметь некрасивые чемоданы — признак дурного тона. Поэтому я обхожусь без них. Проводница взглянула на него подозрительно и сунула билет обратно: — Третье купе. Стас вошел в купе, лег на полку, и стук колес электровоза слился с его первым хриплым сонным вздохом… Вместе с ним в купе ехали трое: старичок бухгалтерского вида и молодая женщина с дочкой лет восьми. Девочка читала книжку “Сказка среди бела дня”, старательно водя пальцем по строкам, мать вязала. Старичок непрерывно заглядывал в какой-то толстый справочник и все время что-то вычислял карандашом на бумажной салфетке, удовлетворенно похмыкивая время от времени. Отрывался от этого занятия он только для того, чтобы послушать по радио последние известия. Тихонов, усевшись в углу, с удовольствием пил крепкий сладкий чай, пахнувший немного дымом. Проводница снова открыла дверь, с сомнением посмотрела на него: — Печенье брать, конечно, не будешь? Чтобы немного поддержать свою поломанную на корню репутацию, Тихонов спросил: — А бутербродов с черной икрой у вас нет, случайно? — Не бывает, — гордо сказала проводница. — Жаль, ах, жаль. Пяточек к завтраку сейчас было бы уместно. Несите тогда печенье. Две пачки… Девочка оторвалась от книжки, посмотрела на Тихонова строгими глазами: — Дядя, а ямщик — это извозчик? — Извозчик, — кивнул Стас. — Извозчик-дальнорейсовик. Старичок, прижав палец к губам, сказал: — Тише! “Маяк” передавал последние известия. Дослушав, старик улыбнулся, и лицо его, потеряв выражение озабоченности, вдруг стало добрым, почти ласковым. Он показал на справочник и сказал торжествующе: — Великая книга. Это сводный железнодорожный справочник за нынешний год. Придумывая неожиданные маршруты перевозок, можно с помощью этого справочника обеспечить индивидуальными арифметическими задачами каждого школьника страны. Например, сколько будет стоить и сколько потребуется вагонов, чтобы перевезти из Мурманска во Владивосток пятьсот тонн апельсинов, тысячу тонн нефти и тысячу восемьсот кубометров леса? А-а? — Действительно, очень интересно возить апельсины из Мурманска во Владивосток, — сказал Стас. Женщина с вязаньем улыбалась. Видимо, старичок уже вдоволь побеседовал с ней на все темы и жаждал новой аудитории. — Вот посмотрите и убедитесь сами, — протянул он Стасу справочник. — Сейчас, доем только печенье, — покорно сказал Стас. От ознакомления со справочником, видимо, было не отвертеться. Он полистал толстую, отлично изданную книгу. С картами, графиками, подробными расписаниями. Стас остановился на крупномасштабной карте-плане Киевской железной дороги, стал внимательно всматриваться и тихо охнул. — Что? Говорил я вам, что не оторветесь? — ликовал старикан. — Не оторвусь, не оторвусь, — быстро сказал Стас, лихорадочно листая справочник в поисках карты административного деления. Наконец нашел, посмотрел, вернулся обратно и сравнил с картой-планом, потом ногтем отметил точку на административном разноцветье маленького портрета страны. Дверь отъехала в сторону и проводница сказала Тихонову: — Через десять минут — Ровно. Вам сходить… За окном замелькали пакгаузы, старая водокачка, вагоны-дома путейских рабочих. На стрелках судорожно забились, затарахтели колеса… СРОЧНО! ТЕЛЕГРАММА Москва, Петровка, 38, Шарапову Незамедлительно сообщите в адрес Ровенского уголовного розыска, кому была выдана в народной библиотеке имени Чехова книга Рэя Брэдбери “Фантастические рассказы”. Книга подарена библиотеке читательницей Суламифь Яковлевной Панкиной. Тихонов2.
Человека по фамилии Хижняк Тихонов нашел быстро. Депутат райсовета Анна Федоровна Хижняк работала старшей аппаратчицей на Ровенском химическом комбинате. — Недели две назад с ней разговаривала журналистка из Москвы, — сказал Тихонову председатель месткома. — Хотела написать о ней и не успела — трагически погибла. В газете сообщение было вместе с очерком о нашем комбинате. Хорошо, душевно написала. Как же это она погибла? Под машину попала? — Есть много разных способов трагически погибнуть, — пожал плечами Стас. — А как увидеться с Анной Федоровной? — Она сегодня должна была вернуться из Киева. К сыну ездила на зимние каникулы — он у нее студент-дипломник. Адрес в личном столе найдете. Хижняк жила в старой части города, в небольшом деревянном доме. Когда Тихонов вылез из такси, уже перевалило за полдень. Он постучал в дверь, обитую старым дерматином и тряпочными полосками, и кто-то теплым мягким голосом крикнул в доме: — Подождите, подождите, сейчас открою… Загремела щеколда, и из-за открытой двери ударил в лицо запах молока и свежего хлеба. У женщины было молодое, еле тронутое морщинками лицо и совершенно белые волосы. Туго затянутые в косу на затылке, они сидели на голове, как серебряный шлем. — Анна Федоровна? — Да. А вы ко мне? — Я хотел поговорить с вами… Полы в комнате были белые, дощатые, выскобленные до стерильной чистоты. Тихонов посмотрел с сомнением на свои облепленные снегом ботинки, но женщина добродушно засмеялась: — Заходьте, заходьте. Все одно — убирать, во всем дому грязь. Только сегодня приехала — у сына в гостях десять дней была. На стене висела фотография красивого смуглого парня, и Тихонову вдруг показалось, что он уже где-то видел это лицо. — Простите, Анна Федоровна, а когда вы поехали к сыну? — Во вторник прошлый. А что? — встревожилась женщина. — Нет, я просто так спросил. — Тихонов понял, что она не знает о смерти Тани — в дороге разминулась с газетным сообщением. Он помедлил и сказал: — Анна Федоровна, я из Московского уголовного розыска. Привело меня к вам печальное событие… — Что? Случилось что? — Хижняк стала медленно бледнеть. — Вы помните Таню Аксенову? Хижняк что-то хотела сказать, но горло сдавило, она сглотнула тяжелый ком, кивнула: — Одиннадцать дней назад она погибла… — Убил. Убил! Убил, проклятый!..3.
Стас огляделся. Ночная улица была пустынна, голые черные ветви деревьев покачивались под порывистым холодным ветром, редкие неяркие фонари с трудом рассеивали вокруг себя мрак. Стаса знобило. На вокзал, надо скорее на первый же поезд. Как назло, ни одного такси не видать. Тихонов шел размашистым шагом, все быстрее и быстрее, потом побежал. В груди что-то противно екало и свистело, остро закололо под лопаткой. “Пуля давит, — подумал Стас. — Ничего, она не опасная. Больно потому, что она на плевру давит. Нет, она уже не опасная. Как это врач сказал — она “покрылась капсулой”. Слово противное — “капсула”. Ничего, еще метров пятьсот пробежать можно. Скоро все уже кончится… Надо успеть на московский ночной экспресс…” Он бежал и бежал, уговаривая себя потерпеть еще до следующего фонаря, потом до следующего, п еще до одного. Брызгал из-под ног грязный жидкий снег, глухо цокали подковки на каблуках, и над переулком разносился сухой хрип легкого, разорванного пулей два года назад… В комнате милиции на вокзале сидел мужчина в сером коверкотовом костюме. — Из Москвы? Надо помочь — поможем. А вы пока присядьте. Тихонов опустился на полированную, очень неудобную скамейку с резной надписью “МПС”, прикрыл глаза. Он тяжело дышал, вытирая ладонью пот с лица. Мужчина снял трубку и негромко сказал: — Зина! Майор Сударев позвонил. На семьдесят первый один билет в двухместное купе, быстренько! Как это нет? Знаю, знаю, для проводниц оставляете, чтобы их пассажиры не беспокоили… А если проверю? Что? Нашлось уже? Ну и чудненько. Сейчас к вам товарищ Тихонов подойдет… Повернулся к Стасу, объяснил: — Подойдите к седьмой кассе, получите билет в отдельное купе. Я вижу — вам давно пора спокойно выспаться… — Спасибо. Помогите мне добраться до горотдела. Мне очень срочно надо позвонить по междугородной. — Элементарно, — сказал Сударев и вызвал дежурного сержанта: — Пахомов, заведи мотоцикл, подбрось товарища на Гончарную. Через десять минут Стас уже разговаривал по телефону с начальником Ярцевской колонии. — Опознание провели, — бился в мембрану далекий окающий голос. — Плечун без всяких сомнений опознал на фотографии номер три человека, который купил у него винтовку… Тихонов положил трубку и снова разгладил на столе телеграмму Шарапова: “Книга Рэя Брэдбери “Фантастические рассказы” выдана 26 января с/г. Т.С.Аксеновой”.Следующая суббота
1.
К Брянску поезд подошел в шесть часов утра. Было еще темно и только на востоке рассвет уже начал размывать густую синеву неба, стирая с него звезды, как капли со стола. На перроне царили сутолока, гомон, метались фонари проводниц. Тихонов вышел на вокзальную площадь, огляделся и направился к автобусной станции. Кассирша с сожалением сказала: — Ваш автобус ушел двенадцать минут назад. Следующий отправляется в десять ноль пять. Тихонов про себя чертыхнулся, спросил: — А согласовать автобусное расписание с железнодорожным никак невозможно? Девушка развела руками: — Это не от меня зависит. — Я понимаю. Просто, когда спешишь, торжествует принцип максимального невезения. — Какой, какой принцип? — Максимального невезения: бутерброд всегда падает маслом вниз. Девушка улыбнулась: — А если все-таки вверх? — Значит, он упал неправильно… Тихонов шел малолюдной улицей, негромко ругался и размышлял, где ему провести оставшиеся четыре часа. На углу ярко светилась вывеска “Баня”. Пожалуй, это был хороший выход из положения. В вестибюле остро пахло земляничным мылом и березовыми вениками. Тихонов заплатил за ванный номер, вошел в небольшую кафельную комнатку, щелкнул замком, пустил горячую воду. Вода с шипением бежала по эмалевым стенкам ванны, закручивалась в булькающий, пузырчатый водоворот у стока. Стас снял пиджак, опустившись на кожаный диванчик, устало слушал бормотание и шелест воды. На живот тяжело давила рукоятка пистолета, вылезшая из открытой полукобуры. От нервного возбуждения он всю ночь не сомкнул глаз и теперь сонная одурь теплым паром заволакивала голову. Стас быстро разделся, влез в воду и незаметно для себя задремал… …Учителя Коростылева он встретил жарким июльским полднем, прогуливаясь с майором Садчиковым по улице Горького. У Стаса еще дергался глаз, контуженный пулей Крота-Костюка, но настроение было прекрасное, и Садчиков подсмеивался над ним: — В п-погонах новых щегольнуть охота? Коростылев стал совсем старый. Он говорил тихо: — Эдик Казарян уже ведущий конструктор. А Слава Антонов стал кандидатом паук. Атомщик. Стасу послышалось в голосе Коростылева осуждение. И он, словно оправдываясь, с вызовом сказал: — А я стал капитаном! Садчиков усмехнулся: — Каждый к-кулик свое местожительство хвалит. Коростылев спросил его: — А вы там же работаете? Садчиков кивнул. Стас, как будто извиняясь за то, что Садчиков не кандидат атомных наук, сказал Коростылеву: — Он уничтожил банду знаменитого Прохора… Учитель помолчал. Ветер трепал его редкие седые волосы, и Стас боялся, как бы они все не улетели. Потом Коростылев улыбнулся: — Я доволен тобой. Вы делаете очень важное — караете зло. Прощать содеянное зло так же преступно, как и творить его. — М-мы не караем. Закон карает. М-мы только ловим, — сказал Садчиков и отвернулся. Стас почему-то разволновался тогда и, чтобы скрыть это, сказал: — Все замечательно. Одна беда — не можем определить свое место в споре между физиками и лириками… Вода в ванной остыла, и Стас проснулся от холода. Он пустил на себя из душа струю горячей воды, гибкую и упругую, как резина. Потом вылез и долго сидел на диванчике, завернувшись в простыню, осторожно поглаживая багрово-синеватый шрам на груди. Не спеша оделся, взглянул на часы: стрелка подползла к девяти. Он перекинул через плечо ремешок с петлей, достал “Макарова”, оттянул затвор, дослал патрон. И повесил пистолет в петлю слева под мышкой. …Автобус, перемалывая толстыми шинами бугры наледей, въехал на площадь. Кондукторша сказала: — Пойдете прямо по этой улице, за третьим кварталом направо — улица Баглая. Тихонов огляделся. Часы на здании горисполкома показывали половину второго. Прилично потрясся в автобусе. Стас направился в горотдел милиции. За двадцать минут он договорился с начальником уголовного розыска, как расставлять людей, когда прислать машину. Вышел на улицу и вдруг с удивлением заметил, что больше нет ни азарта погони, ни возбуждения, ни страха. Сейчас он пойдет и возьмет этого бандита. И все произойдет буднично, даже если тот попробует стрелять. Он посмотрел на вялое зимнее солнце, беззащитное, на него можно смотреть, не щурясь, провел холодной ладонью по лицу и вспомнил, что так же прикоснулась к его лбу Танина мать, повернулся и потел на улицу Баглая. Он даже не посмотрел, есть ли в доме двадцать девять черный ход, а прямо постучал в дверь и сказал вышедшей женщине: — Здравствуйте. Хозяин дома? — Заходите, он скоро придет. Суббота сегодня — он в баню пораньше пошел. Женщина открыла из прихожей дверь в столовую, пропустила Стаса, сказала: — Жена я. Нина Степановна зовут. — Очень приятно. Тихонов, корреспондент из Москвы. — Пообедать хотите или самого подождете? — Из кухни доносился запах пирогов и жареного мяса. — Спасибо. Мы лучше сначала побеседуем, — сказал Стас и подумал: “Диеты у нас с ним разные…” Нина Степановна сказала: — Сам-то важен стал. Недавно уже приезжала к нему корреспондентша. Из Москвы тоже. Не застала только — в районе был. — Знаю, — кивнул Стас. — Из нашей газеты. С вами разговаривала? — Да, проговорили три часа. Не дождалась, расстроенная была. А сам, то же самое, как рассказала о ней, расстроился, что не застала. Да, знамо дело, всем разговоры приятные вокруг себя охота слышать, да и работяга он большой — статья об нем авторитету бы прибавила… — Это уж точно, — сказал Стас. — Корреспондентка книжку у вас здесь не забывала? Просила захватить, если сохранилась… Хлопнула входная дверь. Тихонов выпрямился, сунул руку под пиджак, щелкнул предохранителем “Макарова”. Женщина сделала шаг к двери. — Стойте! — свистящим шепотом сказал Стас. — Стойте на месте… Женщина обомлела. Распахнулась дверь. — Заходите, Ерыгин, я вас уже час дожидаюсь. Вошедший автоматически сделал еще один шаг, сказал: — Здрасте, — и судорожно обернулся. Стас больно ткнул его стволом пистолета под ребро и сорвавшимся на фальцет голосом крикнул: — Ну-ка, ну-ка, без глупостей! — Вздохнув, сказал: — Я за вами две недели не для того гоняюсь, чтобы сейчас еще кросс устраивать… Женщина, оцепенев от ужаса, прижалась к стене. Из кухни нанесло чад подгорающего мяса. — Вы, Нина Степановна, займитесь пока на кухне, а мы с вашим супругом побеседуем. На крыльце затопали тяжелые шаги. Стас, прижав к бедру наведенный на Ерыгина пистолет, отскочил к столу, чтобы видна была входная дверь. Громыхнула щеколда, и вошли три милиционера. Стас облегченно вздохнул и подумал: “Вообще-то глупость, конечно, была — идти за ним одному. Он же меня соплей перебить может. Расчет на внезапность оправдался…” — Что, Ерыгин, здесь говорить будем или прямо в Москву поедем? Ерыгин разлепил сразу запекшиеся губы, хрипло сказал: — Не о чем мне с тобой говорить… Стас кивнул милиционерам: — Наручники…2.
Тихонов вышел на трап первым, за ним — Ерыгин, которого придерживали сзади два оперативника. Они шли из носового салона, и пассажиры, выходившие из двери у хвоста самолета, удивленно и испуганно смотрели на эту молчаливую группу. Внизу, у первой ступеньки трапа, стоял, расстегнув пальто, заложив руки в карманы, широко расставив ноги, Шарапов. И Тихонову вдруг захотелось побежать по лестнице ему навстречу, обнять и сказать что-нибудь такое, что завтра ни за что не скажешь. Не спеша спустился, усмехнулся, протянул руку: — Здравствуйте, Владимир Иванович. — Кивнул через плечо. — Вот и нашел я его все-таки… Шарапов и не взглянул на убийцу. Не отпуская руки Стаса, он смотрел на него своими чуть раскосыми монгольскими глазами. Потом сказал медленно, и слова будто падали на бетон тяжелыми мягкими гирьками: — Я рад, сынок, что это тебе удалось, — он сделал паузу и добавил, хотя Стас заметил, что Шарапову не хотелось этого говорить: — Если бы ты его не взял, тебе жить дальше было бы нелегко… Аэропорт был похож на огромный светящийся кусок сахара. Прожектора высвечивали серебристые сигары самолетов, искры вспыхивали на полосках снега между бетонными плитами, тускло светились огни в черном лаке оперативных “Волг”. Шарапов посмотрел в серое, безжизненное лицо Ерыгина и сказал оперативникам: — Поезжайте с ним в первой. Ерыгина посадили в машину, вырвался белый дымок из выхлопной трубы, и машина рывком ушла в ночь, на шоссе, в Москву. Шарапов открыл дверцу второй “Волги”. — Влезай, я за тобой. Шофер Вася сказал: — Здравствуйте, Станислав Павлович! Мы вас заждались. — Не говори — два дня не был, — улыбнулся Стас и почувствовал, что все кончилось, что он — дома… Мелькали черные деревья на обочинах, вдалеке горели огоньки на шпиле Университета. “Волга” со свистом и шелестом летела по пустынному ночному шоссе. Голос Тихонова звучал надтреснуто: — В принципе мы с вами не ошиблись, Владимир Иванович, предположив, что причина смерти Тани скрыта в ее личной жизни. Но мы не знали этого человека и поэтому канцелярски сузили понятие личной жизни. Вы понимаете, для Тани не было чужих болей и бед, они становились ее личными бедами, частью ее личной жизни. Так и получилось, когда она познакомилась с Анной Хижняк. А жизнь Хижняк — отдельная страшная трагедия, за которую надо было бы само по себе расстрелять этого бешеного пса. Вот послушайте. Анна Хижняк вышла замуж за местного счетовода Ерыгина прямо перед войной. И как только в Здолбунов — это под самым Ровно — пришли немцы, Ерыгин отправился к ним и предложил свои услуги. Парень он был здоровый, незадолго до войны стал чемпионом города по стрельбе. Ерыгина взяли в карательные войска СД, и он прославился неслыханной жестокостью. Скоро стал командовать расстрелами евреев, советских и партийных работников. Мне рассказала Хижняк, что Ерыгин выстраивал в шеренгу и с большого расстояния из карабина беглым огнем валил людей через одного. Это называлось у него “расчет на первый-второй”. В середине сорок второго года Ерыгин получил серебряную медаль “За заслуги перед рейхом” и нашивки ротенфюрера. Он каждый день приходил в дом ее матери, куда Анна убежала от него с крошечным ребенком, издевался над нею и бил. А когда понял, что она не вернется к нему, сдал ее в фельджандармерию как связную партизан. Шесть дней просидела она в камере, ожидая виселицы. На седьмую ночь в Здолбунов нагрянули партизаны, сожгли дотла комендатуру, перебили всех немцев и полицаев, а арестованных освободили. Она ушла с шестимесячным сыном к партизанам, уверенная, что этого изувера убили вместе с остальными бандюгами. Да выжил, сволочь, сменил фамилию, окопался, женился и осел на глубинке. Прошло двадцать четыре года, и в руки Анны Федоровны случайно попадает газета с групповым снимком передовиков. И в одном из них она узнает Ерыгина. Причем подписи под снимком нет. Знаете, как дают иногда — “участники совещания обсуждают…” Это произошло за неделю до встречи с Таней. А Таня должна была о ней очерк написать. И, видимо, здорово она умела с людьми разговаривать. Поговорили, поговорили, не выдержала Хижняк, расплакалась и рассказала ей все. А до этого — никому ни полслова. Там, понимаете, возникла страшная коллизия. Сын вырос, в этом году кончает Киевский университет. И до сего дня уверен, что отец его геройски погиб на фронте. Она специально после войны все бросила, уехала из Здолбунова, чтобы кто-нибудь не рассказал пацану о том, кем был его отец. Я ее хорошо понимаю — это для парня было бы никогда не заживающей раной. И вот рвется Хижняк на части — надо бы пойти, заявить, проверить, не ошиблась ли она. А с другой стороны, боится — вдруг не подох он тогда, жив, арестуют его — процесс громкий, в газетах все. Сын, счастье единственное, проклянет ее за то, что скрыла от него такое. А через месяц — распределение у парня. И все же Таня убедила ее, что молчать нельзя. Но поскольку Хижняк не была полностью уверена, что на фотографии именно Ерыгин, Таня вызвалась по дороге заехать и проверить — это же по пути, два с половиной часа на автобусе от Брянска. Вот так появился лишний день в командировке Аксеновой. Таня сошла с поезда в Брянске, по газетному фотоснимку с помощью местной редакции легко установила Ерыгина и поехала к нему… Машина промчалась мимо щита снадписью “Москва”, зашелестела по Ленинскому проспекту. Шарапов слушал сосредоточенно, ни разу не перебил. …— На месте его не оказалось — в районе был. Аксенова объяснила жене, что она — корреспондент, стала беседовать с ней. И тут Таня допустила ошибку. Жена, очень простая, тихая женщина, добросовестно пересказала Ерыгину содержание их разговора. Как я понял, его насторожили три вопроса Тани: давно ли они женаты, где он был во время войны и жил ли раньше Ерыгин в Здолбунове. И этот старый волк сделал стойку. Таня сама не была уверена в том, что она нашла подлинного Ерыгина. Очень тонкая, деликатная, она не решилась обратиться в официальные органы с предложением проверить подозрения Хижняк. Боялась оскорбить человека таким жутким предположением. Тем более жена сказала, что он через пару дней собирался поехать по делам в Москву. Таня оставила для него записку со своим телефоном и попросила срочно позвонить ей по очень важному делу. И тогда он положил в чемодан купленную в Брянске у воришки винтовку… Тихонов помолчал, долго смотрел в окно, потом сказал: — Я вот все думал — зачем он купил тогда винтовку? На всякий случай? Вряд ли. Прошли недавно большие процессы над пойманными изменниками, и он точно знал, что ни под какую амнистию не подпадет… “Волга” с визгом прошла поворот с бульвара и выскочила на уже безлюдную ночную Петровку, затормозила у ворот. Шарапов и Тихонов вылезли, постояли, глубоко вдыхая холодный чистый воздух. Шарапов достал пачку сигарет, спросил: — Может, закуришь? Тихонов пожал плечами: — Давайте испорчу одну за компанию. Они стояли, прислонясь к ограде, и курили, и постовой удивленно смотрел на них. Шарапов бросил окурок в снег, взял Тихонова за руку: — Пошли, Стас. Еще немного. Они поднялись в кабинет Шарапова и он, не снимая пальто, подошел к телефону, коротко бросил: — Ведите. Сидели, молчали, смотрели друг на друга и думали каждый о своем, оба об одном и том же. До тех пор, пока в коридоре не раздался тяжелый размеренный стук шагов. Так шагает конвой. Он вошел в дверь боком, так и стал посреди комнаты, сбычившись, с ненавистью глядя на них. Молчали долго, и Тихонов потом не мог вспомнить: как это было долго — час или минута. И все в комнате было пронизано такой взаимной ненавистью, что Стасу показалось, будто окна не выдерживают ее тяжести и тонко дрожат. Наконец Шарапов сказал: — Ну, Лагунов–Ерыгин, будете каяться или пойдете в суд на одних следственных доказательствах? Лагунов хрипло выдохнул: — Какие еще, к хренам, доказательства у вас есть?! — Расскажи ему, Тихонов, про доказательства. Стас, не поднимая глаз от пола и методически отстукивая ногой такт, монотонным голосом, будто читая обвинительное заключение, рассказывал: — Четырнадцатого февраля, в понедельник, около половины шестого, вы позвонили Тане Аксеновой в редакцию и уговорили ее приехать в гостиницу. Заодно, мол, забрать и забытую ею книжку. Это было через несколько минут после того, как Козак уехал. Таня приехала около семи часов. За это время вы достали из чемодана, собрали ствол и приклад винтовки. В это время дежурная по этажу сдавала белье, в коридоре ходило много народу, поэтому приход Тани остался незамеченным. Вы беседовали с ней немногим более часа, и Таня окончательно поняла, что никакой вы не Лагунов, а именно скрывавшийся больше двадцати лет Ерыгин. Но она не сумела этого скрыть от вас, и вы поняли, что прямо из гостиницы она пойдет в КГБ или к нам. Тогда вы окончательно решили, что положение безвыходное, терять вам нечего — за прошлые зверства все равно полагался расстрел. Вы уже знали, что, выйдя из гостиницы, Таня пойдет перед вашими окнами по пустырю. Затворив за ней дверь, вы заметили, что в коридоре по-прежнему нет дежурной. Вы заперлись, включили на полную мощность радио, погасили в комнате свет, отворили верхнюю фрамугу и встали на стул, оперев ствол винтовки на оконный переплет. Вы хотели застрелить Таню на середине пустыря — это место просматривается лучше всего. Но прямо за нею по тропинке шел мужчина по фамилии Казанцев, и он сразу бы увидел, как она упала. Поэтому вы дождались, когда он обогнал ее метров на пятнадцать, и нажали спусковой крючок. В этот выстрел было вложено все ваше бандитское мастерство. Впрочем, вы и не сомневались, что убьете ее наповал. Опыт большой. Выстрел услышать никто не мог — у этих винтовок негромкий бой, — а шум радио погасил и его. После этого вы разобрали винтовку, спрятали под пальто ствол и приклад, тихо открыли дверь и выглянули в коридор. Там по-прежнему никого не было. Вы захлопнули дверь, быстро подошли к столу дежурной и оставили ключ от номера. Потом вернулись назад — к черному ходу, спустились по лестнице вниз и вышли во двор, а оттуда — на стоянку такси около гостиницы “Заря”. По дороге засунули в глубокий сугроб ствол и приклад. Из взволнованных разговоров прохожих об убийстве на пустыре вы поняли, что беспокоиться вам нечего — вы послали пулю точно. Сев в такси, вы поехали в Большой театр. Вы приехали в начале десятого и полчаса ожидали конца спектакля, после чего спросили у кого-то из выходящих зрителей программку и билет. Снова взяли такси и вернулись в гостиницу. Здесь вы уже постарались максимально обратить на себя внимание горничной Гафуровой, вплоть до того, что пели: “О дайте, дайте мне свободу”. План удался, и Гафурова впоследствии охотно подтвердила ваше алиби. После этого вы решили не дергаться, а сидеть и ждать. Вообще-то вам ничего другого и не оставалось, потому что, я уверен, вы не смогли узнать у Тани, как она нашла вас. Если бы вы поняли, что на след навела Хижняк, вы тотчас же поехали бы в Ровно, чтобы убрать этого опасного свидетеля. В разговоре со мной вы осторожно и ловко намекнули на Козака, а потом успокоились окончательно. Правда, здесь вам здорово помог сам Козак. Своей дурацкой хвастливостью он чуть не сбил меня с толку, когда наврал, что книга Брэдбери принадлежит ему. К сожалению, я поздновато сообразил, что он просто хотел продемонстрировать свою интеллигентность… И все-таки несколько ошибок вы сделали. Вы слишком настойчиво акцентировали, что ваш Кромск — в Орловской области. Когда я поинтересовался этим, то узнал, что Кромск — хоть и в Орловской области, но расположен гораздо ближе к Брянску, чем к Орлу. И зря вы так на виду держали книгу, подаренную московской библиотеке Суламифь Яковлевной Пайкиной. Но все это — детали. О них разговор будет потом. Сейчас мы вас спрашиваем: вы хотите рассказать нам о своих преступлениях? — Хочу, — сглотнул слюну Лагунов. — Хочу. Хочу сказать, что мало, мало вас стрелял! Сколько смогу… — Не сможешь, гад! — сказал Шарапов. — Отстрелялся! — И кивнул конвою: — Уведите… Затихли в коридоре шаги. Шарапов посмотрел на Тихонова. Стас сидел, закрыв глаза, шевеля неслышно губами… — Поехали домой, Стас. — Сейчас, — встрепенулся Тихонов. — Подождите только минутку, я хочу зайти к себе, посмотреть одну бумажку… Стас подошел к своей двери, вставил в скважину ключ, повернул, но замок не открывался. Он дергал его влево-вправо, вверх-вниз, но замок не открывался. Сломался совсем. Кружилась голова. Стас решил присесть на мгновенье на скамейку в коридоре, чтобы перестала дрожать рука и спокойно открыть замок. Он сел, привалился к стене. Камень приятно холодил затылок. “Сейчас, посижу еще чуть-чуть и встану”, — бормотал Стас, и веки пухли, тяжелели, голова клонилась на плечо, и губы расплывались в улыбку… Так и застал его Шарапов спящим со счастливым лицом у дверей кабинета, где плохо открывался замок.АГЕНТ АБВЕРА Редактор С.И.Смирнов Художник Н.А.Усачев Художественный редактор А.И.Прозоровская Технический редактор Н.Я.Макарова Корректор К.В.Смирнова Г-12685. Сдано в набор 16.7.71 г. Подписано в печать U.3.72 г. Формат бумаги 841081/32. Печ. л. 16,5. Усл. печ. л. 27,720. Уч.-изд. л. 29,150. Бумага типографская № 2. Тираж 200.000 экз. (1-й завод 1—100.000) Изд. № 4/5232. Цена 99 коп. Зак. 713 Ордена Трудового Красного Знамени Военное издательство Министерства обороны СССР. 103160, Москва, К-160 1-я типография Воениздата 103006, Москва, К-6, проезд Скворцова-Степанова, дом 3 Агент абвера. Повести. (Военные приключения). А23 М., Воениздат, 1972 г.
Гунар Цирулис, Анатоль Имерманис Квартира без номера
1

Начальник рижского отделения гестапо Вильгельм Банге сидел за письменным столом, уставившись в одну точку. Прошло несколько томительных минут, пока он наконец поднял свои бесцветные глаза на оберштурмфюрера, удобно развалившегося в кресле. Поза оберштурмфюрера не выражала ни малейшего почтения. «Что за манеры!» — недовольно подумал Банге. Однако резкое замечание, готовое сорваться с его уст, все же осталось невысказанным. С Рауп-Дименсом, сыном рурского магната, даже ему, начальнику гестапо, не хотелось ссориться. — Так что же вы думаете об этом деле? — спросил Банге. Оберштурмфюрер оживился: — Поручите его мне, и я через три месяца ликвидирую типографию. — У вас уже есть какая-нибудь нить? — Нет, пока мной руководит только чутье. И, надо сказать, оно меня редко обманывает. По-моему, за типографией кроется этот самый Жанис. Поймать Жаниса — значит уничтожить гнездо коммунистической пропаганды. — Итак, надеюсь, он скоро будет в наших руках?.. — Полагаю, что торопиться не стоит. Главное — типография, а Жанис от нас не уйдет. Одному из моих лучших агентов уже удалось установить с ним связь. Сегодня они впервые встретятся…
Человек, которым так интересовалось гестапо, стоял в это время у газетного киоска. Он купил «Тевию»*["18] за 23 октября 1942 года и сунул газету в карман серого плаща. На небольшом отрезке улицы, от угла до угла, можно было встретить по меньшей мере пять-шесть мужчин в точно таких же плащах. Своим видом этот человек ничем не выделялся в толпе прохожих. Среднего роста, широкоплечий, но не слишком коренастый, с гладко зачесанными светлыми волосами и чисто выбритым лицом, Янис Даугавиет казался самым заурядным молодым человеком. Приподняв воротник, втянув голову в плечи, Даугавиет смешался с толпой. Сам не привлекающий внимания, незаметный, он видел все: ведь любая случайность могла оказаться для него роковой. Невидимая паутина гестапо опутывала улицы, дома, людей. Проскальзывать между ее тонкими нитями, оставаться неприметным — вот его постоянная задача! Каждый шаг сопряжен с опасностью. Но так же как боец, долго провоевавший на передовой, привыкает к близости смерти, так и Янис постепенно свыкся с подстерегающей его всегда и везде опасностью. Подобно столяру за верстаком, бухгалтеру за конторкой, крестьянину за плугом, Даугавиет изо дня в день делал свое дело, и ему самому оно вовсе не казалось необычным: его работа, пожалуй, труднее любой другой — вот и вся разница. Янис научился быть всегда начеку. Целых шесть лет он пробыл в подполье и ни разу не попался в лапы ульманисовской*["19] охранки. Это было одной из причин, почему партия оставила Даугавиета в оккупированной Риге. Позади на мостовой послышался гулкий неровный топот. Люди на тротуарах замедляли шаг, одни отворачивались, другие останавливались и ждали приближения колонны. Должно быть, шуцманы опять гонят военнопленных или арестованных. Сердце сжимается от боли, но мешкать нельзя. Сейчас кто-нибудь попытается передать им хлеб или сказать несколько слов, эсэсовцы заметят, и поднимется переполох. Из предосторожности Даугавиет юркнул в ближайшие ворота. Только очутившись в квадратном дворике, он узнал этот дом. Всего несколько лет назад Янис здесь работал на стройке. Невольно он взглянул на свои сильные руки; ему даже почудилось, будто ноздри защекотал едкий запах известкового раствора, а под ногами запружинили доски лесов, по которым он ежедневно перетаскивал на голой, ноющей от усталости спине тысячи и тысячи кирпичей. Вон там, где теперь красуется вычурный балкончик, он как-то спрятал в отверстии стены пачку листовок. В семь часов вечера старый мастер, погладив седые усы, бывало, торжественно объявлял: «Шабаш». Каменщики снимали забрызганные известью бумажные колпаки и отправлялись по домам, обсуждая по дороге ход военных действий в Польше или поездку Мунтера*["20] в Германию. Янис тоже спешил домой на улицу Маза Калну. Там, в семье староверов, он снимал угол. Дома Янис окунал голову в ведро с холодной водой, переодевался и потом, несмотря на сковывающую усталость, уходил на явки, разносил листовки. Домой он возвращался поздно, но и ночью не приходилось отдыхать. Янис ставил перед собой стакан крепкого чая и принимался за учебу. Он не отрывался от книг до тех пор, пока буквы не превращались в непонятные, таинственные иероглифы. Только по воскресеньям он разрешал себе отдых. Ему нравилось бродить по песчаным улочкам Московского форштадта, на которых козы щипали пыльную траву. Он любил сесть наугад в какой-нибудь трамвай, который увозил его на рабочую окраину, где дым фабричных труб расписывает небо расплывчатыми желтовато-серыми узорами. Янис заглядывал в каждый двор, осматривал каждый закоулок, и вскоре он, лиепаец, недавно приехавший в Ригу, знал город лучше многих старых рижан. Знание Риги Янису теперь очень пригодилось: ремесло каменщика — для того, чтобы выстроить потайное помещение типографии, умение ориентироваться в городе — чтобы в случае необходимости замести следы, петляя по запутанной сети переулков, проскальзывая через проходные дворы. — Эй, Даугавиет! Снова в Риге? — раздался вдруг за его спиной чей-то громкий голос. Только очень внимательный глаз заметил бы, что Янис чуть вздрогнул и ускорил шаг, словно вот-вот пустится бежать. Но он сразу же овладел собой и спокойно зашагал дальше, даже не повернув головы. В стекле витрины он увидел отражение окликнувшего. Янис тотчас узнал старого мастера, которого на стройке прозвали Шабаш. Большими шагами старик нагонял его. — Ишь загордился! Со старыми друзьями и знаться не хочешь? Даугавиет спокойно повернулся. Смерив старика холодным взглядом с головы до пят, он вежливо приподнял шляпу и спросил: — Что вам угодно? Старик растерялся. И впрямь, с чего это ему взбрело в голову, будто перед ним тот славный паренек, что когда-то работал у него подручным? Тот, помнится, тоже был светловолосый, но разве мало этаких белобрысых парней по свету бродит? Ведь он как следует и не запомнил лица Даугавиета. — Должно быть, обознался, вы уж, пожалуйста, не взыщите. — Ничего, с каждым может случиться… — равнодушно ответил Янис, снова чуть приподнял шляпу и зашагал дальше. Встреча со старым мастером лишний раз подтвердила Янису, что его наружность плохо запоминается… В прошлом это обстоятельство не раз спасало его от ареста, помогало благополучно выпутываться из самых рискованных положений. И все же лоб Яниса покрылся испариной. Он сунул руку в карман, чтобы достать платок. Там что-то звякнуло — должно быть, ключ от его прежней квартиры, где он жил после вступления в Латвию Красной Армии. Он все еще носил этот ключ с собой. Интересно, кто там поселился теперь? Тогда, после телефонного разговора с секретарем райкома Авотом, Даугавиет еще не знал, что он больше не вернется домой. Никогда? Нет, он еще вернется. Но теперь только этот ключ и напоминал ему о довоенной жизни. Все другие нити были порваны. На фронте протяжением в тысячи километров грохочут орудия, пылают села и деревни, на площадях городов маячат виселицы, а он, Янис Даугавиет, затаив в сердце ненависть и надежду, шагает по улицам оккупированной фашистами Риги. Как был бы прекрасен этот город под холодным ясным солнцем, в пестром осеннем наряде садов, в золотистой дымке, плывущей над Даугавой! Да, он был бы прекрасен, если б коричневая чума не душила его… Почти на каждом шагу мелькают мрачные фигуры в форме с ненавистной свастикой и черепом, повсюду слышится топот подбитых гвоздями сапог и гром фашистских маршей. У встречных серые, измятые лица, словно людей всю ночь мучил кошмар. Янис это хорошо понимал. Ему самому часто снился один и тот же сон: будто он прячется от врагов, бежит, мчится, карабкается по крышам, падает… Обычно Даугавиет тут же просыпался, и как отрадно было сознавать, что в соседней комнате мирно тикают часы, что в «квартире без номера» продолжают трудиться и жить!.. У хлебного магазина извивается длинная очередь. В лучах послеполуденного солнца над дверями золотится металлический крендель. Но это осеннее солнце уже не в силах согреть людей, которые стоят тут, переминаясь с ноги на ногу, вот уже несколько долгих часов. Большинство стоящих в очереди — женщины. Некоторые переговариваются друг с другом, и в их словах звучат забота и беспокойство, иные, прислонясь к сырой стене, вяжут чулок или варежку. Какая-то девочка в гимназической шапочке прилежно читает учебник. Чтобы миновать очередь, Даугавиету пришлось сойти с тротуара. Но в этот момент на улице показалось несколько машин, которые резко затормозили у магазина. Из них выскочили шуцманы и, прежде чем люди успели разбежаться, окружили очередь. Даугавиет вместе с другими оказался в кольце автоматов. — Живей! Залезайте в машины! — по-немецки скомандовал лейтенант. Раздались негодующие возгласы, крики: — Что вам от нас нужно? Что мы сделали? — Опять останемся без хлеба! — Мерзавцы! Нигде от них нет спасения! Старушка в сползающих с носа очках попыталась проскользнуть между двумя полицейскими. Один из них грубо толкнул ее. Старушка упала, стекла очков с тихим звоном разбились о камни. Лейтенант слегка смешался — должно быть, впервые руководил такой «акцией». Он выхватил револьвер. — Спокойно! — крикнул он. — Волноваться нечего! Далеко не повезем. Разгрузите вагоны и отправитесь по домам! — Мне через полчаса надо кормить ребенка, — взмолилась молодая женщина. В глазах ее стояли слезы. — Ему только два месяца. Господин офицер, отпустите меня домой! Командир шуцманов был латыш, но он притворился, что не понимает родного языка, и закричал по-немецки: — Молчать! Или говорите человеческим языком!.. Ребенка кормить… Вы же знаете, что в военное время продовольственные нормы урезаны для всех, независимо от возраста. — Видимо, весьма довольный своей остротой, он принялся загонять людей в машины. Наконец грузовики наполнились. Можно было трогаться в путь. — Скоты! Как их только земля терпит! — пробормотала старушка. Из носа у нее еще сочилась кровь, по дрожащему подбородку стекали темные капли. Стоявший рядом пожилой мужчина ответил: — Слезами да причитаниями делу не поможешь. Их надо… — И он сжал руку в кулак. Некоторые одобрительно откликнулись. Но какой-то мужчина, до сих пор угрюмо молчавший, сказал: — Вам, кажется, жизнь надоела? Мою жену замучили в Саласпилсе*["21] за несколько неосторожных слов… Даугавиет ехал молча. Он улавливал каждое выражение протеста, впитывал каждое слово гнева и ненависти. В мыслях его они связывались друг с другом, превращались в пламенные призывы к борьбе. Слова простых людей давали неиссякаемый материал для листовок. А в этих листовках народ черпал силы для тяжелой борьбы с оккупантами. Разве мог бы Янис так смело шагать вперед, если б не чувствовал, что за ним идут тысячи простых людей. Закаляясь в беде и страданиях, эти люди постепенно превращаются в бойцов неисчислимой армии народного сопротивления. Когда машины въехали на территорию товарной станции, Даугавиет понял, почему оккупантам так спешно понадобилась рабочая сила. Станцию недавно бомбили. Боясь повторения налета, фашисты спешили разгрузить уцелевшие вагоны. На товарную станцию согнали жителей со всех концов города. Среди развалин и обломков сновали люди. Странно выглядели металлические остовы вагонов, колеса без платформ, опрокинутый паровоз. Какой-то состав, очевидно, был гружен химикалиями: к горькому чаду пожарища примешивалась отвратительная едкая вонь, напоминавшая запах сероводорода. Мрачная картина разрушения явно обрадовала привезенных сюда людей. Их лица оживились, то и дело слышались насмешливые замечания… Из здания управления вышел немец в штатском. Обменявшись несколькими словами с офицером, он повел колонну к третьему пути. Находившийся там состав весь уцелел, за исключением последнего вагона, который стоял недалеко от разбомбленного паровоза. Осколок пробил в крыше этого вагона большое отверстие и наполовину разворотил стену. Мелкие клочья бумаги, похожие на осыпавшиеся цветы яблони, устилали землю. Бумага! Быть может, здесь удастся пополнить запасы для типографии? Доставать бумагу становилось все труднее и опаснее. Когда офицер начал разделять людей на группы, Даугавиет нарочно встал так, чтобы остаться у полуразбитого вагона. Вместе с ним оказался человек, у которого в Саласпилсе убили жену. Двери вагона со скрежетом раздвинулись. Проявлять особое усердие, работая на фашистов, никому не хотелось, но все же люди спешили разгрузить вагон, потому что стремились как можно скорее попасть домой. Только молодая мать не двигалась с места. С бессильным отчаянием она думала об оставшемся дома младенце. Пальто ее было расстегнуто. На груди сквозь тонкое ситцевое платье просачивалось молоко. Офицер схватил ее за локоть. — За работу! Марш туда! — И он указал в конец состава. Женщина вырвалась и кинулась к штатскому, надеясь хоть у него найти сочувствие. — Отпустите меня! Умоляю вас, мне надо кормить ребенка! — Она показала руками, какой он маленький. Штатский внимательно выслушал ее, затем ответил на ломаном латышском языке: — Понимайт, все понимайт. Абер вам тоже надо понимайт: для фюрер и фатерланд ни один жертв не есть достаточно велик. Женщина наконец поняла, что в сердцах этих зверей тщетно искать человечности. Точно слепая, шатаясь, побрела она к вагону. Даугавиет поманил ее пальцем. Он заметил, что другая группа, по соседству, уже заканчивает выгрузку ящиков. — Бегите к ним! Быстрее! Пока офицер стоит спиной. Вместе с ними вы сможете выйти со станции. Женщина благодарно посмотрела на Яниса и тотчас последовала его совету. В этот момент офицер повернулся. Взгляд его скользнул вдоль ряда вагонов. Сейчас он заметит беглянку. Даугавиет инстинктивно приготовился к прыжку. Броситься бежать в другую сторону, отвлечь внимание офицера, спасти молодую мать! Но ведь он подпольщик и не имеет права так рисковать собой. Взгляд офицера остановился на конце состава, там, где за последней платформой только что скрылось светлое пальто. — Стой! — дико взревел офицер и дрожащими пальцами выхватил из кобуры револьвер. Однако окрик вовсе не относился к молодой матери — женщина уже успела скрыться. Это товарищ Даугавиета, с которым он разгружал бумагу, вовремя выскочил из вагона и сделал то, от чего был вынужден воздержаться Янис. Увидев, что его замысел удался, человек остановился. Офицер подошел к нему, ударил рукояткой револьвера и грубо толкнул к вагону: — Марш на место! Мужчина что-то проворчал и нехотя принялся за работу. Кипы с надписью «Остланд Фазер» были не круглые, как обычно, а плоские и продолговатые. Вдвоем их было нетрудно поднять. Надорвав с краю обертку, Даугавиет увидел, что внутри тонкая печатная бумага. Янису тотчас пришло в голову, что под грудой выломанных, беспорядочно наваленных досок можно легко спрятать такую кипу. Но сделать это нужно незаметно. К счастью, в вагоне он был только со своим напарником, остальные принимали бумагу и относили кипы к машине, стоявшей в нескольких шагах. Некоторое время мужчины работали в вагоне молча. «Можно ли довериться этому человеку? — подумал Даугавиет. — А почему бы и нет? Своим поступком он доказал, что на него можно положиться». И все же, затрудняясь начать разговор, Янис только заметил: — Не вредно слегка передохнуть… Может, выйдем покурить? — Покурить можно и здесь, — ответил тот, и в полутьме вагона сверкнул огонек. Янис достал сигарету, порылся в карманах и, не найдя спичек, собрался прикурить у товарища. Тот стоял с зажженной спичкой в руке и, словно зачарованный, смотрел на кипы. — Эх, подпустить бы огонька, — чуть слышно процедил он сквозь зубы, — хоть меньше будет бумаги для их вранья. Янис больше не сомневался. Быстро решив, что теперь у этого человека куда больше оснований опасаться его самого, он сказал: — На этой бумаге можно печатать и правду. Надо лишь позаботиться о том, чтобы она попала в надежные руки. Мужчина сначала удивленно уставился на Даугавиета, но потом лицо его приняло лукавое выражение. — Да, но как это сделать? — Помогите мне спрятать вот ту кипу. Остальное уж вас не касается. Товарищ, все время работавший с такой апатией, вдруг оживился. Он быстро помог Даугавиету оттащить кипу в самый темный угол и запрятать ее под досками и рваной бумагой. — Эй вы, долго будете там прохлаждаться? — раздался у дверей нетерпеливый женский голос. — Надо же хоть засветло домой попасть… Они снова принялись за работу. Куренберг — так звали напарника Даугавиета — совсем преобразился, повеселел, начал шутить. Янис тоже внезапно почувствовал прилив сил. Так было всегда: в самый трудный момент неожиданно находились добровольные помощники. Вагон быстро пустел. — Последняя кипа, — объявил Даугавиет, спрыгивая на землю. Не доверяя им, лейтенант сам влез в вагон. «Если найдет, — стиснув зубы, подумал Янис, — все наши труды пропали даром!» Он успокоился только тогда, когда в дверях снова появился офицер и объявил: — Можете идти. На углу улицы Валдемара, прощаясь, Куренберг крепко пожал Янису руку. «Человек стоящий», — решил Даугавиет, шагая по сумеречным улицам. Потом мысли его сосредоточились на главном. Бумага еще не в его руках. Вынести кипу с территории станции и доставить в типографию — дело нелегкое. Кому бы поручить такое задание? Ему самому появляться на станции больше нельзя. Это ясно. Видимо, и теперь самую сложную часть операции придется поручить Наде. Не хочется подвергать ее опасности, но что поделаешь… Ведь для Нади с ее характером просто невыносимо томиться в четырех стенах. В тот раз, когда нужно было освободить товарищей из лагеря военнопленных, Даугавиет тщетно пытался отговорить ее. И как хорошо, что это ему не удалось! Одного из бежавших ранили, и ведь только благодаря медицинскому опыту Нади удалось спасти ему жизнь. Память подсказывала один эпизод за другим, и, думая о Наде с восхищением и благодарностью, Янис почти забыл о бумаге. Но вдруг встревожился. А что, если пустой состав сегодня же угонят? А что, если какой-нибудь железнодорожник случайно заметит спрятанную бумагу? Сотни непредвиденных обстоятельств могут испортить все дело. Надо торопиться. И Янис Даугавиет ускорил шаг.
2
Дежурный по товарной станции переставил белую ладью с поля b8 на b2 и объявил черным шах. За неимением партнера дежурному приходилось думать за обе сражающиеся стороны, и обычно получалось так, что черные — фашисты — всегда проигрывали. Лампа под зеленым абажуром уютно освещала ряды фигур и пешек. Весь день комнату дежурного заполняли разные офицеры и начальники из интендантства. С утра до вечера они распоряжались, приказывали, ругались. Теперь воздух наконец очистился — рабочее время приближалось к концу, и дежурный мог предаться своему любимому занятию. Вдруг снаружи раздался автомобильный гудок и вслед за этим стук в дверь. Не успев вынудить черных к сдаче, дежурный поднялся со стула. В комнату вошла женщина. Из-под зеленой шапочки выбивались белокурые вьющиеся волосы, цвет лица напоминал слоновую кость шахматных фигур. Но резкий властный тон посетительницы тотчас нарушил приятное впечатление, которое она произвела с первого взгляда. — Я из «Остланд Фазер». Вот удостоверение. Дежурный с явным неудовольствием повертел в руках темно-синюю книжечку. Куда приятнее было бы послать эту заносчивую особу ко всем чертям, но… служба есть служба. — Сегодня мы получили бумагу из Лигатне, — заявила женщина. — При проверке оказалось, что не хватает 95 килограммов. Должно быть, одна кипа осталась в вагоне… — Этого не может быть! — запротестовал дежурный. — Начальник вашей секции снабжения господин Шенегер расписался в получении груза сполна. — Это еще ничего не значит. Ошибиться может каждый. Что ж, долго мне придется ждать? Идемте проверять вагоны. Тоскливо взглянув на шахматную доску, дежурный взял фонарь. Придется пойти. Пока эта мамзель не убедится собственными глазами, она все равно не отвяжется. Зазвонил телефон. Дежурный снял трубку. На лице его вдруг отразилось явное недоумение. Что-то не ладно! «Держись, Надя!» — словно прозвучал в ушах женщины голос Яниса Даугавиета. Во рту у нее пересохло, и по спине пробежали мурашки. Она сделала шаг к двери. Хорошо, что во дворе ждет Силинь с грузовиком завода ВЭФ. Дежурный, держа в руке трубку, обернулся: — Говорит господин Шенегер. Я сказал, что вы приехали… Но он меня, как видно, не понял… Пожалуйста, поговорите с ним сами… За те несколько секунд, пока дежурный с ней говорил, Надя выдержала напряженную внутреннюю борьбу. Говорить с представителем «Остланд Фазер» — означало выдать себя. Бежать — значит отказаться от бумаги. А ведь она знала, что Янис надеется пополнить их скудный запас. Кроме того, если ворота станции закрыты, машине все равно отсюда не выбраться. Тогда и Силинь попадется. Еще секунда — и ее неуверенность покажется дежурному подозрительной. Но тут ей в голову пришла новая мысль. Да, надо действовать именно так. И она решительно подошла к столу. «Только бы не заметил, как у меня дрожат руки», — подумала Надя, прикладывая трубку к уху. — Алло! Сердитый голос что-то ответил по-немецки. Надя не поняла ни слова, но, чтобы обмануть дежурного, несколько раз утвердительно кивнула. Голос в трубке стал еще более раздражительным. Чуть-чуть помедлив, Надя решительным «Jawohl!» закончила разговор и осторожно положила трубку так, чтобы не нажать на контакт. Теперь пусть Шенегер беснуется — абонент занят. С улыбкой, адресованной, однако, вовсе не дежурному, она сказала: — Шеф хочет, чтобы я еще заехала в управление. Нам надо поторопиться. Они вышли во двор. Было темно, только кое-где, точно светлячки, поблескивали фонари железнодорожников, из паровозных труб вылетали красные и желтые искры. Подав Силиню знак, чтобы он ехал следом за ними, Надя направилась к последнему вагону, о котором ей говорил Янис. — Тут пусто, — проворчал дежурный и уже собрался спрыгнуть наземь. — А что там, в том углу? — Просто мусор, вы же сами видите. — И, чтобы убедить несносную упрямицу, дежурный ткнул ногой в поломанные доски. К величайшему своему удивлению, он увидел нетронутую кипу бумаги. — Да, вы правы, — сказал он с досадой и помог поднять кипу в машину. При этом он испытывал такое чувство, словно вдруг по глупости проиграл партию в шахматы, когда победа казалась уже вполне обеспеченной.Пока Надя выпутывалась из опасного положения, Даугавиет набросал текст воззвания. Он не был литератором. Выражать свои мысли ярко, убедительно ему было совсем нелегко. И все же он непременно должен найти именно яркие, убедительные слова, иначе листовка будет не чем иным, как просто бумажкой. Подбадривая себя, Янис в таких случаях обычно вспоминал где-то вычитанное изречение: «Возьмите в руки карандаш, постарайтесь быть правдивым до конца, и из вас выйдет писатель». Так он и делал. Горькая, но не лишавшая надежды правда жизни направляла его руку.
«…23 октября жителям Риги еще раз пришлось убедиться в жестокости фашистских захватчиков. По всему городу оккупанты устраивали охоту на людей. Их отвезли на товарную станцию, где заставили разгружать вагоны. Люди, часами стоявшие в очереди у дверей магазина, снова оказались без хлеба. Не пощадили ни молодую мать, оставившую дома грудного младенца, ни престарелую женщину, едва державшуюся на ногах. Тот, кто знает, что такое фашизм, поймет, что это только начало. Сегодня вас увезли на товарную станцию, завтра увезут на каторгу в Германию. Сегодня вас увезли на несколько часов, завтра увезут навсегда. Одно лишь средство может спасти от гибели вас и ваших детей. Это средство — активная борьба…»Даугавиет поднял голову. Его натренированный слух уловил знакомые шаги. Наконец-то Надя вернулась. И хотя Янис не сомневался в успехе, он с чувством необычайного облегчения нежно пожал ее руки. — Ну как? Надя шутя вытянулась, как по команде «смирно». — Докладывает майор Цветкова: ваше приказание выполнено. — Затем уже серьезно добавила: — Но могло получиться и не так. Подумай, какое досадное стечение обстоятельств! Когда я говорила с дежурным, позвонил кто-то из «Остланд Фазер»… И она вкратце рассказала о случившемся. Даугавиет нахмурился. От одной только мысли о том, что Наде грозила опасность, у него болезненно сжалось сердце. — А ты сколько написал? — спросила она. — Почти половину. Вот посмотри. Надя внимательно прочла написанное и кое-что выправила. — Спасибо, Надюша. — И, взглянув на часы, Янис поднялся. — А теперь мне надо торопиться на явку. — Что-нибудь важное? — Еще не знаю, что из этого выйдет. Апсе из Восточной группы установил связь с рабочими бумажной фабрики в Слоке. Мы теперь на некоторое время обеспечены бумагой, а все же не к чему упускать и эту возможность. — Иди. Я тем временем нарежу бумагу для листовок. Хорошо бы к утру уже отпечатать. — Правильно. Поработаем ночью. Пусть люди прочитают листовки, пока событие еще свежо в памяти.
Часы над магазином Валдмана на углу улиц Марияс и Дзирнаву уже тонули в сумраке, когда Янис подошел к условленному месту встречи. Он нырнул в темный проход. Лампочка под синим стеклянным колпаком отбрасывала тусклый свет на закопченную стену. Отсюда во все стороны расходились темные туннели, узкие, похожие на шахты, дворы — стиснутый между четырьмя улицами лабиринт, называемый базаром Берга. Днем здесь стоял невообразимый гомон, в мастерских гудел автоген, скрежетала жесть, шипели рубанки, в лавках покупатели торговались с хозяевами, во дворе пыхтели мотоциклы, ржали лошади приехавших в город крестьян, ребятишки шумно играли в пятнашки. Сейчас здесь царили тишина и мрак. Только порой по земле мелькнет какая-то тень — это удирает крыса, испуганная шумом шагов. Трудно вообразить, что над этими четырьмя туннелями, за этими пыльными, тусклыми окнами, которые никогда не видят солнца, живут люди. Мрачное место… Всякого, кто приходил сюда вечером, невольно пробирала дрожь. Даугавиет уже не раз бывал здесь. Он не случайно выбрал это место для встречи. Тут можно чувствовать себя почти в безопасности — с базара Берга есть выход на улицы Дзирнаву, Марине и Елизаветинскую. Про запас у Яниса был еще четвертый, только ему одному известный путь, который вел на улицу Кришьяна Барона. В подворотне Янис взглянул на карманные часы. Светящаяся стрелка показывала ровно половину десятого. Сейчас должен явиться человек, рекомендованный Апсе. Кто-то прошел мимо и неуверенно повернул обратно. В темноте лицо прохожего нельзя было разглядеть. Да это и неважно — ведь они ни разу не встречались. Узнать друг друга можно только по условленному паролю. Даугавиет сделал несколько шагов и приподнял шляпу: — Скажите, пожалуйста, который час? Мои часы остановились. Ответ последовал без промедления: — Половина одиннадцатого по пулковскому времени. Они пожали друг другу руки. В темноте можно было лишь заметить, что незнакомец маленького роста, полный, в кожаном пальто. — Ну, расскажите, как у вас там в Слоке идут дела. Незнакомец сообщил, что сам он мастер каландровочного цеха бумажной фабрики, в их группе всего девять человек, но народ надежный. Разговаривая, он потихоньку отступал к узкому палевому кругу света под синей лампочкой в дальнем конце прохода. Возможно, что это была просто случайность. Тем не менее Янис, инстинктивно избегая света, снова увлек своего собеседника в темноту. Но когда товарищ из Слоки по собственному побуждению вдруг предложил бумагу для листовок, у Даугавиета зародилось подозрение: «Апсе вовсе не знает, что я связан с подпольной типографией, почему же этот человек предлагает мне бумагу?» — Это было бы очень хорошо, но я ничего не знаю о типографии, — сказал он и принялся расспрашивать мастера о работе. Чем дальше шла беседа, тем сомнительнее казалось ему существование слокской группы. Что-то здесь не так. Надо было сначала поручить Апсе поехать в Слоку, как следует проверить этого человека, и только тогда можно было устанавливать связь. А теперь нужно поскорее от него отделаться. Поняв, что разговор окончен, мастер из Слоки остановился. — Закурим на прощание, — предложил он и, не дожидаясь ответа, чиркнул спичкой. Но Янис, не растерявшись, тут же прикрыл ладонью лицо. Все ясно! Этот человек хочет увидеть лицо собеседника, чтобы потом суметь опознать его, но нельзя подавать виду, что провокатор разоблачен… Кто знает, может быть, следом за ним идут гестаповцы, и если шпик заподозрит провал, Яниса могут тут же схватить. Поэтому нужно притвориться, что все в порядке, условиться о встрече, подать надежду, что в следующий раз может пойти разговор и о типографии. Дружелюбно взяв собеседника под руку, Янис сказал: — Нам необходимо еще раз встретиться. Скажем, во вторник, на этом самом месте. Вы сможете еще раз приехать? — Конечно. Могу и раньше. — Нет, раньше не имеет смысла: за это время я успею установить связь с типографией.
 Они расстались. Не оглядываясь, Даугавиет вышел на улицу Дзирнаву. Уже через несколько кварталов он убедился, что провокатор идет за ним. Теперь необходимо сбить его со следа. Нырнув в проходной двор, откуда можно выйти на две улицы, Янис спрятался за полуоткрытыми воротами. Через минуту показался шпик и тут же метнулся через второй выход, который, очевидно, был ему тоже известен. Даугавиет вышел из своего укрытия и на всякий случай, прежде чем направиться домой, некоторое время петлял по лабиринту улочек Старой Риги. Когда он открывал ключом дверь, часы на башне ближайшей церкви пробили десять — час, после которого в оккупированной Риге можно было показываться на улицах только по особым пропускам.
Они расстались. Не оглядываясь, Даугавиет вышел на улицу Дзирнаву. Уже через несколько кварталов он убедился, что провокатор идет за ним. Теперь необходимо сбить его со следа. Нырнув в проходной двор, откуда можно выйти на две улицы, Янис спрятался за полуоткрытыми воротами. Через минуту показался шпик и тут же метнулся через второй выход, который, очевидно, был ему тоже известен. Даугавиет вышел из своего укрытия и на всякий случай, прежде чем направиться домой, некоторое время петлял по лабиринту улочек Старой Риги. Когда он открывал ключом дверь, часы на башне ближайшей церкви пробили десять — час, после которого в оккупированной Риге можно было показываться на улицах только по особым пропускам.
3
Осенняя Рига в этом году частыми туманами и ранними заморозками слегка напоминала Харальду Рауп-Дименсу Лондон. Уже в конце сентября приходилось топить. Радиаторы центрального отопления в кабинете оберштурмфюрера на улице Реймерса щедро излучали тепло. И все же Рауп-Дименс не раз тосковал по большому камину, придававшему его комнате в Кембридже аристократическую изысканность и уют. Да, эти три года в старинном университетском городке Англии он считал лучшим периодом своей жизни. Неожиданно получив от отца телеграмму с требованием немедленно прервать занятия и вернуться в Германию, Рауп-Дименс с большой неохотой покинул Кембридж. Он чувствовал себя в Англии как дома и вовсе не хотел ехать на родину, где за последние годы побывал всего дважды. Сыну рурского магната, усвоившему в Кембриджском университете «джентльменский» образ мыслей английской аристократии, претила прямолинейная грубость нацизма, плебейские сборища в пивных, трескучая барабанная дробь, тупорылые молодчики в коричневых рубашках, вообразившие себя хозяевами Вселенной. Пошлым фразам о превосходстве германского духа он противопоставлял общность интересов «деловых людей» всего мира. Человек, имеющий на текущем счету в банке миллион рейхсмарок, на родине английских фунтов встретит такой же радушный прием, какой оказывают в лучшем берлинском обществе шахтовладельцу из Бирмингема. Подобные взгляды отец внушил ему с самого детства. Не зря двадцать процентов акций сталеплавильных заводов «Рауп-Дименс» принадлежали банкирскому дому Моргана в Нью-Йорке. Это было сделано с расчетом. В то время, когда другие, менее дальновидные фирмы оказались на краю банкротства, предприятия Бодо Рауп-Дименса благодаря американским кредитам непрерывно расширялись. Тем сильнее было изумление Харальда, когда отец без лишних слов приказал ему вступить в нацистскую партию. И только значительно позднее сын понял, что, побуждая рурских промышленников поддерживать Гитлера и внося три миллиона марок в личный фонд фюрера, старик руководствовался все теми же «принципами реальной политики». Популярность и влияние социал-демократов падали быстро и неотвратимо. Эти болтуны в парламенте были уже не способны сдерживать растущий напор черни. Приход к власти Гитлера означал уничтожение коммунистов, а главное — гигантские военные заказы и прибыльную войну с Советской Россией. Следуя примеру старшего брата, Зигфрида, Харальд Рауп-Дименс вступил в гитлеровский моторизованный корпус, которым командовал бывший кронпринц. Природное лицемерие, солидно возросшее за годы пребывания в Кембриджском университете, помогло Харальду скрывать свое презрение к мелким лавочникам и мясникам, напялившим черную форму со свастикой и решившим, что отныне им принадлежит весь мир. Усилия молодого Рауп-Дименса окупились с лихвой. Скоро Харальда направили с особой миссией в Англию, где ему надлежало завязать как можно более обширные и тесные связи в правящих кругах, чтобы добиться доброжелательного отношения к нацистскому режиму и его агрессивным замыслам. Это задание достойный отпрыск Бодо Рауп-Дименса выполнил небезуспешно, ибо на берегах Темзы у Гитлера нашлось немало явных, а еще более тайных сторонников. Деньги, которые проходили через руки Рауп-Дименса, давали возможность Мосли организовать фашистские митинги в самых роскошных концертных залах Лондона; Рауп-Дименс сопровождал Эдуарда, принца Уэльского, во время его паломничества к Гитлеру. Рауп-Дименс щедро раздавал восхищенным лордам и леди портреты фюрера с автографами. Вскоре ни один прием в лондонском высшем обществе не мог считаться фешенебельным, если на нем не появлялся стройный немец в форме офицера СС,сшитой у лучшего портного Бонд-стрита. Головокружительная карьера Харальду Рауп-Дименсу, казалось, была обеспечена. Но, вопреки ожиданиям, все получилось иначе. Когда гитлеровцы вторглись в Польшу, Англия под давлением общественного мнения объявила Германии войну. Только благодаря связям с членами английского кабинета Рауп-Дименсу в последний момент удалось через Швецию вернуться в Германию. В рейхсканцелярии его ожидал приказ об отправке на фронт… Даже отец на этот раз ничем не смог ему помочь. Неожиданный ход английского партнера совершенно ошеломил его. Конечно, Европа нужна как плацдарм и источник сырья для подготовки военного похода на Восток, но все же с Англией и Америкой пока никто не собирался затевать драку. Наоборот, на эти державы смотрели как на союзников в подготовляемой войне против России. Когда Рауп-Дименс появился в Варшаве, польская кампания уже закончилась. Весной 1940 года его послали во Францию, но уже не рядовым офицером, а работником армейской контрразведки. Через год в той же должности он подвизался в Греции. Когда началось нападение на Советский Союз, молодой штурмфюрер СС получил задание отправиться в Ригу, чтобы подготовить условия для прихода фашистских войск. 25 июня 1941 года с военного аэродрома в Кенигсберге поднялся в воздух аэропоезд. В одном из транспортных планеров, переодетый в форму советского милиционера, находился Рауп-Дименс. В его распоряжении были ручные пулеметы, автоматы, взрывчатка, гранаты и отряд из десяти отборных головорезов. В условленном месте их встретил бывший командир полка айзсаргов*["22] Кисис со своими молодчиками. Рауп-Дименс до сих пор отлично помнил квартиру на шоссе Бривибас, куда их привел Кисис. Им предстояла ожесточенная борьба, и все же он чувствовал себя в этом доме вполне уютно. Окинув взглядом роскошную обстановку спальни, штурмфюрер успел заметить все: и круглое зеркало на туалетном столике, в котором отражалась полуоткрытая дверь, а за ней сверкающая белизной ванная, и дорогое женское кимоно на постели, и ящичек из карельской березы, полный папирос, которым он особенно обрадовался, потому что запас сигарет был у него на исходе. Затем Рауп-Дименс задернул штору, оставив только узкую щель, сквозь которую можно было наблюдать за тем, что делается на улице, пододвинул к окну кресло, занял удобное положение для стрельбы, установил ручной пулемет и, закурив папиросу, стал ждать. Кисис и остальные тоже стали по местам. Рауп-Дименс заметил, как Шварц, один из членов его диверсионной группы, тайком сунул в карман золотую пудреницу. «Мы были и останемся навсегда чужими», — подумал Рауп-Дименс, с нескрываемым чувством превосходства оглядев своих сообщников, лица которых выражали либо тупое равнодушие, либо лихорадочную жажду добычи. С людьми этой породы он уже встречался. Во Франции они полагали, что эта страна завоевана лишь для того, чтобы можно было безнаказанно вламываться в квартиры, развлекаться и, уходя, прикарманивать на память ручные часы. Идиотской страсти к мелким трофеям Рауп-Дименс решительно не понимал. Иное дело — копи Эльзаса, трансильванская пшеница, бакинская нефть… В ратных походах его пленяло и нечто другое. Это был опьяняющий запах крови. Одурманив Харальда однажды, он манил его все сильней и сильней. Рауп-Дименс наслаждался ощущением власти, которой в мирных условиях не могли дать даже отцовские миллионы. Ни вино, ни женщины, ни азарт игры не способны были заменить то сладостное чувство, которое он испытывал, когда перед ним стоял коммунист и он, Харальд Рауп-Дименс, одним лишь мановением пальца мог отправить его на тот свет. На шоссе показались группы вооруженных рабочих. Выплюнув сигарету на пол, штурмфюрер открыл по ним огонь. Во время перестрелки он ни на минуту не угратил спокойствия, хотя с улицы пули все чаще залетали в окно, вонзаясь в широкий трехстворчатый шкаф за его спиной. Из-за угла вынырнули танки. Рассудок подсказывал Рауп-Дименсу, что надо немедленно отступить. «Жаль, черт возьми! Столько живых мишеней!..» Штурмфюрер просто не в силах был уйти, не нажав еще пару раз на спусковой крючок. Последняя пуля ранила какую-то женщину в военной форме. И тогда Рауп-Дименс заметил, что орудийный ствол танка медленно поворачивается в сторону его окна. Не дожидаясь дальнейших событий, штурмфюрер бросился вон из квартиры. Грянул удар гигантского молота, Рауп-Дименса швырнуло наземь и засыпало кусками штукатурки. Вскарабкавшись по изуродованной лестнице, он добрался до крыши. Теперь некогда думать о Кисисе и его людях. Прежде всего — спастись самому. К счастью, от крыши соседнего дома его отделял пролет шириною не более метра. Он прыгнул, а затем ползком, на животе, добрался до люка и попал на чердак. Оставаться здесь было нельзя. Бойцы истребительного батальона, наверно, будут обыскивать чердаки во всем районе. Выйти на улицу в таком виде тоже опасно — милицейская форма теперь не устранит подозрений, а, наоборот, только усилит их. Надо пробраться в какую-нибудь пустую квартиру и спрятаться там, пока не минует опасность. Спускаясь по лестнице черного хода, Рауп-Дименс увидел за окном балкон, открытая дверь которого вела в квартиру. Он перегнулся через перила и на всякий случай бросил в кухню горсть патронов — они громко застучали по полу, но никто не вышел. Измерив на глаз расстояние, штурмфюрер протиснулся в узкое окно и, схватившись руками за подоконник, легко спрыгнул. Осторожно притворив за собой дверь балкона и даже заперев ее на задвижку — хотя это было совершенно излишним, — он с облегчением вздохнул. Теперь можно было осмотреть квартиру. На окнах всюду спущены черные шторы. В комнате прохлада и сумрак. Не привыкший к темноте глаз с трудом разглядел пузатый комод и старомодную кровать с горой перин и пуховиков. Даже не взглянув в ту сторону, штурмфюрер двинулся к шкафу. Только когда за спиной раздался визгливый вопль: «Помогите! Воры! Воры!» — он заметил седую голову старухи, вынырнувшую из-за горы подушек. — Молчать, старая ведьма! — И Рауп-Дименс поднес револьвер к самому ее носу. Оружие еще больше перепугало старуху. Штурмфюреру казалось, что ее крик слышно за километр… Он уже хотел выстрелить, но, вспомнив, что выстрел может привлечь внимание истребителей, отбросил револьвер и обеими руками вцепился в тощую, жилистую шею. Старуха захрипела и утихла. Рауп-Дименс вытер пальцы носовым платком, еще пахнущим одеколоном. Впервые он убил человека голыми руками. Штурмфюрер был вынужден признать, что это не слишком приятно. …Вспоминая теперь, спустя целый год, страшное, посиневшее лицо старухи, Рауп-Дименс поморщился. Но как ничтожны были эти отвратительные воспоминания в сравнении со всеми радостями, которыми так щедро наделяла его жизнь. Он получил чин оберштурмфюрера; к двум железным крестам за Францию и Грецию прибавился орден за рижскую операцию. Этот город у Балтийского моря, с его чистыми улицами и зелеными парками, Рауп-Дименсу понравился. Правда, латыши доставляли немало хлопот — они частенько не желали верить в превосходство западной цивилизации. Но все же и здесь порой можно было встретить людей, сносно говоривших по-английски и ценивших Джемс-Джойса. Здесь Рауп-Дименс обзавелся уютно обставленной солнечной квартирой, которую он унаследовал от прежнего владельца, расстрелянного в первые же дни оккупации. Здесь у него появилась и некая Мери, с которой, несмотря на ее вульгарные манеры, все же можно было проводить время. Что касается общего хода событий, то дела как будто шли неплохо. После зимних неудач гитлеровская армия снова стремительно наступала и теперь уже угрожала Сталинграду. С тех пор как до бакинской нефти стало рукой подать, сдержанный тон писем отца, появившийся после разгрома войск фюрера под Москвой и вступления Америки в войну, исчез, уступив место более оптимистическим ноткам. В свое время и молодой Рауп-Дименс поругивал этого растяпу Риббентропа, у которого не хватило мозгов удержать Соединенные Штаты в роли негласного партнера в акционерном обществе по разделу мира. Но мало-помалу негодование его улеглось. Конечно, ему хотелось, чтобы победила Германия, но и в случае поражения с Англией и особенно с Америкой, видимо, удалось бы столковаться. По крайней мере, для капитала Рауп-Дименсов такой исход особой опасности не представлял, так как Морган сумел бы вступиться за интересы своего немецкого компаньона. Но если победит Советский Союз — вот это было бы настоящей непоправимой катастрофой. Поэтому главное — разбить русских! Да, главное — окончательно разгромить Советы. И оберштурмфюрер, нещадно преследуя коммунистов, делал все от него зависящее, чтобы приблизить день своего торжества. Он просиживал ночи напролет в кабинете, милостиво беседуя со шпиками, которым при других обстоятельствах не подал бы и руки, терпеливо допрашивал арестованных, упрямое молчание которых могло бы любого свести с ума. Он отстаивал интересы дома Рауп-Дименсов и с гордостью сознавал, что находится здесь на передовом посту борьбы за мировые рынки. Оберштурмфюрер откинул голову на спинку кресла и едва заметным движением губ выпустил безупречное кольцо дыма. Столбик пепла от ароматной сигареты упал на листок, лежавший перед ним на столе. Это вернуло его к действительности. По иронии судьбы Рауп-Дименс, злейший враг коммунистов, вынужден был чуть ли не ежедневно прилежно читать сводки Советского Информбюро. Вот и в этой листовке дана такая сводка. В ней говорится об огромных потерях вермахта, о положении на фронте… Да, листовки эти опасны, чертовски опасны… Рауп-Дименс не стал читать дальше. Не стоило сравнивать эту листовку с другими, хранившимися в специальном сейфе, чтобы понять, что и она отпечатана в той же коммунистической типографии, которую оберштурмфюрер тщетно ищет уже в течение полугода. Вошедший в кабинет Рауп-Дименса шарфюрер Ранке, не решаясь заговорить без приказания, уже несколько раз щелкнул каблуками. Оберштурмфюрер по-прежнему не обращал на него внимания. Иногда бывает приятно чувствовать свою власть над таким вот верзилой, который может одним ударом кулака сбить человека с ног. — Ну, Ранке, — Рауп-Дименс, иронически улыбаясь, соизволил наконец обратиться к подчиненному, — у вас, кажется, отсох язык? Докладывайте, что там еще. — Господин оберштурмфюрер, нам удалось арестовать человека, который поднял эту листовку. Изволите допросить? — Ладно, пусть войдет. Но арестованный войти не мог. Он был так избит, что Ранке и надзирателю Озолу пришлось самим втащить его безжизненное тело. Оберштурмфюрер побагровел от злости. О допросе не могло быть и речи. Слова Рауп-Дименса стегали побледневшего Ранке словно кнутом. — Шарфюрер! Сколько раз вам было сказано, что тренироваться вы можете только после допроса! — Я ничего… — оправдывался Ранке. — Только слегка приложил руку. Это Озол… Он как начнет, так его уж не остановишь… Еще долго у Рауп-Дименса от ярости тряслись руки. С какими скотами ему приходится работать! Удовольствие свернуть кому-нибудь скулу для этих мясников превыше всего. В случае необходимости оберштурмфюрер сам не прочь прибегнуть к пыткам, но обычно он все же старался сначала воздействовать на арестованного угрозами. Рауп-Дименс взглянул на платиновые ручные часы. Пять минут пятого. Значит, Кисис, его лучший агент, уже прибыл. Он поднял трубку внутреннего телефона. — Пусть зайдет номер шестнадцатый. Кисис, одетый в простую рабочую спецовку, сел без приглашения. Шпионская работа в гестапо пошла ему на пользу: в погоне за коммунистами он спустил по крайней мере килограммов десять лишнего жира. И все же, докладывая своему начальнику, он задыхался и голос его дрожал. — Жанис ускользнул. — Что?! — Рауп-Дименс выпрямился во весь рост. — Вы упустили этого парня? Зная, что, по всем данным, он один из руководителей рижской подпольной организации?! Еще неделю назад вы хвастались, что установили с ним связь! — Да. Так оно и было. Мы с ним встретились… Оберштурмфюрер жадно затянулся.
— Ну и дальше?
— Ничего существенного. Ни имени, ни адреса узнать не удалось. Он был так осторожен, что я не смог даже выследить его. Я главным образом рассчитывал на вторую явку, но он не пришел. Должно быть, почуял что-то неладное.
Рауп-Дименс вырвал из блокнота листок бумаги, на котором, слушая Кисиса, нервно чертил какие-то фигурки, и приготовился записывать.
— Парень, видно, тертый. Надо его поймать во что бы то ни стало. Рост? Цвет волос? Глаза?
— Среднего роста…
— Так, дальше! Что же вы молчите, Кисис?
— Боюсь, что это все. Мы встретились поздно вечером. Когда я зажег спичку, чтобы закурить, он прикрыл лицо рукой. Я заметил только, что он среднего роста, в сером плаще и низко надвинутой коричневой шляпе. Вот и все, что я могу сказать.
— А тот, через которого вы восстановили связь?
— Тоже исчез…
Рауп-Дименс отбросил карандаш.
— Проворонили!.. Эх, вы… Ну ладно, идите.
Как только дверь затворилась, оберштурмфюрер подошел к большой карте Риги. Этот таинственный Жанис свободно разгуливает по городу, а он, Рауп-Дименс, лучший работник гестапо, до сих пор не заполучил его! Такое положение просто нетерпимо.
Оберштурмфюрер жадно затянулся.
— Ну и дальше?
— Ничего существенного. Ни имени, ни адреса узнать не удалось. Он был так осторожен, что я не смог даже выследить его. Я главным образом рассчитывал на вторую явку, но он не пришел. Должно быть, почуял что-то неладное.
Рауп-Дименс вырвал из блокнота листок бумаги, на котором, слушая Кисиса, нервно чертил какие-то фигурки, и приготовился записывать.
— Парень, видно, тертый. Надо его поймать во что бы то ни стало. Рост? Цвет волос? Глаза?
— Среднего роста…
— Так, дальше! Что же вы молчите, Кисис?
— Боюсь, что это все. Мы встретились поздно вечером. Когда я зажег спичку, чтобы закурить, он прикрыл лицо рукой. Я заметил только, что он среднего роста, в сером плаще и низко надвинутой коричневой шляпе. Вот и все, что я могу сказать.
— А тот, через которого вы восстановили связь?
— Тоже исчез…
Рауп-Дименс отбросил карандаш.
— Проворонили!.. Эх, вы… Ну ладно, идите.
Как только дверь затворилась, оберштурмфюрер подошел к большой карте Риги. Этот таинственный Жанис свободно разгуливает по городу, а он, Рауп-Дименс, лучший работник гестапо, до сих пор не заполучил его! Такое положение просто нетерпимо.
4
Покинув здание гестапо через тайный выход, Кисис проходными дворами добрался до улицы Валдемара, переименованной в ту пору в улицу Германа Геринга. Взглянув на часы, он пошел быстрее, так как ровно в пять обещал быть у Граудниеков, а до этого нужно было еще зайти домой переодеться. Принадлежащую Виестуру Граудниеку импортно-экспортную фирму знала вся Рига, но мало кому было известно, что недавно он стал также владельцем ювелирного магазина Шапиро. Что говорить, Граудниек жить умеет да и друзьям своим скучать не дает! Кисис не сомневался, что и сегодня прием будет устроен на широкую ногу: редкие вина, красивые женщины… Это как раз то, что ему сейчас нужно. Развлечься, забыть неудачу с Жанисом… Увидев в дверях ресторана «Фокстротдиле» знакомого швейцара, агент усмехнулся. Да, было время, когда он, Кисис, командир полка айзсаргов, только засветло завершал здесь попойки. Теперь ночные дансинги закрыты, после десяти часов ходить по городу запрещено, приходится устраивать приемы после обеда — прямо-таки вроде ученических вечеров в гимназии. Хотя мысли о предстоящем кутеже доставляли Кисису несомненное удовольствие, забыть о своей неудаче с Жанисом он все же не мог. Еще подозрительнее, чем обычно, вглядывался он в лица прохожих. А что, если повезет и Жанис вдруг случайно попадется ему на улице? Конечно, на это мало шансов, а все же… как знать… Чего не бывает на свете! На сей раз он не даст этому молодчику ускользнуть из-под носа. А если к тому же обнаружится, что Жанис действительно связан с типографией, то ему, Кисису, перепадет немалый куш. И уж он-то сумеет пустить свои денежки в оборот! Вдруг агент насторожился. Впереди мелькнула мужская фигура в сером плаще и коричневой шляпе и тут же исчезла в толчее у автобусной остановки. Жанис?! Когда Кисис добежал до остановки, автобус уже тронулся. Рискуя попасть под колеса, агент одной ногой вскочил на подножку, грубо оттолкнул стоявшую в дверях женщину и протиснулся в переполненную машину. — Вам куда? — спросил кондуктор. — До конца, — предусмотрительно ответил Кисис, сверля глазами коричневую шляпу, которая продвигалась все дальше к выходу. Позабыв о билете и сдаче, агент, энергично работая локтями, стал пробивать себе путь. Это было вовсе не легко — приходилось отвоевывать каждый шаг. Недовольные пассажиры осыпали его бранью. Вот наконец и остановка. Обладатель коричневой шляпы спокойно вышел, а Кисис, как назло, застрял в узкой щели между двумя спинами. Тут он и вовсе перестал церемониться — пустил в ход кулаки, кое-как пробился к выходу и яростно забарабанил в кабину шофера. В конце концов водитель остановил машину. Кисис выскочил на мостовую. Какое счастье! Человек в сером плаще и коричневой шляпе еще не успел скрыться! «Теперь не уйдешь!» — злорадно прошептал Кисис и тут же успокоился. Он, правда, не убавил шагу, но из предосторожности перешел на другую сторону улицы и продолжал свой путь с таким видом, будто спешил по срочному делу. И вдруг Кисису показалось почему-то, что он ошибся… Так они прошли, преследователь и преследуемый, метров сто. Агент внимательно разглядывал незнакомца в сером плаще и коричневой шляпе. Охватившие его сомнения как будто подтверждались. Непохоже что-то на Жаниса. Уж очень у этого типа расслабленная походка… С каждым шагом сомнения Кисиса росли, а когда преследуемый спокойно остановился у особняка Граудниеков, агент почти убедился в том, что ошибся. И все же он решил довести это дело до конца. Надо заговорить с незнакомцем. Если он все-таки окажется Жанисом, можно будет снова выдать себя за подпольщика из Слоки. Однако стоило лишь взглянуть на лицо незнакомца, чтобы исчезла всякая надежда. Агента вдруг охватила дикая злоба и на себя самого, и на этого бездельника в коричневой шляпе и дурацком пенсне, и больше всего на Жаниса, из-за которого он чуть было не попал под автобус, дрался с пассажирами и потерял зря столько времени. Когда человек в сером плаще, которому Кисис мешал пройти, проворчал что-то насчет нахалов, агента прорвало. — Придержи язык! А то не поздоровится! — Что-о-о-о? — Человек в пенсне лишь постепенно обретал дар речи. — Да как вы смеете? — Господин Граве! — раздался вдруг возмущенный женский голос. — Что вы церемонитесь с этим хамом? Зовите шуцмана! У калитки появилась моложавая особа, блондинка с ярко накрашенными губами и в ярко-красных туфлях на толстой подошве. При других обстоятельствах Кисис бы за словом в карман не полез, но на сей раз сдержался. Ведь оскорбляют не его, Арнольда Кисиса, а человека в спецовке, простого рабочего, за которого он себя выдавал. К тому же эта блондинка недурна собой… Утешившись мыслью, что скоро он познакомится с этой женщиной у Граудниеков, агент отправился домой. Полчаса спустя, целуя руку блондинки, Кисис с удовлетворением убедился в том, что она не узнала его. Да и как могло ей прийти в голову, что этот изысканно одетый господин и наглый рабочий в поношенной спецовке, которого она недавно видела, одно и то же лицо? В гостиной у Граудниеков, по обыкновению, собралось большое общество. Деревянные жалюзи были опущены, стоячие лампы и окутанные красным муаром неоновые светильники разливали в комнате мягкий свет. Гости в непринужденных позах расположились на низких диванах. В одном углу было устроено нечто вроде бара. Старший сын Граудниека, наряженный барменом, орудовал у стойки. Ловкими, привычными к лабораторным опытам руками студент-химик смешивал коктейли, а две хорошенькие горничные в коротких юбках предлагали напиток дамам. Мужчины оказывали предпочтение «белой». Все чаще звучал игривый смех, радиоприемник, включенный на предельную мощность, наполнял комнату оглушительным ревом джаза. Настроение, царившее в гостиной, напоминало Кисису времена в «Фокстротдиле» и предвещало занятный вечер. То же и, пожалуй, многое другое сулила улыбка Мелсини — так звали блондинку — и томный жест, которым она пригласила Кисиса сесть возле нее. И только чопорность, с которой хозяйка дома, ведя гостя под руку, представила его всем присутствующим, напомнила агенту, что он находится среди людей высшего круга, допущенных госпожой Граудниек в ее «салон». — Господин Нариетис, адвокат… Юрист вынул изо рта толстую сигару, но, собираясь пробормотать ничего не говорящее «очень рад», поперхнулся дымом. — Надежда нашей оперы… Склонившись к руке пожилой дамы, Кисис услышал продолжение беседы адвоката с хозяином дома: — …У вас имеется вполне законное основание предъявить свои права на этот земельный участок… — Мадемуазель Лония Сэрде. Отец мадемуазель Лонии — вы, разумеется, слышали о господине Сэрде, директоре, — так вот, отец ее получил ответственный пост в Белоруссии и оставил свою дочь на мое попечение. У Кисиса чуть заметно дрогнули уголки губ. Лония Сэрде еще училась в последнем классе лицея, но слава о ее образе жизни уже грозила затмить репутацию папаши. — Господин Мартынь Каулс, писатель… Кисис лихо щелкнул каблуками, как того требовала выправка бывшего командира полка айзсаргов. Агенту гестапо было известно, что вовсе не гонорары за статейки для «Тевии» дают Каулсу возможность вести широкий, светский образ жизни, а куда более солидные доходы от принадлежавшего ему пятиэтажного дома на улице Калькю. — Господин Гигут — штабс-капитан в отставке… Мадемуазель Атлане, начинающая поэтесса. Господин Регерт, наш родственник из Залмиеры, директор банка… Кисис старался запомнить каждую фамилию. Хотя все эти люди, числившиеся в архивах гестапо «сочувствующими», находились вне сферы его деятельности, он все же был уверен, что Банге охотно выслушает доклад о мелких грешках присутствующих здесь господ. — Господин Граве, приват-доцент, — продолжала хозяйка дома. Как и Мелсиня, обладатель серого плаща и коричневой шляпы не узнал Кисиса, но агент, вспомнив о напрасной погоне за мнимым Жанисом, снова почувствовал раздражение. — Господин Граве — ужасный оригинал, — защебетала жена Граудниека, — представьте, но не выносит немцев. Из-за него я не пригласила полковника фон Планту… — Какая жалость! — откликнулась Мелсиня. — По-моему, полковник фон Планта страшно интересный мужчина. Вообще я обожаю немцев. Они такие галантные кавалеры, так вежливы, так тонко воспитаны! За стеклами пенсне блеснул насмешливый взгляд господина Граве. — Ваш опыт безусловно дает возможность лучше судить о галантности кавалеров… Но ведь нельзя же закрывать глаза на то, что за этим тонким воспитанием кроется жестокость и властолюбие. «Ах, вот ты что за птичка!» — подумал Кисис. Недаром он с первого взгляда почувствовал неприязнь к этому типу. Агент уже собрался было задать приват-доценту ехидный вопрос, но тут его опередил инженер Калтуп: — Может, вам больше по душе большевики? — Не забывайте, что немцы спасли вас от Сибири, — с упреком заметил Мартынь Каулс. — Что вы, что вы, господа! — вспыхнул Граве. — Дайте же человеку высказать свою мысль до конца. История показывает, что в известных условиях отрицательное явление может превратиться в свою противоположность, то есть стать положительным. Бронированный кулак — вот единственная сила, способная сокрушить коммунистов и защитить частную собственность. — Но лично у вас, насколько мне известно, недвижимой собственности не имеется, — съязвил Граудниек. — Разве в этом дело? — возразил Граве. — Чтобы жить целеустремленно, мне нужно знать, что в любое время я могу таковой обзавестись… — В таком случае выпьем за частную собственность вообще и за будущую собственность господина Граве в частности! — провозгласил директор банка. Он был уже заметно навеселе и, наполняя рюмки, изрядную долю спиртного проливал мимо. Но это никого не смущало — не хватит «белой», найдется еще французский коньяк. Агент гестапо был явно разочарован. Здесь, видно, улова не будет. Граве вовсе не враг нацизма, как можно было предположить по его первым высказываниям, а такой же «истинный латышский патриот», как и все здесь присутствующие. Примирившись с этой неудачей, Кисис сосредоточил все внимание на своей обворожительной соседке. Тост следовал за тостом. В гостиной становилось все оживленней и шумней, так что вначале никто даже не расслышал телефонного звонка. Наконец горничная сняла трубку и позвала Граудниека. Окончив разговор, он обратился к гостям: — Господин Озол просит его извинить. Сегодня он опять работает сверхурочно. Кисис заметил, как некоторые из гостей переглянулись. Все знали, что Озол служит в гестапо и что в тех случаях, когда уничтожали очередную партию заключенных, он появлялся у Граудниеков с опозданием. — Какая жалость! — Мелсиня огорченно вздохнула. И опять, как в тот раз, когда она упомянула фон Планту, в сердце Кисиса шевельнулась ревность. Но он тут же успокоился, так как Мелсиня продолжала улыбаться и даже придвинулась к нему еще ближе. Между ними очень скоро установилось отличное взаимопонимание, которое росло с каждой выпитой рюмкой. Кисис уже не сомневался в том, что Мелсиня с лихвой вознаградит его за все сегодняшние неудачи. Подогреваемое алкоголем веселье все нарастало. Лония Сэрде вскочила на стол и принялась лихо дирижировать орущим хором:«КТО ЭТОТ ГОСПОДИН?
Этот господин ежедневно выходит из директорского кабинета с импортной сигарой в зубах и самодовольной улыбкой на лице; Этот господин с откормленной физиономией часами просиживает в кафе или ресторане в обществе холеных женщин, пока ты зябнешь в очереди за хлебом; Этот господин называет себя «истинным латышским патриотом», но везде и всюду славословит фашистских оккупантов. Кто же он, этот господин? Ты, латышский рабочий, знаешь его уже давно. Это за твой счет он ведет развратную, праздную жизнь, проводит ночи в ресторанах, днем нежится в мягкой постели, лодырничает в конторе своего папаши или распоряжается слугами в отцовском имении. Неважно, как его зовут — Арайс, Кактынь, Лиепинь или Озол, — он всегда был кровопийцей и палачом трудового народа. Взгляни на его руки — они обагрены кровью тысяч людей. Взгляни на его одежду — недавно она принадлежала человеку, которого этот субъект собственноручно убил. Последи за ним, и ты поймешь, где он добывает средства для привольной жизни. После десяти часов, когда тебя уже загнали домой, закрытые машины везут по улицам Риги сотни людей, обреченных на смерть. Там, где у свежевырытых ям машины останавливаются, ты всегда увидишь его. Выполнив обязанности палача, он спешит прибрать к рукам добычу — одежду убитых, часы, золотые зубы, а затем до зари устраивает оргии со своими хозяевами — гестаповцами. Следы его преступлений ты можешь найти в сосновых борах Бикерниеков, Дрейлиней и в Румбульском лесу, где за первые пятнадцать месяцев оккупации было убито свыше 80 000 мужчин, женщин и детей. Вот каков этот «истинный латышский патриот», который зарится и на твою жизнь, и на твое имущество».
5
Почти одновременно точно такая же листовка была доставлена Рауп-Дименсу. Оберштурмфюрер повертел ее в руках, даже понюхал, словно ищейка, бегущая по следу. От бумаги еще пахло типографской краской. Значит, только что отпечатана. Проклятье! Где же находится эта типография? Если бы Кисис не оказался таким разиней, уже сегодня, быть может, эту загадку можно было разгадать. Девять. Пора кончать работу. Спрятав секретные документы в сейф, тщательно вычистив ногти и надев сшитую в Риге шинель, которая всякий раз заставляла с тоской вспоминать об искусстве портного с Бонд-стрита, оберштурмфюрер вышел на улицу. В его распоряжении, конечно, была машина, но Мери жила недалеко, и после дня, проведенного в душном, накуренном кабинете, Рауп-Дименс любил пройтись пешком. Дождь прекратился, но асфальт бульвара и лакированные кузова лимузинов все еще поблескивали от влаги. То здесь, то там мерцали синие огоньки карманных фонариков. Слышалась главным образом немецкая речь: латыши после наступления темноты остерегались появляться на улице. Мери, наверно, уже накрыла на стол. Ведь она знает, как ему нужна женская забота и ласка после напряженного рабочего дня. Да, поистине неисповедимы пути судьбы. Когда Шварц еще в планере упомянул о какой-то певичке Марлене из рижского кабаре «Альгамбра», Рауп-Дименсу и в голову не могло прийти, что он с ней когда-нибудь встретится. Их знакомство началось случайно. Как-то вечером оберштурмфюрер от скуки зашел в ресторан. Там выступала певица с крашеными волосами, пылавшими в луче прожектора, точно красный сигнал светофора. Эта женщина, чей возраст было трудно определить, ибо лицо ее покрывал искусно наложенный слой румян и пудры, довольно сносно исполнила несколько пародий на английские песенки. Когда выступление окончилось, певица подсела к столу оберштурмфюрера. Ее не смутили отвергающий взгляд и холодное молчание гестаповца. Певица осушала бокал за бокалом и с напускной откровенностью рассказывала о себе: раньше она работала в кабаре «Альгамбра», ее зовут Марлена, и сейчас она одинока… Вежливо, но решительно отклонив ее недвусмысленное предложение, Рауп-Дименс уплатил по счету и ушел. Через несколько недель оберштурмфюреру случилось вызвать в гестапо некую Марию Лиену Заринь, которая, по сведениям агентуры, продолжительное время была любовницей английского военного атташе. Она оказалась той самой Марленой, только на сей раз без грима. Когда певичка, бледная и дрожащая, стояла перед ним, Рауп-Дименса вдруг охватило сладострастное чувство власти над этой женщиной. Конечно, оберштурмфюрер вскоре убедился, что у бывшей девицы из кабаре давно уже нет никаких связей с англичанами, все же ему было приятно держать ее в страхе. Пусть знает, что жизнь ее полностью в его руках. Так началось их знакомство, которое скорее напоминало отношения дрессировщика и запугиваемой бичом пантеры. Певица жила в четырехэтажном доме, на одной из улочек Старой Риги. Это было старинное здание с затейливыми украшениями и завитушками в стиле Людовика XVI. В темноте оно выглядело весьма внушительным, но по утрам, когда беспощадный свет открывал взору некогда коричневые, а ныне облупившиеся стены с проплешинами обвалившейся штукатурки, Рауп-Дименс смотрел на него с гримасой отвращения. Должно быть, у домовладельца Бауманиса, который недавно произвел капитальный ремонт, не хватило средств на отделку фасада. Ходили слухи, что старый Бауманис, бывший когда-то простым рабочим, втайне пьет. Рауп-Дименс узнал, что старику посчастливилось стать домовладельцем совершенно случайно, после смерти дальнего родственника, у которого не оказалось других наследников. Неожиданно разбогатев и не зная, куда девать деньги, вчерашний безработный решил купить дом. Но забыть прежние привычки он так и не мог: сам подметал двор и тротуар перед домом, ходил в потертом костюме… Рауп-Дименс из предосторожности собрал сведения и об остальных жильцах дома. Квартиру первого этажа напротив Бауманиса занимала вдова Скоростина, тихая молодая женщина; жила она тем, что сдавала комнату студенту Калныню да, по слухам, распродавала семейные драгоценности. На втором этаже была квартира Мери, а напротив — частное книжное агентство, принадлежавшее какому-то Буртниеку. В верхних этажах располагались кредитное общество, склад мануфактуры и зубоврачебный кабинет. Солидный дом с солидными жильцами, в котором работник гестапо мог чувствовать себя в полной безопасности. — Хелло, Мери, ужин готов? — спросил Рауп-Дименс, сбрасывая с себя шинель. В полуоткрытой двери показались огненные кудри Марлены. — Милый, пожалуйста, называй меня моим настоящим именем, — сказала она с упреком и вытянула губы для поцелуя. — Когда ты зовешь меня Мери, мне так и кажется, что ты вспоминаешь какую-нибудь прежнюю свою знакомую, англичанку. Ну иди же, чай остынет. Да сотри губную помаду со щеки. Харальд посмотрел в зеркало. У него были густые темные волосы, светло-карие глаза, черные брови, сеть мелких морщинок вокруг глаз, прямой нос с едва заметной горбинкой, тонко очерченные, слегка подергивающиеся губы и короткий, точно обрубленный подбородок. Мери находила, что лицом он похож на известного киноактера Вольфа Албаха-Рети. Это в некоторой мере льстило Харальду. Однако он был уверен, что наследник Рауп-Дименса мог быть похожим и на Квазимодо — все равно успех у женщин был бы ему обеспечен. Когда они уселись за столик под красивой стоячей лампой (подарок Харальда) и оберштурмфюрер уже собирался включить большой девятиламповый приемник (тоже его подарок), Мери вдруг принялась изливать ему свои горести. Ее жалобы, правда, не встречали должного сочувствия, потому что Рауп-Дименса сейчас занимало другое: как раз в это время из Лондона передавали последние известия. И хотя Харальд считал, что в них тоже немало измышлений, все же он доверял им больше, чем напыщенному бахвальству Ганса Фриче.*["24] Марлена негодовала. Только из боязни размазать тушь с ресниц она удерживалась от слез. — Представь себе! Когда я сегодня утром покупала в магазине шелк на халат, какие-то старухи начали за моей спиной шептаться: «Вот эта девка с немцами шляется. У нее небось купонов хватает». Эти латыши наглеют с каждым днем. Рауп-Дименс иронически усмехнулся: — Будто ты сама не латышка… — Да, но ведь у меня нет ничего общего с простым народом, который вас ненавидит. Харальд! — И она порывисто обняла его. — Нельзя ли поскорее истребить большевиков?.. Харальд стряхнул пепел с сигареты. — Не волнуйся. Всему свое время… Недавно, правда, один из кандидатов на виселицу ускользнул от нас. Но ничего, рано или поздно я затяну петлю и у него на шее…6
В том же доме, только этажом ниже, жил Янис Даугавиет, записанный в домовой книге как Дзинтар Калнынь. Его комната была обставлена лишь самыми необходимыми вещами. Только на стенах, как это часто бывает в мещанских квартирах, красовались репродукций картин и фотографий знаменитых кинозвезд. Эту безвкусную коллекцию, над которой Янис сам частенько посмеивался, пополняли несколько открыток со слащавыми любовными парочками. На старомодной этажерке стояли сборники песен, рядом с учебниками студента инженерного факультета — собрание сочинений Порука*["25] и несколько романов издательства «Друг книги». Янис долго размышлял над тем, какое занятие помогло бы ему лучше всего скрыть свою настоящую работу, и наконец решил остановиться на учебе в университете. Студенту легче располагать своим временем, посещать лекции можно по собственному усмотрению, сокурсникам можно сказать, что зарабатываешь на жизнь частными уроками… На лекции Даугавиет ходил довольно редко, потому что типография и организационная работа отнимали много времени, но все же он старался сдавать экзамены в срок, чтобы ничем не отличаться от остальных студентов. Вот и сейчас Янис склонился над учебником аналитической геометрии. Трудно сосредоточиться, когда мысли все время заняты делами, связанными с подпольной работой. Порой Даугавиету казалось, что он не выдержит напряжения, не сможет больше вести жизнь, требующую постоянной мобилизации всех сил. Никогда, ни на секунду не выходить из роли, даже во сне быть начеку — такая жизнь, конечно, основательно расшатывала нервы. Но всякий раз, когда Яниса охватывало желание попросить, чтобы на его место назначили другого, а самому разрешили уйти к партизанам, он вспоминал разговор с секретарем Центрального Комитета. Разговор этот происходил в один из последних дней июня 1941 года в освещенном настольной лампой большом кабинете. Их все время прерывали: то бойцы рабочей гвардии входили за приготовленными для эвакуации бумагами, то телефон непрерывным звонком оповещал, что Москва на проводе. За окнами, закрытыми черными шторами, слышался необычный для столь позднего часа шум уличного движения. Свет лампы под зеленым абажуром отбрасывал на стену два гигантских силуэта, и Даугавиету казалось, что никогда в жизни ему не забыть ни этих теней, ни испытующих умных глаз, следящих за ним из-под густых нависших бровей. Вдалеке протяжно завыла сирена, ей тотчас стали вторить воющие голоса других сирен. Это был зловещий оркестр, своей пронзительной увертюрой предвещавший очередной налет вражеской авиации. — Мы позаботимся о том, чтобы у вас была постоянная связь с Центральным Комитетом, где бы он ни находился, — сказал секретарь. — Ни на минуту не забывайте, что главный участок вашей работы — типография. Не делайте ничего такого, что могло бы поставить под угрозу типографию… Сами понимаете, работать будет нелегко, — заметил секретарь после небольшой паузы. — Выдержите?.. …Из кухни доносилось тихое шипение чайника. Надя, должно быть, начала готовить ужин. Янис представил себе, как она раздувает огонь, как мягким женственным движением приглаживает растрепавшиеся волосы. Даугавиету вспомнилось, как он впервые увидел майора медицинской службы Надежду Цветкову. Он нашел ее на мостовой, раненную. Сквозь гимнастерку сочилась кровь. Бледное, искаженное болью лицо, мягкие, цвета льна волосы, разметавшиеся на грязных камнях, рука, судорожно сжимающая санитарную сумку. Рядом лежал красноармеец, которого она хотела перевязать. У бойца были раздроблены обе ноги. Он уже не дышал. Даугавиет тщетно пытался носовым платком перевязать раненую и приостановить кровь. Молодая женщина подняла тяжелые веки. Глаза ее казались удивительно прозрачными, точно две большие капли из горного озера. — В моей сумке бинт, — с трудом проговорила она. Неловкими пальцами, боясь резким движением причинить ей боль, Янис перевязал рану. Надежда с трудом заговорила, даже пыталась улыбнуться. — Так… теперь ничего… только… вряд ли поможет… Сама врач, знаю… ранение тяжелое. В кармане записная книжка… На всякий случай выньте. Там адрес мужа… Напишите ему… Фашисты уже форсировали Даугаву. Янис решил отнести раненую к себе домой. Не так-то легко было с ношей на руках пробираться несколько кварталов под обстрелом. Часто приходилось делать передышку. Домой Даугавиет добрался уже затемно. Это было к лучшему — никто не заметил, как он внес Надежду в квартиру соседей. Старая Элиза Свемпе принялась самоотверженно за ней ухаживать. Янис достал для нее паспорт, и Надежда Цветкова превратилась в Ядвигу Скоростину из Резекне. Цветкова поправилась как раз к тому времени, когда вся работа по устройству типографии была закончена и Даугавиету понадобился надежный помощник. Ему приходилось подолгу отлучаться из дому, а оставлять квартиру без присмотра нельзя ни на минуту. Кто-то должен был постоянно охранять вход в подпольную типографию и в случае тревоги предупредить сигналом об опасности тех, кто внизу печатал листовки. Надя оказалась отличным помощником и добрым другом. Без нее жизнь была бы намного труднее. Как и всегда, думая о Наде, Янис в душе стеснялся своей сентиментальности. Он зашагал по комнате, вполголоса напевая любимую старую песенку, слова которой понемногу стирались из памяти:7
В том же доме в соседней квартире Скайдрите Свемпе расчесывала свои густые каштановые волосы. — Ты, доченька, уже заходила к соседу? — спросила Элиза, устраиваясь на старомодной кушетке, чтобы дать хоть небольшой отдых усталым, больным ногам. — Сейчас, мама, сейчас побегу спрошу… Девушка отворила дверь и недовольно сморщила нос. Опять показалось… Но что поделать, если даже теперь ей всюду чудится противный запах рыбьего жира. В этом отношении Скайдрите не изменилась — она по-прежнему, как и в детстве, терпеть не могла этого снадобья. Напрасно мать в свое время внушала девочке, что от трех столовых ложек рыбьего жира в день щеки у нее станут круглые и румяные. Скайдрите всегда казалась такой хрупкой и слабенькой, что невольно хотелось обнять худые плечики девочки и оградить ее от суровых ветров жизни. Но зато посмотрели бы вы на нее в праздник Лиго! В венке из ромашек и васильков, украшавшем ее непокорные кудри, она становилась на редкость привлекательной. А как бесстрашно прыгала она через костер! Только искры разлетались во все стороны. И тогда все видели, что Скайдрите совсем не такое уж хрупкое создание. Сейчас рыбьего жира не достать ни за какие деньги. Лицо Скайдрите вытянулось, черты его заострились, и все же оно оставалось по-юному свежим, несмотря на тяготы теперешней жизни. Что касается праздника Лиго, то с 1941 года у нее именно с этим днем связаны самые мрачные воспоминания. Как раз в день праздника она, сидя в переполненном автобусе, с недоумением и тревогой смотрела на зреющие нивы, на тучные налитые колосья. Неожиданное нападение фашистов прервало ее отдых у родных в деревне. Девушка-кондуктор в блузке, покрытой темными пятнами пота, рассказывала, что им всем велено взять одежду и трехдневный запас продовольствия. Стемнело. Автобус медленно пробирался между телегами и военными машинами. Двое юношей на переднем сиденье запели песню, ставшую особенно популярной за последнее время: «Мы — мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Песня так верно выражала общее настроение, что даже Скайдрите, не отличавшаяся особой музыкальностью, принялась громко подтягивать. Увлеченные песней, пассажиры автобуса вначале не обратили внимания на прерывистый, постепенно нарастающий гул. Только когда автобус остановился и внезапно наступившую тишину вдруг прервали оглушительные взрывы, они поняли, что вражеские самолеты бомбят шоссе. Где-то загорелся лес. «Костер в праздник Лиго…» — с горечью подумала Скайдрите. Она не испытывала страха и неохотно послушалась кондуктора, приказавшего всем выйти и залечь в канаве. Но едва она успела улечься, как рокот вдруг превратился в жуткий пронзительный вой. В траве засвистели пули, совсем низко, над ее головой, промелькнуло крыло с черным крестом. Не помня себя от страха, она уткнулась лицом прямо в грязь. Когда земля перестала содрогаться и Скайдрите открыла глаза, первое, что она увидела, был пылающий автобус, а рядом с машиной — тело шофера. — Доченька, что с тобой? На кого ты похожа! — спрашивала вконец перепуганная мать, когда Скайдрите в порванной юбке, в мокрых и грязных туфлях ночью ввалилась в комнату. Лицо Скайдрите отмыла в каком-то ручье, но запекшаяся возле царапины кровь темнела, точно пятно на белой ткани. — Ничего, ничего, — пыталась она успокоить мать, но сама, обессилев, упала на стул. Элиза Свемпе зажгла свет, но тотчас в страхе повернула выключатель. А что, если фашисты заметят свет с самолета и бросят бомбу? За короткое мгновение Скайдрите успела заметить, что обычно такая уютная комната стала совсем чужой. Только спустя некоторое время, когда глаз привык к белесому сумраку июньской ночи, девушка поняла, в чем дело. Это заклеенные бумажными крестами окна придавали, комнате сходство с клеткой. — Мамочка, ты уже уложила вещи? — Какие вещи, Скайдрите? — в недоумении спросила мать. — Мы же не собираемся никуда уезжать… — Как, мама, разве ты хочешь остаться?! — Уехать… Я бы с радостью, но… В наружной двери почти бесшумно повернулся ключ, и в комнату вошел дядя Скайдрите, старый Донат Бауманис. Несмотря на волнение, девушка все же обратила внимание на то, что теперь, в дни войны, дядя Донат вернулся к своей давнишней странной привычке бродить по ночам. Помнится, когда Скайдрите была еще подростком, ее часто будили осторожные шаги — это дядя Донат под утро возвращался домой. Многое ей было непонятно в этом спокойном, добродушном, замкнутом человеке. До установления Советской власти ему принадлежал четырехэтажный дом, и все же у него никогда не было ни гроша за душой. Матери, ведавшей скромным хозяйством своего брата, приходилось наниматься на поденную работу, чтобы раздобыть средства на учебу дочери. Куда же он девал деньги, полученные от жильцов? Уж не играл ли дядя Донат по ночам в карты? Эта мысль не раз приходила девочке в голову. Но если это было так, то дядя очень ловко умел скрывать свою страсть. Ведь когда к ним изредка приходили гости и кто-нибудь, случалось, предлагал перекинуться в подкидного дурака или в «свои козыри», старый Бауманис всегда отказывался, уверяя, что он ничего в картах не смыслит и не умеет отличить короля от валета. Скайдрите обратилась к дяде за поддержкой: — Дядя Донат, ты ведь тоже поедешь с нами, правда? Скажи маме, чтобы она поскорее собиралась. Мать и дядя переглянулись. Скайдрите тщетно пыталась понять, что это значило. Потом старик кашлянул, погладил племянницу по голове и, вынув изо рта трубку, сказал: — Нет, Скайдрите, мы с матерью уже старики. Мы никуда не поедем. Всякий раз, когда Скайдрите вспоминала эту роковую ночь, ей казалось, что один только дядя Донат виноват в том, что они остались. С тех пор Скайдрите не могла найти с ним общего языка. С каждым днем старик становился все более странным. То у него вдруг непонятно откуда появлялись деньги на капитальный ремонт дома, то не хватало нескольких марок, чтобы выкупить скудный паек. Правда, по ночам дядя перестал исчезать, но зато он теперь целыми днями торчал на улице с метлой в руках, хотя, по мнению Скайдрите, на тротуаре уже нечего было подметать, так как не осталось ни единой соринки. …Пригладив еще раз и без того аккуратно причесанные волосы, Скайдрите постучала в дверь соседней квартиры. Девушку впустила Надежда, которую Скайдрите знала как Ядвигу Скоростину. Эта молодая женщина была единственным человеком, с которым Скайдрите могла делиться своими мыслями и чувствами. Мать всегда была занята — она следила за порядком в доме, а кроме того, работала уборщицей в гостинице. Студента Калныня Скайдрите никак не могла понять. Вначале он показался ей очень славным. Однако Скайдрите довольно скоро почувствовала, что Калнынь всячески избегает серьезных разговоров. Временами девушке даже казалось, что он ей в чем-то не доверяет. Словом, единственным ее другом и поверенным оставалась Надя. — Мама велела узнать, нужно ли ей завтра убирать квартиру? — спросила Скайдрите, входя в комнату. Янис пожал гостье руку. — Попроси ее прийти… Ну, что нового на свете? — Что же может быть нового? — с досадой ответила девушка. — Мария Заринь опять щеголяет в новом пальто. Наверное, ее гестаповец получил еще одну премию за какое-нибудь злодейство. Не понимаю, как дядя может терпеть такую тварь в своем доме! — Это не наше дело, Скайдрите, — заметила Надежда. — Что пользы, если она поселится в другом месте? Горячность Скайдрите радовала Яниса. Из этой девушки выйдет толк. Но ей не к чему знать, что старый Донат уже давно собирался выселить Марию Заринь из квартиры. Янис с этим не согласился. Выследив немецкого офицера, по вечерам посещавшего квартиру Заринь, он узнал, что это крупный работник гестапо, и тогда Янис припомнил старую пословицу о том, что злая собака только на чужих лает, а своих не кусает. Шпикам нечего вынюхивать в доме, который постоянно посещает их начальник. Даугавиет все еще не мог простить себе встречу с человеком, рекомендованным Апсе. Он даже не мог ручаться, что не попался на удочку. Как настойчиво провокатор старался рассмотреть его лицо! Следы удалось замести, Апсе предупрежден. А что, если провокатору при свете спички все же удалось увидеть его лицо? Проклиная вынужденное бездействие, Янис все же решил хотя бы неделю не показываться на улице. Вот почему он до сих пор не установил связь с приехавшим в Ригу юношей, который прислан для работы в типографии. Янис ушел в ванную комнату, и если через несколько минут кому-нибудь вздумалось бы тайком обыскать квартиру, то в ней нашли бы только Надежду.8
В том же доме, только этажом выше, Элиза Свемпе нажала кнопку звонка у дверей книжного агентства. Дверь открыл Висвальд Буртниек, единственный владелец фирмы, одновременно исполняющий обязанности «служебного персонала». Заказов он, правда, не разносил, поручая это ответственное дело матери Скайдрите. — Добрый вечер, господин Буртниек. Сегодня много книг надо разнести? — громко спросила Элиза Свемпе, едва успев переступить порог. — Кое-что есть. Потом еще придется сходить на почту: надо отправить несколько бандеролей клиентам из провинции. Дверь затворилась. На прилавке перед Элизой лежало несколько аккуратных пакетов, обернутых в толстую бумагу со штемпелем «Печатные издания». Одни пакеты перевязаны черным шнурком, другие — белым. Сосчитав заказы, старая Элиза тяжело опустилась в потрепанное кожаное кресло. — Уж годы не те! Бывало, поднималась на шестой этаж без всякой одышки. А теперь вот к вечеру ноги так и подкашиваются. Буртниек снял очки и стал протирать их носовым платком. — Знаю, знаю, Элиза, тебе еще труднее, чем всем нам. Но что поделаешь? Сегодня непременно надо отнести. Ведь люди ждут. — Да разве я жалуюсь… Много сегодня приходило клиентов? — Как всегда, — ответил Буртниек, пряча застенчивые близорукие глаза за толстыми стеклами очков. — Приезжал шофер генерала Хартмута, заходил Макулевич… Одним словом, все та же карусель. — Макулевич?.. Тот чудак, что сочиняет французские стишки? У бедняги, кажется, в голове винтиков не хватает. Элиза принялась складывать бандероли в свою большую базарную сумку, а сверху прикрыла их немецкими иллюстрированными журналами. Висвальд Буртниек запер за ней дверь и уселся в то же самое кресло, с которого только что поднялась Элиза. Он тоже неважно чувствовал себя по вечерам. Пошаливало сердце. Sclerosis aortae*["26] — это звучало красиво, почти как гекзаметр Горация. Но если наступала «цезура» — как, иронизируя над собой, называл Буртниек свои сердечные припадки, — он горько упрекал себя за то, что весной 1941 года отказался от путевки на Кавказ в санаторий. Теперь уж лечиться было невозможно. Неудивительно, что сердце Буртниека часто бастовало. Он мало берег его в дни молодости. Буртниек родился в бедной трудовой семье. Приобрести знания, чтобы передавать их другим, стало целью и смыслом его жизни. Перебиваясь случайными заработками, он благодаря необычайному упорству умудрился окончить университет. Но случилось так, что диплом, торжественно врученный ему самим ректором, не внес в его жизнь ни малейшего облегчения. Все оказалось напрасным: долгие годы лишений, когда приходилось перебиваться е хлеба на воду, бессонные ночи за книгами, ставшие причиной хронических головных болей… Как и многие окончившие университет в буржуазной Латвии, Висвальд так и не смог найти работу по специальности. Но именно пережитое вывело его на правильный путь… Буртниек был человеком общительным. Однако теперь, в силу особых обстоятельств, он безропотно отказался от многих довоенных знакомств. Единственные люди, с которыми ему случалось поговорить, были соседи да немногочисленные посетители агентства. Взять, к примеру, генерала Хартмута, который собирал детективную литературу на разных языках. Просто непонятно, что он делал с этими книгами, потому что, кроме немецкого, генерал ни одним другим языком не владел. Сам он редко появлялся в конторе Буртниека, но зато часто посылал за книгами своего шофера Бауэра, который казался Буртниеку куда образованней своего начальника. Бауэра хотя бы потому можно было причислить к приятным посетителям, что он никогда не кричал на пороге: «Хайль Гитлер!» Заказанные начальником книги его ничуть не интересовали, зато сегодня он выпросил у Буртниека запрещенный в фашистской Германии сборник стихотворений Гейне и новеллы Стефана Цвейга. — Это же не арийские авторы, — иронически заметил Буртниек. — Лучше почитайте Ницше «Так говорил Заратустра».
Ефрейтор Бауэр усмехнулся:
— Так говорил фюрер… Для меня «нечеловек» Гейне все же милее «сверхчеловека» Ницше с его философией насилия.
Уходя, ефрейтор Бауэр столкнулся в дверях с Макулевичем. Последний, как обычно, изысканно аристократическим жестом снял старую, протертую до подкладки шляпу и отвесил низкий поклон. Затем он положил шляпу под стул, как это было принято делать в прошлом веке, швырнул в нее неизъяснимого цвета перчатки и стал скромно ждать, когда Висвальд первым протянет руку.
Буртниека всегда немного забавлял этот чудак, все поведение которого было до удивления странным. Однако тех, кто знал прошлое Макулевича, не очень уж удивляли странности этого человека. Отцу Макулевича некогда принадлежал небольшой ювелирный магазин на улице Тиргоню, что дало ему возможность отправить сына учиться во Францию. Старый ювелир неожиданно обанкротился и, будучи не в силах перенести позор, повесился в день аукциона. Мать Макулевича от горя вскоре умерла, а ее сын Антон, совершенно не подготовленный к обрушившимся на него жестоким ударам судьбы, слегка помешался. Ему казалось, что рухнули самые основы бытия. Он влачил жалкое существование и постепенно пришел к выводу, что жизнь человека — лишь сплошное недоразумение.
— Как изволите сегодня чувствовать себя, досточтимый господин Буртниек? — спросил Макулевич пискливым женским голосом, обнажая в любезной улыбке неровный ряд зубов. — Не беспокоит ли сердце?
— Нет, пока работает сносно, — коротко ответил Буртниек.
Макулевич удовлетворенно кивнул головой, покрытой редкими волосами такого же неопределенного цвета, как и его изношенные перчатки.
— Благодарение богу, высокочтимый друг. Кстати, все гениальные люди были подвержены этому недугу. Так, например, великий мыслитель Монтангардо умер от разрыва сердца, узнав, что его жена родила двойню.
— Но, по-моему, это весьма радостное известие!
— Вы глубоко заблуждаетесь, высокочтимый господин Буртниек. Жизнь есть лишь трагическое недоразумение. Любовь между представителями обоих полов преступна, ибо ведет к продолжению сего недоразумения. Единственное, что может быть приемлемым для человечества, — это уничтожение, смерть! Вот что меня примиряет с фашистами. Они несут человечеству неизмеримые страдания, уничтожают памятники культуры, но ведь важен конечный результат — исход. Нацисты сначала уничтожат своих противников, затем начнут уничтожать самих себя, пока наконец в мире не останется ни одного человека. И тогда абсолютная смерть вступит в свои извечные права, только смерть воцарится в космосе.
— Интересно знать, откуда вы эту кровожадную философию выкопали? — спросил Буртниек.
— Кровожадную? Как раз наоборот, уважаемый коллега. Разве вы не видите, что за этими воззрениями скрывается величайший гуманизм? Смерть — избавительница, и я желаю смерти всем своим ближним.
— Но ведь сами-то вы, насколько я понимаю, вовсе не собираетесь умирать?
— Мне прежде нужно закончить сборник сонетов «Le bonheur des morts».*["27] Он будет состоять из пятнадцати венков сонетов, первые строки которых, в свою очередь, составят сплетенный из них последний, шестнадцатый венок. Пока я написал всего лишь третью часть сборника. Однако это не единственная причина. Дело в том, что меня страшит сознание того, что мои бренные останки смешаются с землей, которая вновь порождает жизнь.
— Это же не арийские авторы, — иронически заметил Буртниек. — Лучше почитайте Ницше «Так говорил Заратустра».
Ефрейтор Бауэр усмехнулся:
— Так говорил фюрер… Для меня «нечеловек» Гейне все же милее «сверхчеловека» Ницше с его философией насилия.
Уходя, ефрейтор Бауэр столкнулся в дверях с Макулевичем. Последний, как обычно, изысканно аристократическим жестом снял старую, протертую до подкладки шляпу и отвесил низкий поклон. Затем он положил шляпу под стул, как это было принято делать в прошлом веке, швырнул в нее неизъяснимого цвета перчатки и стал скромно ждать, когда Висвальд первым протянет руку.
Буртниека всегда немного забавлял этот чудак, все поведение которого было до удивления странным. Однако тех, кто знал прошлое Макулевича, не очень уж удивляли странности этого человека. Отцу Макулевича некогда принадлежал небольшой ювелирный магазин на улице Тиргоню, что дало ему возможность отправить сына учиться во Францию. Старый ювелир неожиданно обанкротился и, будучи не в силах перенести позор, повесился в день аукциона. Мать Макулевича от горя вскоре умерла, а ее сын Антон, совершенно не подготовленный к обрушившимся на него жестоким ударам судьбы, слегка помешался. Ему казалось, что рухнули самые основы бытия. Он влачил жалкое существование и постепенно пришел к выводу, что жизнь человека — лишь сплошное недоразумение.
— Как изволите сегодня чувствовать себя, досточтимый господин Буртниек? — спросил Макулевич пискливым женским голосом, обнажая в любезной улыбке неровный ряд зубов. — Не беспокоит ли сердце?
— Нет, пока работает сносно, — коротко ответил Буртниек.
Макулевич удовлетворенно кивнул головой, покрытой редкими волосами такого же неопределенного цвета, как и его изношенные перчатки.
— Благодарение богу, высокочтимый друг. Кстати, все гениальные люди были подвержены этому недугу. Так, например, великий мыслитель Монтангардо умер от разрыва сердца, узнав, что его жена родила двойню.
— Но, по-моему, это весьма радостное известие!
— Вы глубоко заблуждаетесь, высокочтимый господин Буртниек. Жизнь есть лишь трагическое недоразумение. Любовь между представителями обоих полов преступна, ибо ведет к продолжению сего недоразумения. Единственное, что может быть приемлемым для человечества, — это уничтожение, смерть! Вот что меня примиряет с фашистами. Они несут человечеству неизмеримые страдания, уничтожают памятники культуры, но ведь важен конечный результат — исход. Нацисты сначала уничтожат своих противников, затем начнут уничтожать самих себя, пока наконец в мире не останется ни одного человека. И тогда абсолютная смерть вступит в свои извечные права, только смерть воцарится в космосе.
— Интересно знать, откуда вы эту кровожадную философию выкопали? — спросил Буртниек.
— Кровожадную? Как раз наоборот, уважаемый коллега. Разве вы не видите, что за этими воззрениями скрывается величайший гуманизм? Смерть — избавительница, и я желаю смерти всем своим ближним.
— Но ведь сами-то вы, насколько я понимаю, вовсе не собираетесь умирать?
— Мне прежде нужно закончить сборник сонетов «Le bonheur des morts».*["27] Он будет состоять из пятнадцати венков сонетов, первые строки которых, в свою очередь, составят сплетенный из них последний, шестнадцатый венок. Пока я написал всего лишь третью часть сборника. Однако это не единственная причина. Дело в том, что меня страшит сознание того, что мои бренные останки смешаются с землей, которая вновь порождает жизнь.
 Буртниек закусил губу, стараясь скрыть усмешку. Самым забавным казалось, что Макулевич совершенно искренне верил в свою «теорию». Что толку спорить с этим человеком, чьи подчеркнуто изысканные манеру пресыщенного жизнью аристократа являли столь вопиющий контраст с его внешним видом: потрепанной одеждой и много раз заплатанной обувью.
После пространного, длившегося чуть ли не целый час вступления Макулевич наконец сообщил о цели своего визита.
— Скажите, пожалуйста, не могу ли я затруднить вас одним вопросом? Быть может, вы уже получили заказанный мною сборник стихотворений Мориса Керковиуса, изданный самим автором в 1827 году в количестве двадцати пяти экземпляров?
Буртниек снова подавил улыбку. Значит, этот чудак спустя год все еще не потерял надежды получить книгу, отыскать которую было так же трудно, как найти здравую мысль в голове самого Макулевича.
…Так, сидя в кресле, бывший аспирант кафедры древних языков Висвальд Буртниек, закрыв ладонями изрытое оспой лицо, казавшееся высеченным из пористого камня, перебирал в памяти события дня. Когда он поднялся, чтобы перейти в соседнюю комнату, служившую спальней, раздался звонок.
За дверью стоял Янис Даугавиет.
Буртниек закусил губу, стараясь скрыть усмешку. Самым забавным казалось, что Макулевич совершенно искренне верил в свою «теорию». Что толку спорить с этим человеком, чьи подчеркнуто изысканные манеру пресыщенного жизнью аристократа являли столь вопиющий контраст с его внешним видом: потрепанной одеждой и много раз заплатанной обувью.
После пространного, длившегося чуть ли не целый час вступления Макулевич наконец сообщил о цели своего визита.
— Скажите, пожалуйста, не могу ли я затруднить вас одним вопросом? Быть может, вы уже получили заказанный мною сборник стихотворений Мориса Керковиуса, изданный самим автором в 1827 году в количестве двадцати пяти экземпляров?
Буртниек снова подавил улыбку. Значит, этот чудак спустя год все еще не потерял надежды получить книгу, отыскать которую было так же трудно, как найти здравую мысль в голове самого Макулевича.
…Так, сидя в кресле, бывший аспирант кафедры древних языков Висвальд Буртниек, закрыв ладонями изрытое оспой лицо, казавшееся высеченным из пористого камня, перебирал в памяти события дня. Когда он поднялся, чтобы перейти в соседнюю комнату, служившую спальней, раздался звонок.
За дверью стоял Янис Даугавиет.
9
Когда Эрик проснулся у себя в номере, ему стало не по себе. Чужими казались эти когда-то безвкусно окрашенные, а теперь поблекшие стены в темных пятнах от выплеснутого пива или вина. Чужим было это запыленное тусклое окно, хмуро взиравшее на закопченные крыши, и этот таз с грязной мыльной водой, в которой плавала дохлая муха, и эта источенная жучком, неудобная кровать, всем своим видом словно старавшаяся напомнить приезжим, что они не дома. Чужой и пустой была вся эта комната в третьеразрядной захудалой гостинице, где Эрик Краповский жил уже несколько дней. Эрик поднялся, застелил постель, умылся, оделся и снова лег. Ничего другого не оставалось, как только ждать и ждать. После кипучей, полной напряжения и борьбы жизни, которую он вел в Елгаве, несколько дней вынужденного безделья казались ему теперь целой вечностью. Лежа на скрипучей кровати, Эрик перебирал в памяти прошлое: он вспомнил школьных товарищей, жаркий грохочущий прокатный цех Лиепайского металлургического завода, куда он носил отцу обед, многоголосый гомон в порту, где мальчишки так любили слоняться и глазеть на суда. Он вспомнил, как набирал заголовок передовой для газеты «Коммунист»: «Трудящиеся Лиепаи, к оружию!», а через несколько часов сам уже держал в руках винтовку и, укрываясь от пуль, полз, прижимаясь к земле. Ноздри его щекотала такая мягкая и сочная трава, небо без единого облачка казалось таким ярким и близким, что Эрику совсем не хотелось умирать. Двадцать лет — не такой уж солидный возраст, а ведь в любую минуту он может расстаться с жизнью на залитом кровью Шкедском шоссе, где полегло уже немало героических защитников Лиепаи. И хотя Эрик Краповский совсем не хотел умирать, он, как и все комсомольцы Иманта Судмалиса,*["28] сражался до последней минуты. Только чудом удалось ему вырваться из фашистского окружения. Когда Эрик, шагая по тенистой лесной тропе, вместо выстрелов услышал треск сухого хвороста под своими отяжелевшими ногами, лишь тогда он понял, что остался один. …Выбравшись из лесов и болот, Эрик некоторое время скрывался в деревне. Подпольная борьба началась для Эрика в Елгаве, где ему удалось связаться с подпольной коммунистической организацией. И вот неделю назад он получил новое задание; отправиться в Ригу, остановиться в этой гостинице и ждать человека, который за ним придет. Но рижского товарища все не было. А вдруг его арестовали, может быть, даже убили? А вдруг гестапо известно, для чего он, Эрик Краповский, прибыл в Ригу?.. Быть может, он сейчас упускает последнюю возможность спастись… Эрик встал с кровати и подошел к окну. Крыши, крыши, насколько видит глаз. И только кое-где, стиснутый каменными стенами, — одинокий каштан, на котором еще держатся последние порыжевшие листья. Моросит дождь. Мелкий серый дождик. Он наигрывает на железном карнизе однообразную мелодию, которой вторят соседние крыши. Дождь журчит в водосточных трубах. Дождь бьет по черным куполам зонтов, придающим улице такой мрачный вид. Кажется, дождю не будет конца. Эрик отошел от окна и снова лег. Он старался заснуть, но сон не шел. Медленно досчитал до тысячи. И это не помогло. Тогда он принялся разглядывать засиженный мухами потолок, разводы и пятна сырости; веки наконец отяжелели и сомкнулись. Но когда он повернулся на бок, пружины заскрипели, как несмазанные колеса, и сон прошел. Надев пальто, Эрик спустился в грязный вестибюль. Рядом со старым обтрепанным диваном в кадке, утыканной обгорелыми спичками и папиросными окурками, стояла пыльная пальма. Все помещение окутывал мглистый полумрак, только за стеклянной загородкой, где сидел швейцар, горела лампочка под матовым абажуром. На мгновение взгляд Эрика остановился на окне, в которое ударялись капли дождя и скатывались по тусклым стеклам, оставляя на них светлые бороздки, потом на расписании поездов, висящем на стене. Эрику вдруг представилось, что он находится в помещении какой-то маленькой дальней станции: вот сейчас придет поезд и увезет его куда-то далеко-далеко отсюда. Отогнав от себя эти ненужные мысли, Эрик обратился к швейцару: — Опять надо идти по делам. Попрошу мою командировку. — Сию минуту, пожалуйста… — Порывшись в пачке документов, старик вынул удостоверение. — Краповский? Из девятнадцатого номера? Вот, будьте любезны. Вы еще долго у нас пробудете? — Сами знаете, в наше время не так-то легко достать запасные части. Один посылает к другому, а наша фабрика тем временем вынуждена сокращать производство. Швейцар сочувственно кивнул головой. Выйдя из вестибюля, Эрик увидел молоденькую девушку. Капли дождя, словно прозрачные бусинки росы, блестели на ее волосах и лице. Следом за нею шагал эсэсовец. У дверей гостиницы девушка на мгновение, словно в нерешительности, остановилась. Офицер нагонял ее и уже собрался с нею заговорить, как вдруг девушка положила свою маленькую влажную ладонь на руку Эрика и произнесла торопливо: — Вот и я, Андр. Прости, милый, что заставила тебя ждать!10
В доме Доната Бауманиса почти одновременно отворились двери двух квартир. Сегодня Скайдрите встала позднее обычного. Шарканье метлы, доносившееся с улицы, давало знать, что старый Донат уже на посту. Мать давно ушла в гостиницу. Увидев, что она забыла на столе свой бутерброд, Скайдрите, сама не успев поесть, поспешила в гостиницу, чтобы отнести матери завтрак. Рауп-Дименс проснулся сегодня раньше обычного. Слышавшиеся из ванной плеск и журчание воды означали, что Мери уже приступила к ритуалу утреннего туалета. Когда бы Рауп-Дименс ни проснулся, оказывалось, что Мери уже успела «отделать лицевой фасад». Оберштурмфюреру в этот день предстояло много работы. Нужно допросить арестованного, который, вероятно, уже в состоянии говорить, нужно написать официальное донесение в Берлин и частное — отцу. Кроме того, он решил лично проконтролировать работу рижских агентов. В этакий дождь, надо сказать, — малоприятное развлечение. Харальд не выносил дождливой погоды. Он просто не понимал, как это иным людям нравится гулять под дождем. Вот, например, этой девушке, что идет впереди. Судя по тому, как она время от времени встряхивает головой, откидывая назад свои мокрые волосы, этот дождь, по-видимому, даже доставляет ей удовольствие. С ее каштановых кудрей, потемневших от влаги, каждый раз во все стороны разлетается множество брызг. У девушки легкая, упругая походка. Интересно, сколько ей может быть лет? Двадцать, не больше. С подола плаща капает вода и по простым коричневым чулкам затекает в дешевые синие туфли. Чулки не в его вкусе, но у девушки стройные ноги. Оберштурмфюрер зашагал быстрее. Девушка почувствовала, что за ней кто-то идет, и оглянулась. Рауп-Дименс увидел ее профиль. Красивой ее не назовешь, но естественная весенняя свежесть этого лица, столь резко отличающаяся от искусственно отдаляемого увядания Марлены, манила его. Маленький, чуть вздернутый нос, маленький рот, удивленные недоверчивые глаза. Заметив, что за ней увязался гестаповец, девушка ускорила шаг, но Рауп-Дименс не отставал. Должно быть, эта из тех, что ненавидит немцев. Тем лучше. Он ей покажет, что значит власть завоевателя! С этой девчонкой непременно нужно познакомиться! Почему бы не поохотиться на эту нежную серну? Когда девушка свернула направо, Рауп-Дименс заколебался лишь на мгновение. Он отлично знал, что стоит ему завертеться в карусели служебных дел, как он тотчас позабудет о своей прихоти. Надо завести с ней разговор сейчас же. Незнакомка замедлила шаги у дверей гостиницы. Рауп-Дименс подошел к ней совсем близко, заранее приготовив полульстивую, полуироническую фразу. Но не успел он и рта раскрыть, как она заговорила с каким-то парнем, стоявшим у дверей. В первое мгновение Эрик растерялся. Но, тут же сообразив, в чем дело, постарался помочь девушке отделаться от преследователя. Она взяла Эрика под руку, точно старого знакомого, и они перешли на другую сторону. Некоторое время шли молча. Эрик был неразговорчив по натуре, а Скайдрите после внезапной смелой выходки вдруг оробела и замолчала, не зная, что сказать. Но, взглянув через плечо и убедившись, что на расстоянии нескольких шагов их преследует назойливый гестаповец, прошептала:
— Не знаю, что этой гадине вздумалось?
Юноша продолжал молчать.
Скайдрите испытующе покосилась на спутника: волосы цвета потускневшей меди клином падают на лоб. Брови редкие, гораздо светлее волос. Глаза голубые, прозрачные, поблескивают, точно вода из глубины колодца. Верхняя губа тонкая, энергичная, нижняя — полная, по-юношески нежная. От левого уголка рта до носа, странно нарушая симметричность черт лица, пролегает глубокая борозда шрама…
Эрик все еще молчал. Разговаривать с незнакомыми было для него вообще делом нелегким. Скайдрите стала нервничать.
— Вы, наверно, приезжий? — спросила она, чтобы нарушить неловкое молчание.
— Почему вы так думаете?
— Я вижу, что вы читаете названия улиц, и потом, вы ведь вышли из гостиницы.
— Я приехал в командировку, — сказал Эрик, а про себя отметил, что девушка сообразительна. — По целым дням обиваю пороги разных учреждений и не знаю, сколько еще придется здесь проторчать.
Эти фразы Эрик по меньшей мере раз в день говорил швейцару. Вот и теперь он счел за лучшее повторить их, чтобы не вызвать подозрений. С командировочным удостоверением в руках, которым его снабдила елгавская подпольная организация, Эрик чувствовал себя довольно спокойно в гостинице и на улице.
— А вы где работаете? Или, может быть, учитесь? — в свою очередь, спросил Эрик, чтобы приостановить дальнейшие расспросы.
— Я уже кончила школу. А работать на фашистов — радости мало… Вы ведь тоже, верно, не по доброй воле это делаете?
Эрик сделал вид, что не расслышал ее вопроса.
— Ну хорошо, хорошо, я больше не стану мучить вас такими вопросами, — пообещала Скайдрите, почувствовав, что он не хочет отвечать. — Ну, а как вам нравится этот солдат в юбке? — спросила она, чтобы переменить тему, и указала глазами на идущую им навстречу пожилую немку в военной форме.
Эрик уже заметил, что для улиц оккупированной Риги характерны полупустые тротуары и переполненные мостовые. По мостовым маршируют гитлеровские солдаты, горланя свое оглушительное «Холри холра са-са», громыхают грузовики, груженные боеприпасами и провиантом, скользят офицерские лимузины. На тротуарах совсем мало прохожих. Все спешат по своим делам, лишь «желтые фазаны», как называли гитлеровских тыловиков, назло дождю лениво фланируют по улицам, наглым, оценивающим взглядом окидывая проходящих мимо женщин. Какая-то старушка в мокром платке хотела было войти в мануфактурный магазин. Увидев надпись «Только для вермахта и имперских немцев», она в сердцах сплюнула и, что-то проворчав, пошла дальше.
«Фашистская зараза всюду, куда ни глянь, — подумал Эрик. — Честному человеку нечем дышать». Словно прочитав его мысли, девушка вдруг тихо сказала:
— Никому не нравится такая жизнь.
— Да, погода просто отвратительная, — ответил Эрик, упрямо избегая разговоров о политике. — Сейчас, по-моему, польет как из ведра, — заметил он, посмотрев на серое небо, по которому плыла огромная черная туча.
Скайдрите шутливо нахмурила брови.
— Вы, должно быть, служите в метеорологическом бюро, раз так умело предсказываете погоду, — сказала она, но тут же спохватилась, что с незнакомым человеком неудобно разговаривать таким тоном, и, смутившись, прибавила: — Я, впрочем, должна перед вами извиниться. Ведь это из-за меня вы тут мокнете. Одно только утешение: завтра у того фашиста будет насморк.
Через несколько минут прогноз Эрика оправдался. Стоки по краям мостовой затопило водой. Пенящиеся потоки хлынули на тротуар, увлекая за собой пустые папиросные коробки, кожуру от яблок, клочки бумаги. Какая-то женщина делала отчаянные попытки раскрыть зонт. Редкие прохожие искали спасения в подворотнях или теснились у стен, под карнизами, которые кое-как защищали от дождя. Отряхивая блестящий прорезиненный плащ, оберштурмфюрер тоже укрылся в подворотне. Стоило ему там появиться, как она сразу же опустела: люди предпочитали ливень такому соседу.
Добежав до следующего угла, Скайдрите оглянулась. Дождь помог ей наконец избавиться от преследователя. Она протянула Эрику руку:
— Большое спасибо за помощь.
На мгновение задержав ее мокрую ладонь в своей руке, Эрик еще раз взглянул на незнакомку. Должно быть, из рабочей семьи… Ненавидит фашистов… Ему вдруг захотелось поговорить с ней еще. Он раскрыл рот, но, к собственному удивлению, смог пробормотать лишь что-то невнятное.
— Простите, пожалуйста, я не поняла, что вы сказали. — И Скайдрите посмотрела на него смеющимися глазами.
Эрик смутился.
— Может, пойдем погуляем? — несмело предложил он. — Дождь сейчас перестанет.
— В такую погоду? Что вы! Да к тому же… — Скайдрите хотела добавить, что ей надо отнести матери завтрак, но вовремя спохватилась. — Да к тому же мы ведь еще даже не знакомы. Меня зовут Скайдрите. — И, слегка покраснев, она в третий раз за этот короткий промежуток времени протянула ему руку.
— А меня зовут… — Он уже хотел было назвать себя Андрисом, но после недолгого колебания сказал свое настоящее имя. Зачем скрывать то, что легко можно узнать в гостинице?
С минуту они молча разглядывали друг друга, уже не как посторонние, которых свел неожиданный случай, а как люди, собирающиеся стать друзьями. Скайдрите чувствовала, что понравилась этому молчаливому, серьезному парню. Поэтому всю дорогу — ну, право же, чистое безумие гулять в такую дождливую осеннюю погоду! — она старалась воздерживаться от своих обычных шутливо-насмешливых выражений.
Так незаметно они дошли до парка.
— Может быть, посидим? — робко предложил Эрик, указывая на мокрую скамейку с вырезанным на спинке сердцем.
Эрик расстегнул пальто и покрыл им скамейку. Он сделал это не только из обычной вежливости. Его заботливость была проявлением нежности к девушке, которая казалась такой хрупкой и слабенькой. Впрочем, если судить по ее откровенным словам и по тому, как ловко она отделалась от фашистского офицера, Скайдрите, должно быть, не из трусливых. Ах, если б и он мог говорить так же свободно и непринужденно, как девушка! Как жаль, что нельзя продлить это знакомство. Нечто похожее чувствовала и Скайдрите. Она честно призналась себе в том, что Эрик ей понравился с первого взгляда.
…Девушка задрожала от холода. Сырость пробиралась сквозь тонкое пальто Эрика. Перед ними — пустая заброшенная детская площадка, желтый песок, почерневший от грязи. Только воробьи, по старой привычке, прыгали вокруг, в тщетных поисках хлебных крошек. Один из них с жадностью поглядывал маленькими глазками на бутерброд, торчавший из кармана Скайдрите.
На мгновение из-за туч вынырнуло солнце. Косые лучи его, похожие на столбы пыли, ярко окрасили серовато-желтые клубы дыма из заводских труб и усеявшие траву рыжие листья кленов. Каштановые волосы Скайдрите отливали золотом.
Эрик пристально вгляделся в лицо девушки.
— Мне почему-то казалось, что у вас серые глаза, — вдруг сказал он.
— А какие же они на самом деле?
— Не знаю, — ответил он и, помолчав, добавил: — Порой они кажутся карими, порой зелеными. А вокруг зрачков будто две тычинки, как у цветка. — Эрик смутился от столь поэтического сравнения. — Это очень редкое явление, — серьезно добавил он.
— Я весьма польщена! — засмеялась Скайдрите, но тут же изменила тон. — Нечего смеяться надо мной, а то я уйду. Ну ладно — «мир на земле»…
— «…и в человецех благоволение», — иронически улыбаясь, закончил Эрик.
Вдруг Скайдрите тихонько вскрикнула и схватила Эрика за руку. Сзади, из-за кустов, выскочил какой-то человек без шапки, в расстегнутом пальто, с развевающимися концами кашне. Он пересек газон, перемахнул через обвитую проволокой ограду, оглянулся по сторонам, как затравленный зверь, и помчался дальше. Как только он исчез из виду, показались его преследователи: эсэсовец в сопровождении двух латышских шуцманов. Один из них, тяжело отдуваясь, на ходу выдохнул:
— Вы его видели? В какую сторону он побежал?
Руки Эрика и Скайдрите почти одновременно указали противоположную сторону. И в тот же миг их взгляды встретились. Эрик тотчас опустил глаза, но Скайдрите успела заметить в них то, что он старался скрыть.
Этот миг, когда они инстинктивно стали вместе плечом к плечу против общего врага, сблизил их больше, чем могло бы сблизить долгое знакомство.
Грянул выстрел. Скайдрите зажала ладонями уши.
— Все-таки поймали!..
Она вырвалась из рук Эрика, пытавшегося ее успокоить.
— Пустите меня! Спасибо, не надо провожать…
В первое мгновение Эрик растерялся. Но, тут же сообразив, в чем дело, постарался помочь девушке отделаться от преследователя. Она взяла Эрика под руку, точно старого знакомого, и они перешли на другую сторону. Некоторое время шли молча. Эрик был неразговорчив по натуре, а Скайдрите после внезапной смелой выходки вдруг оробела и замолчала, не зная, что сказать. Но, взглянув через плечо и убедившись, что на расстоянии нескольких шагов их преследует назойливый гестаповец, прошептала:
— Не знаю, что этой гадине вздумалось?
Юноша продолжал молчать.
Скайдрите испытующе покосилась на спутника: волосы цвета потускневшей меди клином падают на лоб. Брови редкие, гораздо светлее волос. Глаза голубые, прозрачные, поблескивают, точно вода из глубины колодца. Верхняя губа тонкая, энергичная, нижняя — полная, по-юношески нежная. От левого уголка рта до носа, странно нарушая симметричность черт лица, пролегает глубокая борозда шрама…
Эрик все еще молчал. Разговаривать с незнакомыми было для него вообще делом нелегким. Скайдрите стала нервничать.
— Вы, наверно, приезжий? — спросила она, чтобы нарушить неловкое молчание.
— Почему вы так думаете?
— Я вижу, что вы читаете названия улиц, и потом, вы ведь вышли из гостиницы.
— Я приехал в командировку, — сказал Эрик, а про себя отметил, что девушка сообразительна. — По целым дням обиваю пороги разных учреждений и не знаю, сколько еще придется здесь проторчать.
Эти фразы Эрик по меньшей мере раз в день говорил швейцару. Вот и теперь он счел за лучшее повторить их, чтобы не вызвать подозрений. С командировочным удостоверением в руках, которым его снабдила елгавская подпольная организация, Эрик чувствовал себя довольно спокойно в гостинице и на улице.
— А вы где работаете? Или, может быть, учитесь? — в свою очередь, спросил Эрик, чтобы приостановить дальнейшие расспросы.
— Я уже кончила школу. А работать на фашистов — радости мало… Вы ведь тоже, верно, не по доброй воле это делаете?
Эрик сделал вид, что не расслышал ее вопроса.
— Ну хорошо, хорошо, я больше не стану мучить вас такими вопросами, — пообещала Скайдрите, почувствовав, что он не хочет отвечать. — Ну, а как вам нравится этот солдат в юбке? — спросила она, чтобы переменить тему, и указала глазами на идущую им навстречу пожилую немку в военной форме.
Эрик уже заметил, что для улиц оккупированной Риги характерны полупустые тротуары и переполненные мостовые. По мостовым маршируют гитлеровские солдаты, горланя свое оглушительное «Холри холра са-са», громыхают грузовики, груженные боеприпасами и провиантом, скользят офицерские лимузины. На тротуарах совсем мало прохожих. Все спешат по своим делам, лишь «желтые фазаны», как называли гитлеровских тыловиков, назло дождю лениво фланируют по улицам, наглым, оценивающим взглядом окидывая проходящих мимо женщин. Какая-то старушка в мокром платке хотела было войти в мануфактурный магазин. Увидев надпись «Только для вермахта и имперских немцев», она в сердцах сплюнула и, что-то проворчав, пошла дальше.
«Фашистская зараза всюду, куда ни глянь, — подумал Эрик. — Честному человеку нечем дышать». Словно прочитав его мысли, девушка вдруг тихо сказала:
— Никому не нравится такая жизнь.
— Да, погода просто отвратительная, — ответил Эрик, упрямо избегая разговоров о политике. — Сейчас, по-моему, польет как из ведра, — заметил он, посмотрев на серое небо, по которому плыла огромная черная туча.
Скайдрите шутливо нахмурила брови.
— Вы, должно быть, служите в метеорологическом бюро, раз так умело предсказываете погоду, — сказала она, но тут же спохватилась, что с незнакомым человеком неудобно разговаривать таким тоном, и, смутившись, прибавила: — Я, впрочем, должна перед вами извиниться. Ведь это из-за меня вы тут мокнете. Одно только утешение: завтра у того фашиста будет насморк.
Через несколько минут прогноз Эрика оправдался. Стоки по краям мостовой затопило водой. Пенящиеся потоки хлынули на тротуар, увлекая за собой пустые папиросные коробки, кожуру от яблок, клочки бумаги. Какая-то женщина делала отчаянные попытки раскрыть зонт. Редкие прохожие искали спасения в подворотнях или теснились у стен, под карнизами, которые кое-как защищали от дождя. Отряхивая блестящий прорезиненный плащ, оберштурмфюрер тоже укрылся в подворотне. Стоило ему там появиться, как она сразу же опустела: люди предпочитали ливень такому соседу.
Добежав до следующего угла, Скайдрите оглянулась. Дождь помог ей наконец избавиться от преследователя. Она протянула Эрику руку:
— Большое спасибо за помощь.
На мгновение задержав ее мокрую ладонь в своей руке, Эрик еще раз взглянул на незнакомку. Должно быть, из рабочей семьи… Ненавидит фашистов… Ему вдруг захотелось поговорить с ней еще. Он раскрыл рот, но, к собственному удивлению, смог пробормотать лишь что-то невнятное.
— Простите, пожалуйста, я не поняла, что вы сказали. — И Скайдрите посмотрела на него смеющимися глазами.
Эрик смутился.
— Может, пойдем погуляем? — несмело предложил он. — Дождь сейчас перестанет.
— В такую погоду? Что вы! Да к тому же… — Скайдрите хотела добавить, что ей надо отнести матери завтрак, но вовремя спохватилась. — Да к тому же мы ведь еще даже не знакомы. Меня зовут Скайдрите. — И, слегка покраснев, она в третий раз за этот короткий промежуток времени протянула ему руку.
— А меня зовут… — Он уже хотел было назвать себя Андрисом, но после недолгого колебания сказал свое настоящее имя. Зачем скрывать то, что легко можно узнать в гостинице?
С минуту они молча разглядывали друг друга, уже не как посторонние, которых свел неожиданный случай, а как люди, собирающиеся стать друзьями. Скайдрите чувствовала, что понравилась этому молчаливому, серьезному парню. Поэтому всю дорогу — ну, право же, чистое безумие гулять в такую дождливую осеннюю погоду! — она старалась воздерживаться от своих обычных шутливо-насмешливых выражений.
Так незаметно они дошли до парка.
— Может быть, посидим? — робко предложил Эрик, указывая на мокрую скамейку с вырезанным на спинке сердцем.
Эрик расстегнул пальто и покрыл им скамейку. Он сделал это не только из обычной вежливости. Его заботливость была проявлением нежности к девушке, которая казалась такой хрупкой и слабенькой. Впрочем, если судить по ее откровенным словам и по тому, как ловко она отделалась от фашистского офицера, Скайдрите, должно быть, не из трусливых. Ах, если б и он мог говорить так же свободно и непринужденно, как девушка! Как жаль, что нельзя продлить это знакомство. Нечто похожее чувствовала и Скайдрите. Она честно призналась себе в том, что Эрик ей понравился с первого взгляда.
…Девушка задрожала от холода. Сырость пробиралась сквозь тонкое пальто Эрика. Перед ними — пустая заброшенная детская площадка, желтый песок, почерневший от грязи. Только воробьи, по старой привычке, прыгали вокруг, в тщетных поисках хлебных крошек. Один из них с жадностью поглядывал маленькими глазками на бутерброд, торчавший из кармана Скайдрите.
На мгновение из-за туч вынырнуло солнце. Косые лучи его, похожие на столбы пыли, ярко окрасили серовато-желтые клубы дыма из заводских труб и усеявшие траву рыжие листья кленов. Каштановые волосы Скайдрите отливали золотом.
Эрик пристально вгляделся в лицо девушки.
— Мне почему-то казалось, что у вас серые глаза, — вдруг сказал он.
— А какие же они на самом деле?
— Не знаю, — ответил он и, помолчав, добавил: — Порой они кажутся карими, порой зелеными. А вокруг зрачков будто две тычинки, как у цветка. — Эрик смутился от столь поэтического сравнения. — Это очень редкое явление, — серьезно добавил он.
— Я весьма польщена! — засмеялась Скайдрите, но тут же изменила тон. — Нечего смеяться надо мной, а то я уйду. Ну ладно — «мир на земле»…
— «…и в человецех благоволение», — иронически улыбаясь, закончил Эрик.
Вдруг Скайдрите тихонько вскрикнула и схватила Эрика за руку. Сзади, из-за кустов, выскочил какой-то человек без шапки, в расстегнутом пальто, с развевающимися концами кашне. Он пересек газон, перемахнул через обвитую проволокой ограду, оглянулся по сторонам, как затравленный зверь, и помчался дальше. Как только он исчез из виду, показались его преследователи: эсэсовец в сопровождении двух латышских шуцманов. Один из них, тяжело отдуваясь, на ходу выдохнул:
— Вы его видели? В какую сторону он побежал?
Руки Эрика и Скайдрите почти одновременно указали противоположную сторону. И в тот же миг их взгляды встретились. Эрик тотчас опустил глаза, но Скайдрите успела заметить в них то, что он старался скрыть.
Этот миг, когда они инстинктивно стали вместе плечом к плечу против общего врага, сблизил их больше, чем могло бы сблизить долгое знакомство.
Грянул выстрел. Скайдрите зажала ладонями уши.
— Все-таки поймали!..
Она вырвалась из рук Эрика, пытавшегося ее успокоить.
— Пустите меня! Спасибо, не надо провожать…
11
— Ну, доктор, мне уже можно выходить на улицу? — шутливо спросил Янис, входя в комнату Надежды. — Сперва следует посоветоваться с моим консультантом Донатом, — в том же тоне ответила Надежда. — Кроме шуток, Янис, не лучше ли подождать еще денька два? — Нет, откладывать больше нельзя. Сама понимаешь, как тяжело этому пареньку сидеть в гостинице и ждать. Такая бездеятельность здорово треплет нервы. А «квартире без номера» нужен жилец с крепкими нервами. Надежда придвинула стул поближе: — Можно поручить Элизе Свемпе привести его сюда. — Я уже думал об этом. Но лучше сперва самому посмотреть, что он собой представляет. Для этой работы нужен человек особой закалки. По-моему, куда легче взорвать поезд, чем на долгие месяцы отказаться от встреч с людьми, от солнца. А ведь он еще молод, Надя… — Ты прав. — И Надежда пригладила волосы женственным, мягким движением, которое так трогало Яниса. — Ты сегодня собираешься пойти к нему? А все-таки лучше бы еще денька два выждать, — снова повторила Надя и озабоченно посмотрела на Яниса. — Нечего меня без конца опекать! — буркнул Янис. — Хотя, быть может, ты и права… Ладно, пусть Элиза отнесет ему записку… Ну что, теперь ты довольна? — усмехнулся он. Надежда не обиделась, отлично понимая, почему Янис с ней порой бывает так нарочито резок. Она спокойно продолжала гладить платье, светло-голубое, с белым воротничком, которое получила в подарок от Скайдрите. Оно выглядело чересчур детским и было ей узко. И хотя старый Донат утверждал, что в этом платье она выглядит, как гимназистка на выпускном вечере, Надежда никогда не скрывала от Яниса своих лет. Наоборот, она всякий раз старалась подчеркнуть это и держалась с ним, как старшая сестра. Под светло-карими, цвета янтаря глазами — они-то и дали мужу повод шутливо называть ее русалкой — уже пролегли мелкие морщинки, и, когда Надежда причесывалась, в волосах ее с каждым днем прибавлялась еще одна серебряная нить. Впрочем, когда она как-то взяла старую, случайно сохранившуюся фотографию и сравнила ее со своим отражением в зеркале, то увидела, что все-таки за эти годы почти не изменилась.
В школе, а потом в университете Надя всегда верховодила веселой компанией товарищей. Как чудесно было бродить по набережной Невы, мимо старинных дворцов и зданий, мимо Медного всадника, который, казалось, рвался в розовые предзакатные облака, мимо военных катеров, лениво покачивавшихся на волнах! Как чудесно было мечтать о будущем, читать вслух Маяковского… Вскоре Надежда вышла замуж. В новой квартире на шумном Литейном проспекте каждый день собирались Сережины друзья — летчики, которые любили поболтать и пошутить с хозяйкой дома. Один из них — штурман бомбардировщика Никита Петроцерковский — даже тайно вздыхал по Наде и мечтательно читал ей стихи: «Свою любовь ты отдала другому, как мне забыть прекрасные черты!» В полку мужа Надежда тоже чувствовала себя, как в большой дружной семье, а командир полка, усатый полковник Алексеев, не раз по-отечески говорил ей: «Ну что бы мы без вас делали, Надежда Викторовна? Вы не врач, а прямо-таки универсальное средство от любой болезни».
Теперь Надежда почти не выходила из дому. Мучительно было целыми днями томиться в четырех стенах, чувствовать себя оторванной от людей, от любимой работы. Чего бы только не отдала она, чтобы вновь очутиться в госпитале, вдыхать сладковато-приторный запах хлороформа, держать в руках скальпель, делать сложные операции. Но ведь работа, которую она выполняет теперь, тоже необходима. Мало-помалу Надежда привыкла к жизни в постоянном вражеском окружении. Быть может, вон тот человек, что прогуливается сейчас мимо ее окон, — агент гестапо. Быть может, на лестнице сейчас застучат кованые сапоги. Быть может, через минуту ударами прикладов выломают дверь и в комнату ворвется банда эсэсовцев.
…Может быть, ей уже не видать родного Ленинграда, не любоваться луной, будто насаженной на золотой шпиль Адмиралтейства, не гулять по тенистым дорожкам Летнего сада, где дети веселой гурьбой окружают продавщицу мороженого, не сидеть в переполненном зале оперы, не любоваться затаив дыхание легкой, точно пушинка, Дудинской, танцующей в «Лебедином озере»…
В дверь постучали. Это пришла Скайдрите.
— Здравствуйте, Ядвига! Можно вас побеспокоить?
Надежда теперь уже привыкла к чужому имени, хотя вначале оно ей казалось странным.
— Входи, входи, девочка. Где ты все эти дни пропадала? Не иначе, как влюбилась.
Скайдрите вспыхнула и покосилась на зеркало.
— А разве заметно? — наивно спросила она.
Надежда улыбнулась.
— Конечно. Можешь положиться на диагноз врача. Такой румянец бывает только от рыбьего жира или от любви.
— Но ведь мы с ним слишком мало знакомы! Разве настоящая любовь возникает так быстро?
— Иногда бывает и так. Главное, чтобы взгляды на жизнь совпадали, чтобы вы понимали друг друга.
— Ну, в этом я не сомневаюсь! — ответила девушка.
Надежда не обиделась, отлично понимая, почему Янис с ней порой бывает так нарочито резок. Она спокойно продолжала гладить платье, светло-голубое, с белым воротничком, которое получила в подарок от Скайдрите. Оно выглядело чересчур детским и было ей узко. И хотя старый Донат утверждал, что в этом платье она выглядит, как гимназистка на выпускном вечере, Надежда никогда не скрывала от Яниса своих лет. Наоборот, она всякий раз старалась подчеркнуть это и держалась с ним, как старшая сестра. Под светло-карими, цвета янтаря глазами — они-то и дали мужу повод шутливо называть ее русалкой — уже пролегли мелкие морщинки, и, когда Надежда причесывалась, в волосах ее с каждым днем прибавлялась еще одна серебряная нить. Впрочем, когда она как-то взяла старую, случайно сохранившуюся фотографию и сравнила ее со своим отражением в зеркале, то увидела, что все-таки за эти годы почти не изменилась.
В школе, а потом в университете Надя всегда верховодила веселой компанией товарищей. Как чудесно было бродить по набережной Невы, мимо старинных дворцов и зданий, мимо Медного всадника, который, казалось, рвался в розовые предзакатные облака, мимо военных катеров, лениво покачивавшихся на волнах! Как чудесно было мечтать о будущем, читать вслух Маяковского… Вскоре Надежда вышла замуж. В новой квартире на шумном Литейном проспекте каждый день собирались Сережины друзья — летчики, которые любили поболтать и пошутить с хозяйкой дома. Один из них — штурман бомбардировщика Никита Петроцерковский — даже тайно вздыхал по Наде и мечтательно читал ей стихи: «Свою любовь ты отдала другому, как мне забыть прекрасные черты!» В полку мужа Надежда тоже чувствовала себя, как в большой дружной семье, а командир полка, усатый полковник Алексеев, не раз по-отечески говорил ей: «Ну что бы мы без вас делали, Надежда Викторовна? Вы не врач, а прямо-таки универсальное средство от любой болезни».
Теперь Надежда почти не выходила из дому. Мучительно было целыми днями томиться в четырех стенах, чувствовать себя оторванной от людей, от любимой работы. Чего бы только не отдала она, чтобы вновь очутиться в госпитале, вдыхать сладковато-приторный запах хлороформа, держать в руках скальпель, делать сложные операции. Но ведь работа, которую она выполняет теперь, тоже необходима. Мало-помалу Надежда привыкла к жизни в постоянном вражеском окружении. Быть может, вон тот человек, что прогуливается сейчас мимо ее окон, — агент гестапо. Быть может, на лестнице сейчас застучат кованые сапоги. Быть может, через минуту ударами прикладов выломают дверь и в комнату ворвется банда эсэсовцев.
…Может быть, ей уже не видать родного Ленинграда, не любоваться луной, будто насаженной на золотой шпиль Адмиралтейства, не гулять по тенистым дорожкам Летнего сада, где дети веселой гурьбой окружают продавщицу мороженого, не сидеть в переполненном зале оперы, не любоваться затаив дыхание легкой, точно пушинка, Дудинской, танцующей в «Лебедином озере»…
В дверь постучали. Это пришла Скайдрите.
— Здравствуйте, Ядвига! Можно вас побеспокоить?
Надежда теперь уже привыкла к чужому имени, хотя вначале оно ей казалось странным.
— Входи, входи, девочка. Где ты все эти дни пропадала? Не иначе, как влюбилась.
Скайдрите вспыхнула и покосилась на зеркало.
— А разве заметно? — наивно спросила она.
Надежда улыбнулась.
— Конечно. Можешь положиться на диагноз врача. Такой румянец бывает только от рыбьего жира или от любви.
— Но ведь мы с ним слишком мало знакомы! Разве настоящая любовь возникает так быстро?
— Иногда бывает и так. Главное, чтобы взгляды на жизнь совпадали, чтобы вы понимали друг друга.
— Ну, в этом я не сомневаюсь! — ответила девушка.
12
Сколько людей останавливалось в этом номере до него? Наверно, многие из них вот так же, без сна, ворочались на этой кровати?.. Каким-то странным специфическим запахом пропитались стены этой комнаты и мебель. Пахнет не то паркетной мастикой, не то прогорклым маслом, затхлым дымом сигар и дешевым мылом. Проветрить номер было невозможно. Наоборот, стоило лишь открыть окно, как угольная пыль и бензинный перегар тотчас присоединялись к странной смеси запахов, которыми был насыщен воздух комнаты. Прошло еще двое суток, целых сорок восемь часов, бесчисленное количество томительныхминут. Снова Эрик Краповский по утрам делал вид, будто уходит по неотложным делам, снова болтал о них со швейцаром, снова торопил официантку в ресторане при гостинице, притворяясь, что и сам очень спешит. А между тем его дело не двигалось с места. Еще два вечера провел он в напряженном ожидании, прислушиваясь то к тихим, то к громким шагам, к каждому шороху, шарканью, стуку и топоту ног в коридоре. К десяти часам обычно все затихало, и Эрик понимал, что сегодня к нему никто уже не придет. Тогда он раздевался и с чувством опустошенности и тоски ложился в постель, чтобы опять вступить в поединок с бессонницей, вновь перебрать в уме всевозможные причины и непредвиденные обстоятельства, помешавшие связному прийти. Сегодня, как ни странно, дождя нет. Солнце оживило мрачную комнату яркими красками золотой осени. Хорошая погода всегда поднимает настроение. Так, значит, пока все по-старому… Эрик прислушался к своему сердцу и понял, что это не так. Кое-что все же изменилось: появилась Скайдрите! Хорошо мечтать об этой чудесной девушке, представлять себе ее худенькое миловидное лицо, ее глаза, которые кажутся то карими, то зеленоватыми!.. Подчеркнуто небрежный, чуть насмешливый тон, выражения, должно быть заимствованные из школьного жаргона, — но за всем этим отзывчивое, по-юному горячее сердце. Кто-то постучал в дверь. Неужели товарищ, которого он ожидает? Нет, днем он не придет. Скайдрите? Нет, наверно, уборщица. Эрик угадал. Вошла Элиза Свемпе. — Добрый день, господин Краповский, — сказала она Эрику. — Кто-то оставил у швейцара для вас письмо. Она протянула ему зеленый конверт и, сказав, что уберет комнату попозже, вышла. Краповский нетерпеливо разорвал конверт. В записке были только две фразы: «Оставайтесь в гостинице. Зайду через три дня». Вот и все. Ни обращения, ни подписи. Когда Эрик поднес письмо к горящей спичке, он заметил, что и на конверте ничего не написано. Наконец-то пришла ясность! Значит, ничего дурного не произошло. Теперь ожидание уж больше не будет таким томительным. Эрик вытянулся на кровати, которая вдруг перестала казаться неудобной, и впервые за эти дни взял в руки книгу. Но почитать ему так и не удалось — в дверь снова постучали. — Войдите! — откликнулся Эрик, думая, что это опять уборщица. Дверь растворилась, и сквозняк развеял по воздуху черные хлопья сожженной бумаги. — Можно войти? — раздался робкий голос. Эрик одним рывком вскочил на ноги. — Скайдрите! — Да, это я, — ответила девушка. Второпях она никак не могла снять с правой руки тугую перчатку и недолго думая принялась стягивать ее зубами. «Сколько в ней еще детского!» — подумал Эрик, наблюдая за гостьей. Скайдрите села у стола так, чтобы спрятать ноги: сегодня она надела свои лучшие чулки, но по дороге какая-то машина, как назло, забрызгала их грязью. Эрик молчал. Но вовсе не оттого, что ему нечего было сказать. Просто переполнявшие его сердце чувства еще не находили выхода. С тех пор как Скайдрите впервые пришла в эту комнату — плутовка притворилась тогда, будто разыскивает мать, — они еще ни разу не расставались дольше чем на несколько часов. Он готов был не отрываясь смотреть на ее лицо, которое с каждым днем становилось все более родным и близким, без конца отыскивать в нем все новые и новые черточки. Оробев от счастья, Эрик вначале даже не заметил, что Скайдрите все еще в плаще. Юноша вскочил, чтобы помочь ей раздеться. Как он был знаком ему, этот старый плащ с маленькой заплаткой на левом рукаве, с треснувшей верхней пуговицей и протертой на спине материей, шероховатую поверхность которой он чувствовал под ладонью всякий раз, когда обнимал Скайдрите. Девушка легко отстранила его руку и поднялась. — Не надо… Мне сегодня как-то беспокойно. И все кажется, что в комнате мало воздуха… Выйдем лучше на улицу! Город в те дни жил двойной жизнью. По ночам в Бикерниекском лесу тишину прорезали автоматные очереди. Затемненными улицами, неизвестно куда и зачем, мчались вооруженные пулеметами мотоциклы; в помещении гестапо, за плотно занавешенными окнами, до утра горел свет. Пробуждаясь, жители города с дрожью в сердце торопились узнать, не проглотил ли «новый порядок» кого-либо из их родственников или друзей. И в то же время по ночам на улицах появлялись расклеенные невидимой рукой листовки, где-то за тщательно запертыми ставнями шептались люди, где-то, накрыв подушкой приемник, слушали последние известия из Москвы. Днем Рига снова превращалась в спокойный и с виду мирный город. На окраинах дымились трубы заводов, женщины стояли в очередях у продовольственных магазинов, в киосках газеты и журналы источали запах свежей типографской краски, офицеры сдавали на почте тяжеловесные посылки для отправки в Германию, в центре города яркие плакаты рекламировали последнюю кинокартину «УФА»,*["29] элегантные дамы прогуливались по бульварам с откормленными собачками. Будто сговорившись, Скайдрите и Эрик свернули в один из тихих переулков Старого города. Вместо пышных липовых аллей на бульварах здесь по обе стороны вздымались черные закоптелые стены. В воздухе ощущался легкий запах тления, исходивший от старинных ганзейских складов. На подоконниках увядали герань и настурции. На остроконечных черепичных крышах скрипели флюгера. На шпиле одной из башен притаился огромный чугунный кот, неподвижно уставившийся на молодую пару зелеными стеклянными глазами. Скайдрите повела Эрика в Домский музей. Медленно проходили они мимо затупившихся рыцарских мечей, покрытых зеленой окисью древних монет, поблекших знамен ремесленных гильдий, — два человека будущего среди пыльного царства прошлого. В углу одного из залов они сели возле подвешенной к потолку модели старинной каравеллы. Скайдрите неосторожным движением задела модель, и парусник с длинным бушпритом закачался, как в двенадцатибалльный шторм. — И я когда-то собирал модели, — тихо заметил Эрик. Впервые за дни их знакомства он рассказывал Скайдрите о себе. — Больше всего я гордился «Святой Анной». Знаешь, это одна из тех трех каравелл, на которых Колумб впервые пересек Атлантический океан. Модель вырезал из дерева мой дед. Он служил в русском флоте. — И ты, наверное, мечтал стать моряком? — Нет. Как ни странно, я был почти единственным среди товарищей, кто об этом не думал. Я очень любил книги. Читал их даже на улице, возвращаясь из школы. Прохожие усмехались, глядя на меня. Однажды из-за этакого чтения попал под машину. Видишь, здесь, на левой руке, еще маленький шрам… Девушка осторожно и нежно провела пальцем по красному рубцу. — Бедняжка! Ведь тебя могли задавить насмерть… Эрик улыбнулся. «Если б ты знала, — подумал он про себя, — как часто бывал я на волосок от смерти!.. В тот раз на море, когда яхта перевернулась и я чуть не утонул; потом на залитом кровью Шкедском шоссе, потом в сарае, где прятался от шуцманов. Да и теперь ежечасно и ежеминутно я в опасности… Как и каждый подпольщик… И все же я жив и счастлив, что сижу здесь с тобой». Скайдрите не ответила на улыбку друга. С угрызением совести она подумала о том, что эта внезапная любовь захватила ее целиком. Сколько дней прошло уже с тех пор, как она перестала следить за событиями на фронте. Лишь сейчас, торопясь на свидание с Эриком, она на минутку задержалась у газетной витрины, чтобы пробежать глазами жирные заголовки, громогласно вещавшие о новых победах фашистов. Доброй половине прочитанного Скайдрите, конечно, не верила, и все же нельзя было отрицать, что положение на фронте тяжелое — гитлеровские полчища приближаются к Баку, угрожают Сталинграду. — Послушай меня, Эрик. Пусть между нами все будет высказано до конца. Я знаю, ты избегаешь разговоров о политике, но ведь ты любишь меня, правда? — И чтобы не сбиться, а высказать все, что она хотела, Скайдрите не стала ждать, ответа. — Тогда пойми правильно, пойми, что мучит меня! Конечно, я счастлива, что мы встретились. Но это еще не все… Помоги мне найти выход. Я больше не могу так жить, слышишь, не могу! Всюду страдания и смерть, а мы с тобой сидим и воркуем, как голуби… Эрик понял, о чем она собирается заговорить. Как и прежде в такие минуты, желание быть опорой, старшим товарищем боролось в нем с железным законом конспирации. Очень осторожно приходилось выбирать средний путь, чтобы не выдать себя и вместе с тем не оттолкнуть девушку равнодушием. — Я слыхала, что в Риге действует подпольная организация, — продолжала Скайдрите. — Если бы я работала на какой-нибудь фабрике, мне б, наверно, удалось установить с ней связь. А теперь как мне быть? Не могу же я выйти на улицу и крикнуть: «Хочу бороться с фашистами! Дайте мне оружие!» Долго я размышляла и наконец пришла к выводу, что у меня только один путь… — Поддавшись внезапному порыву, она обняла Эрика за плечи и прошептала: — Сколько бы ты ни притворялся, мне достаточно посмотреть тебе в глаза, они не умеют лгать. Ты тоже ненавидишь фашистов. Знаешь что? Убежим в Латгалию, к партизанам!13
Сгущались сумерки. Эрик сидел у себя в номере и думал о Скайдрите. Почему эта девушка стала ему такой близкой? Может быть, при других условиях все было бы иначе? Может быть, виной всему одиночество? Непривычная праздность породила странную пустоту в душе, и ее необходимо было заполнить. И, может быть, теперь, мечтая о Скайдрите, он растрачивает жар души, который отдал бы без остатка работе?.. С самого начала Эрик почувствовал, что мог бы всю жизнь идти с ней одной дорогой. И это их сближало. Все поведение Скайдрите говорило о том, что нужна лишь надежная рука, чтобы направить ее по верному пути. Осторожно, не выдавая себя, полунамеками, порой иронизируя над девушкой, он старался помочь ей найти свое место в строю. И старания его не пропали даром. Об этом свидетельствовал их сегодняшний разговор. А этот ее горячий призыв отправиться в Латгалию и бродить там по лесам, пока не встретятся партизаны, просто-напросто ребячески наивен и смешон! В Елгаве Эрик без колебания связал бы ее с подпольем, но здесь он пока не вправе этого сделать — в Риге его ожидает особое задание. Рижский товарищ все еще не появлялся. Сегодня — день, указанный в записке. Опыт подпольщика развил в Краповском особую настороженность: каждое опоздание он считал сигналом тревоги. Подавляя волнение, Эрик вышел в коридор, прислушался к шуму гостиницы, снова вернулся в комнату. Она показалась еще более пустой и темной. Но если бы здесь, в поломанном плюшевом кресле, положив ногу на ногу, сидела Скайдрите, комната выглядела бы совсем иной. В коридоре послышались шаги. Эрик насторожился, чуть приотворил дверь. Перед ним стоял человек лет тридцати, лицо которого было чуть скрыто полями коричневой шляпы. Плечи незнакомца показались Эрику необычайно широкими; голос звучал как-то особенно твердо и властно. — Вы Эрик Краповский?.. Я пришел предложить вам работу. Что вы умеете делать? Эрик ответил условным паролем: — Полоть сорняки. Даугавиет кивнул головой. Прежде чем начать разговор, Янис внимательно оглядел нового товарища. Ясные глаза, энергичный подбородок, открытое лицо… Эрик спокойно ждал, пока с ним заговорят. — Ну, товарищ Эрик, расскажи мне о своем прошлом. Не пропуская ни одной мелочи, Эрик старался упомянуть обо всем, что могло интересовать Даугавиета. Янис отметил, что Эрик, рассказывая о своей подпольной работе, строго соблюдает правила конспирации. Только одно имя он упомянул — имя Иманта Судмалиса, который первым указал ему дорогу в комсомол. Янис одобрительно улыбнулся. Да, видно, это паренек судмалисовской школы. — Ну, а как со здоровьем? — спросил Даугавиет, когда Эрик кончил рассказ. — Сердце, легкие, нервы? — Кажется, все в порядке. А что касается нервов, то вы сами знаете, какие у подпольщика нервы. По-моему, ничто так не успокаивает, как определенное задание. — Да, но задания бывают нелегкие. Тебе придется работать в подпольной типографии. — Тем лучше. В типографии я работал два года. — Но не в такой. Представь себе погреб, наполовину меньше этой комнаты. Воздух сырой, спертый… — Меня это не пугает. — Я еще не все сказал. Ты станешь подпольщиком в полном смысле этого слова, добровольным узником. Тебе придется от многого отказаться, ты не сможешь выходить на улицу. Кроме меня и еще одной женщины, нашего товарища — она живет в той же квартире, — ты ни с кем не сможешь разговаривать. И это может длиться год, два, до тех пор, пока Красная Армия не освободит Ригу. Эрик, обычно не куривший, попросил у Яниса папиросу и жадно затянулся. «Так… А Скайдрите?..» Он едва удержался, чтобы не высказать вслух все то, что созрело в нем за многие часы размышлений, мечтаний, поисков ясности: «Я больше не могу представить себе жизнь без этой девушки. Скайдрите стала частью меня самого. Разве может человек сам себя разрезать пополам? Никто этого не вправе от меня потребовать…» Даугавиет не торопил Эрика. Видя, что у того потухла папироса, он молча подал ему спички. Эрик машинально взял коробок в руки, зажег спичку, закурил, но забыл задуть желтый огонек, который горел, точно маленький факел, обжигая пальцы. Разве кто-нибудь спрашивает, от чего приходится отказываться бойцу? Разве сам он знает, от чего отказался товарищ, что сидит с ним рядом? Скайдрите — это счастье… Но ведь это лишь его, Эрика Краповского, счастье… Какое он имеет право пренебрегать общим делом миллионов людей ради своего счастья? Надо сделать выбор… И Эрик перестал колебаться. Он выбрал. Эта минута стала для него переломной — юность осталась позади. Впереди — суровая зрелость.14
— Я привел нового жильца в «квартиру без номера», — сказал Янис, знакомя Надежду с Эриком, — Не дашь ли нам чего-нибудь перекусить? Поставив на стол скудное угощение, Надежда внимательно посмотрела на молодого человека. «Этот, пожалуй, выдержит, — подумала она, — только тяжело ему будет…» Эрик окинул взглядом комнату. В ней не было ни малейших признаков того, что где-то здесь скрыта типография. Но где же вход в «квартиру без номера»? Судя по словам Жаниса, типография находится в каком-то погребе. — Спать ты будешь здесь, — сказал Даугавиет, указывая на узкую кушетку. — Но чаще, правда, придется ночевать внизу. Эрик кивнул. Ему понравились эти сдержанные люди, которые обращались с ним, как со старым другом — без излишних церемоний, просто и сердечно. Хорошо, что они дают ему возможность помолчать и преодолеть застенчивость, обычно сковывающую его первое время в обществе незнакомых людей. Комната всей обстановкой напоминала квартиру родителей на улице Капу в Лиепае. Глядя со стороны, можно было подумать, что за таким вот столом по вечерам собирается какое-нибудь благополучное семейство. Однако именно здесь, острее чем когда-либо, Краповский ощутил накаленную атмосферу подпольной борьбы. И когда кто-то постучал в дверь, он вздрогнул. Янис поднял голову и спокойно сказал Надежде: — Погоди, не впускай. Никто, ни один человек не должен его видеть… Идем! — И он повел юношу в ванную комнату. Ничего примечательного не было в этой маленькой комнатушке. У стены стояла небольшая ванна. Высокий человек мог бы поместиться в ней только сидя. Никелированный кран плотно не закручивался, и вода, падая из крана капля за каплей, проложила по белой, местами потрескавшейся эмали узкую ржавую дорожку. В углу стояла черная железная печурка с поломанными дверцами. Над умывальником, под старым тусклым зеркалом, висела полочка. На ней — мыльница, зеленый стаканчик из пластмассы с двумя зубными щетками, бритвенные принадлежности и полупустая бутылочка с одеколоном. Комнату освещала матовая лампочка. Даугавиет отодвинул ванну от стены. Но и за ванной ничего нельзя было обнаружить. Янис опустился на колени и толкнул стену плечом. Только тогда Эрик увидел квадратное отверстие на высоте примерно пятидесяти сантиметров над полом.
— Здорово придумано! — воскликнул он. — Но мне кажется, при тщательном обыске это отверстие можно обнаружить.
— Ничего подобного. Здесь кладка толщиной в четыре кирпича. При выстукивании пустоту в стене не обнаружат. А изнутри вход запирается так, что его и десятку человек не сдвинуть с места.
— Как же вам удалось устроить такой тайник?
— Я — строительный рабочий, а Донат в молодости был каменщиком. Чтобы не вызвать подозрений, мы затеяли капитальный ремонт всего дома, а сами тем временем потихоньку работали здесь. А теперь полезай первым, я запру вход.
— А как же ванна?
— Надя ее поставит на место. Вот возьми карманный фонарик. Ползи осторожно, спуск очень крутой.
Эрик вдруг почувствовал, что задыхается. Наверно, Янис закрыл люк…
Фонарик осветил небольшое помещение. Теперь можно встать на ноги.
Эрик очутился в низком продолговатом каземате. Печатный станок, столик с наборными кассами, стул, большая кипа бумаги, полочка с книгами, радиоприемник, железная койка, на ней набитый соломой тюфяк, такая же подушка, свернутое одеяло. Вот и все, что тут есть. Щелкнул выключатель — Янис включил свет.
Эрик осмотрел шрифт.
— Тут, я вижу, все нужно набирать корпусом. А где краска? Ага, вот там в углу.
Рядом с коробками краски стояли консервные банки.
— Это твой неприкосновенный запас, — пояснил Янис. — На случай, если наверху что-нибудь произойдет. Сухари под кроватью. Дней на десять еды хватит. Но если вход все же обнаружат, ты сможешь выбраться иным путем. Видишь отверстие? Это не только вентилятор, но и узкий подземный ход, который ведет к развалинам у набережной Даугавы.
— Неужели вы и этот ход вырыли вдвоем? Тут ведь работы на много месяцев.
— Нет, мы на него наткнулись совершенно случайно. Это, должно быть, часть старой канализационной сети.
— Судя по твоим рассказам, я думал, что «квартира без номера» много хуже. Тут даже радио есть.
— Да. Можешь слушать Москву сколько хочешь. Теперь условимся так: если порой тебе станет невмоготу, говори прямо, я всегда смогу тебя на время сменить.
— Спасибо. Сегодня есть какая-нибудь работа?
— Да. Набери вот это воззвание. Завтра сделаем оттиск.
Эрик остался один. За год его пальцы не утратили прежней гибкости, и, держа в левой руке верстатку, он начал набирать.
…Наверху сейчас ночь. В небе мерцают светлячки звезд, луна озаряет крыши… А может быть, небо затянуто тучами. Шелестят деревья, на воде легкая рябь, люди полной грудью вдыхают прохладный осенний воздух.
Сколько дней, месяцев, быть может, лет нужно будет бороться, чтобы очистить воздух родины от фашистского угара? Сколько еще придется прожить здесь без весны, без солнца, без Скайдрите?
Моя хорошая, что ты подумаешь, когда завтра я не приду на свидание? Ты пойдешь в гостиницу, но и там не найдешь меня ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю… Я пропаду без вести… Но ведь ты должна сердцем понять, что мы живем в такое время, когда любящим приходится расставаться, не попрощавшись. Ты поймешь, Скайдрите, поймешь, что каждый из нас своим путем идет к общей цели. Я твердо верю, что ты не свернешь с пути. Рано или поздно ты найдешь свое место в наших рядах. Я знаю, наши дороги еще встретятся, и тогда мы найдем друг друга, чтобы никогда не расставаться…
Ты даже письма от меня не получишь… Я ведь не знаю твоего адреса, а если бы и знал, все равно не стал бы писать тебе… Так лучше… Я не принадлежу себе.
Но если б можно было, что бы я написал тебе? Может быть, вот это: «Сегодня, когда узнал, что мы расстаемся надолго, я понял, как сильно люблю тебя. Мне было бесконечно трудно скрывать от тебя свои подлинные чувства и мысли. Прощаясь с тобой, раскрою правду. Я коммунист, подпольщик. Это значит, что на время нам нужно расстаться. Жди меня, я верю в твою любовь. Твой Эрик».
Даугавиет отодвинул ванну от стены. Но и за ванной ничего нельзя было обнаружить. Янис опустился на колени и толкнул стену плечом. Только тогда Эрик увидел квадратное отверстие на высоте примерно пятидесяти сантиметров над полом.
— Здорово придумано! — воскликнул он. — Но мне кажется, при тщательном обыске это отверстие можно обнаружить.
— Ничего подобного. Здесь кладка толщиной в четыре кирпича. При выстукивании пустоту в стене не обнаружат. А изнутри вход запирается так, что его и десятку человек не сдвинуть с места.
— Как же вам удалось устроить такой тайник?
— Я — строительный рабочий, а Донат в молодости был каменщиком. Чтобы не вызвать подозрений, мы затеяли капитальный ремонт всего дома, а сами тем временем потихоньку работали здесь. А теперь полезай первым, я запру вход.
— А как же ванна?
— Надя ее поставит на место. Вот возьми карманный фонарик. Ползи осторожно, спуск очень крутой.
Эрик вдруг почувствовал, что задыхается. Наверно, Янис закрыл люк…
Фонарик осветил небольшое помещение. Теперь можно встать на ноги.
Эрик очутился в низком продолговатом каземате. Печатный станок, столик с наборными кассами, стул, большая кипа бумаги, полочка с книгами, радиоприемник, железная койка, на ней набитый соломой тюфяк, такая же подушка, свернутое одеяло. Вот и все, что тут есть. Щелкнул выключатель — Янис включил свет.
Эрик осмотрел шрифт.
— Тут, я вижу, все нужно набирать корпусом. А где краска? Ага, вот там в углу.
Рядом с коробками краски стояли консервные банки.
— Это твой неприкосновенный запас, — пояснил Янис. — На случай, если наверху что-нибудь произойдет. Сухари под кроватью. Дней на десять еды хватит. Но если вход все же обнаружат, ты сможешь выбраться иным путем. Видишь отверстие? Это не только вентилятор, но и узкий подземный ход, который ведет к развалинам у набережной Даугавы.
— Неужели вы и этот ход вырыли вдвоем? Тут ведь работы на много месяцев.
— Нет, мы на него наткнулись совершенно случайно. Это, должно быть, часть старой канализационной сети.
— Судя по твоим рассказам, я думал, что «квартира без номера» много хуже. Тут даже радио есть.
— Да. Можешь слушать Москву сколько хочешь. Теперь условимся так: если порой тебе станет невмоготу, говори прямо, я всегда смогу тебя на время сменить.
— Спасибо. Сегодня есть какая-нибудь работа?
— Да. Набери вот это воззвание. Завтра сделаем оттиск.
Эрик остался один. За год его пальцы не утратили прежней гибкости, и, держа в левой руке верстатку, он начал набирать.
…Наверху сейчас ночь. В небе мерцают светлячки звезд, луна озаряет крыши… А может быть, небо затянуто тучами. Шелестят деревья, на воде легкая рябь, люди полной грудью вдыхают прохладный осенний воздух.
Сколько дней, месяцев, быть может, лет нужно будет бороться, чтобы очистить воздух родины от фашистского угара? Сколько еще придется прожить здесь без весны, без солнца, без Скайдрите?
Моя хорошая, что ты подумаешь, когда завтра я не приду на свидание? Ты пойдешь в гостиницу, но и там не найдешь меня ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю… Я пропаду без вести… Но ведь ты должна сердцем понять, что мы живем в такое время, когда любящим приходится расставаться, не попрощавшись. Ты поймешь, Скайдрите, поймешь, что каждый из нас своим путем идет к общей цели. Я твердо верю, что ты не свернешь с пути. Рано или поздно ты найдешь свое место в наших рядах. Я знаю, наши дороги еще встретятся, и тогда мы найдем друг друга, чтобы никогда не расставаться…
Ты даже письма от меня не получишь… Я ведь не знаю твоего адреса, а если бы и знал, все равно не стал бы писать тебе… Так лучше… Я не принадлежу себе.
Но если б можно было, что бы я написал тебе? Может быть, вот это: «Сегодня, когда узнал, что мы расстаемся надолго, я понял, как сильно люблю тебя. Мне было бесконечно трудно скрывать от тебя свои подлинные чувства и мысли. Прощаясь с тобой, раскрою правду. Я коммунист, подпольщик. Это значит, что на время нам нужно расстаться. Жди меня, я верю в твою любовь. Твой Эрик».
Вот так он написал бы ей… Но вместо письма любимой Эрик набирал листовку, начинавшуюся словами: «Товарищи! Сегодня мы празднуем 25-летие победы Октябрьской революции…»
15
В книжное агентство Висвальда Буртниека один за другим приходили посетители: иные заказывали учебники, другие — редкие издания. Потом явился человек с длинными колючими усами. Буртниек видел его впервые. Руки у незнакомого посетителя были мозолистые, как у чернорабочего, а название немецкой газеты он произнес с таким невероятным акцентом, что сразу стало ясно, как невелики его познания в немецком языке. — У вас есть «Volkischer Beobachter»? — спросил усач. — Нет, но я мог бы вам предложить учебник по алгебре для пятого класса. — Не годится. Мне надо завернуть селедку. — Ах, вот как! А я думал, вы хотите прочитать речь фюрера… Слова пароля совпали, и незнакомец вытащил из-под подкладки пиджака записку. — Передайте Жанису. Он уже был у выхода, когда Висвальд окликнул его. — Погодите минутку. На всякий случай дам несколько номеров «Сигнала». Усач, что-то пробурчав, засунул пестрые журналы в карман пальто и, не попрощавшись, ушел. Под вечер явился Макулевич. Он никогда не выходил днем, не желая показываться при дневном свете в обтрепанной одежде. После обычного вступления, занявшего не менее десяти минут, автор венка сонетов заявил: — Любезнейший господин Буртниек, спешу уведомить вас, что сегодня — величайший день в моей жизни! Мне удалось решить проблему, которая без конца мучила меня. — А именно? — Я никак не мог прийти к ясности в вопросе о существовании бога. — Какое же открытие вы наконец сделали? — Я открыл, что бог есть… но он отъявленный негодяй! — торжественно объявил Макулевич. — Ибо, в противном случае, он не допустил бы подобных ужасов. Вчера мне привелось увидеть, как гитлеровцы убили русского военнопленного. Живого человека кололи штыками, пока он не перестал двигаться! — По-моему, вы не последовательны, господин Макулевич, — с горькой иронией заметил Буртниек. — Ведь этот военнопленный умер, а вы сами лишь неделю тому назад утверждали, что уничтожение есть величайшее благо… — Да, я продолжаю считать смерть единственным счастьем человека… — смущенно пролепетал Макулевич. — Но если для достижения этого счастья нужно пройти через такие жестокие мучения, то, право, даже смерть не может их искупить… Когда на улицах я вижу эту варварскую форму со свастикой и черепом, мне хочется куда-нибудь спрятаться, закрыть глаза. Единственное место, где я еще могу спокойно творить, — это мое фамильное владение, доставшееся по наследству моей матери от ее дядюшки. — Как, господин Макулевич, вам принадлежит недвижимая собственность? — недоверчиво спросил Буртниек, оглядывая неоднократно штопанные брюки Макулевича. — Совершенно верно, — с гордостью подтвердил поэт. — Это очень красивое сооружение в стиле Ренессанс. Местность вокруг живописная и спокойная. Я уже давно мечтаю показать его вам. — Где же находится ваш особняк? — Особняк? — удивился Макулевич. — Да нет же, это наша фамильная усыпальница… Высокочтимый, любезнейший господин Буртниек… уважаемый друг… — От волнения Макулевич начал заикаться. — Окажите мне честь… соблаговолите поехать со мной сейчас туда… Я буду счастлив принять столь почетного гостя в месте упокоения моих предков… Буртниек едва удержался от смеха. Старая Элиза Свемпе не ошиблась: у несчастного проповедника философии уничтожения, который в этом мире беден, как церковная крыса, а во владениях своих покойных предков чувствует себя богатым собственником, действительно не хватает каких-то винтиков в голове. Висвальд хотел было отговориться тем, что занят. Но вдруг у него мелькнула неожиданная мысль: а что, если эту усыпальницу как-нибудь использовать? Поэтому он весьма любезно ответил: — Сегодня, к сожалению, не смогу. Но завтра с удовольствием поеду с вами. Это обещание привело Макулевича в такой восторг, что он позабыл даже осведомиться о заказанном год назад сборнике стихов. Последним посетителем оказался сам Донат Бауманис, которого все считали домовладельцем. Только немногие знали о нем правду. В свое время, еще при буржуазном режиме, партии понадобилось помещение для подпольной работы. На помощь пришел случай. В газетах появилось сообщение о том, что какой-то Бауманис получил большое наследство. По заданию партии Донат Бауманис должен был выдать себя за богатого наследника и купить дом на улице Грециниеку. В этом доме не раз происходили собрания рижской организации. Когда понадобилось надежное место для подпольной типографии, Бауманису, по распоряжению Центрального Комитета, снова пришлось на время превратиться в домовладельца. Донат поднимался наверх, в книжное агентство, уже несколько раз и в каждый приход извлекал из-под пальто туго набитый пакет… Пока Висвальд раскладывал листовки в одинаковые по величине пачки, надписывая вымышленные адреса на бандеролях, и обвязывал их шпагатом, старый Донат с комическим отчаянием изливал все свои горести и накопившиеся обиды: — Ну вот, подумай… Сестра моя — поденщица, наш Янис числится студентом, другие товарищи трудятся у станка или пашут землю, только мы с тобой, профессор, работаем «буржуями». Тебе-то еще ничего, ты как-никак интеллигент, лицо свободной профессии. А я кто? Домовладелец, паразит… Родная племянница, эта егоза Скайдрите, считает меня эксплуататором, бездельником, пьянчужкой, пропивающим все деньги… Стыдно людям в глаза смотреть! Будто я не знаю, что у каждого из них на уме! «Вон идет старый Бауманис, хозяин четырехэтажного дома. У самого мешки с деньгами припрятаны, а сестру голодом морит». Нет уж, профессор, с меня хватит. Вот что я тебе скажу: как только разделаемся с фашистами, никто меня больше не заставит в бездельниках ходить. Буртниек не прерывал монолога Доната, чтобы дать ему отвести душу. Наконец упаковав все листовки, Висвальд положил руку на плечо приятеля.
— Побольше бы таких домовладельцев! Скажи Элизе, чтобы утром пришла пораньше… Теперь у нее будет много работы. Видишь, сколько пакетов!
Старый Донат с удовлетворением крякнул и, волоча ноги, пошел обратно в свою квартиру.
Четырехэтажный дом, казалось, погрузился в сон. Однако многие из его обитателей бодрствовали. Не спал старый Донат, стороживший вход на лестницу; не спал Эрик, слушавший в своей «квартире без номера» последние известия из Москвы; не спала Скайдрите, мучительно думавшая о загадочном исчезновении Эрика; не спал и Висвальд Буртниек, представлявший себе опасный и трудный путь, по которому отправятся завтра воззвания партии к народу.
Буртниек не прерывал монолога Доната, чтобы дать ему отвести душу. Наконец упаковав все листовки, Висвальд положил руку на плечо приятеля.
— Побольше бы таких домовладельцев! Скажи Элизе, чтобы утром пришла пораньше… Теперь у нее будет много работы. Видишь, сколько пакетов!
Старый Донат с удовлетворением крякнул и, волоча ноги, пошел обратно в свою квартиру.
Четырехэтажный дом, казалось, погрузился в сон. Однако многие из его обитателей бодрствовали. Не спал старый Донат, стороживший вход на лестницу; не спал Эрик, слушавший в своей «квартире без номера» последние известия из Москвы; не спала Скайдрите, мучительно думавшая о загадочном исчезновении Эрика; не спал и Висвальд Буртниек, представлявший себе опасный и трудный путь, по которому отправятся завтра воззвания партии к народу.
16

Рано утром, когда улицы еще окутывала тьма, Элиза Свемпе вышла из дому. Сегодня вместо одной базарной сумки она несла две. Элиза держалась поближе к стенам домов, по временам останавливалась у витрин магазинов, чтобы дать отдых усталым ногам, делая вид, что разглядывает цены товаров. Наконец она добралась до почты. В большом зале толпились люди. Как только Элиза заняла очередь у окошка, где принимали пакеты и бандероли, какая-то девушка поднялась со скамейки и встала рядом. Свемпе быстро взглянула на нее, но не промолвила ни слова. С медлительностью старого человека она стала раскладывать у окошка все свои посылки. Пока Элиза наклеивала марки, девушка потихоньку оглянулась, ловко схватила пакет, обвязанный коричневым шнурком, и положила его в портфель.
…Пакет с листовками, взятый девушкой на почте, продолжал свой путь. Сперва он попал в бакалейный магазин, неподалеку от Воздушного моста. Через несколько часов туда заглянул рабочий завода ВЭФ Юрис Курцис. Подождав, пока освободится старшая продавщица, он спросил у нее: — Нет ли у вас зубного порошка? — Я бы вам посоветовала зубную пасту. — Паста не годится для чистки туфель, — ответил Курцис. — Ах, вот как. А я думала, вам для зубов… Погодите, может быть, у нас еще найдется коробочка. — И продавщица подала ему несколько коробок «Хлородонта». Напевая веселую песенку, Курцис отправился на завод. Он работал во вторую смену. Во дворе завода Курцис встретил шофера Силиня. — Принес? — шепотом спросил тот. — Да. Оставлю, где всегда. Перед уходом домой, после работы, механик Калнапур нашел в кармане пальто какой-то листок бумаги. «Да ведь это листовка! — в испуге подумал он. — Увидит кто-нибудь — и конец. Куда бы ее сунуть?» Он уже собирался бросить листок прямо на пол, но в эту минуту в гардероб вошли рабочие. Во дворе листовку тоже не удалось выкинуть, потому что вокруг были люди. В трамвае Калнапуру все время казалось, что кондуктор подозрительно поглядывает на его карман, который будто так и прожигала опасная листовка. Запыхавшийся и потный, Калнапур прибежал домой. У дверей его уже поджидала младшая дочка Модите. — А ты мне что-нибудь вкусное принес? — спросила она отца. Обычно для каждого ребенка у Калнапура находился и гостинец, и ласковое слово, но сегодня, не взглянув на детей, он бросился прямо на кухню. — Хорошо, что у тебя уже топится плита! Брось-ка в огонь этот листок, Мирдза, да поживей! — Отчего это мой старик сегодня не в духе? И что же это за страшный листок? — Кажется, листовка! Знала бы ты, сколько страху я натерпелся! — Постой, постой. Сжечь ее мы всегда успеем. Надо сначала прочитать! — Прочитать! Да ты что, жена, в своем уме? А если вдруг кто войдет и увидит… — Не бойся ты, заячья душа. Дверь же на запоре. Калнапур немного успокоился. Видя, что Мирдза ничуть не боится, он тоже решил, что напрасно перепугался. И он стал читать вслух: — «Товарищи! Сегодня мы празднуем двадцатипятилетие победы социалистической революции в нашей стране. Прошло двадцать пять лет с того времени, как установился у нас советский строй…» Все, что Мирдзе раньше представлялось расплывчатым, как в тумане, обретало теперь ясные очертания. Слушая слова о том, что народы оккупированных стран Европы охвачены пламенем ненависти к захватчикам, что они на каждом шагу, где только возможно, стараются причинять ущерб фашистам, она еще острее почувствовала и прежде мучившие ее укоры совести. — Правильно! — перебила она мужа. — Они вовсе не так сильны, как кажется. Мы сами виноваты в том, что Дрекслеры*["30] и Данкеры*["31] все еще сидят у нас на шее! Калнапур снял очки и покосился на жену. — Ну что ты раскудахталась! Дай же дочитать! — «…Гитлеровские мерзавцы взяли за правило истязать советских военнопленных, убивать их сотнями, обрекать на голодную смерть тысячи из них. Они насилуют и убивают гражданское население оккупированных территорий нашей страны, мужчин и женщин, детей и стариков, наших братьев и сестер…» — Старая Андерсоне, что жила на улице Бикерниеку, — снова прервала мужа Мирдза, — говорила, что своими глазами видела огромную яму, заваленную трупами. Эти мерзавцы не потрудились даже закопать несчастных. Тогда, как раз на пасху, исчез мой брат… — И Мирдза стала всхлипывать. Калнапур сочувственно поглядел на жену, но Мирдза уже утерла слезы. — Ну читай, читай дальше! — «…Только низкие люди и подлецы, лишенные чести и павшие до состояния животных, могут позволить себе такие безобразия в отношении невинных безоружных людей. Но это не все. Они покрыли Европу виселицами и концентрационными лагерями. Они ввели подлую «систему заложников». Они расстреливают и вешают ни в чем не повинных граждан, взятых «в залог» из-за того, что какому-нибудь немецкому животному помешали насиловать женщин или грабить обывателей… — Листок выскользнул из рук. Калнапур вспомнил о судьбе селения Аудрини. За то, что крестьяне укрыли двух бойцов Красной Армии, фашисты учинили кровавую расправу: они убили 330 жителей — мужчин, женщин, стариков и детей. Голосом, полным возмущения, он продолжал читать: — Они превратили Европу в тюрьму народов. И это называется у них — «новый порядок в Европе». Мы знаем виновников этих безобразий, создателей «нового порядка в Европе», всех этих новоиспеченных генерал-губернаторов и просто губернаторов, комендантов и подкомендантов. Их имена известны десяткам тысяч замученных людей. Пусть знают эти палачи, что им не уйти от ответственности за свои преступления и не миновать карающей руки замученных народов». Ну, что ты обо всем этом скажешь? — спросил Калнапур, прочитав листовку до конца. — Что скажу? Слово в слово то же самое… Тут все, как в зеркале. Разве не правда, что фашисты грабят нашу землю… Не считают нас за людей… — Да, так оно и есть, — подтвердил Калнапур. — Такой же гитлеровец и наш директор. Рабочего не считает за человека, орет, как на собаку. Все соки выжимает… Сколько еще это может продолжаться? — Если каждый будет только так вот спрашивать, а сам и пальцем о палец не ударит, то, конечно, от этого нам лучше не станет. Надо как-то действовать, Микель… — Надо, надо, будто я сам не знаю. Но ты забываешь, что я отец троих детей! Ты совсем не думаешь о малышах… — Неужели же будет лучше, если тебя отправят в Саласпилс только потому, что какому-то гитлеровцу не понравится твоя физиономия? Наш сосед Эвальд не уступил места немецкому офицеру, и теперь жена не знает, куда он исчез. Калнапур поднялся. — Ладно. Будь что будет. Погоди, я скоро вернусь. — Куда ты собрался, Микель? Обед готов. — Я недалеко. Брошу листовку в ящик Карлису Эмберу. Пусть тоже прочитает.
Машинист-железнодорожник Карлис Эмбер уже обедал, когда из школы пришел его сын Индрик. — Посмотри, отец, что я нашел в почтовом ящике. — И он показал отцу листовку. — Опять, наверное, какая-нибудь реклама, — пробурчал Эмбер и, даже не взглянув на листовку, продолжал есть суп. — Нет, тут написано: «Центральный Комитет…» — Что? А ну-ка, дай сюда! — И Эмбер вырвал листок из рук мальчика. Совсем позабыв об остывшем супе, машинист несколько раз прочитал листовку. Вот уже вторая попадает в его руки. Первую ему показал товарищ по работе, теперь листовка вдруг очутилась у него дома. Это походило на вторичное напоминание, на вторичный призыв к его совести. Тысячи встали на борьбу, красноармейцы в Сталинграде сражаются за каждый дом, за каждую пядь земли, партизаны взрывают железнодорожные пути и мосты, а он? Что делает он, машинист Карлис Эмбер? При случае старается задержать движение поездов, нарушить график. Но этого слишком мало. Хоть и с опозданием, но фашистские эшелоны все же попадают на фронт… Активный саботаж — вот единственно правильный путь. Эмбер решил завтра же поговорить кое с кем из товарищей. — Что тут написано? — спросил Индрик, нетерпеливо ожидая, когда наконец отец кончит читать. — Вот посмотри сам. Ты уже не маленький, начинай разбираться в жизни. Затаив дыхание мальчик прочитал листовку. Казалось, он старается заучить весь текст наизусть. — Отец, я отнесу это в школу и покажу ребятам, — сказал Индрик. — Знаешь, недавно у нас по всем коридорам были рассыпаны красные звезды. — Так-так, сынок. Выходит, вы тоже не спите… Но листовку в школу носить не стоит, там тебя кто-нибудь может выдать. Лучше перескажи ее ребятам. Когда отец ушел на работу, Индрик решился: он положил свернутую трубочкой листовку в карман и прихватил с собой тюбик клея. Только — куда бы листовку приклеить? К соседнему дому в это время подъехал «опель-адмирал». Из машины вышел шофер и скрылся в дверях. На миг позабыв о задуманном, мальчик остановился поглядеть на красивую машину. И вдруг ему пришло в голову, что из нее получится неплохой афишный столб. Индрик огляделся по сторонам, повернулся к машине спиной и прилепил листовку к крышке багажника. В следующее мгновение мальчик шмыгнул в ворота. Довольный и веселый, он помчался вверх по лестнице. Почти столько же времени понадобилось шоферу Бауэру, чтобы подняться на второй этаж. Генерал Хартмут приказал подать машину к зданию гестапо на улице Реймерса. Этот дом вызывал у Бауэра отвращение. Занятый своими невеселыми мыслями, шофер не обратил внимания на то, что возле машины собралась кучка людей, и сел за руль. Опять, видимо, придется ждать несколько часов — можно не торопиться. Бауэр ехал так медленно, что его обгоняли даже велосипедисты. В зеркале над рулем скользили дома, машины, люди. Прохожие почему-то останавливались и долго провожали машину взглядом. «Уж не случилось ли чего с покрышками?» — подумал Бауэр. Он свернул в тихий переулок и осмотрел машину. Так! Вот почему люди смотрят на нее. Коммунистическая листовка на роскошной машине самого генерала Хартмута! Вот это здорово!
 Клей еще не успел застыть, и шоферу удалось снять листовку, не разорвав бумаги. Тревожно и радостно забилось сердце…
Бауэр вспомнил Большого Теда — так немецкие рабочие называли своего любимого вождя Эрнста Тельмана. В памяти всплыли дни юности, бурные митинги, драки с молодчиками в коричневых рубашках, пикеты забастовщиков у заводских ворот Борзика, вспомнились замученные в Дахау товарищи. Как далеко то время, когда он, сжав кулаки, со слезами восторга слушал пламенную речь Тельмана на первомайской демонстрации!.. Как далеко то время, когда он сам разносил листовки и участвовал в избирательной кампании! Потом был гитлеровский переворот, годы террора, массовые аресты…
Бауэр чудом спасся — главным образом потому, что еще не успел вступить в партию… Поток сопротивления постепенно иссякал. Одни, запуганные топором палача, сами сложили оружие, другие попали в тюрьмы, и наконец пришел день, когда Бауэр потерял последние связи.
Здесь, в оккупированной Латвии, он сильнее, чем когда-либо, ощущал необходимость выйти из состояния пассивного наблюдателя и связаться с коммунистическим подпольем. Вот уже три месяца, как он здесь, но еще ничего не удалось сделать: местные жители видели в нем лишь ненавистного оккупанта. Неужели и вправду нет выхода?
Клей еще не успел застыть, и шоферу удалось снять листовку, не разорвав бумаги. Тревожно и радостно забилось сердце…
Бауэр вспомнил Большого Теда — так немецкие рабочие называли своего любимого вождя Эрнста Тельмана. В памяти всплыли дни юности, бурные митинги, драки с молодчиками в коричневых рубашках, пикеты забастовщиков у заводских ворот Борзика, вспомнились замученные в Дахау товарищи. Как далеко то время, когда он, сжав кулаки, со слезами восторга слушал пламенную речь Тельмана на первомайской демонстрации!.. Как далеко то время, когда он сам разносил листовки и участвовал в избирательной кампании! Потом был гитлеровский переворот, годы террора, массовые аресты…
Бауэр чудом спасся — главным образом потому, что еще не успел вступить в партию… Поток сопротивления постепенно иссякал. Одни, запуганные топором палача, сами сложили оружие, другие попали в тюрьмы, и наконец пришел день, когда Бауэр потерял последние связи.
Здесь, в оккупированной Латвии, он сильнее, чем когда-либо, ощущал необходимость выйти из состояния пассивного наблюдателя и связаться с коммунистическим подпольем. Вот уже три месяца, как он здесь, но еще ничего не удалось сделать: местные жители видели в нем лишь ненавистного оккупанта. Неужели и вправду нет выхода?
17
Пока услужливый швейцар помогал Кисису снять пальто, агент успел окинуть взором зал за стеклянной дверью. В этот ранний послеобеденный час кафе уже было переполнено. Хорошо, что Мелсиня пришла пораньше и успела занять столик. Самодовольно улыбаясь, Кисис подошел к зеркалу, провел расческой по волосам, поправил галстук и слегка окропил его «Шипром» из флакона, который всегда носил с собой. Затем он направился в зал. Голубоватый от папиросного дыма воздух, жужжание голосов и пиликанье струнного оркестра — все это сразу же слегка одурманило Кисиса. Среди немногих кафе, еще не превращенных оккупантами в увеселительные заведения для вермахта, это считалось самым фешенебельным. И неудивительно, что Кисис встретил тут множество знакомых. Раскланиваясь направо и налево, он пробирался между столиками. Официально в кафе было разрешено подавать только суррогат кофе с сахарином. Но возбужденные лица и непринужденные речи посетителей недвусмысленно говорили о том, что из-под полы тут можно получить и кое-что покрепче. — Здорово, Кисис! Идемте-ка в нашу компанию. Присоединяйтесь, пока живительная влага не высохла, — поднимая стакан с водкой, пригласил его управляющий банком Регерт. Но агент не поддался искушению и прошел прямо к столику Мелсини. Чтобы оградить себя от нежелательных соседей, которые могли бы нарушить интимную обстановку, она заняла все три свободных стула различными предметами своего туалета. — Ах, если бы ты знал, как я тебя ждала! — нежно шепнула Мелсиня. — Сердце билось так сильно, будто мне всего шестнадцать лет… — И мне не терпелось тебя снова увидеть, — ответил Кисис и поцеловал ей руку. — Скажи, ты узнала что-нибудь еще об этой Земите? — добавил он, понизив голос. Мелсиня вздохнула. — Знаешь, Арнольд, — и она погладила руку Кисиса, — любовь, кажется, ослепила меня. Я не заметила ничего, абсолютно ничего предусмотрительного. Они все время говорят только о зубном порошке. — О зубном порошке? Агент навострил уши. — Да. И покупают всегда «Хлородонт». Кисис на минуту задумался: — Подозрительно, подозрительно… На твоем месте я бы посмотрел, что это за порошок. Вернувшись в свой магазин, Мелсиня решила тут же последовать совету Кисиса. Вечером она снова встретится с возлюбленным и, может быть, уже сумеет его чем-нибудь порадовать. Инстинктом женщины Мелсиня почувствовала, что Кисис придает этому делу большое значение. Войдя в контору, хозяйка магазина уселась за столом так, чтобы через приоткрытую дверь можно было наблюдать за старшей продавщицей. Ей повезло. К Земите как раз подошел один из постоянных покупателей. Слов, которыми они обменивались, Мелсиня, правда, не расслышала, но видела, как продавщица протянула рабочему коробку с зубным порошком. «За этим, видимо, в самом деле что-то кроется», — решила хозяйка и недолго думая направилась к прилавку. Елейным тоном, каким в последнее время всегда говорила со старшей продавщицей, Мелсиня сказала: — Вы сегодня, вероятно, очень устали, дорогая Земите… Мне кажется, вам было бы полезно подышать свежим воздухом. Вот заказ, поезжайте-ка на склад за товаром. — Но теперь так много покупателей, госпожа Мелсиня, — возразила Земите. — Мы и так не справляемся… — Ничего, ничего… Я поработаю за вас… — И хозяйка магазина сунула бланк заказа в руку продавщице. Как только Земите вышла, Мелсиня приступила к делу. Одну за другой она открывала все коробки с «Хлородонтом». Ничего! Все они содержали чистый, белый порошок. Затем она проверила сложенные под прилавком пустые ящики. И там не было ничего подозрительного. Тогда она принялась обшаривать ящик с деньгами. Но, помимо кредитных билетов, выданных немецким банком, и здесь обнаружить ничего не удалось. Мелсиня собиралась уже закрыть ящик, и тут вдруг произошла одна из тех мелких случайностей, которые часто ведут к серьезным последствиям. Измятая, засаленная десятимарковая бумажка упала на пол. Мелсиня нагнулась, подняла ее и при этом заметила под верхней доской прилавка несколько коробок «Хлородонта». Сначала она не могла понять, на чем же они там держатся. Потом ей все стало ясно — коробки приклеены! Дрожащими пальцами Мелсиня раскрыла одну из них, извлекла вчетверо сложенный листок бумаги и от волнения чуть не разорвала его. «…Их имена знают десятки тысяч замученных людей…» — прочла она. Лицо Мелсини побурело от злости.Большевистская листовка! И где? В ее магазине! Была бы Земите поблизости, она бы ей показала! — Будьте любезны, мне коробочку зубного порошка, — раздался в это мгновение голос за ее спиной. Уверенная, что имеет дело с одним из этих красных ублюдков, Мелсиня резко обернулась и… изумилась настолько, что не знала, верить ли ей своим глазам: по другую сторону прилавка с раскрытым кошельком стоял приват-доцент Граве… — Что с вами, госпожа Мелсиня?! Вы не больны? — озабоченно осведомился приват-доцент. — Если бы вы только знали, что я сейчас обнаружила! Коммун… — Тише, тише! — Граве прижал указательный палец к губам и увлек Мелсиню в ее контору. Прочитав листовку, приват-доцент заволновался еще больше, чем сама владелица магазина: — Сейчас же звонить в гестапо! Сейчас же, не теряя ни одной минуты! — И он лихорадочно стал перелистывать телефонную книгу. — Но ведь я обещала своему другу… Мне прежде всего надо поговорить с Кисисом, — колебалась Мелсиня. — Что там Кисис! Что он понимает в таких делах?.. Здесь дорога каждая секунда! — И Граве энергично набрал номер. …Вечером, на очередном приеме у Граудниеков, приват-доцент стал героем дня. Его чествовали и поздравляли так бурно, будто он по крайней мере спас всех присутствующих от смерти.18
Оберштурмфюрер Рауп-Дименс нажал кнопку звонка. Ввели арестованную. Это была светловолосая женщина лет тридцати, в рабочем халате продавщицы. На серовато-синей материи белели пятна муки. — Вы уже давно работаете в бакалейном магазине на улице Адольфа Гитлера, сто семьдесят восемь? — Третий год. — Если не ошибаюсь, при большевиках вас назначили старшей продавщицей? Арестованная не ответила. — Впрочем, это не имеет значения… — небрежно заметил Рауп-Дименс и продолжал более вежливым тоном: — Поймите меня правильно, фрейлейн Земите, я вовсе не считаю вас коммунисткой. Вы просто попались на удочку и поддались большевистской агитации. Еще не поздно одуматься. Я готов посмотреть сквозь пальцы даже на то, что у вас нашли листовки. Скажите мне только, кто дал вам их на хранение? — Мне их никто не давал. Я нашла эти листовки на улице, думала, пригодятся в магазине, вот я их и взяла. Вы же сами знаете, что бумага сейчас очень дорогая. Для обертки товаров одной «Тевии» не хватает. Оберштурмфюрер усмехнулся: — Ах, вот как!.. Значит, отпускаете покупателям товар, завернутый в антигосударственные листовки? Недурной способ пропаганды! Продавщица в отчаянии сжимала руки. — Но я же не знала, что там написано! Оберштурмфюрер, как бы погрузившись в глубокое раздумье, вертел карандаш. — Да, да, все это звучит весьма правдоподобно. Что же, кажется, придется вас освободить… — И вдруг резким голосом, точно топором отрубая слова, спросил: — Почему же моему знакомому вы отпустили товар в обычной оберточной бумаге? Арестованная побледнела. «Сейчас она сознается», — подумал Рауп-Дименс. И когда она сказала: «Можно мне задать вам вопрос?» — гестаповец вежливо ответил: — Пожалуйста, прошу вас. — Что покупал ваш знакомый? — Килограмм крупы. — Ну подумайте сами, разве можно целый килограмм завернуть в такую маленькую бумажку! «Что? Она еще надо мной смеется! Хорошо же, я ей сейчас покажу!» Он нажал под столом кнопку звонка и закурил сигарету. В кабинет уверенной походкой вошла Мелсиня. Начиная с вызывающе накрашенных губ и кончая ярко-красными туфлями на толстой подошве — все в этой особе было утрированным. Увидев Земите, она отпрянула к дверям. — Но, господин оберштурмфюрер, вы же обещали, что… — Не волнуйтесь! Тому, кто побывал в моем кабинете, больше не представится случая болтать. Ну, рассказывайте… Все, что вам известно. — Эту Земите я всегда считала коммунисткой. Я слышала, как она говорила, будто при большевиках хорошо жилось… Рауп-Дименс резко оборвал свидетельницу: — Это я уже слышал. Ближе к делу! — Земите мне уже давно казалась подозрительной. Я заметила, что с некоторыми покупателями она потихоньку шушукается и те потом всегда покупают зубной порошок. В тот день, когда вам позвонили, я срочно послала ее за товаром, а сама тем временем проверила ее отделение и нашла несколько пустых коробок из-под зубного порошка «Хлородонт». В них оказались листовки… — Благодарю вас. Пока вы мне больше не нужны. Оберштурмфюрер закурил другую сигарету и, удобно откинувшись в кресле, молча стал наблюдать за арестованной. Эту сигарету он курил с необычайным наслаждением. Она казалась ему еще приятней, чем бывает первая затяжка поутру или сигара после изысканного обеда. Рауп-Дименс наслаждался своей властью над Земите. Она была в его руках, точно пойманная стрекоза, трепещущая, тщетно бьющая крыльями. Достаточно росчерка пера, и завтра эта продавщица будет расстреляна. Но сперва нужно выжать из нее все, что ей известно. — Ну-с, напишем протокол… Когда вы начали распространять листовки? Кто их вам приносил? Кому вы их отдавали? Женщина молчала. Оберштурмфюреру слишком хорошо были знакомы такие вот упрямые, полные решимости глаза и крепко сжатые губы. Он знал, что не к чему утруждать себя повторением вопроса. Добром от нее ничего не добьешься — незачем понапрасну портить нервы. — Ничего, у нас в гестапо и немые начинают говорить, — сказал он, злобно усмехнувшись. — Мой помощник сейчас продемонстрирует разнообразие наших методов. Арестованная еще больше побледнела и обеими руками крепко ухватилась за ручки кресла. Когда появился дюжий детина с опухшей от пьянства физиономией, она поняла по одному его виду, что ее ждет. Озол прославился в гестапо как лучший заплечных дел мастер благодаря некоторым познаниям в анатомии. Рауп-Дименс подмигнул Озолу. Помощник снял пиджак, засучил рукава и с явной поспешностью натянул перчатки. Нетерпеливое выражение на его лице говорило о том, с каким наслаждением этот садист продемонстрирует сейчас свое искусство. — Имей в виду: на лице не оставлять ни единого следа. Понятно? — тихо приказал Рауп-Дименс. — Она еще нам пригодится. Испробуй все номера по порядку, но я думаю — двух хватит. Действительно, после второго «номера» женщина не выдержала. Сквозь стоны и крики Рауп-Дименс ясно различил слова: — Пустите меня… не мучайте… я все… расскажу… — Отлично! Озол, прекратить! Оберштурмфюрер дал Земите немного прийти в себя. Арестованная судорожно хватала ртом воздух. — Ну-с, теперь начнем записывать. Итак… Но вместе со способностью говорить к арестованной вернулась и сила воли. — Я ничего не знаю… Ничего не могу сказать… Так продолжалось почти час. Потом Земите потеряла сознание. Озол хотел было сбегать за водой и нашатырным спиртом, но Рауп-Дименс остановил его: — Хватит. Мы все равно с ее помощью все узнаем. Скажи доктору Холману, чтобы завтра к утру арестованная была на ногах. Озол, еще не чувствуя ни малейшей усталости, с явной неохотой повиновался приказу начальника. Когда два эсэсовца грубо схватили Земите, чтобы отнести ее в камеру, она открыла глаза. Оберштурмфюрер подошел к ней вплотную. — Вы меня слышите, да? Так вот знайте: завтра вы будете стоять за прилавком как ни в чем не бывало. Два моих работника будут следить за каждым вашим движением. Если вы попытаетесь предупредить тех, кто принесет вам листовки, или тех, кто за ними явится, на быструю смерть не рассчитывайте. Мы будем пытать вас неделями, месяцами — до тех пор, пока вы сможете чувствовать боль. Ясно?19
Три дня Кристина Земите провела в непрерывных мучениях. Правда, ее больше не истязали, но стоять у прилавка и с замиранием сердца ждать, что в любую минуту дверь магазина отворится и войдет кто-нибудь из связных, было куда страшнее физических пыток. Три дня агенты оберштурмфюрера, переодевшись продавцами, не спускали с нее глаз, следили за каждым ее движением. Три дня Рауп-Дименс нервничал, шагая из угла в угол в своем кабинете. Но никто не появлялся. Через пять часов после ареста Земите в книжном агентстве Буртниека снова появился неразговорчивый рабочий и попросил «Volkischer Beobachter». Янис своевременно получил от него записку. Элиза Свемпе, в свою очередь, предупредила девушку на почте, и так по невидимой цепочке весть об аресте Земите дошла до тех, кто обычно приходил за листовками. Тем не менее прорыв важного звена ставил под угрозу всю сеть. Необходимо было срочно найти новый распределительный пункт. Даугавиет принялся обдумывать создавшееся положение, отвергая один проект за другим. Они казались ему слишком рискованными. В это время в дверь постучала Скайдрите. Девушке долго не открывали, потому что потребовалось по крайней мере две-три минуты, чтобы Эрик скрылся в «квартире без номера». — Почему сегодня такая печальная? — спросил Янис. — Ничего, просто так… голова болит. — Скайдрите провела языком по губам и, набравшись храбрости, заявила: — Не обижайтесь на меня, я хотела поговорить с Ядвигой с глазу на глаз. Надежда тотчас встала и повела Скайдрите в свою комнату. — Что с тобой, расскажи мне. Может быть, смогу помочь? — Ах, если б вы только знали! Я ведь вам уже рассказывала о своем друге… — Да. И что же? — В субботу мы условились встретиться, но он… — Скайдрите проглотила подступивший к горлу комок, — он не пришел. — Ну, это еще не беда. Придет в другой раз. — Сначала я тоже так думала… Но сегодня не выдержала и пошла к нему в гостиницу. — И оказалось, что он тебя и знать не хочет. Что ж, бывает и так… Но ведь это значит, что он не стоит твоей любви! — Нет, все гораздо хуже. Его вообще больше нет… — Как так — нет? — удивилась Надежда. — В том-то и дело. Он вышел из гостиницы и больше не вернулся. Исчез. Понимаете? Точно в воду канул. — Может быть, ему срочно понадобилось уехать? Я бы на твоем месте спокойно ждала письма. — Вы так думаете? Как знать, может быть… Спасибо вам, все же как-то легче стало. …Да, Ядвига права. Остается только одно: ждать письма. И Скайдрите стала ждать. Весь следующий день она провела у окна, то и дело подбегая к дверям. Всякий раз, когда на лестнице слышались шаги, ей казалось, что несут желанное письмо. Каждое синее пальто, появлявшееся из-за угла, казалось ей форменной одеждой почтальона. Когда наконец почтальон принес вечернюю почту, Скайдрите не выдержала и выбежала ему навстречу. — Мне письмо есть? — Нету, барышня. — Но ведь должно же быть! Посмотрите, пожалуйста, еще раз. Почтальон порылся в сумке. — Нету, милая, я же говорю — нету. Кавалер-то ваш, верно, адрес перепутал и послал письмецо другой, — добродушно пошутил он. Медленно, очень медленно ступая, Скайдрите вернулась домой. Славный старичок этот почтальон! Но что за нелепая мысль, будто Эрик мог перепутать адрес! И вдруг она выронила из рук книгу. Только теперь она сообразила, что Эрик вовсе и не знает ее адреса. Значит, ждать нечего… Письмо не придет… Как, неужели она не получит весточки от Эрика? Нет! Этого не может быть, он непременно найдет способ известить ее. Если только захочет, он сможет ей написать. И Скайдрите стала думать о том, как бы она сама поступила на его месте. Верно! Эрик знает, что ее мать работает в гостинице. Он мог бы написать ей и попросить передать письмо Скайдрите… У девушки снова появилась надежда. Когда Элиза поздним вечером вернулась домой, Скайдрите все же не решилась спросить ее, только по глазам матери она старалась понять, не принесла ли та письма. Проходил день за днем, вечер за вечером. По ночам Скайдрите все думала, думала, думала… Порою девушка впадала в отчаяние, порою опять старалась убедить себя, что ничего страшного не случилось и завтра улыбающийся Эрик откроет дверь и скажет: «Скайдрите, я передумал, едем вместе к партизанам». Но когда прошла целая неделя, стало ясно: с Эриком что-то произошло. Что же с ним могло случиться? Внезапное исчезновение людей обычно означало, что они попали в гестапо. Чем чаще Скайдрите возвращалась к этой мысли, тем обоснованнее казалось подобное предположение. Перебрав в памяти каждую мелочь, связанную с Эриком, она только сейчас многое увидела в истинном свете. Эрик ненавидел фашистов — это ей было ясно. Достаточно вспомнить тот случай в парке… Но почему же он становился таким равнодушным, как только она пыталась завести разговор о политике? Возможно, он что-то скрывал?.. Скайдрите вспомнила серые хлопья пепла, летавшие по комнате, когда она пришла к Эрику в гостиницу. И вдруг ее осенила догадка: это было сожженное письмо! Но ведь обычно письма не сжигают, а хранят… Все говорило о том, что Эрик был вынужден жить двойной жизнью. Одна жизнь была явной, другая — тайной. И об этой второй жизни Скайдрите ничего не должна была знать. Но почему? Разве она не заслуживает доверия? Она столько раз давала ему понять, что сама хочет принять участие в борьбе!.. Как видно, одного желания недостаточно. Чтобы заслужить доверие, следует сперва доказать на деле свою смелость и выдержку. Эрик был прав. До сих пор она вела себя, как глупая девчонка. Еще в первые дни войны, когда мать захотела остаться в Риге, надо было настоять на своем и уехать. Вместо того чтобы действовать, она плакала, словно ребенок, и в конце концов все-таки дала себя уговорить. А теперь? Что она сделала, чтобы доказать свою готовность встать в ряды борцов? Ждала, чтобы кто-нибудь взял ее за руку, повел и сказал: «Вот твое место»? А когда в ее жизнь вошел Эрик, она предложила ему отправиться с ней к партизанам. Конечно, Эрик только посмеялся над ее наивностью. Нет, настоящая борьба — это вовсе не какая-нибудь романтическая выдумка… Теперь-то Скайдрите это понимает. Теперь она должна твердо и неуклонно идти своим путем и только где-то вдали, на солнечном перекрестке, может быть, встретит Эрика… Да, Эрика, должно быть, арестовали, быть может, фашисты уже убили его… К чему слезы, жалкие слезы бессилья! Их нужно стереть, пусть глаза будут сухими, как высохшая ветвь, готовая вспыхнуть от первой искры и превратиться в пылающий факел. Скайдрите не имеет права плакать. У нее только одно право, одна обязанность — бороться, мстить! Заменить Эрика, бороться за двоих!.. Приняв твердое решение, Скайдрите час спустя вошла в комнату Надежды. — Помогите мне уйти к партизанам, — прямо сказала девушка. — О чем ты говоришь? — поразилась Надя. — Ядвига, вы единственный человек, которому я могу довериться! Я хочу вам сказать… я… Словом, теперь я стала взрослой, я готова бороться… — Я тебе верю, Скайдрите. Но не слишком ли ты торопишься? — Нет, я уже давно об этом думала. А теперь, после того как исчез мой друг, я твердо решила не оставаться в Риге ни одного лишнего дня… — Как, разве ты не получила письма? — Никакого письма я не получила. Я почти уверена, что Эрика арестовали. И Скайдрите рассказала Надежде обо всем, что навело ее на эту мысль. Надя насторожилась. Неужели это Эрик, тот самый Эрик?.. Не может быть! Надо расспросить Скайдрите, но так, чтобы она не догадалась. — Эрик… красивое имя… — пробормотала Надежда. — А каков он из себя? Наверно, тоже красивый? — Почему обязательно красивый?.. Он… Он милый, вот какой он. Нос такой большой, смешной… А глаза светлые-пресветлые… И все мне в нем нравится, даже складка… Знаете, у него на левой щеке такая морщинка… Надежда вздрогнула и невольно оглянулась: ведь здесь лишь час назад сидел Эрик. Подумать только! Из тысяч молодых людей именно Эрику суждено было встретиться с нашей Скайдрите. Бедная девочка! Тебе еще долго придется мучиться неведением о судьбе твоего друга. — Эрик, говоришь ты? Был у меня один знакомый, Эрик Озолинь. И описание как будто совпадает… — Да нет, какой там Озолинь! Краповский, Эрик Краповский. Надежде больше не удалось скрыть волнение. Не выдержав, она крепко прижала Скайдрите к груди и расцеловала в обе щеки, как это делают русские женщины, провожая близкого человека в опасный и дальний путь.
— Ладно, Скайдрите. Приходи завтра. Мы непременно найдем какой-нибудь выход. А насчет твоего Эрика… Я уверена, что с ним ничего дурного не случилось… Вот ты говоришь, он что-то скрывал от тебя, сжигал какие-то письма. Видимо, по той же причине он сейчас должен скрываться. Придет время, и вы опять встретитесь…
…Этот день потребовал от Надежды Цветковой большого терпения и выдержки. Молчать невыносимо трудно, и все же в присутствии Эрика она должна молчать. Когда Эрик ушел к себе, Янис отправился по делам. Только поздно вечером Надя и Янис смогли поговорить. Обычно смелая и прямая, на этот раз Надежда никак не решалась начать. Женская чуткость подсказывала ей, что она может разбередить рану в сердце Даугавиета. И главное, она сама не знала, как в этом случае следует поступить.
— Знаешь, Янис, мне нужно тебе кое-что рассказать. Поразительное совпадение…
— Что случилось?.. За нашим домом слежка? Говори же скорей, в чем дело?
— Да нет, совсем другое. Это касается Эрика и… Скайдрите.
— Эрика и Скайдрите?.. Что это значит?
— Ну хорошо, я тебе все объясню. Помнишь, Эрик говорил, что у него есть любимая девушка?
— Да.
— Эта девушка — Скайдрите.
Даугавиет вскочил со стула.
— Да, да, это и есть Скайдрите, и она любит нашего Эрика.
— Ей известно, что Эрик здесь?
— Конечно, нет. Скайдрите думает, что его арестовали. Янис, мне так ее жаль… Может быть, все же сказать ей?
— Нет, нет и еще раз нет! — Янис зашагал взад и вперед по комнате. — То, что мы любим Скайдрите, не дает нам права делать исключение. И Эрик в нашей жалости не нуждается. Я был рядом с ним тогда и видел, какую трудную борьбу он выдержал с самим собой. Подпольщик не может проявлять слабохарактерность. Наше счастье, Надя, — не легкое счастье. Оно требует жертв…
Надежда схватила его руку.
— Ты прав, совершенно прав! А знаешь, почему Скайдрите сегодня приходила ко мне? Она хочет уйти в партизаны.
— В партизаны? — Янис последний раз глубоко затянулся и отбросил сигарету. — Нет, Скайдрите нужно оставаться в Риге.
Надежде больше не удалось скрыть волнение. Не выдержав, она крепко прижала Скайдрите к груди и расцеловала в обе щеки, как это делают русские женщины, провожая близкого человека в опасный и дальний путь.
— Ладно, Скайдрите. Приходи завтра. Мы непременно найдем какой-нибудь выход. А насчет твоего Эрика… Я уверена, что с ним ничего дурного не случилось… Вот ты говоришь, он что-то скрывал от тебя, сжигал какие-то письма. Видимо, по той же причине он сейчас должен скрываться. Придет время, и вы опять встретитесь…
…Этот день потребовал от Надежды Цветковой большого терпения и выдержки. Молчать невыносимо трудно, и все же в присутствии Эрика она должна молчать. Когда Эрик ушел к себе, Янис отправился по делам. Только поздно вечером Надя и Янис смогли поговорить. Обычно смелая и прямая, на этот раз Надежда никак не решалась начать. Женская чуткость подсказывала ей, что она может разбередить рану в сердце Даугавиета. И главное, она сама не знала, как в этом случае следует поступить.
— Знаешь, Янис, мне нужно тебе кое-что рассказать. Поразительное совпадение…
— Что случилось?.. За нашим домом слежка? Говори же скорей, в чем дело?
— Да нет, совсем другое. Это касается Эрика и… Скайдрите.
— Эрика и Скайдрите?.. Что это значит?
— Ну хорошо, я тебе все объясню. Помнишь, Эрик говорил, что у него есть любимая девушка?
— Да.
— Эта девушка — Скайдрите.
Даугавиет вскочил со стула.
— Да, да, это и есть Скайдрите, и она любит нашего Эрика.
— Ей известно, что Эрик здесь?
— Конечно, нет. Скайдрите думает, что его арестовали. Янис, мне так ее жаль… Может быть, все же сказать ей?
— Нет, нет и еще раз нет! — Янис зашагал взад и вперед по комнате. — То, что мы любим Скайдрите, не дает нам права делать исключение. И Эрик в нашей жалости не нуждается. Я был рядом с ним тогда и видел, какую трудную борьбу он выдержал с самим собой. Подпольщик не может проявлять слабохарактерность. Наше счастье, Надя, — не легкое счастье. Оно требует жертв…
Надежда схватила его руку.
— Ты прав, совершенно прав! А знаешь, почему Скайдрите сегодня приходила ко мне? Она хочет уйти в партизаны.
— В партизаны? — Янис последний раз глубоко затянулся и отбросил сигарету. — Нет, Скайдрите нужно оставаться в Риге.
20
В ту ночь мастер судоремонтного завода «Цизе» Куренберг дежурил на судне в плавучем доке. Если бы эту старую посудину по ночам не стерегли, то на ней бы не осталось ни одного болтика. Даже обычный шестидюймовый гвоздь стал теперь невесть какой драгоценностью. В полночь Куренберг услышал странный шум. Стряхивая сон, мастер выбежал из теплого машинного отделения. С залива дул четырехбалльный северо-западный ветер. Черная волна тяжело ударяла о борт… Неподалеку от дока в темноте смутно вырисовывался силуэт огромного корпуса. Это «Фредерикус Рекс», бывший пассажирский пароход компании «Северогерманский Ллойд». Теперь его использовали для перевозки раненых солдат вермахта. Густые клубы дыма указывали на то, что пароход скоро отчалит. Куренберг снова прислушался к многоголосому гомону, гулко разносившемуся над водой. Нет, это не стоны раненых. Слышны выкрики, брань, плеск воды, женские голоса, снова яростная брань, топот бесчисленных ног по трапу и равнодушный голос судового офицера: — Сто сорок шесть, сто сорок семь… сто пятьдесят… Стоп! Хватит, лейтенант, подождите, пока первую партию загонят в трюм. Куренбергу все стало ясно — отправляют в Германию гражданское население. Фашисты называли эту процедуру громким словом «arbeitsdienst»,*["32] но от этого людям не становилось легче. Погрозив кому-то кулаком, мастер хотел было вернуться в машинное отделение, но в этот миг в общем шуме он различил всплеск, словно что-то тяжелое плюхнулось в воду. Должно быть, человек упал или прыгнул за борт. Боясь опоздать, Куренберг тотчас сорвал ближайший спасательный круг и быстро привязал к нему конец. Перегнувшись через борт, он размахнулся и швырнул круг в том направлении, где на поверхности воды показалась темная точка… …Наутро в маленькой, жарко натопленной кухоньке Куренберга сидели двое — женщина в старой солдатской шинели и в синих, слишком широких для нее брюках и сам хозяин квартиры. Неловкими пальцами держа остро отточенный карандаш, он выводил на папиросной бумаге мелкие, почти микроскопические буковки. Пока мастер писал, спасенная, уже в который раз, рассказывала о том, что ей пришлось пережить. Слушая ее, Куренберг живо представлял себе, как людей хватали на улицах, загоняли в машины и отвозили в порт. Ведь нечто похожее однажды произошло и с ним самим. Вместе со многими его отвезли на товарную станцию и заставили разгружать вагоны. Все это было описано в листовке, которую Куренберг через несколько дней получил от одного товарища. И верно, там говорилось, что это только начало — сегодня везут на товарную станцию, а завтра — в Германию. Ему именно эта листовка помогла найти путь в подполье. — …Так вот, значит, поймали меня как мышь в мышеловку, — продолжала свой рассказ женщина. — Куда денешься, куда побежишь, когда вокруг шуцманы. «Ваше удостоверение!» — «Но послушайте, где же мне взять удостоверение, если я только через три дня должна приступить к работе!» Они в ответ только зубы скалят. А ведь это чистая правда. Я договорилась с одним дальним родственником — он какой-то там начальник над газетными киосками. Вообще-то мы с ним давно не в ладах. Сами знаете, как приходится с богатыми родственниками. Но на этот раз он все же мне помог. Предчувствие у меня такое было… Думаю, надо куда-нибудь пристроиться. А в Германию — ни за что! Лучше уж с собой покончить… Что же мне теперь делать?.. Куренберг не торопился с ответом. Слова «газетный киоск» глубоко заинтересовали его. Лучшего места для распространения листовок нельзя было и придумать! Если бы только удалось посадить туда своего человека!.. Куренберг боролся с соблазном убедить эту женщину покинуть Ригу, уговорить ее, чтобы она предложила свое место кому-нибудь другому… — Чего же вы волнуетесь? Вам больше ничто не угрожает. Через несколько дней начнете работать, получите удостоверение, и все будет в порядке. А до тех пор можете прятаться у меня. — Остаться в Риге? — возмутилась женщина. — Ни за что! Кто знает, еще забудешь удостоверение дома и, не ровен час, опять схватят. Пусть думают, что я утонула! Лучше поеду в деревню, наймусь работать за одни харчи, а в Риге не останусь… Все время будешь тут вспоминать эту страшную ночь… Нет, ни за что я здесь не останусь!.. Теперь мастер с чистой совестью мог изложить ей свою просьбу. Устроить на это место его родственницу? Конечно! Ведь Куренберг ей спас жизнь… Пожалуйста! Она с удовольствием окажет эту услугу! Довольный успехом, Куренберг спустился вниз по скрипучей лестнице. На дворе сильный ветер вырвал из мундштука сигарету. Пришлось бегом догонять уносимый ветром окурок. Но он теперь вымок и никуда не годился. Мастер в сердцах сплюнул — не надо было во время дежурства столько дымить, может, хватило бы курева на весь день. Увидев издали толчею у автобусной остановки, он решил пройтись пешком. Времени было достаточно, и к тому же мастер надеялся, что прогулка по свежему воздуху прогонит усталость после тяжелой ночи. Подняв воротник пальто и засунув руки глубоко в карманы, он зашагал быстрее. К воротам завода Куренберг подошел как раз в ту минуту, когда они открылись, чтобы выпустить людей, отработавших смену. Мастер задержался у ворот ровно столько, чтобы сложенная вчетверо папиросная бумажка незаметно очутилась в ладони у одного из выходивших товарищей. Часом позже этот рабочий завернул в тихий переулок на окраине города и со двора постучал в окошко одноэтажного дома. Его впустил угрюмый человек с пышными усами пожарного. Он молча принял донесение и затем снова тщательно запер дверь.21
Ночью у Висвальда Буртниека был сердечный припадок. Он впрыснул себе камфару и потом долго не мог заснуть: как известно, это лекарство — злейший враг сна. Скорей бы кончилась война! Тогда он непременно начнет серьезно лечиться. А пока все идет по-старому. И каждое утро Висвальд пытался успокоить неровно колотившееся сердце старинным изречением: «In tenebris lucet lux». Недаром еще древние римляне верили, что именно во тьме брезжит свет. Чувствуя себя совершенно разбитым, Буртниек встал, чтобы приняться за работу. Но около одиннадцати к нему явился мужчина с пышными усами пожарного, и сообщение, принесенное связным, сразу же разогнало усталость. Висвальда охватила лихорадочная жажда деятельности. Хотелось тут же побежать вниз к Янису, но, увы, это запрещал закон конспирации. К счастью, следующим посетителем оказался сам Даугавиет. — Пришел за советом… — начал Янис, но тут же осекся, заметив темные круги под воспаленными от бессонницы глазами друга. — Опять сердце? — Он скорее утверждал, чем спрашивал. — Ерунда! — махнул Буртниек рукой. — Нечего притворяться, старина! — Янис обнял Буртниека за плечи. — От меня не скроешь, у меня глаз наметан. Слова Даугавиета тронули Висвальда. По сути дела, они ведь на поле боя, тут не до вздохов и громких соболезнований. Если товарищ ранен, его перевязывают и идут дальше… И все-таки Янис, на чьи плечи ложились заботы о типографии, о доставке бумаги и красок, о связи с корреспондентами подпольных изданий, о распространении нелегальной литературы, о жизни всех этих людей, всегда находил время, чтобы ободрить друга ласковым словом. Но попробуй-ка позаботься о нем — сразу же ощетинится, как еж. — Вот еще, не хватало, чтобы больной осведомлялся о здоровье больного, — уклоняясь от прямого ответа, отшутился Буртниек. — Ты обо мне? — удивленно переспросил Янис. — Но я ведь не болен! Висвальд бросил эти слова просто так, без определенного намерения, но теперь ему уже не хотелось отступать. — А сердце? Не пытайся меня убедить, что у тебя с сердцем все в порядке. — Он говорил искренне и серьезно. — Будто я не вижу, как тебе тяжело… Почему бы не сказать Наде обо всем открыто… Янис покраснел, отдернул руку от плеча Буртниека. — Не болтай чепухи! — резко прервал он Висвальда. Но потом вполголоса добавил: — У Нади муж… Кроме того… ты сам понимаешь, что… Вообще все это ерунда! — И он решительно перевел разговор на другую тему: — А ты держишься молодцом!.. Ничего, старина, потерпи еще годик… Кончится война, и мы поедем с тобой на юг, в теплые края… Надя рассказывала мне о Кавказе — она там как-то отдыхала с мужем… Представь себе, какая красота — кругом пальмы, настоящие пальмы, солнца сколько угодно и ни одного фашиста! Вот там мы с тобой и подлечимся. — И, вздохнув, Янис добавил: — И забудем все свои невзгоды… — Согласен! — улыбнулся Буртниек. — Вместе с тобой и с Надей! — подчеркнул он. — Если у мужа не будет возражений, почему бы и нет? Буртниек снова стал серьезным: — Слушай, Янис, ты веришь, что он жив? — Откровенно говоря — нет. Ведь мы запрашиваем всякий раз, когда посылаем отчеты в центр. Будь уверен, товарищи там, в Москве, сделали все возможное, чтобы найти его… Но что поделаешь? «Для веселия планета наша мало оборудована — надо вырвать радость у грядущих дней». — В эту ночь жизнь действительно не казалась мне раем. Но вот только что я получил добрую весть и снова чувствую себя отлично. Взгляни-ка — разве это не удача?! Даугавиет прочитал донесение Куренберга. Дойдя до последних строчек, он оживился. — Замечательно! Ведь это устраняет все наши трудности. Газетный киоск лучше любого магазина. Кто может мне запретить покупать хоть по две «Тевии» в день?.. Нет, покупать две — это было бы, конечно, подозрительно, — пошутил он. — Этого не стал бы делать даже самый ярый националист. Тогда уж лучше одну «Тевию» и одну «Deutsche Zeitung im Ostland»… Шуцманы будут в восторге от столь горячих приверженцев «нового порядка», а мы тем временем распространим свои листовки! — Таким веселым я тебя давно уже не видел, — обрадовался Буртниек. — А теперь давай подумаем, кого посадить в киоск? — Да, верно, кого же туда посадить? Даугавиет задумался, перебирая в уме фамилии многих подпольщиков, — все они и без того уже были перегружены заданиями. Но брешь, которую пробил в их рядах арест Земите, надо заполнить. Погрузившись в размышления, Янис остановился у окна. Внизу, убирая остатки первого снега, энергично орудовал метлой Донат. Даугавиет знал — на этого старика можно смело положиться: в случае опасности он немедленно предупредит товарищей. «Побольше бы таких людей», — подумал Янис. Правда, врагов фашизма в Риге сколько угодно. Янис не сомневался, что среди людей, проходивших сейчас по улице, многие жили надеждой на освобождение. Но пойти на подпольную работу, которая ежеминутно грозит смертью, — на это не каждый способен. Надежных помощников было сравнительно мало, а работа развертывалась все шире и шире. Поэтому Даугавиет так радовался появлению каждого нового члена в дружной семье подпольщиков. — Да, для выполнения этого задания пригоден не каждый, — снова заговорил Янис. — Быть может, направим Куренберга? — предложил Буртниек. — Что ты? Подумай сам! Здоровый мужчина, в нем на расстоянии можно узнать рабочего!.. И вдруг такой станет торговать газетами в киоске! Сразу покажется подозрительным! Так легко этот вопрос решить не удастся… Прежде всего подумаем, что делать с нашей Скайдрите. Именно поэтому я и пришел к тебе. Выслушав рассказ Даугавиета, Висвальд свистнул. — Вот так сюрприз для Доната и Элизы! Они ведь считают ее совсем ребенком. — И мы с тобой не намного лучше. Проглядели, что под носом у нас вырастает смена. — О tempora, о mores!*["33] — воскликнул Буртниек. — В иные времена Скайдрите собиралась бы на первый университетский бал. А теперь… Что будет она делать теперь? Может быть, сидеть в киоске и распространять листовки?.. — Ты что, всерьез? — спросил Даугавиет. — А почему бы и нет?.. Скайдрите смелая, находчивая девушка. Она словно создана для этой работы. Ты ведь сам говорил, что после встречи с Эриком она стала вполне сознательным человеком. И к тому же девушка из семьи старых подпольщиков. Это тоже немаловажное обстоятельство… — А если наша девочка провалится? — все еще колебался Янис. — Мы должны считаться со всеми возможностями. Нет, нет!.. — поспешил он опередить возражения Буртниека. — Я не сомневаюсь в том, что Скайдрите будет молчать. Но гестапо может заподозрить Элизу и Доната, и тогда весь наш дом будет в опасности… — А что, если девушке куда-нибудь переехать? — Тогда пожалуй, — согласился Даугавиет. — Лучше, если она будет находиться подальше от «квартиры без номера». О нас ей пока незачем знать. — Кто же, в таком случае, передаст ей это поручение? Даугавиет задумался. — Куренберг! Без его посредничества мы так или иначе не обойдемся. — Но доверится ли Скайдрите чужому человеку? — Правильно. Об этом я даже не подумал… Тогда у нас остается только один выход… Эрик многое ей объяснил, и, сославшись на него… — Ясно! — прервал его Буртниек. — Завтра же я встречусь с Куренбергом и обо всем договорюсь.Последние дни Скайдрите думала только об одном: как пробраться к партизанам. Получить оружие, чтобы воевать с фашистами, — вот теперь единственная ее цель! И Скайдрите наметила план. Во-первых, она уедет в Резекне. Вблизи этого города, как известно, действуют бесстрашные «лесные братья».*["34] Затем, как бы в поисках работы, она обойдет все окрестные села, постарается выведать у крестьян о местопребывании партизан. Самым трудным казался последний шаг — отправиться одной в лесную чащу, идти до тех пор, пока не доберется до цели. Но чтобы попасть в Резекне, необходимо разрешение на проезд. И Скайдрите вышла из дому, дав себе слово без этого разрешения не возвращаться. — Минуточку, девушка! — услышала она за спиной чей-то голос. Не оборачиваясь, Скайдрите бросила через плечо: — Я не знакомлюсь на улице! — и ускорила шаги. Однако мужчина догнал Скайдрите и зашагал с нею рядом. Девушка, повернув голову, увидела просто одетого человека лет пятидесяти. — Вы — Скайдрите Свемпе, не правда ли? — Да. Ну и что же? — Я должен передать вам привет от Эрика, — тихо сказал он. Скайдрите остановилась. У нее перехватило дыхание. — Эрик… Где он? — едва прошептала она. Куренберг взял девушку под руку и заставил продолжать путь. — Этого я не знаю. Товарищ, с которым я встретился, просил только передать вам привет. Скайдрите не расспрашивала дальше. Она сразу же поняла — Эрик несомненно получил такое задание, о котором говорить нельзя. Но даже его скупого привета было достаточно, чтобы бледные щеки девушки порозовели и в глазах вспыхнула радость. Эрик жив и здоров! Он ее не забыл! Чего еще можно было желать? То есть желать, конечно, можно многого. Например, чтобы сейчас он шел с ней рядом и хоть раз прикоснулся к ее руке… Эрик ради дела, за которое борется, пошел на разлуку с любимой. Значит, и она, Скайдрите, должна быть стойкой! Подождав, пока девушка несколько успокоится, Куренберг продолжал: — Хотите нам помочь? Нам — это значит и Эрику… Скайдрите слегка отстранилась от него. — Но кто вы такой? — Только теперь ей пришло на ум, что тут возможна и провокация. Однако она мгновенно отбросила эту мысль. Провокатор выдумал бы бог знает какие подробности об Эрике. Да и как-то не хотелось думать, что этот человек, с простым, добродушным, покрытым сетью мелких морщинок лицом, лжет ей. — Кто я такой — не имеет значения. Я говорю… от имени коммунистов, — тихо и торжественно произнес Куренберг. Слезы волнения заволокли глаза девушки. Не отдавая себе отчета в том, что делает, она обняла мастера. Понятно, настоящая подпольщица так бы не поступила, но, в конце концов, Скайдрите было всего девятнадцать лет!
Перед конторой газетных киосков Скайдрите распрощалась с женщиной, спасенной Куренбергом. — Ну, большое вам спасибо и счастливого пути, — сказала девушка. — А вам — счастливо оставаться! Правда, заработок в киоске будет невелик, зато и работа пустяковая. Продавать газеты может ведь и малый ребенок. Скайдрите улыбнулась. Легкая работа! После разговора с Куренбергом она знала, как это будет трудно. Возможно, даже труднее, чем у партизан. Там она бы все время находилась среди товарищей, там ее скрывало бы каждое дерево, каждый куст. А здесь в минуту опасности она совершенно одна. Только от ее смелости и находчивости будет зависеть и собственная ее жизнь, и жизни многих других… Шагая по улице, Скайдрите напевала задорную песенку. Наконец-то у нее появилась определенная цель в жизни, общее с Эриком дело! Только вернувшись домой, где каждый предмет казался таким близким и дорогим, Скайдрите почувствовала, что у нее защемило сердце. Как тяжело расставаться с матерью, с дядей Донатом! И что скажут домашние, когда узнают о ее внезапном переезде? Скайдрите долго бродила по комнате, не решаясь заговорить. То без всякой надобности расправляла скатерть, то чистила дядину трубку. Наконец, набравшись духу, присела рядом с матерью, взяла ее руки, прижала их к своим пылающим щекам. — Мама… Ты ведь не будешь сердиться… Я не хочу быть вам обузой… Теперь я сама нашла работу… Киоск очень далеко отсюда, а на работу надо выходить спозаранку. — Скайдрите отвернулась, чтобы мать не могла заглянуть ей в глаза. — Сама понимаешь, как это неудобно. Поэтому я нашла себе угол неподалеку от работы… Девушка ждала возражений, упреков, по крайней мере удивления, но, как ни странно, Элиза Свемпе только молча погладила дочь по голове. — Мама… — снова начала Скайдрите, но, взглянув на мать и увидев в ее глазах только безграничную любовь, замолчала… — Поступай, как знаешь, дочка. — Элиза привлекла Скайдрите к себе. — Ты уже не ребенок. Только не забывай нас, стариков. Будет время, зайди навестить, рассказать, как твои дела… Вещи Скайдрите собрала еще в тот день, когда решила отправиться к партизанам. Теперь она возьмет их с собой на новое место. Понимая, что так будет лучше, девушка без колебаний согласилась на предложение Куренберга поселиться у его товарища по работе, домик которого находился на окраине города. Закрыв за собой дверь, Скайдрите вышла из дому. По темной улице — в городе давно уже не горели фонари — устало шагали редкие прохожие. В низко нависшем небе, где-то в просвете между облаками, мерцала одинокая звезда. И девушке казалось, что она манит, зовет в далекий путь. Что ждет ее в конце пути? Этого Скайдрите не знала, только чувствовала, что ей будет нелегко.
22
Второй год в подземелье… В Эрике почти ничего не осталось от прежнего юноши. Щеки ввалились, глаза лихорадочно блестят, веки подергиваются. Приходится постоянно носить очки, но и это не помогает. Почти все время болят глаза. Особенно мучителен яркий электрический свет. Эрик скрывает свой недуг от Яниса, опасаясь, что Даугавиет немедленно его сменит. Но этого допустить нельзя: сейчас столько работы, а людей мало! Пока Даугавиет найдет замену, пройдут месяцы. Порою становилось так нестерпимо тяжко, что Эрика охватывало непреодолимое желание растворить двери и выбежать на улицу. Но появляться на улице ему нельзя. К внешнему миру у него был один только путь — радио. Волны несли Эрику вести о судьбах миллионов людей, он слышал глухой рокот моторов, раздававшийся в цехах огромных уральских заводов, волны дарили ему смех и слезы, страдания и радость, они давали ему возможность ощутить напряженное дыхание большой жизни. И всегда слушал Москву — этот великий город, возвращавший ему веру и мужество… Эрик подолгу лежал на своей койке, пытаясь заменить мечтами действительность. Он представлял себе, будто бродит по улицам Риги и сухой снег скрипит у него под ногами, в прозрачном морозном воздухе вьются голубые столбы дыма, дышится так легко… Он сидит на скамье Зиедонского парка. Вот воробей вприпрыжку все ближе подбирается к нему и поглядывает своими маленькими глазками на его пустую ладонь. Мимо проходят люди — высокие и низенькие, удрученные и равнодушные, женщины в платочках и мужчины в фетровых шляпах, дети со школьными ранцами за плечами — люди, люди, по которым он так стосковался. И среди них, быть может, он встретит Скайдрите… Если он не увидит ее в парке, то пойдет дальше, пока не найдет. Вдоль и поперек он исходит этот большой город с тысячами домов, скрывающих в себе сотни тысяч людей. В одном из этих домов — может быть, вот в том кирпичном здании со множеством труб на крыше или где-нибудь в Задвинье, в маленьком домике с окошками, закопченными дымом проходящих поездов, — где-то в одном из этих домов живет Скайдрите… Он отыщет ее, непременно отыщет!..В то самое время, когда Эрик, сделав последний оттиск листовки, наконец прилег, Скайдрите проснулась. Она действительно жила в маленьком домике, только не в Задвинье, а в Милгрависе.*["35] Уже ранним утром до нее доносился шум реки — тарахтенье рыбачьих моторок, звонок парома, рев пароходных гудков. За год жизни у приятеля Куренберга она научилась различать все эти звуки: сирены немецких военных судов звучали иначе, пронзительнее, чем гудки торговых пароходов; когда вблизи все затихало, до окна Скайдрите долетали сигналы подъемных кранов из порта и непрерывный приглушенный гул клинкерных печей цементного завода. Этот гул не прекращался и ночью — нацисты круглые сутки производили здесь бетонные бронеколпаки. Круглые, приземистые, с четырьмя узкими щелями для пулеметных стволов, эти бронеколпаки были разбросаны на огромном пространстве от дальнего Севера до Черного моря. Но они не спасали гитлеровцев от мощных ударов Красной Армии, наступавшей теперь на всех фронтах. Надев туфли на босу ногу и набросив на плечи пальто, Скайдрите выбежала в сарай за топливом. В темноте поблескивали тихие воды Даугавы. Сейчас речная вода была черной и блестящей, словно смола. Днем же она всегда казалась коричневой, мутной. Но Скайдрите любила свою реку, и одна лишь мысль о том, что на ее волнах качаются немецкие подводные лодки, причиняла ей боль. Накануне вечером столяр, как обычно, закинул в реку перемет. Почти каждый житель Милгрависа таким образом пытался пополнить свой скудный рацион. Склонившись над водой, Скайдрите вздрогнула от холода. Сквозь стоптанные подошвы дешевеньких туфель она чувствовала мерзлую землю, а тонкая одежда не защищала от сырого, леденящего дыхания реки и близкого моря. Один за другим она вытаскивала поводки перемета и разочарованно снова опускала их в воду. Жаль… Так хотелось обрадовать добродушного столяра хорошей наваристой ухой. Да к тому же, откровенно говоря, Скайдрите и сама давно уже не ела ничего сытного. Не снимая пальто — термометр в комнате показывал всего несколько градусов выше нуля, — девушка затопила печь. Вместо дров она пользовалась прогнившими досками из обшивки корабля, которые столяр ежедневно приносил с завода. Скайдрите поставила чугунок в печь. Пока картошка варилась, она прибрала квартиру. Пусть старик после ночной смены хоть немного отдохнет… Автобус довез Скайдрите до газетного киоска. Начинался очередной рабочий день, каких у нее за спиной было уже почти четыре сотни. В первые недели девушка волновалась и в каждом человеке видела шпика. Когда кто-либо из покупателей произносил пароль, у нее замирало сердце, и только большим напряжением воли ей удавалось скрыть волнение и равнодушно подать товарищу газету с вложенными в нее листовками. Теперь чувство опасности притупилось; на смену ему пришла спокойная уверенность в себе, сознание того, что она, Скайдрите, помогает распространять в народе слова правды. Со столяром у девушки сложились хорошие, товарищеские отношения. По вечерам они часто обсуждали сообщения о победах Красной Армии, вместе радовались успехам партизан, вместе печалились, возмущаясь новыми злодеяниями фашистов. После таких разговоров Скайдрите обычно долго не могла уснуть. Она всегда вспоминала Эрика. Где он теперь и что с ним? Но на этот вопрос никто не мог ответить. Однако Скайдрите была уверена, что друг ее жив и они обязательно встретятся, как только оккупанты будут изгнаны с территории Латвии. Жаль только, что Эрик — ведь именно он помог ей найти правильный путь в жизни — не видит новую Скайдрите, не знает девушку, которая теперь уж непобежит от эсэсовского офицера, которая прямо под носом у гестапо спокойно и смело выполняет опасное задание… Привычным движением Скайдрите отомкнула дверь киоска, подняла деревянную штору, закрывавшую окошко, и зажгла керосиновую лампу. Затем она разложила на прилавке пестрые немецкие журналы и, ожидая прибытия свежих газет, заняла свое место, с которого можно было одним взглядом окинуть всю улицу. Уже издали она заметила старушку, которую про себя звала «подпольной мамашей», и на ощупь нашла спрятанную в углу хозяйственную сумку. Точно такую же сумку старушка поставила на прилавок киоска, когда искала деньги, чтобы уплатить за иллюстрированный журнал «Die Woche». Повернувшись спиной к киоску, покупательница притворилась, будто не заметила, как Скайдрите, заслонив собою лампу, ловко обменяла сумки. Это не могли бы заметить и случайные прохожие, так как улица была темной, окошко киоска маленьким, а базарные сумки очень похожими. — Деньжонок-то, оказывается, не хватает, — в конце концов пробормотала старушка. — Пожалуйста, отложите для меня этот журнал. Зайду дня через три. — Хорошо, отложу, — ответила Скайдрите. Они никогда не обменивались больше чем двумя-тремя словами. Куренберг сразу предупредил девушку, что конспирация не терпит многословия. Скайдрите повиновалась ему беспрекословно. И все же ей очень хотелось спросить у старушки, почему так часто в сумке вместе с листовками она находит то бутерброд, то яблоко, а однажды — это было как раз в день ее двадцатилетия — даже пирог с повидлом. Когда развозчик привез на велосипеде свежие газеты, Скайдрите точно так же, как это делали другие продавцы газет, закрыла киоск, чтобы спокойно, без помех рассортировать свой товар. Двадцать экземпляров «Тевии», в каждый из которых было вложено по пять листовок, она отложила на полку. Ну что ж, теперь товарищи могут приходить за ними. И вот первый из них уже подходит к киоску. Скайдрите не знает, как зовут этого широкоплечего мужчину, который зимой и летом носит брезентовую куртку. Она лишь догадывается, что он работает в порту. — Сегодня в газете что-нибудь новое? — спросил портовик. — Смотря по тому, что вас интересует. — Девушка и во сне не перепутала бы слова пароля. — Только добрые вести. Получив «Тевию», он спрятал ее во внутренний карман куртки и дружески улыбнулся девушке. Зимние дни летят особенно быстро. И вот Скайдрите снова приходится зажечь керосиновую лампу. Девятнадцать экземпляров «Тевии», лежавших на полке, она уже продала. Теперь там остался лишь один номер. Все товарищи давно явились, и только последнего все нет и нет. Что-то задерживается ее постоянный покупатель — один из тех, кому девушка и без пароля выдала бы листовки. Часто он подъезжал к киоску на грузовике и тормозил возле самого ее окошка. Мотор он никогда не выключал, но у окошка обычно задерживался дольше остальных. Он был единственным, кто время от времени перекидывался с ней шуткой или просто добрым словом, расспрашивал о жизни, а иногда даже рассказывал о настроении рабочих на заводе. Девушка начала волноваться. Скоро нужно закрывать киоск, а шофера все нет и нет. Что же делать? Оставлять листовки до утра в киоске нельзя. Тогда уж лучше взять их домой. Но она ведь хотела после работы навестить мать, поговорить с Ядвигой… Ничего не поделаешь. Придется посидеть дома. Скайдрите уже убрала с прилавка все журналы, когда из-за угла показался грузовик. Только увидев перед собой знакомое лицо шофера, девушка поняла, как она волновалась за него. — На нашем заводе ночью раскрыли крупный акт саботажа, — взволнованно объяснил ей Силинь. — Четыре часа нас допрашивали. Хорошо, что меня вообще отпустили… Эта новость доставила Скайдрите тройное удовольствие: во-первых, рабочие снова нанесли удар по фашистам, во-вторых, никто из товарищей не попался и, в-третьих, она могла теперь со спокойной совестью запереть киоск и отправиться к родным. Девушка обычно шла домой по улице Валдемара. Она даже не сознавала, что делала это, вспоминая Эрика. Широкий проспект со своеобразными домами, украшенными причудливыми башенками, статуями и барельефами, ему нравился гораздо больше улицы Бривибас. У бульвара на тротуаре перед мольбертом сидел на корточках художник и посиневшими от холода пальцами водил кисточкой по холсту. Скайдрите увидела, что он пытается изобразить неоготический фасад Академии искусств. Теперь вход в ее светлые залы был для него закрыт. Здесь находилось одно из учреждений оккупантов, а студенты академии вынуждены были работать в темном сыром погребе. Скайдрите разделяла любовь художника к родной Риге, но никак не могла взять в толк, как может человек в такое время заниматься писанием идиллических пейзажей. Скайдрите нарочно сделала небольшой круг. Здесь, на мостике Бастионной горки, она стояла вместе с Эриком. Каждый порыв ветра срывал тогда с деревьев пожелтевшие листья, а теперь покрытые инеем ветки совсем голые и зыбкую воду канала сковывает лед. Девушка повернула к Старому городу, где она родилась и выросла. Декабрьские сумерки сгущались. В стенах Пороховой башни уже нельзя было различить застрявшие в ней каменные ядра. Только на круглой крыше башни, напоминавшей шапку, еще удерживался последний отблеск дневного света. Каждый шаг по лабиринту узких улочек был связан с воспоминаниями об Эрике. Здесь она поскользнулась и Эрик впервые обнял ее; в этом подъезде они укрылись, когда вдруг начался ливень. Ударяясь о низкий карниз, струи дождя превращались в сплошной занавес серебристых живых нитей. Но они ничего не замечали и, обнявшись, долго сидели на стоптанной каменной ступеньке, хотя дождь давно перестал и уже сияло солнце. Скайдрите жила не только воспоминаниями. За этот год девушка привыкла внимательно следить и наблюдать за всем окружающим. Чтобы убедиться, что никто за ней не следит, она и сейчас направилась не по оживленной улице Смилшу, а пошла более далеким, обходным путем. На маленькой тихой улочке Торню Скайдрите остановилась и нагнулась, чтобы завязать шнурок туфли. При этом она незаметно оглянулась. Никого! Нырнув в Шведские ворота, пробитые в древней городской стене, через улицу Алдару она вышла на большую площадь. Над нею, почти сливаясь с темным небом, возвышалась тяжелая громада Домского собора. Здесь 18 ноября была выстроена трибуна, с которой чужеземные властители Остланда*["36] собирались приветствовать организованную ими же антисоветскую демонстрацию. Бомба, которую неизвестные герои спрятали под трибуной, взорвалась, к сожалению, слишком рано, но все же взрыв этот достаточно громко выразил подлинные чувства латышского трудового народа. А вот и красная кирпичная стена Домского музея с гербом города и непонятной латинской надписью. Это произошло именно здесь — взбалмошная девчонка предложила когда-то своему любимому отправиться вместе с ней на поиски партизан. К партизанам Скайдрите не попала, и все же она очутилась там, где хотела быть, где люди борются и побеждают… Если после войны им случится зайти с Эриком в этот музей, то рядом с бронзовыми пушками, которыми рижане некогда обороняли свой город от иноземных захватчиков, они увидят здесь и листовки с лозунгом «Смерть фашистским оккупантам!»…
23
Еще на лестнице Скайдрите услышала голос матери: — Донат, кажется, кто-то подошел к дверям. Пойди посмотри. Послышались шаркающие шаги, звякнула цепочка, и вдруг раздался радостный возглас: — Элли, Элли, Скайдрите пришла! Позабыв наказ врача, старая Элиза поднялась с постели, но после нескольких шагов вынуждена была опуститься на стул. — Иди же сюда, доченька, обними меня… Как ты выросла! Как похорошела! И не узнать… А у нас тут все по-старому, только вот ноги у меня что-то совсем ослабли. — Лежи, мамочка, лежи. Ведь я теперь дома. Только скажи, что надо, — я мигом все сделаю.
Скайдрите сразу же занялась хозяйством. Она выстирала белье и навела во всей квартире образцовый порядок, даже трубка старого Доната не избежала чистки. Потом Скайдрите сварила кофе. Это был предлог, чтобы вытащить из сумки гостинец.
— Зачем же, доченька, ты лучше сама поешь! Ты ведь так любишь ливерную колбасу.
— Как ты угадала, что у меня бутерброды с ливерной колбасой? — удивилась Скайдрите, которая еще не успела развернуть сверток.
Элиза, спохватившись, тут же заговорила о другом. Девочка не должна знать, что еду, которую она находит в сумке, посылает ей мать. Даугавиет строго-настрого наказал не открывать Скайдрите правды, и Элиза беспрекословно подчинялась. Но как трудно скрывать от дочери материнскую тревогу!
— Будь осторожна, доченька! — не удержалась Элиза на прощание.
— А чего мне бояться! — беспечно сказала девушка.
Она позвонила в соседнюю квартиру. Каждый раз, когда Скайдрите навещала своих, она заходила к соседке. Ведь это был единственный человек, который знал о ее любви к Эрику.
Секунду спустя Надежда тоже нажала кнопку звонка, и в «квартире без номера» раздался сигнал тревоги.
— Лежи, мамочка, лежи. Ведь я теперь дома. Только скажи, что надо, — я мигом все сделаю.
Скайдрите сразу же занялась хозяйством. Она выстирала белье и навела во всей квартире образцовый порядок, даже трубка старого Доната не избежала чистки. Потом Скайдрите сварила кофе. Это был предлог, чтобы вытащить из сумки гостинец.
— Зачем же, доченька, ты лучше сама поешь! Ты ведь так любишь ливерную колбасу.
— Как ты угадала, что у меня бутерброды с ливерной колбасой? — удивилась Скайдрите, которая еще не успела развернуть сверток.
Элиза, спохватившись, тут же заговорила о другом. Девочка не должна знать, что еду, которую она находит в сумке, посылает ей мать. Даугавиет строго-настрого наказал не открывать Скайдрите правды, и Элиза беспрекословно подчинялась. Но как трудно скрывать от дочери материнскую тревогу!
— Будь осторожна, доченька! — не удержалась Элиза на прощание.
— А чего мне бояться! — беспечно сказала девушка.
Она позвонила в соседнюю квартиру. Каждый раз, когда Скайдрите навещала своих, она заходила к соседке. Ведь это был единственный человек, который знал о ее любви к Эрику.
Секунду спустя Надежда тоже нажала кнопку звонка, и в «квартире без номера» раздался сигнал тревоги.
Неоштукатуренный кирпичный свод. С него спускается стосвечовая лампочка, заливающая все помещение ярким светом. Едкий, пронизывающий запах типографской краски. Раскаленная докрасна чугунная печурка. На койке книга «Мои университеты» с необычной закладкой — соломинкой, выдернутой из матраца. В верстатке Эрика, складываясь в строки, чуть поблескивают матовые свинцовые столбики литер.
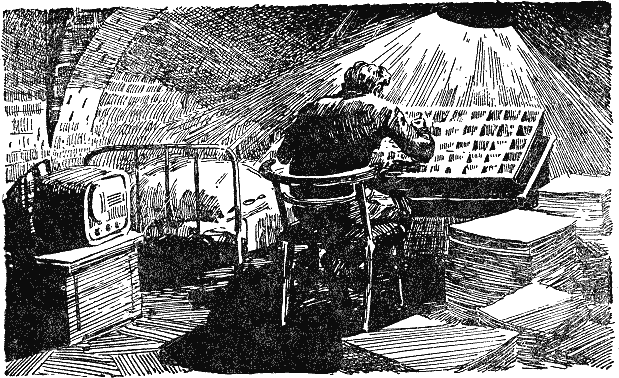 Некоторое время Даугавиет молча смотрит на ссутулившуюся спину юноши. Нервные, порывистые движения его говорят об усталости. Рука то вдруг бесцельно повисает в воздухе, не достигнув наборной кассы, то снова лихорадочно хватает буквы. А порою свинцовые столбики даже выскальзывают из пальцев.
— Хватит, Эрик. Нужно отдохнуть, — предложил Янис, хотя знал, что дорога каждая минута.
— Да, надо бы чуточку передохнуть, а то будет много опечаток.
Эрик прилег на койку, снял очки и закрыл воспаленные глаза. Бледное лицо, казалось, застыло, но пальцы рук все еще шевелились. Даугавиет потушил свет и включил приемник. Пока лампы приемника нагревались, в комнате царила тишина. Порой ее прерывал треск и шум, но вот зазвучали позывные — первые такты песни «Широка страна моя родная». Эрик повернул голову и приподнялся на локтях. Этот сигнал предвещал радостные вести. И действительно, мгновение спустя раздался голос диктора, знакомый миллионам людей:
Некоторое время Даугавиет молча смотрит на ссутулившуюся спину юноши. Нервные, порывистые движения его говорят об усталости. Рука то вдруг бесцельно повисает в воздухе, не достигнув наборной кассы, то снова лихорадочно хватает буквы. А порою свинцовые столбики даже выскальзывают из пальцев.
— Хватит, Эрик. Нужно отдохнуть, — предложил Янис, хотя знал, что дорога каждая минута.
— Да, надо бы чуточку передохнуть, а то будет много опечаток.
Эрик прилег на койку, снял очки и закрыл воспаленные глаза. Бледное лицо, казалось, застыло, но пальцы рук все еще шевелились. Даугавиет потушил свет и включил приемник. Пока лампы приемника нагревались, в комнате царила тишина. Порой ее прерывал треск и шум, но вот зазвучали позывные — первые такты песни «Широка страна моя родная». Эрик повернул голову и приподнялся на локтях. Этот сигнал предвещал радостные вести. И действительно, мгновение спустя раздался голос диктора, знакомый миллионам людей:
«Товарищи радиослушатели! Через несколько минут будет передано важное правительственное сообщение…»— Житомир? — взволнованно предположил Эрик. — Нет, скорее Кировоград, — ответил Янис. — Здесь наши развивают мощное наступление. — И, снова повернув выключатель, он приготовил бумагу и карандаш.
«Приказ Верховного Главнокомандующего. На днях войска Первого Прибалтийского фронта под командованием генерала армии Баграмяна перешли в наступление против немецко-фашистских войск, расположенных южнее Невеля, и прорвали сильно укрепленную оборонительную полосу противника протяжением по фронту около 80 километров и в глубину до 20 километров. За пять дней напряженных боев нашими войсками освобождено более 500 населенных пунктов… В боях разгромлены 87-я, 129-я и 211-я пехотные дивизии, 20-я танковая дивизия и несколько охранных частей немцев. В боях отличились войска генерал-лейтенанта Галицкого, генерал-лейтенанта Швецова…»— Ура, ура! — закричал Эрик хриплым от волнения голосом. — Ну, начинается… На даугавпилском направлении! — И Эрик снова схватил верстатку. — Такое известие — для меня лучшее лекарство! Между прочим, хорошо бы использовать последнюю сводку в листовке, правда? — Конечно. Добавь сам. Когда ты думаешь закончить? — Примерно через час управлюсь. — Ладно, тогда через час приду читать корректуру и делать оттиски. Даугавиет опустился на четвереньки, чтобы влезть в узкий проход. Вдруг снова послышался сигнальный звонок. Эрик спокойно продолжал работу, а Янис сел на кровать и стал перелистывать книгу. Нужно подождать, пока посетитель уйдет. Через несколько минут Надежда двумя звонками дала знать, что все в порядке. Даугавиет поднялся к ванной комнате и громко постучал в стену. Оказалось, что приходил старый Донат. — Буртниек прислал вот эту записку, — сказала Надежда. Янис прочитал написанное и задумчиво стал вертеть бумажку в пальцах. — Опять угнали людей. На этот раз из Лиепаи. Товарищи просят напечатать для них специальную листовку. Просьба обоснованная. Но как нам управиться, когда столько работы? Эрика жаль… Надежда удивленно подняла глаза. Таким тоном Даугавиет разговаривал редко. — Сегодня он даже не возражал, когда я предложил ему передохнуть, — продолжал Янис. — А ты, как врач, что скажешь по этому поводу? Лицо Надежды стало озабоченным. Она пожала плечами. — Ты же знаешь мое мнение. — Да, да. Я и сам отлично знаю, что Эрику нужно. Санаторий, солнце, но… Послать его к партизанам? Оттуда он мог бы полететь в Москву. Неужели ты думаешь, я бы этого не сделал, если бы было кем его заменить? Да он и сам это понимает так же хорошо, как ты и я. — Даугавиет повернулся к Надежде спиной и молча уставился на «Остров мертвых» Беклина. — Эх, Надя, как трудно нести двойную ответственность! — вдруг сказал он. — Отвечать за доверенную тебе работу и одновременно за людей… — Он снова повернулся к ней лицом и стал расправлять бумажку, которую все время сжимал в кулаке. — Ничего не поделаешь. Еще не время отдыхать. Лиепайцев нельзя оставлять без листовок. Задание было срочное, и поэтому Янису пришлось самому писать текст листовки. Посоветовавшись с Надеждой, он принялся за дело.
«Лиепайцы! В ночь на 17 декабря под покровом тьмы из зимнего порта был отправлен транспорт с живым грузом — 800 человек гитлеровцы угнали на каторгу в Германию. Угнанные из Латвии рабы должны заменить тех стариков и подростков, которыми отчаявшиеся фашисты пытаются восполнить гигантские потери на Восточном фронте…»
24
О листовках для лиепайцев думал не только Даугавиет. О них заботились и в ЦК Компартии Латвии. Находясь за сотни километров от родного края, работники ЦК знали о том, что происходило в оккупированной Латвии, не хуже, чем Даугавиет. Он еще не успел написать последнее слово, как в агентство Буртниека явился партизанский связной с письмом. Висвальд вскрыл конверт, но письмо оказалось шифрованным. Он уже собирался отнести его Даугавиету, когда с улицы послышался троекратный гудок: это постоянный посетитель агентства, шофер Бауэр, как обычно, заранее уведомлял Буртниека о своем прибытии. — Жаль, что ничем сегодня не могу услужить генералу, — сообщил Буртниек, протягивая шоферу руку. — Я приехал не для того, — ответил Бауэр. — Я хотел вернуть ваши книги. — Стоило ли из-за этого тратить время? Вы могли бы вернуть мне книги при случае и в другой раз. — Мало ли что может случиться. — Бауэр как-то странно улыбнулся. — А вдруг мы сегодня видимся в последний раз! Я не из тех, кто ради спорта пополняет свою библиотеку чужими книгами. — Это приятно слышать, — сказал Буртниек, которому Бауэр с каждым разом казался все симпатичнее. — Но отчего вы так пессимистически настроены? Похмелье? — Пожалуй, похмелье, но только моральное. Не хочется говорить об этом. Я уезжаю. — Надолго? — Неизвестно… — сказал Бауэр. — Мой генерал через несколько дней отправится в инспекционную поездку по Латгалии. Говорят, там в последнее время неспокойно. Вы ведь сами знаете — там, где партизаны, все может случиться… Заметив, что шофер не назвал партизан «бандитами», как обычно говорят гитлеровцы, Буртниек подумал: «Сдается мне, что этому человеку ничуть не подходит мундир «покорителей мира». Это один из тех, кто еще не утратил человеческого облика. Надо бы о нем поговорить с Жанисом». — Ну, а вам не страшно? — спросил он Бауэра. — Мне-то нет. А вот мой генерал уже трое суток пьет для храбрости… В минуту опасности я не растеряюсь… Еще раз спасибо вам за книги и до свиданья, а может, прощайте. — И, снова как-то странно улыбнувшись, Бауэр вышел. Всю дорогу до здания гестапо на улице Реймерса, где Бауэр должен был дожидаться генерала Хартмута, эта странная улыбка не сходила с его губ. В ней были одновременно и горечь, и радость… Поездка генерала Хартмута в Латгалию все решит. Если задуманный им план осуществится, то не пройдет и недели, как Рудольф Бауэр встанет в ряды борцов.Генералу Хартмуту пришлось подождать, пока Рауп-Дименс освободится. Оберштурмфюрер передавал дела на время своего отпуска следователю Вегезаку. Это была довольно утомительная работа, так как все приходилось подробнейшим образом объяснять. Особенно неприятно почувствовал себя Рауп-Дименс, когда Вегезак открыл папку дела с надписью: «Жанис. Начато 15/Х-42. Закончено…» Да, это задание не удалось выполнить и по сей день. — Может быть, вам повезет… — из вежливости заметил Рауп-Дименс. — Не беспокойтесь, все будет в порядке, — заверил его Вегезак. — Как я вам завидую! Вы же едете домой! Целых десять дней сможете делать все, что заблагорассудится. Эти два часа были не из приятных, и Рауп-Дименс даже обрадовался, когда ему доложили о приходе генерала Хартмута. Когда-то генерал учился в Бонне вместе с его отцом и своей карьерой в значительной мере был обязан старому Бодо Рауп-Дименсу. В дверях показалась ухмыляющаяся круглая физиономия генерала. Рауп-Дименс даже не поднялся: несмотря на свой чин капитана, он полагал, что его положение в обществе выше положения любого генерала. — Чем могу служить, господин генерал? — учтиво осведомился Рауп-Дименс, выпустив в воздух кольцо дыма. — Здравствуйте, Харальд. Зачем же так официально? Что новенького дома? Что пишет ваш уважаемый отец? — Благодарю вас. Все по-старому. Много заказов. Отец приобрел новый завод в протекторате, недалеко от военных заводов Шкода. Им сейчас ведает брат, Зигфрид. Генерал почесал кончик носа. — Отлично! Великолепно! Ваш отец — человек с размахом. Надеюсь, что и после войны я не потеряю его доверия. Прошу вас, не забудьте в письме засвидетельствовать ему мое почтение. Да, между прочим, я хотел спросить… Вылетело из головы!.. Ах да, а как же с воздушными налетами? Ваши заводы не пострадали? Рауп-Дименс усмехнулся: — Не прикидывайтесь простаком, Хартмут. При вашем посредничестве отец в свое время продал американцам двадцать процентов акций. Можете быть уверены, что они дают своим пилотам соответствующие инструкции… Кстати, я слышал, что вы уезжаете в инспекционную поездку? — Да, да. Я, собственно, за этим и пришел. Вы, Харальд, лучше нас информированы: правда ли, что в Латгалии бандиты особенно активизировались?.. — А вы их боитесь? — Чего же мне, старому вояке, бояться? Я просто так… К слову пришлось. — По правде говоря, генерал, эти слухи имеют основание. Шайки в лесах растут, как грибы после дождя. Карательные экспедиции малоэффективны, потому что партизаны пользуются поддержкой населения. По-моему, лично вам особая опасность не грозит — они обычно нападают только на поезда и автоколонны. Генерал вздохнул и большим клетчатым платком вытер со лба пот. — Я и сам думал, что разумнее не брать вооруженной охраны. До свиданья, Харальд. Я позвоню вам, когда вернусь… Пожалуйста, не забудьте передать привет вашему отцу.
25
Снег падал крупными хлопьями, сплошь облепляя деревья, и казалось, будто на ветвях развешаны белые мохнатые полотенца. Снежинки бесшумно слетали на хвою ветвей, на заросшую мхом землю, на пригорки. Партизанский лес, кутаясь в пушистый белый платок, словно замаскировался для зимних боев. Снег, снег, снег… О следах, правда, нечего беспокоиться — их начисто замела белая метла пурги. Поэтому Лабренцис, который вместе с Длинным Августом вел захваченного в плен фашиста, направился прямо в штаб. Захваченного в плен? Это, положим, было не совсем так, потому что немец уверял, будто сам хотел разыскать партизан. Ладно, ладно, там видно будет, начальство разберется. Уж их командир сумеет узнать, перебежчик это или шпион.
Командир партизанской бригады Янсон слушал сводку Совинформбюро, жадно ловя каждое слово диктора. Тем временем санитарка перевязала ему рану. Уже месяц не заживало плечо, потому что у Янсона не было таких отличных лекарств, как отдых и покой. В другой раз командир стиснул бы зубы от боли, но сейчас он напряженно слушал сводку и даже не заметил, как санитарка перевязала рану.
Передача известий кончилась. Командир повернулся к санитарке:
— Слышала? Фашисты снова окружены! Ну, сегодня будет чем ребят порадовать…
Плащ-палатка, закрывавшая вход в землянку, приподнялась. Появился Лабренцис.
— Товарищ командир! Фрица привели! В полном обмундировании, при автомате. Длинный Август его в лесу заметил. Немец был один, следы искал. Мы на него накинулись, а он и не думает сопротивляться. Наоборот, говорит, рад, что нас встретил, заявил, будто он только нас и ищет. Просил отвести к командиру.
— А вы что сделали?
— Ну мы и привели. Сперва, ясное дело, завязали ему глаза и проверили, не идет ли кто следом.
— Ведите сюда…
Пленный выглядел не слишком воинственным. В землянке, где Длинный Август стоял согнувшись, голова пленного даже не достигала потолка. Янсон окинул гитлеровца пытливым взглядом: волосы светлые, редкие, небольшой острый нос, кирпичного цвета лицо, обветренное и потрескавшееся, глаза живые, умные. Пленный стоял спокойно и не проявлял никаких признаков страха. Не ожидая вопроса Янсона, он представился:
— Бывший ефрейтор немецкой армии Рудольф Бауэр. До сих пор служил шофером у генерала Хартмута.
— Что вам понадобилось в лесу? — спросил командир.
— В Риге я слышал, что в здешнем округе есть партизаны. Задумал уйти к вам, но раньше не представлялось возможности. Мне нужно было дождаться, чтобы генерал отправился в Латгалию. Он откладывал свою поездку с недели на неделю…
— Почему вы задумали перейти к нам? Верно, последние поражения вермахта отбили аппетит к завоеванию мира?
— Нет, я всегда ненавидел фашистов.
— Но, как я вижу, это вам ничуть не помешало надеть форму вермахта и воевать с нами, — иронически заметил Янсон.
— Если б я отказался, меня бы расстреляли. Какая бы от этого была польза? Бороться в одиночку я не мог, потому и пришел к вам. Я не член коммунистической партии, но некоторое время вел подпольную работу.
— Всему этому мне, конечно, приходится верить на слово…
Бауэр почувствовал, как на лбу у него от волнения проступил пот. Шофер и не представлял, что все окажется так сложно. Но, конечно, командир прав, не доверяя солдату гитлеровской армии. Как же доказать, что он не шпион и не провокатор? Чем подтвердить свои слова?..
— Я вовсе не рассчитываю, что вы меня тут же примете в отряд. Пожалуйста, проверьте меня. Я сделаю все возможное…
— Хорошо, мы подумаем… — Янсон провел рукой по небритому подбородку. — Где, говорите вы, находится этот генерал Харнрут?
— Хартмут, — поправил Бауэр. — Он остановился в ближнем селе, в доме волостного старосты. Завтра хотел ехать дальше, да вряд ли без меня далеко уедет…
— Охрана большая?
— Генерала сопровождают только два эсэсовца. Но вы, должно быть, знаете, что гарнизон в селе усилен?
Янсон с минуту что-то молча обдумывал. Он впервые имел дело с перебежчиком, хотя недавно Криш рассказывал, что среди курземских партизан есть два немецких антифашиста. Вполне возможно, что этот шофер и в самом деле враг нацистов. Но что, если гитлеровцы нарочно прислали его в лес, чтобы заманить партизан в ловушку? Риск чересчур велик, Янсон отвечает за жизнь своих людей. Но, с другой стороны, этот немец может оказать партизанам немалые услуги… Хорошо, его надо проверить, а дальше видно будет.
— Разве ваше отсутствие не покажется генералу подозрительным? — спросил Янсон.
— Нет. Я и не думал, что мне удастся вас сразу найти, поэтому сказал, что отправляюсь на поиски спиртного…
— Сколько дней пробудет генерал в этом селе? — перебил Бауэра Янсон. — Когда и куда вы отправитесь дальше?
— Генерал приказал мне подготовить машину к завтрашнему утру. Я слышал, как он говорил сопровождающим нас эсэсовцам, что мы поедем по шоссе в южном направлении, — охотно ответил шофер.
Янсон задумался, раскрыл планшет с картой района и уткнулся в нее. Через несколько минут он поднялся и, подойдя к перебежчику вплотную, сказал:
— Слушайте меня внимательно. Вам завяжут глаза и выведут на шоссе. Через два часа вы дойдете до села. Утром, когда выедете с генералом, доехав до пятого километра, убавьте газ и поезжайте медленно. Старайтесь ехать так километра два-три. После первого выстрела остановите машину. Помните, нам нужно заполучить генерала живым. Вам все ясно?
— Да, — ответил Бауэр.
— Чтобы вас не заподозрили, дадим вам две бутылки спирта. Глотните немножко и притворитесь подвыпившим… Товарищ Лабренцис, — обратился Янсон к стоявшему рядом партизану. — На шоссе отдадите ему автомат! Желаю успеха!
Снег, снег, снег… О следах, правда, нечего беспокоиться — их начисто замела белая метла пурги. Поэтому Лабренцис, который вместе с Длинным Августом вел захваченного в плен фашиста, направился прямо в штаб. Захваченного в плен? Это, положим, было не совсем так, потому что немец уверял, будто сам хотел разыскать партизан. Ладно, ладно, там видно будет, начальство разберется. Уж их командир сумеет узнать, перебежчик это или шпион.
Командир партизанской бригады Янсон слушал сводку Совинформбюро, жадно ловя каждое слово диктора. Тем временем санитарка перевязала ему рану. Уже месяц не заживало плечо, потому что у Янсона не было таких отличных лекарств, как отдых и покой. В другой раз командир стиснул бы зубы от боли, но сейчас он напряженно слушал сводку и даже не заметил, как санитарка перевязала рану.
Передача известий кончилась. Командир повернулся к санитарке:
— Слышала? Фашисты снова окружены! Ну, сегодня будет чем ребят порадовать…
Плащ-палатка, закрывавшая вход в землянку, приподнялась. Появился Лабренцис.
— Товарищ командир! Фрица привели! В полном обмундировании, при автомате. Длинный Август его в лесу заметил. Немец был один, следы искал. Мы на него накинулись, а он и не думает сопротивляться. Наоборот, говорит, рад, что нас встретил, заявил, будто он только нас и ищет. Просил отвести к командиру.
— А вы что сделали?
— Ну мы и привели. Сперва, ясное дело, завязали ему глаза и проверили, не идет ли кто следом.
— Ведите сюда…
Пленный выглядел не слишком воинственным. В землянке, где Длинный Август стоял согнувшись, голова пленного даже не достигала потолка. Янсон окинул гитлеровца пытливым взглядом: волосы светлые, редкие, небольшой острый нос, кирпичного цвета лицо, обветренное и потрескавшееся, глаза живые, умные. Пленный стоял спокойно и не проявлял никаких признаков страха. Не ожидая вопроса Янсона, он представился:
— Бывший ефрейтор немецкой армии Рудольф Бауэр. До сих пор служил шофером у генерала Хартмута.
— Что вам понадобилось в лесу? — спросил командир.
— В Риге я слышал, что в здешнем округе есть партизаны. Задумал уйти к вам, но раньше не представлялось возможности. Мне нужно было дождаться, чтобы генерал отправился в Латгалию. Он откладывал свою поездку с недели на неделю…
— Почему вы задумали перейти к нам? Верно, последние поражения вермахта отбили аппетит к завоеванию мира?
— Нет, я всегда ненавидел фашистов.
— Но, как я вижу, это вам ничуть не помешало надеть форму вермахта и воевать с нами, — иронически заметил Янсон.
— Если б я отказался, меня бы расстреляли. Какая бы от этого была польза? Бороться в одиночку я не мог, потому и пришел к вам. Я не член коммунистической партии, но некоторое время вел подпольную работу.
— Всему этому мне, конечно, приходится верить на слово…
Бауэр почувствовал, как на лбу у него от волнения проступил пот. Шофер и не представлял, что все окажется так сложно. Но, конечно, командир прав, не доверяя солдату гитлеровской армии. Как же доказать, что он не шпион и не провокатор? Чем подтвердить свои слова?..
— Я вовсе не рассчитываю, что вы меня тут же примете в отряд. Пожалуйста, проверьте меня. Я сделаю все возможное…
— Хорошо, мы подумаем… — Янсон провел рукой по небритому подбородку. — Где, говорите вы, находится этот генерал Харнрут?
— Хартмут, — поправил Бауэр. — Он остановился в ближнем селе, в доме волостного старосты. Завтра хотел ехать дальше, да вряд ли без меня далеко уедет…
— Охрана большая?
— Генерала сопровождают только два эсэсовца. Но вы, должно быть, знаете, что гарнизон в селе усилен?
Янсон с минуту что-то молча обдумывал. Он впервые имел дело с перебежчиком, хотя недавно Криш рассказывал, что среди курземских партизан есть два немецких антифашиста. Вполне возможно, что этот шофер и в самом деле враг нацистов. Но что, если гитлеровцы нарочно прислали его в лес, чтобы заманить партизан в ловушку? Риск чересчур велик, Янсон отвечает за жизнь своих людей. Но, с другой стороны, этот немец может оказать партизанам немалые услуги… Хорошо, его надо проверить, а дальше видно будет.
— Разве ваше отсутствие не покажется генералу подозрительным? — спросил Янсон.
— Нет. Я и не думал, что мне удастся вас сразу найти, поэтому сказал, что отправляюсь на поиски спиртного…
— Сколько дней пробудет генерал в этом селе? — перебил Бауэра Янсон. — Когда и куда вы отправитесь дальше?
— Генерал приказал мне подготовить машину к завтрашнему утру. Я слышал, как он говорил сопровождающим нас эсэсовцам, что мы поедем по шоссе в южном направлении, — охотно ответил шофер.
Янсон задумался, раскрыл планшет с картой района и уткнулся в нее. Через несколько минут он поднялся и, подойдя к перебежчику вплотную, сказал:
— Слушайте меня внимательно. Вам завяжут глаза и выведут на шоссе. Через два часа вы дойдете до села. Утром, когда выедете с генералом, доехав до пятого километра, убавьте газ и поезжайте медленно. Старайтесь ехать так километра два-три. После первого выстрела остановите машину. Помните, нам нужно заполучить генерала живым. Вам все ясно?
— Да, — ответил Бауэр.
— Чтобы вас не заподозрили, дадим вам две бутылки спирта. Глотните немножко и притворитесь подвыпившим… Товарищ Лабренцис, — обратился Янсон к стоявшему рядом партизану. — На шоссе отдадите ему автомат! Желаю успеха!
26
Гулянье было в полном разгаре. Танцы устроили в большом, украшенном хвойными ветками сарае волостного старосты. Староста не пожалел ни трудов, ни самогона. Этому генералу Хартмуту надо угождать, а не то свернут шею! Все же к полуночи запасы спиртного иссякли. Но генерал и тут не растерялся. Недолго думая он собрал тех, кто еще держался на ногах. — Обойти все дома деревни и освободить крестьян от излишков самогона и пива! В случае сопротивления реквизировать силой. Заодно прихватить девиц. Вперед, марш! Солдаты гарнизона ревностно кинулись исполнять приказ. Они взламывали все комоды и сундуки, топали грязными сапогами по закромам, перерывали все вверх дном в сараях, конюшнях, клетях. Водки нигде не было, но зато на сеновалах то и дело находили девушек, которые попрятались, узнав о затеваемой оккупантами попойке. Напрасно девушки пытались сопротивляться — пьяные солдаты, издевательски хохоча, силой тащили их с собой. Не церемонясь, они заодно прихватывали и замужних женщин. Музыканты играли модный немецкий танец «Как-то на лугу зеленом целовались мы под кленом». А кларнетист, выпивший больше других, упорно выдувал свое: «Heute gehort uns Deutschland und morgen die ganze Welt».*["37] Солдаты вертелись и прыгали, а девушки с отчаянием поглядывали на дверь. Если иной удавалось вырваться из объятий своего кавалера и убежать из сарая, то в погоню бросалось не меньше дюжины солдат, и горе той, которая не успевала скрыться. «Гулянье на славу», — подумал про себя Хартмут и поднял большой дубовый кубок, из которого, как утверждал волостной староста, некогда пил сам генерал фон дер Гольц. Но тут же Хартмут поморщился — кубок оказался пустым, так же как и вся посуда, которой был уставлен длинный крестьянский стол. Вот почему спирт, принесенный Бауэром, оказался весьма кстати… На следующее утро разбудить генерала было нелегко. Эсэсовские офицеры, страдавшие от тяжелого похмелья, тоже охотнее всего отоспались бы в селе. И только обещание Бауэра заехать по пути в деревню, где он достал вчера спирт, наконец расшевелило сонное начальство. Усевшись в машину, генерал закутался в меховую шубу, откинулся на сиденье и тут же задремал. Офицеры охраны, в чьих отяжелевших с перепоя головах каждый толчок на ухабах отзывался особенно болезненно, были угрюмее обычного и не скупились на едкие замечания насчет шоферского мастерства Бауэра. Шофер не отвечал. Слова эсэсовцев, по сути дела, даже не доходили до его сознания, так как мозг все время сверлила одна мысль: «Завтра начнется новая жизнь, а сегодня я должен доказать, что достоин ее». С трудом сдерживая волнение, шофер глядел на лес, безмолвно и грозно раскинувшийся по обе стороны дороги. Быть может, за этим поворотом машину поджидают его новые друзья, быть может, они прячутся вот в этом кустарнике… Может быть, уже в следующее мгновение тишину прорежет сигнальный выстрел и настанет время действовать… Бауэр так ясно представлял себе ночью весь план действий, что ему казалось, будто он все это уже однажды проделал. Сразу остановить машину, конечно, нельзя. Наоборот, надо прибавить скорость, как этого в таких случаях требует инструкция. Следовательно, нужно создать впечатление, что пуля попала в мотор и что-то в нем повредила. Запал гранаты, который он специально для этой цели соединил с педалью акселератора, несомненно произведет нужный эффект. А дальше?.. Как справиться с эсэсовцами, прежде чем они успеют открыть огонь? В этом вопросе у Бауэра не было ясности. Он знал только одно: нельзя допустить, чтобы они из своих автоматов поранили хотя бы одного партизана! Видимо, придется выскочить из машины и стрелять первому… Внезапно его размышления прервал выстрел. Нет, это был даже не отдельный выстрел, а очередь из автомата. Последующие события развернулись с такой быстротой, что Бауэр даже не успел опомниться. Он нажал на педаль акселератора, машина рванулась вперед, но в то же мгновение раздался резкий, хотя и не очень громкий удар, мотор чихнул несколько раз и заглох. Но прежде чем шофер успел выскочить из машины, из-за деревьев появились гитлеровские солдаты, прочесывавшие лес. Это был излюбленный фашистами тактический прием — окружив лес, где, по их мнению, должен был находиться враг, они развертывались в длинную цепь и, продвигаясь вперед, вели вслепую непрерывный огонь. Если при этом случалось пристрелить какого-нибудь мирного крестьянина, собиравшего в лесу хворост, то его тут же объявляли партизаном, и на этом дело кончалось. Увидев генерала, командир подразделения, долговязый обер-лейтенант, накануне вечером оравший громче всех, подбежал к машине и, запыхавшись, спросил: — Простите, генерал, что произошло? Надо было что-то сказать, спасти положение… Случившееся недоразумение совершенно потрясло Бауэра. Как быть, что придумать? Неожиданно ему на выручку пришел сам генерал: — На нас напали бандиты! Меня чуть не застрелили! — завопил он. — Ловите их!.. Чего же вы ждете, черт побери?! — Сейчас, господин генерал, обыщем лес по ту сторону дороги. Разрешите только предупредить вас: если услышите еще выстрелы, ни в коем случае не останавливайтесь! — И обер-лейтенант, позабыв даже отдать честь, нырнул в лес, откуда уже раздавались беспорядочные выстрелы его подчиненных. На сей раз Бауэр был спасен, и все же остановка машины вызвала подозрение. — Если ты еще раз затормозишь, я всажу тебе в ребра всю обойму! — злобно проворчал сидящий рядом с Бауэром эсэсовец и положил затянутую в перчатку руку на рукоятку пистолета. — Прежде всего надо посмотреть, что случилось с мотором, — спокойно ответил шофер и вылез из машины. Но его спокойствие было только внешним. Ясно, что эсэсовцы ни в коем случае не дадут ему больше остановиться. При первой же попытке его пристрелят, как собаку… Шофера охватил безудержный гнев на свое бессилие, на тех, кто преграждал ему путь к свободе. И вдруг из этой вспышки гнева родилось единственно правильное решение: от эсэсовцев надо избавиться, и притом немедленно! Солдаты карательной экспедиции успели порядком углубиться в лес. Пока они подоспеют, машина будет уже далеко, за много километров. Соединив порванные провода, шофер обратился к эсэсовцам; — Аккумулятор сел… Придется подтолкнуть машину. Сопровождающие генерала не двинулись с места. Очевидно, они чувствовали себя в машине куда безопаснее, чем на дороге, где на них в любой момент могли напасть партизаны. И снова объятый паникой генерал пришел на выручку Бауэру: — Вылезайте! Разве вы не слышали, что машину надо подтолкнуть? Я предам вас всех военному трибуналу! Эсэсовцы неохотно повиновались. Бауэр не торопился включать зажигание. Он хотел притупить внимание эсэсовцев, утомить их. Так он заставил офицеров толкать машину несколько десятков метров, пока они, потные и усталые, не остановились передохнуть. Теперь настало время действовать. Бауэр включил зажигание, нажал на стартер, и несколько секунд спустя машина уже мчалась по заснеженной дороге. Растерянные эсэсовцы в первое мгновение ничего не поняли — размахивая руками, они бежали вслед за машиной. Да и сам генерал спохватился, когда они уже успели проехать несколько сот метров. — Стой! — закричал Хартмут и вцепился в левую руку Бауэра. Вместо ответа ефрейтор размахнулся и изо всех сил ударил генерала кулаком по лицу. Хартмут, застонав, опустился на сиденье. Бауэру нужно было убедиться, действительно ли он потерял сознание. Но шофер не мог этого сделать: позади слышалась стрельба, пули попадали в кузов машины. Бауэр знал, что эсэсовцы не посмеют целиться в окно, так как побоятся ранить генерала. Но они могли пробить шины, и тогда — конец. Жалеть врага было бы не только глупостью, а просто самоубийством. Шофер резко развернул машину поперек шоссе и выпустил из своего автомата несколько очередей в ту сторону, где, увязая в сугробах, следом за машиной бежали две черные фигурки. Все последующее казалось Бауэру фильмом, который он сам смотрит. Только что на белом экране еще двигались две черные фигуры. А вот они уже лежат в кювете, и пушистые крупные хлопья снега падают на их неподвижные тела. И ведь это он, Рудольф Бауэр, грозит генералу автоматом, разоружает его, связывает ему руки и заставляет сесть рядом с собой. Затем он продолжает путь на юг — как ему приказал командир партизанского отряда. Неожиданно на перекрестке дорог появился немецкий моторизированный патруль. К ошеломленному Бауэру, однако, довольно быстро вернулась способность трезво мыслить. — Одно слово, и я отправлю вас на тот свет! — прошептал шофер и, повернув ствол автомата в сторону генерала, положил оружие к себе на колени. — Вы сами понимаете — мне терять нечего! Хартмут, уже раскрывший было рот, чтобы крикнуть, снова съежился на сиденье. Он, генерал Хартмут, без малейших колебаний или угрызений совести посылавший на верную смерть тысячи людей, не осмелился поставить на карту свою собственную драгоценную жизнь… И машина полным ходом пронеслась мимо солдат, вытянувшихся по стойке «смирно» при виде генерала. Бауэр затормозил только через десять километров, когда из кустов раздалось несколько выстрелов и на дороге появилась могучая фигура Длинного Августа. Рудольф Бауэр, правда, не понял слов, сказанных партизанским разведчиком, но крепкое, товарищеское рукопожатие было для него в ту минуту ценнее, чем самая громкая похвала.27
По запорошенной снегом дороге шагал человек. В сером суконном полушубке, в сапогах и барашковом треухе с кожаным козырьком, он походил на крестьянина, отправившегося куда-то по делу. Только походка у него была легкая и упругая, не такая тяжелая, как обычно у крестьян, привыкших ходить за плугом. Увидев огоньки села, человек свернул с дороги, дал порядочный крюк по глубоким сугробам и приблизился к заднему крыльцу дома, стоявшего на отшибе. — Бог в помощь, — сказал одинокий путник, входя в комнату и стараясь при слабом свете коптилки разглядеть сидящих за столом. — Здорово, — по-латгальски откликнулся Езуп Баркан. — Скидывай одежду — да к печке. Сегодня мороз. Вон сколько градусов, как у водки: без малого сорок будет!.. — Спасибо, Езуп, никак не могу, тороплюсь дальше… А что, наши еще на прежнем месте? — спросил гость, стягивая рукавицы, чтобы согреть застывшие пальцы. — Почти что на том же, только этак километров десять дальше к югу. После боев с карателями пришлось забраться поглубже в лес. Но молодцы ребята! Эх, и молодцы! Важную птицу поймали. Генерала, да еще в придачу с машиной. Я эту колясочку своими глазами видел — завидная штучка… — Ладно, ладно, приятель, — перебил гость хозяина. — Расскажешь все по дороге. Пришлось идти добрых четыре часа, прежде чем они наткнулись на первые партизанские посты. Езуп Баркан распрощался, а его гость направился дальше, к штабу партизанской бригады. В землянке Янсона он скинул полушубок. Но и здесь путник пробыл недолго — столько, сколько потребовалось, чтобы согреться у железной печурки и размять онемевшие от холода ноги.Добравшись до места назначения, Даугавиет так устал, что, почти не раздеваясь, повалился на нары и тут же уснул. Только на следующий день он явился к уполномоченному Центрального Комитета. В землянке пахло крепкой махоркой, дымилась коптилка, освещавшая своим дрожащим пламенем небольшое пространство. Уполномоченный встал. Пламя коптилки слегка осветило его лицо, и Янис узнал бывшего секретаря райкома партии Авота. Вот так удача — встретиться с другом после стольких лет! Они обнялись, посмотрели друг другу в глаза, похлопали один другого по плечу и снова обнялись. Да, суровыми были будни войны с их непрерывными боями и тяготами. Тем более радостной казалась эта неожиданная встреча. — Помнишь, где мы виделись в последний раз? — воскликнул Даугавиет. — А как же! В ночь перед эвакуацией Риги, в ЦК, — сурово сдвинув брови, ответил Авот. — Ты рекомендовал меня на эту работу. А знаешь, если бы я мог тогда представить себе, с какими трудностями она связана, может, я бы и не согласился, — улыбнулся Янис. — Обязательно согласился бы! Будто я тебя не знаю… Ты же у нас парень крепкий… Мы в Москве получаем каждую твою листовку, и, надо сказать, все довольны твоей работой… Конечно, надо бы писать поживее, оперативнее откликаться на события. Вот хотя бы в тот раз, когда студенты отказались поехать в Германию на работу, — ведь и это можно было использовать для листовки. — Это верно… Но в то время я был один. С тех пор как начал работать Краповский, мы выпускаем листовок вдвое больше. — Мало, слишком мало… Но об этом потом, а сейчас давай-ка свернем по цигарке, — спохватился Авот. Он нагнулся, чтобы вынуть из-за голенища кисет с махоркой, и только теперь Даугавиет заметил две большие звезды на его погонах. — Так вот оно что! Ты уже в подполковниках ходишь. Тебе бы следовало курить что-нибудь получше. — Может быть, «Спорт»? — отшутился Авот. В его памяти всплыл вечер в конце июня 1941 года, когда он вместе с Даугавиетом сидел в приемной секретаря Центрального Комитета. В ожидании важного разговора оба они нервничали. Даугавиет, по всей вероятности, думал о предстоящем ответственном задании. Авот еще и еще раз взвешивал, правильно ли поступил, рекомендуя именно этого человека на такую опасную работу. Оба много курили: он — «Казбек», Даугавиет — «Спорт». Авот еще помнит слегка помятую пачку с мчавшимся велосипедистом, из которой Янис вынимал папиросу за папиросой. Когда у него самого кончились папиросы привычной марки, пришлось взять у Яниса. Затягиваясь едким дымом, он тогда упрекнул Даугавиета, что тот курит такие скверные папиросы. Янис пожал плечами: «Что поделаешь, привычка подпольщика — не бросаться в глаза». При Ульманисе из ста курильщиков восемьдесят покупали «Спорт». Только тогда Авот по-настоящему понял, какой удивительной способностью обладал Даугавиет: он умел быть незаметным даже в мельчайших деталях быта, умел не привлекать к себе внимания ни при каких условиях. И Авот окончательно решил, что поступает правильно, рекомендуя именно Даугавиета для подпольной работы в оккупированной Риге… Толстые цигарки, свернутые из грубой газетной бумаги, они выкурили молча. В полутьме землянки тлели два маленьких огонька. Даугавиет и Авот вспоминали прошлое, мысленно оглядывали настоящее, стремились проникнуть в будущее. Когда самокрутки стали жечь губы, Авот снова заговорил: — Теперь я скажу, зачем тебя вызвал… Фронт приближается к Латвии. Мы должны быть готовы к тому, что фашисты попытаются вывезти все, что можно, а остальное уничтожить. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Надо позаботиться, чтобы к моменту отступления гитлеровцев на каждом предприятии были надежные люди, которые сохранили бы народное добро. Все это надо разъяснить массам. Поэтому нужно больше листовок, воззваний… Так… подумай, кого можно было бы дать в помощь Краповскому. А ты… ты поедешь в Лиепаю и создашь там новую типографию… Вот посмотри, — Авот вытащил из-под нар тяжелый чемодан и раскрыл его. Тускло поблескивая, перед взором Даугавиета предстала целая армия букв — тысячи и тысячи свинцовых столбиков, которые завтра должны быть брошены в решающий бой. Глаза Даугавиета засверкали, будто перед ним открылся сказочный клад. Он взял несколько литер, повертел их в пальцах, внимательно разглядел, как колхозник — золотистые зерна нового урожая, даже погладил и бережно положил на место. Еще долго они сидели, оживленно беседуя. Речь зашла о будущем помощнике Эрика, и уполномоченный Центрального Комитета, подробно расспросив Даугавиета, согласился с предложенной им кандидатурой Скайдрите. Затем обсудили положение на фронтах — целые немецкие дивизии во главе с генералами сдаются в плен… — Да, гитлеровские генералы теперь товар недорогой, — усмехнулся Авот. — Такой трофей имеется и у нас. — Я уже слышал. Нельзя ли взглянуть на эту птицу? — Что ж ты так долго спал? Ночью мы его на самолете отправили в Москву. А вот на шофера взглянуть можешь. Он сам привез к нам генерала Хартмута и теперь хочет остаться с нами. Похоже, что надежный парень. — Шофер генерала Хартмута? Ну, так я о нем кое-что знаю. Нельзя ли мне взглянуть на него так, чтобы он меня не видел? Авот повел Даугавиета к одной из землянок и чуть приподнял плащ-палатку, закрывавшую вход. Вокруг чугунной печурки сидели шесть человек. В одном из них Янис действительно узнал постоянного посетителя книжного агентства. Бауэр все еще был в немецкой военной форме, только без погон и нашивок. Вернувшись обратно, друзья некоторое время молчали. Прежде чем рассказать о своем замысле, Даугавиет хотел учесть и взвесить все возможности. Как и любое дело в подпольной работе, замысел его непременно связан с риском. Но ведь Бауэр выдал в руки партизан генерала и лично застрелил двух эсэсовцев — этим он отрезал себе пути назад. Совершенно невероятно, чтобы гитлеровцымогли нарочно пожертвовать генералом и двумя эсэсовцами, лишь бы любой ценой разведать местонахождение партизан. Даугавиет был уверен, что Бауэр не шпион. — Ну, что у тебя на уме? Говори, — сказал Авот. — Кажется, я догадываюсь, что ты задумал. Уж не тот ли это человек, о котором ты мне сообщал? — Да. Он часто приходил в книжное агентство. Наш Профессор долго за ним наблюдал и пришел к заключению, что Бауэра наверняка можно будет привлечь к работе. — А тем временем этот Бауэр, парень смекалистый, не стал ждать, пока вы, умники, выспитесь, и явился сам. — Считаю критику необоснованной. Русские недаром говорят: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Авот сдвинул очки на лоб и пальцами протер усталые глаза. — Правильно. Я просто пошутил. Бауэр производит хорошее впечатление. В Германии в свое время работал в подполье, но потом долгие годы был оторван от движения. Конечно, ему не хватает опыта. Может провалиться. — Понимаю, — ответил Даугавиет. — Сначала будем поручать ему лишь самые простые задания, проверим его. Все же, по-моему, нельзя упускать эту редкую возможность. Ведь Бауэр шофер, он свободно разъезжает по городу. Кому придет в голову, что в немецкой автомашине перевозят нелегальную литературу? — Мысль неплохая! Поговори с ним. — Я не хочу ему показываться. В Риге он будет держать связь только с Профессором. — Хорошо, тогда иди прогуляйся. Я прикажу позвать Бауэра. Когда Бауэр явился, Авот спросил у него: — Ну, как вам у нас нравится? — У меня такое чувство, будто после долгих лет тюрьмы я вырвался на волю. Вы и представить себе не можете, что это значит — десять лет прожить среди фашистов и копить в себе бессильную ненависть. — Да, это нелегко. Но, к сожалению, вам придется еще пожить среди фашистов. Там вы тоже сможете быть полезным. — Как! Разве я не останусь у партизан? — с горьким разочарованием спросил Бауэр. — Опять придется вытягиваться перед каким-нибудь надутым арийцем, зная, что руки его обагрены кровью твоих товарищей, кровью коммунистов! Вместо того чтобы дать ему по спесивой роже, снова услужливо отворять перед ним дверцу машины и говорить: «Пожалуйста, господин генерал…» Если бы вы знали, как это отвратительно! Боюсь, что больше не выдержу. — Я вас понимаю. Но вам нужно взять себя в руки, как положено каждому подпольщику. Вы нам нужны в Риге гораздо больше, чем здесь. Вы будете развозить листовки. Это очень ответственное задание. Бауэру вспомнился тот день, когда на багажнике машины он обнаружил листовку. В известной мере это ознаменовало поворот в его жизни. Что ж, надо продолжать начатое дело до конца, тем более что он, немецкий солдат, не вызовет подозрений. — Когда мне отправляться в путь? — спросил Бауэр. — Чем быстрее, тем лучше. Но все это не так просто. Подумайте! Исчезли генерал и два эсэсовца, а шофер через несколько дней возвращается обратно жив-здоров и заявляет; «Здравствуйте, я ваша тетя!» Нет, тут нужно что-нибудь придумать. Хорошо еще, что наши люди догадались сейчас же убрать трупы эсэсовцев. Какие у вас самого на этот счет предположения? — спросил он после недолгого молчания. — Придется пофантазировать. Ну, вот так, например: допустим, всех четырех захватили в плен, мучили, пытали и тому подобное… Чем страшнее, тем лучше — гитлеровцы охотно поверят таким басням. Сегодня, в честь последних побед советских войск, партизаны перепились, вам удалось бежать… — Можно и так… Я застрелил постового, но меня ранили… Будет правдоподобней… — Бауэр вынул револьвер. — Вот так… В землянке грянул выстрел. — Что вы сделали? Да вы с ума сошли! С поврежденной ногой вы же до села не доберетесь! Бауэр тяжело упал на скамью. В лице его не было ни кровинки, оно казалось гипсовой маской. — Доберусь! Доберусь! Ведь надо добраться!..
На следующий день в село, к дому, где жил начальник гарнизона, приполз окровавленный немецкий солдат. Корка обледенелого снега, покрывавшая его изодранную одежду, доказывала, что он долго передвигался ползком. В том, что Рудольф Бауэр убежал от партизан, не могло быть ни малейшего сомнения, и начальство решило наградить отважного ефрейтора железным крестом второй степени.
28
Надежда, как обычно, поставила на стол три стакана. Потом улыбнулась, заметив свою рассеянность, и убрала один стакан обратно на полку. Ведь Янис у партизан. Чайник зашипел, заклокотал. Кидая в кипящую воду листки сушеной мяты, Надежда вдруг подумала о том, что муж ее пил только настоящий грузинский чай. Когда Сергей возвращался домой после ночных вылетов, он обычно первым долгом опорожнял большую кружку душистого чая. Вот уже скоро два года, как она ничего не знает о Сереже. Мало надежды на то, что он жив. Ведь письма, которые она время от времени посылала через партизанский штаб, оставались без ответа. В первый год Надежда много и часто думала о муже, но с каждым пролетающим днем образ его словно заволакивало туманом. Новые условия и новые обязанности заполняли всю ее жизнь, вытесняя прошлое. У Нади был мягкий характер, и она сама считала, что не создана для роли героини. Надежда остро ощущала отсутствие Даугавиета. Часть работы она теперь выполняла сама и не всегда была уверена, что поступает наиболее разумно. Если бы Янис был в Риге, он сумел бы поручить организацию побега красноармейцев из лагеря военнопленных самым надежным людям. Правильно ли она поступила, что доверила это задание Куренбергу? Надежда очень волновалась. Если бы сегодня ночью все сошло гладко, ее давно бы уведомили. Надежда уже была готова нарушить закон конспирации и, оставив Эрика одного в квартире, подняться к Буртниеку, чтобы разузнать, как дела, но в эту минуту кто-то громко постучал. Нажав кнопку сигнала тревоги, она отворила дверь. Старый Донат даже не переступил порога и громко сказал: — Возьмите счет квартирной платы! Тут же в передней Надежда развернула записку и прочла первую строчку: «Все в порядке». У нее тотчас отлегло от сердца. Она прошла на кухню, выпила стакан чаю и дочитала сообщение до конца. Все пятеро бежавших находятся в безопасности. Один из них, Никита Петроцерковский, ранен. Но ранение легкое, и он вместе с остальными уже сегодня ночью отправится к партизанам. Надежда бросила записку в плиту, где еще тлели угли, и побежала в ванную комнату — звать Эрика. На полпути она вдруг повернула обратно. Какое счастье, бумага еще не догорела! Да, там так и написано: летчик Никита Петроцерковский. Как это она сразу не сообразила! Это же и есть тот самый Никита, Сережин однополчанин! Тут и сомневаться нечего: Петроцерковский — фамилия очень редкая. Никита, бывало, всегда шутил, что его фамилия хоть и звучит не слишком идеологически выдержанно, но все же имеет свои преимущества: в телефонной книжке ленинградских абонентов она единственная и поэтому его никогда зря не беспокоят по телефону, разыскивая какого-нибудь однофамильца. Милый, хороший Никита! Она помнит, как он был влюблен в нее и, шутливо тараща глаза, читал ей стихи. Ко дню рождения он подарил ей «Евгения Онегина»; она всегда хранила эту книгу, как приятное воспоминание. Надя сняла с полки томик в синем сафьяновом переплете. А вот и надпись, сделанная рукой Никиты:Эрик метался в бреду. Он задыхался от жары, страшной жары. Он стоит в кочегарке на судне и швыряет в буйное пламя одну пачку листовок за другой. Чем больше он кидает в топку, тем жарче разгорается огонь. Но капитан кричит: «Еще, еще!» Зной становится невыносимым, пылающая пасть топки вдруг превращается в раскаленный докрасна солнечный диск. Эрик в пустыне… Жажда, невыносимая жажда… Солнце превратилось в красную бочку пожарного. Ее вращает связной из Курземе. «Пить!» — «Сперва дай мне листовки…» Болезнь подкралась к Эрику в самый разгар работы. До трех часов ночи, пока он набирал текст листовки для лиепайцев, его мучила сильная головная боль и острая ломота в ногах, но когда он стал печатать, лихорадка зажгла огнем все тело, словно спичка бензиновый бак. Еще какое-то время Эрик заставлял себя работать. Потом, чувствуя, что теряет силы, на минуту прилег, но так и не смог подняться. В таком состоянии его и застала Надежда. Кинув удивленный взгляд на тонкую пачку отпечатанных листовок, она нетерпеливо принялась будить спящего. Эрик со страшным трудом поднял тяжелые веки. — Эрик, вставай! Завтрак готов. Поешь до прихода Элизы. А мне надо бежать. — И Надя рассказала ему о записке, о Никите и о своих планах. Думать Эрику было нестерпимо трудно. В голове гудело. Но он все же понял, что Надежде надо уйти. Повидаться с товарищем мужа очень важно. Но кто же напечатает листовки? Связному из Курземе нельзя ждать. Ну конечно же, он сам это сделает. Ему лучше. Хорошо еще, что он не проболтался Наде о своей болезни, а то она, наверно, осталась бы. Пытаясь не показать своей слабости и желая убедить себя самого, что ему не так уж плохо, Эрик попробовал подняться, но тотчас упал. — Ты болен!.. Надежда сейчас же сбросила пальто, заботливо укутала Эрика одеялом, поспешила за чаем и аспирином и, не слушая его возражений, принялась сама печатать листовки. Так, без отдыха, она проработала до самого вечера, и только следы слез на первых листовках свидетельствовали о том, как тяжело ей было отказаться от встречи с Никитой.
29
— Ну как, мастер, прибавить пару? Мы уже и так на сорок минут опаздываем, — спросил кочегар своим, по обыкновению, равнодушным тоном. Сбивая колесами снежное месиво, поезд, то изгибаясь дугой, то снова вытягиваясь ровной линией, мчался сквозь декабрьскую ночь. Синий фонарь локомотива отбрасывал прозрачный свет на темную стену леса, который вместе с мелькающими телеграфными столбами бежал навстречу. В топке рычало белое пламя. Машинист Карлис Эмбер глянул на манометр, засунул руку в карман брюк и вытащил из его глубины книжечку с потрепанными листками папиросной бумаги и несколько крошек самосада. — А куда спешить? В военное время уголь надо беречь… — сказал он с чуть заметной усмешкой. — Мне-то все равно… Да только как бы нас самих за такую, бережливость не вздумали приберечь за решеткой, — с равнодушным спокойствием процедил кочегар. — Оставь «сорок», мастер. — Он ловко подхватил лопатой горячий уголек и, поплевав на пальцы, поднес машинисту. В полном молчании оба затягивались по очереди. Эмбер ладил со своим молчаливым помощником, который, правда, изредка любил поворчать, но в общем был «свой парень». Они работали вместе уже полгода, и ни разу за это время кочегар не проявлял излишнего любопытства, хотя кое-что, очевидно, примечал. В черных грязных пальцах самокрутка становилась все черней. К последним затяжкам примешался неприятный привкус угля и машинного масла. Но табак нынче так дорог, что привередничать не приходится, и Эмбер выкинул крошечный окурок, только когда начало жечь пальцы. Оранжевое пятнышко затерялось в рое искр из трубы, гнавшихся друг за другом, словно играя в пятнашки. Высунувшись из окна, машинист с минуту следил за их игрой. Он вспомнил своих детей. Еще две недели назад в их семье было всего трое: он сам, больная жена, которая нигде не работала, и четырнадцатилетний Индрик. Но вот арестовали их соседей Калнапуров, которые почти десять лет жили в одном с ними доме, на одной площадке. Дети Калнапуров остались без присмотра, без крова; младшая Модите совсем маленькая и одеться сама еще не умеет. Эмберу вспомнилось, как он тогда целый день боролся с самим собой — ведь и так еле-еле сводишь концы с концами! Наконец он все же решил послушаться голоса совести. Но что скажет жена, согласится ли она взвалить на себя такое бремя? Когда он вернулся из очередной поездки и пришел домой с намерением сказать жене о своем решении, маленькие Калнапуры уже сидели за столом в кухоньке и, склонив головы, усердно хлебали суп из большой миски. Эмбер переглянулся с женой. Никогда еще ее лицо не казалось ему таким прекрасным, как в то мгновение, хотя длительный недуг давно уже стер с него следы былой красоты. Так в семье Эмбера прибавилось три едока, а вместе с ними прибавилось и заботы. Весь этот груз лег на плечи машиниста и, возможно, совсем придавил бы его, если бы не особая сила, помогавшая ему выдерживать. Эту силу давала ему борьба. Вот и теперь, назло всем заботам, назло непогоде и темной ночи, Эмбер испытывал приятное чувство удовлетворения. Он ни за что не поменялся бы местом с теми, кто безмятежно дремлет в купе, кого во сне не мучит страх перед арестом. Никогда еще он не получал такого опасного задания, как теперь. В угольном бункере в такт ритмичному перестуку колес покачивался тяжелый чемодан, который необходимо доставить в Ригу. По весу Эмбер понял, что на сей раз там не листовки. Но он не знал, что находится в чемодане, не знал он и того, что отправитель едет тем же поездом, в третьем вагоне, зажатый между окном и толстой владелицей усадьбы, которая даже во сне не выпускала из рук корзину с провизией. Вдали замелькал бледный огонек. Когда поезд резко затормозил, голова толстой соседки повалилась на плечо Даугавиета. Проснувшись от внезапного толчка, она прежде всего удостоверилась, не исчезло ли что-нибудь из ее корзинки, затем повернулась к окну, за которым, проносимые невидимыми руками, мелькали синие фонарики обходчиков. — Как, уже Крустпилс? — Она поспешно поднялась и стала вытаскивать из-под скамейки свои бесчисленные пожитки. В другом конце вагона показалась проводница: — Прошу оставаться на местах. Через десять минут тронемся. — Что случилось? — спросил чей-то голос. — Я ничего не знаю. Мне только велено сказать, что через десять минут поезд тронется. Неожиданная остановка вызвала оживленные толки. Разбуженные пассажиры, перебивая друг друга, рассказывали о пережитых ими подобного рода случаях. Даугавиет молчал. Он был так погружен в свои мысли, что даже забыл, что его молчание может показаться подозрительным. Прижавшись к стеклу, он старался прислушаться к доносившимся снаружи звукам, которые наполняли его тревогой. Что там могло случиться? Партизаны разобрали путь? А может, с Эмбером что-нибудь неладное? А вдруг поезд остановили, чтобы сделать внезапный обыск? В чемодане комплект шрифта — сказочное сокровище при теперешних условиях. С огромными трудностями шрифт доставлен сюда. Люди, привезшие его к партизанам, поставили на карту свою жизнь, так же как теперь это делает Карлис Эмбер. Эгоистичный страх за свою жизнь был чужд Даугавиету. И все же ему случалось не раз испытывать минуты лихорадочного волнения, когда страх, словно тисками, сжимает сердце и не дает думать ни о чем другом. Боязнь не выполнить задание — ведь тогда лиепайская подпольная организация останется без типографии — отодвигала на задний план опасение за судьбу Эмбера. Жизнь машиниста, так же как и собственная жизнь, не показалась бы Янису слишком дорогой ценой, если бы ее нужно было отдать для спасения шрифта. Даугавиет не слышал ни слова из того, что кругом рассказывали пассажиры. Он слышал только собственный голос, все время задававший один и тот же вопрос: «Что случилось?» Янис чувствовал, что не может больше выдержать неизвестности. И все же надо было себя побороть. Если бы он только один вышел из вагона, это привлекло бы внимание попутчиков. Наконец еще кое-кому надоело сидеть. Один за другим пассажиры стали выходить из вагона, чтобы поразмяться. Выйдя, Янис по колено утонул в мокром снегу. Вскоре он добрался до паровоза. В темноте поблескивали медные части, клапан, шипя, выпускал тонкую струйку пара. Из кабины машиниста высунулась голова: — Эй, начальство, сколько еще дожидаться? В Резекне перед отходом поезда Даугавиет подходил к паровозу, чтобы посмотреть на Эмбера. Поэтому теперь он сразу узнал чуть насмешливый голос машиниста, и у него отлегло от сердца. Теперь, когда все его опасения оказались напрасными, он больше не думал о чемодане с ценным грузом, он лишь радовался тому, что у Эмбера все в порядке. Хотелось как-то выразить товарищу свою радость, крепко-крепко пожать его шершавую, почерневшую от угольной пыли руку, хлопнуть по плечу или сделать что-нибудь в равной мере безрассудное, чего Даугавиет не мог себе позволить. Но ничего подобного он не сделал. И все же какая-то частица глубоко скрытого тепла невольно передалась его голосу, когда он, бессознательно повторив любимое выражение машиниста, ответил: — Спешить некуда. До конечной станции все равно доберемся. — Добраться-то доберемся, только куда? — откликнулся Эмбер. Но тут же осекся. Если лесные братья станут ежедневно взрывать поезда, то весь график движения полетит к чертям… Даугавиет внимательно посмотрел туда, где мелькали огоньки фонарей. В темноте неясно вырисовывались хаотические груды каких-то обломков. Человеку несведущему никогда бы не пришло в голову, что все это еще недавно было воинским эшелоном. На обратном пути Даугавиет увидел в снегу продолговатый предмет. Поднял его. Это была сплющенная гильза 76-миллиметрового снаряда, заброшенная сюда взрывной волной. Значит, состав с боеприпасами! Ничего не скажешь, чистая работа! Авот прав — гитлеровская военная машина напоминает сейчас выброшенную на берег акулу. Она еще борется, неистово бьет хвостом и тем не менее уже обречена. Сейчас нечего и думать об отдельных группах сопротивления. Теперь речь идет о широком массовом движении, которое должно охватить весь народ, — тут-то и придется поработать. Избавившись от своих сомнений по поводу Эмбера, радостно возбужденный и полный энергии, Даугавиет вернулся в вагон, где никто еще ничего не подозревал о случившемся. Дородная соседка, которой опять пришлось потесниться, кинула на Яниса негодующий взгляд и, словно продолжая прерванный разговор, ядовито промолвила: — Мой сын уже второй год проливает свою кровь. В последнем письме сообщил о повышении, теперь он обер-лейтенант. А тут некоторые разгуливают по тылам и захватывают чужие места, которые надо бы занимать честным латышам… Янис мог бы пропустить это замечание мимо ушей, но укоренившаяся привычка приспосабливаться к обстановке, как бы это ни было противно его истинной натуре, вынуждала ответить. Преувеличенно вежливым, почти льстивым тоном, в котором все же звучало характерное для корпорантов бахвальство, Даугавиет произнес, повернувшись к своей язвительной соседке: — Совершенно с вами согласен, уважаемая сударыня. Если бы это от меня зависело, я бы уже давным-давно воевал на фронте. Но рейхскомиссар полагает, что на фабрике отца я просто незаменим… И вдруг толстуха, еще мгновение назад не знавшая, куда разместить свои расплывшиеся телеса, как-то поджалась из уважения к столь важному соседу. — Ради бога, не подумайте, что я намекала на вас. Я сразу поняла, с кем имею дело… Знаете, мой Эгон тоже не из простых офицеришек. Он занимает важный пост в интендантстве… До самого Крустпилса она была счастлива, что может болтать о корпорации сына и об общих знакомых в высших кругах общества. И если бы чиновникам гестапо вздумалось вызвать на очную ставку собственницу усадьбы и коммуниста Даугавиета, толстуха ни за что не поверила бы, что очаровательный сын фабриканта, о котором она столько рассказывала приятельницам, не кто иной, как «большевистское чудовище». Только после Крустпилса Янису наконец удалось сесть поудобнее и кое-как распрямить затекшие ноги. С каждым оборотом колес поезд приближался к Риге. Янис отличался редкой силой воли, но все же он не смог заставить себя заснуть. В нетопленном вагоне, несмотря на скопление пассажиров, было очень холодно. У Яниса не было полушубка, как у соседа напротив, или трех шерстяных платков, в которые куталась старушка на другом конце скамейки. Он попробовал поглубже забиться в угол и втянуть голову в воротник демисезонного пальто, но это не помогало. Сон все не шел. В голове возникало множество мыслей. Жажда тепла почему-то связывалась с образом Надежды. С поразительной ясностью он вспоминал все: цвет ее глаз, фигуру, движения, манеру говорить, редкие улыбки. — Следующая станция — Рига, — раздался голос проводницы в другом конце вагона.Хотя Даугавиет отсутствовал всего несколько дней, Надежда и Эрик встретили его как человека, возвратившегося из далекого путешествия. Да и сам Янис при виде друзей почувствовал себя как-то особенно уютно, по-домашнему. Да, эта опасная квартира стала его настоящим домом, а Надежда и Эрик — его семьей. Для такого торжественного случая Надя приберегла несколько кусочков сахару, и Даугавиет, наслаждаясь теплом, разлившимся по всему телу, выпил чуть ли не полчайника. — Ну, теперь я готов слушать… — наконец проговорил Янис. Надежда рассказала о Петроцерковском: — Подумай только, если бы Эрик не заболел, я теперь уже знала бы что-нибудь о Сереже! Хорошее настроение Даугавиета сразу же испортилось. — И отлично, что не пошла! Петроцерковский ничего не должен знать о тебе. Не забывай, что ты теперь не жена своего мужа, а подпольщица, прежде всего — подпольщица! Глаза Надежды затуманились от обиды: — Ты знаешь только одно — конспирация, конспирация… Как бы ты сам поступил, если бы речь шла о любимом тобой человеке? Неужели тебе чужды всякие человеческие чувства? Даугавиет понурил голову. В том-то и беда, что он никак не мог преодолеть свои чувства. Еще год назад, будучи у партизан, он получил сообщение, адресованное Цветковой. В 1941 году муж Нади, вылетев на боевое задание из Мурманска, не вернулся и долгое время считался пропавшим без вести. Только много месяцев спустя на одном из пустынных островов Ледовитого океана был обнаружен его сбитый самолет и изуродованный, замерзший труп. Целый год Янис хранил эту скорбную весть про себя и молчал, молчал… Не потому, что опасался причинить Наде боль — в это суровое время несметное число женщин постигла такая участь и Цветкова, конечно, перенесла бы свое горе. Нет, он молчал, опасаясь, что эта весть может в какой-то мере изменить их отношения. Янису казалось, что сказать правду, сообщить Надежде, что она свободна, означало бы воспользоваться чужим несчастьем. Пусть все останется по-прежнему — он будет молчать, не проронит ни слова о гибели Сергея, так же как не проронил до сих пор ни слова о своей любви. Вот почему рассказ Надежды так взволновал его. Как легко могло случиться, что Надежда узнала бы от Петроцерковского то, что он, Янис, с таким трудом от нее скрывал! Горько было сознавать, что Надя так превратно поняла его суровые слова. Одна-единственная фраза могла бы опровергнуть все ее упреки, но он стиснул зубы и молчал. Надежда ничего не знала о переживаниях Яниса, но женским чутьем понимала, как он страдает. К тому же она чувствовала, что действительно чуть было не совершила оплошности. — Прости, Янис! — И она схватила руку Даугавиета. — Ты прав, я не должна была забывать требований конспирации! Янис отвел ее руку, но в его взгляде, вопреки собственной воле, отразилась нежность: — Ну-ну, ладно, не стоит об этом… Конспирация служит человеку, а не наоборот… Бывают случаи, когда и подпольщик ошибается… И именно потому, что он человек. — Даугавиет обратился к Эрику: — А ты, я вижу, уже на ногах! — Это был всего лишь пустяковый грипп, — быстро ответил Краповский. — Для тебя все — пустяк, — отечески пожурил его Даугавиет, в разговоре с Эриком никогда не старавшийся скрыть свое отношение к нему. — А мы думаем иначе. Ты получишь помощника. В присутствии Эрика об этом больше не говорилось. Но как только тот спустился в «квартиру без номера» и Даугавиет собрался было назвать имя этого помощника, Надежда взволнованно произнесла: — С нашей Скайдрите случилась беда!
30
На улице было еще темно, когда Элиза, вернувшись из своего обычного утреннего похода, поднялась к Буртниеку. Она не жаловалась, но выглядела такой усталой, что Висвальд с грустью заметил про себя: «Элизе с каждым днем все труднее выполнять обязанности разносчика листовок». — Придется еще немного потерпеть, Элиза. От Яниса добрые вести… Голос Буртниека за последнее время окреп и стал звучать куда энергичней. Правда, больное сердце по-прежнему пошаливало, но зато каждый день и даже каждый час приносил все новые радостные вести о победах Красной Армии, об успешных боях партизан, о расширении подпольной деятельности. Словом, в воздухе чувствовалось приближение весны. — Скоро будем перевозить листовки на машинах, — весело продолжал он. — Тогда и ты наконец отдохнешь. Ты уже давно заслужила это. Элиза покачала седой головой. — Это было бы неплохо. Ноги отказываются служить, и силой их не заставишь… Но как же я стану жить без работы? Нет, я без дела не усижу… — Ничего, найдется и для тебя работа. Пока что будешь помогать Донату следить за домом. Это были не только слова утешения. Буртниек отлично понимал, как необходимо теперь соблюдать особую осторожность. Чем шире росли ряды подпольщиков, тем упорнее и свирепее действовало гестапо. Надо было удвоить бдительность, ежечасно, ежеминутно помнить, что их дом — огневая точка в постоянном вражеском окружении. Как бы откликаясь на эту мысль, в дверях тревожно затрещал звонок. Буртниек и Элиза вздрогнули… Заказчики обычно не приходили в такой ранний час, а своих они узнали бы по условному сигналу. Но вот раздался и знакомый сигнал — два коротких звонка, один длинный и снова два коротких. Значит, посетитель сильно взволнован и забыл о сигнале. Это объяснение оказалось правильным — женщина, принесшая записку, так торопилась, что не назвала даже пароля. — Вот заказ! Самый срочный! — запыхавшись, произнесла она, бросила на стол письмо и убежала. Буртниек торопливо разорвал конверт, на котором пальцы связной оставили черные отпечатки типографской краски. Пробежав глазами несколько строчек, он, как бы не веря себе, еще раз прочитал сообщение вслух: — «В сегодняшней «Тевии» напечатана статья предателя приват-доцента Граве. Требуя самой безжалостной расправы с партизанами, он упоминает о нескольких «ужасающих фактах», в том числе об убийстве генерала Хартмута и сопровождающих его лиц. Гитлеровская цензура не вычеркнула это сообщение, однако Данкер решил, что оно может подорвать престиж оккупантов. Издано распоряжение конфисковать «Тевию», хотя большая часть тиража уже развезена по киоскам». Элиза побледнела и ухватилась за стул. «Скайдрите! — была ее первая мысль. — Скайдрите в опасности!» Она хотела сказать это Буртниеку, но слова застряли у нее в горле. Висвальд, очевидно, думал о том же. Ничего не видя и не слыша, он в лихорадочной спешке надевал пальто. Как это обычно бывает в таких случаях, руки почему-то не попадали в рукава. Наконец он с силой сунул руку в отверстие, истрепанная подкладка с треском разорвалась, но Буртниек этого даже не заметил. Он вихрем сбежал вниз по лестнице и, наталкиваясь на прохожих, помчался к остановке трамвая. Скайдрите была в опасности, в серьезной опасности. Ничего не подозревая, она, как обычно, вложит листовки в номера «Тевии». Приедет полиция, чтобы конфисковать газеты, и найдет… Тяжело дыша, Буртниек добежал до трамвайной остановки. В этот час, когда большинство рижан едет на работу, тут собралась целая толпа. Дребезжа окрашенными в синий цвет оконными стеклами, подошел наконец трамвай. Все вагоны были переполнены. У входа на площадку образовался сплошной клубок человеческих тел. Люди отчаянно боролись за место на подножках, потому что опоздавших на работу строго наказывали. Поняв, что у него нет никакой надежды обычным путем пробраться в вагон, Буртниек втянул голову в плечи и боком втиснулся в толпу. Ему посчастливилось нащупать опору под ногой, но в это мгновение стоявший на ступеньке гитлеровец, до которого Висвальд случайно дотронулся, повернулся и начищенным до блеска сапогом пихнул его в живот. Буртниек пошатнулся и, если бы несколько рук своевременно не поддержали его, наверняка попал бы под колеса. Оглушенный, он встал. Некогда было отряхнуть испачканное пальто. Надо торопиться, быстрее, быстрее! Прихрамывая на левую ногу, которую он, очевидно, повредил при падении, Висвальд продолжал бежать, но уже через несколько кварталов был вынужден замедлить шаг. Не добраться ему вовремя! Быть может, еще раз попытаться сесть в трамвай? Но сколько же придется ждать? Минут пятнадцать, может быть, двадцать?.. Поздно, поздно! Буртниек отскочил в сторону: погрузившись в свои тревожные мысли, он только в последнее мгновение успел заметить грузовик, крыло которого едва не сбило его с ног. «Уж не Силинь ли за рулем?» Громко окликая водителя, Буртниек бросился вперед за машиной. Когда Силинь наконец услышал знакомый голос, у Буртниека уже почти не хватило сил залезть в кабину. Что поделаешь! Его сердце не создано для марафонского бега… Момент был весьма неподходящий для философских размышлений о собственном здоровье. Буртниек попросил Силиня выжать из машины все, что только можно. Шофер сразу же свернул на соседнюю улицу, где движение было тише, и это оказалось весьма разумным. Скорость грузовика далеко превышала разрешенную, дома и деревья сливались перед окном кабины в мелькающую бесформенную темную массу. Торопя Силиня и с отчаянием думая о том, что они могут опоздать, Буртниек все же утешал себя надеждой: весь тираж газеты пока еще не развезен. Может быть, Скайдрите сегодня не успела получить «Тевию»?..Получив «Тевию», Скайдрите разложила газеты при тусклом свете керосиновой лампы. Она не особенно торопилась: первые покупатели, как обычно, появятся через полчаса, не раньше. Девушка успела даже прочитать статью о похищении генерала Хартмута. Впервые она почувствовала что-то вроде зависти. Там в Латгалии партизаны совершали героические подвиги, в то время как здесь жизнь текла однообразно, без особых событий. В обычное время пришла «подпольная машина», перелистала журналы, дала Скайдрите возможность поменять сумки и снова ушла. Сегодня в сумке оказалось яблоко, и это маленькое красное яблоко как бы окрасило своим румянцем щеки Скайдрите. Почему-то в голову опять лезла фантастическая мысль, что эти маленькие подарки ей посылает Эрик. И девушке вдруг стало легко и радостно на душе. Тихо напевая песенку о Катюше, ожидающей далекого друга, она сунула газету на полку. Да, в ее жизни ничего особенного не происходит, и, пожалуй, ц данных условиях этому можно только радоваться. Нет ничего особенного и в том, что возле киоска остановился грузовик. Но когда из кабины выскочили два шуцмана, Скайдрите заволновалась. — Давайте-ка все «Тевии»! И пошевеливайтесь быстрее, мамзель! — приказал грубый голос. — А что же случилось? — спросила Скайдрите, пытаясь выиграть время. — Без разговоров! Газета конфискована! Девушка вздохнула свободнее. Схватив поданную ему пачку газет, шуцман уже собирался закинуть ее в машину, но второй остановил его движением руки: — Погоди, сперва сосчитаем, — и вытащил из кармана какой-то список. Сравнив количество полученных от девушки газет с указанным типографией числом, он сказал: — Не хватает двадцати номеров. — Они уже проданы, — героически солгала Скайдрите, хотя у самой от волнения подкашивались ноги. Первый только удивился: — Так рано? Но второго этот ответ не удовлетворил. Рванув дверь киоска с такой силой, что из нее вылетел ключ, он окинул взглядом все внутреннее устройство будки. — А это что? — указал он пальцем на отложенные двадцать номеров. С отчаянием думая, что же ей делать, Скайдрите на всякий случай продолжала вдохновенно врать: — Я же вам сказала: они уже проданы! Эти покупатели платят мне за месяц вперед. — Не наше дело!.. — И жилистая рука, на среднем пальце которой красовалось кольцо с выгравированным черепом, потянулась за газетами. Скайдрите однажды где-то читала, что в смертельной опасности человеческая мысль работает с лихорадочной быстротой. То же произошло и сейчас. За миг, пока рука шуцмана еще тянулась к газетам, в мозгу девушки промелькнуло множество мыслей. Бросить листовки, а самой бежать?.. Ударить шуцмана и попытаться исчезнуть вместе с листовками?.. Просто ждать, в надежде, что шуцманы бросят газеты в машину, не заметив листовок?.. Нет, настоящий подпольщик не имеет права надеяться на чудо! Но что же делать? Что? Что?.. И вдруг она услышала собственный, но показавшийся ей совершенно чужим голос, спокойно произнесший: — Но, быть может, вы хотя бы разрешите мне сообщить своим покупателям, что газета конфискована? Шуцман на мгновение замешкался. Этого мгновения было достаточно. Лампа опрокинулась, керосин пролился, и газеты воспламенились. Огонь молниеносно перекинулся на журналы и тонкие дощатые стенки киоска. Защищая лицо, шуцман выбежал, захлопнув за собой дверь, и Скайдрите, в опаленном пальто, ослепшая от дыма, обожженными руками пыталась нащупать выход. Ее последней мыслью было: «Будь что будет! Листовки уничтожены!» Потом все расплылось перед ее глазами, улетучилось, исчезло…
Когда до киоска осталось всего три квартала, Буртниек спохватился, что Скайдрите даже не знает, кто он в действительности. «Но ничего, — утешал он себя. — Разве простой знакомый не мог услышать о конфискации «Тевии»? А если девушка все же догадается, что я — один из подпольщиков? Черт возьми, пусть догадается! В конце концов, жизнь человека дороже всего!» Как только Силинь резко повернул за угол и машина подлетела к киоску, Висвальд с ужасом понял, что все его размышления были излишни. Он опоздал — один из шуцманов стоял возле будки, второй как раз входил в нее. Но прежде чем Буртниек успел решиться что-нибудь предпринять, шуцман вдруг выскочил из киоска и вслед за ним из окошка вырвался густой клуб дыма. Чутье подпольщика сразу же подсказало Висвальду — Скайдрите подожгла киоск, чтобы листовки не попали в руки полиции. Не думая о том, что и его могут арестовать, Буртниек бросился вперед, хотел открыть дверь, но она не поддавалась. Тогда он ударом ноги проломил тонкие доски и вытащил из охваченной пламенем будки потерявшую сознание Скайдрите. Тут подоспел и Силинь. Вдвоем они сорвали с девушки дымившееся, тлевшее пальто и швырнули его в снег. Только теперь Висвальд вспомнил о шуцманах. — Быстрее в машину! — крикнул он Силиню, готовясь сам защищать Скайдрите. Но этого не потребовалось. Шуцманы сразу же побежали вызывать пожарных. Буртниек, словно сквозь туман, успел заметить, как огонь с будки перекинулся на полицейскую машину и как вспыхнули брошенные в нее газеты. Словно сквозь туман, увидел он и все последующее: искаженные контуры летящих навстречу домов, отскакивающие тени людей, промчавшуюся мимо пожарную машину. Висвальд сидел рядом с девушкой. Он гладил ее обгоревшие волосы и непрерывно повторял полушепотом: — Бедная девочка! Смелая наша девочка! Только спустя некоторое время, когда к нему вернулась способность трезво мыслить, Буртниек понял, почему видит все точно сквозь пелену тумана, — спасая Скайдрите, он потерял очки. И тут же всплыла другая мысль — где поместить обожженную девушку? — Куда же мы едем? — спросил он. — В ближайшую больницу, куда же еще, — ответил Силинь. — В ближайшую больницу? Ни в коем случае! Шуцманы, должно быть, сообщат о случившемся в гестапо. Скайдрите будут разыскивать… Прочь из Риги, по возможности дальше! Это единственно верный путь… Сколько у тебя бензина? — Километров на пятьдесят. — Ну, тогда едем… — Куда же?.. — Едем в Елгаву!
31
— Ну, Ранке, что нового? Сколько выудили коммунистов за время моего отсутствия? — спросил Рауп-Дименс, вернувшись на работу после десятидневного отпуска. Ранке вздрогнул. В ироническом тоне начальника явно слышалось: «Одно то, что я с вами разговариваю, для вас великая честь». — Разрешите доложить, господин оберштурмфюрер. Мы-то ни с чем, но у них богатый улов: генерал Хартмут попал в руки партизан. Оберштурмфюрер закурил сигарету и с минуту спокойно пускал дым. «Железные нервы», — подумал шарфюрер Ранке, знавший, что генерал Хартмут — хороший знакомый оберштурмфюрера. Но вдруг совершенно неожиданно Рауп-Дименс швырнул на пол сигарету и, быстро вскочив, опрокинул кресло. Размахивая руками, оберштурмфюрер заорал: — Что?! Схватили Хартмута?! Ну, за это вы мне ответите! Ранке невольно попятился. Он еще никогда не видел своего начальника в таком состоянии. — Я не виноват, господин оберштурмфюрер, — заикаясь, оправдывался он. — Дело расследовал штурмфюрер Вегезак. Нам сначала показалось подозрительным, что из четырех человек спасся один только шофер Бауэр. — И каковы результаты расследования? — несколько спокойнее спросил начальник. — Все в порядке. Шофер действительно бежал из плена. Партизаны подстрелили его, ранили в ногу. Он еще лежит в военном госпитале. — Что он рассказывает о судьбе генерала? — Когда Бауэр бежал, генерал еще был жив. Но нет ни малейшего сомнения в том, что теперь они его уже прикончили. — Почему же не догадались сейчас же послать солдат и освободить генерала? — Послали. Шофер подробно описал местонахождение партизан. Но карательная экспедиция опоздала, там нашли только несколько пустых землянок… Бедный господин генерал, представляю себе, как его терзали большевики. — Молчать! — рявкнул Рауп-Дименс. — Ну, чем еще вы меня порадуете? — Наш работник в тукумском поезде арестовал некоего Берзиня, который заявил, что после Сталинграда Гитлеру капут. При большевиках этот Берзинь получил землю в Тукумской волости. Изволите допросить сейчас? — Ладно, можете привести… Но как только Ранке направился к дверям, его вдруг остановил окрик Рауп-Дименса: — Какого черта допрос! Расстрелять на месте! Всех перестрелять! Всех! Вон! Ранке, пятясь, добрался до дверей и выскочил из кабинета. Рауп-Дименс неподвижно сидел в кресле. «Нет, не стоило проводить отпуск в Германии. Сплошная трепка нервов. Непрерывные налеты, перепуганные мужчины, истеричные женщины. Только соберешься куда-нибудь выйти, как сразу же начинается воздушная тревога! Отца просто не узнать — ходит с таким видом, будто жабу проглотил. О бакинской нефти в его присутствии лучше и не заикаться. Да, таковы дела, мы теряем одну позицию за другой. Но пусть большевики не думают, что мы так просто уйдем отсюда. Мы призваны выполнить историческую миссию — уничтожить все, что пахнет коммунизмом. Быть может, наше поколение и сложит при этом голову, но зато мы обеспечим существование нашим потомкам. Нет сомнения в том, что фюрер свернет себе шею. А вот Рауп-Дименсы, Круппы, Тиссены останутся, ибо на них зиждется мир».Марлена тщательно готовилась к встрече Харальда после его десятидневного отсутствия. Она надела тончайшее кружевное белье, выбрала самое элегантное, только что сшитое платье, обильно надушилась самыми дорогими французскими духами, которые на днях ей преподнес испанский полковник из Голубой дивизии. Кроме того, Харальда ожидало его любимое блюдо — кровавый бифштекс, приготовленный на английский манер. Харальд съел бифштекс с отменным аппетитом. Злобное раздражение, не оставлявшее его эти дни, улеглось, а сигара после ужина показалась особенно ароматной. Да и сама Мери, порядком надоевшая ему до отъезда, снова казалась соблазнительной. Марлена заметила, как заблестели глаза Харальда. «Ну, теперь он будет мягким как воск», — подумала она и, скользнув к нему на колени, слегка почесала фиолетовыми ногтями его затылок. — Дарлинг, почему ты ничего не скажешь о моем новом платье? Разве оно тебе не нравится? Ты же сам подарил мне этот материал — тот, что твой брат прислал из Чехословакии. Внезапно в глазах Рауп-Дименса все потемнело. Чехи! Эти проклятые выродки! — Сейчас же выбрось эту тряпку! — прохрипел он, задыхаясь от ярости. — Но, мой милый, что с тобой? — Я тебе покажу, что со мной! — заорал Рауп-Дименс и одним рывком разорвал платье от ворота до подола. В первый момент Марлена остолбенела, но потом, видя, что Харальд успокоился, она принялась в истерике рвать на себе волосы. — Самое красивое платье! Ты сошел с ума! Я позову полицию. Не трогай меня, я буду кричать! — Ну успокойся, успокойся, Мери, — просил Рауп-Дименс, придя в себя. — Прости меня, но, когда ты упомянула об этой материи, я вспомнил своего брата. Его убили чехи среди бела дня, когда он ехал на свою фабрику. — Мне очень жаль твоего брата, — всхлипывая, проговорила Марлена, — но все же где я теперь достану такое красивое платье? — Я подарю тебе два новых взамен, только ради бога перестань плакать. Ты знаешь — я не выношу слез. Но Марлена не успокаивалась. С этого дня ей частенько приходилось запудривать следы слез, потому что настроение Харальда все ухудшалось.
32
Скайдрите вышла в тамбур и стала у незатемненного окна. Серебристый снег, устилавший землю, придавал вечернему пейзажу мертвенный, холодный отсвет. За окном мелькали призрачно бледные деревья. Ветер подхватывал желто-красные искры из трубы паровоза. Они образовывали целые созвездия и мчались вслед за вагоном. Паровоз свистел, мосты гудели, сбивчиво, неритмично постукивали колеса, а в природе царило безмятежное спокойствие, такая благородная нетронутая красота — не хотелось и думать о том, что поезд идет по оккупированной фашистами земле. Но Скайдрите не могла об этом забыть ни на одно мгновение. Она вспомнила свою поездку в Ригу летом 1941 года, когда на шоссе обрушились «штукасы».*["38] Тогда в паническом страхе она пряталась в канаве; в ту пору она была лишь беспомощной жертвой фашистов. Прошлодва с половиной года, и все изменилось. Не жертвой, а борцом она возвращается в родную Ригу. Ей, вероятно, нельзя будет оставаться в городе, но ведь и в других местах существовали нелегальные организации, и работа для нее найдется везде… Так же как и в тот раз, когда ей пришлось расстаться с домом, Скайдрите ощущала острую боль. Было жаль покинуть родной город, но долгими ночами, когда девушка неподвижно лежала на больничной койке и ноющие ожоги не давали ей заснуть, она так часто рисовала себе будущее, что наконец привыкла и к мысли о предстоящем отъезде из Риги. Так же часто Скайдрите слово за словом воскрешала в памяти свой разговор с шуцманами, свою выдумку о двадцати спрятанных экземплярах «Тевии». Если они заметили, что она нарочно опрокинула лампу, ее, конечно, разыскивают. Поэтому она не писала матери, поэтому не пыталась узнать у врача, кто ее сюда привез. Случайные свидетели пожара? Но почему же в далекую Елгаву? Нет, это, должно быть, сделали товарищи. Но кто?.. Ответы на все эти вопросы можно было получить только в Риге. Ответы на вопросы и новое задание… Сойдя с поезда, Скайдрите уже собралась пойти к остановке милгравского автобуса, но тут же вспомнила, что на прежнюю квартиру являться нельзя: там ее, пожалуй, будут искать прежде всего. Мгновение девушка пребывала в нерешительности, затем тряхнула головой и направилась в Старый город, к матери. Дойдя до улицы Грециниеку, она увидела шуцмана и невольно спряталась в подворотне. Затем, усмехнувшись своей наивности, пошла дальше. Вот и родной дом! Но сразу же войти в квартиру девушка не посмела. Минут пять она ходила по тротуару на противоположной стороне улицы, поглядывая на темные окна. Мать наверняка озабочена, хотя и ничего не знает о грозящей дочери опасности. А если знает? А что, если уже целую неделю в их квартире, угрюмо поглядывая на дверь, сидит агент гестапо и ожидает ее, Скайдрите, возвращения?.. Являться домой, пожалуй, не следует… Но можно зайти к соседям. Они должны знать, разыскивают ее или нет. Ядвига всегда была ей такой хорошей подругой… На цыпочках Скайдрите пробралась к двери соседей и тихонько позвонила. Дверь открыл Даугавиет. Увидев девушку, он за руку потянул ее к свету, повернул во все стороны и, радостно улыбаясь, сказал: — Видно, что ты прошла сквозь огонь и воду. Особенного вреда это тебе не причинило… Жаль лишь, что пришлось подстричь волосы. — Что поделаешь, несчастный случай… — пробормотала Скайдрите. — А мне вот почему-то кажется, ты нарочно подожгла киоск! Скайдрите ухватилась за спинку стула. Провокация!.. Ловушка!.. Только приехала — и уже попалась… Она изо всех сил старалась сохранить спокойствие и даже заставила себя улыбнуться. — Зачем мне это делать? Я еще не спятила с ума! — Чтобы уничтожить листовки… — Вам, наверное, мерещится, — ответила девушка с упорством отчаяния. Даугавиету нравилось это упорство Скайдрите. Как долго она будет держаться? — Почему бы и нет?.. Двадцать экземпляров «Тевии», и в каждом по пяти листовок… Если бы Янис предвидел, как подействуют на Скайдрите эти слова, он не стал бы так донимать девушку. Вместо ответа она рванулась к двери, но Янис, смеясь, загородил ей дорогу: — Ну, успокойся, успокойся!.. Тебе ничего не грозит. Вчера пришло сообщение: тебя уволили с работы за несоблюдение противопожарных правил. Значит, опасность миновала. — Я ничего не знаю… Я ничего не знаю… — непрерывно повторяла девушка. Пришлось позвать Надежду. Только ей удалось рассеять сомнения Скайдрите. — Это для тебя сюрприз, правда? — улыбнулся Янис. — А теперь садись, мне нужно многое тебе разъяснить… Еще не пришедшая в себя от растерянности и изумления, Скайдрите слушала Яниса затаив дыхание. Но мозг сверлила неотступная мысль: как могло случиться, что она, живя рядом столько времени, не знала по-настоящему всех этих людей, что она могла считать Калныня обыкновенным студентом, Буртниека — книжным червем, дядю — скаредным домовладельцем, который тайком проигрывает деньги в карты… А мать, тихая милая мать, которой пришлось выслушивать от дочери немало горьких упреков за то, что не хотела эвакуироваться?.. Думая об этом, Скайдрите краснела от стыда. — Так… А теперь я скажу главное. Я решил тебе поручить дело, которое мало кому можно доверить. Видишь ли, подпольная типография находится здесь. Товарищ, который там работает, не в силах управиться со всеми листовками. Наде нужно всегда быть наверху, чтобы в случае опасности подать сигнал тревоги, а я на целый месяц уезжаю в Лиепаю. Теперь ты вместо меня будешь помогать в типографии, ты живешь в этом же доме и можешь бывать у нас, не вызывая подозрений. Иди за мной, я тебе покажу, где находится наша «квартира без номера»… В первый момент Скайдрите не узнала человека, согнувшегося над наборной кассой. Но когда она подошла ближе, какая-то могучая сила отогнала всю кровь к сердцу и лицо ее застыло и побелело. Скайдрите стояла в оцепенении, она даже не могла улыбнуться, огромное счастье сковывало все ее существо. Когда Эрик наконец несмело протянул к ней руки, она, смеясь и плача, бросилась к нему. Они даже не слышали, как ушел Янис. Весь огромный мир был для них заключен в этом узком полутемном подземелье, которое озарилось вдруг несказанно ярким светом… Но там наверху, над городом, все еще нависала фашистская ночь и оберштурмфюрер Рауп-Дименс, точно крот, прорывал ходы к их подземному убежищу.33
Необычайно жарким выдалось это сентябрьское воскресенье. В другие времена в Тиргартене было бы полно народу, теперь же берлинцы отсиживались в сырых бомбоубежищах, которые, конечно, избавляли от жары, но не всегда спасали от бомб. Берлинское гестапо перенесло всю работу в подземные этажи. Там термометр показывал четырнадцать-пятнадцать градусов, однако следователь Мартин Рейнгольд потел, как в бане. Опять пропадает воскресенье, и всему виной проклятые коммунисты! Чем ближе к границе Германии фронт, тем напряженнее атмосфера в Берлине. В последнее время фюреру всюду мерещатся заговоры и покушения. Ежедневно по малейшему подозрению хватают сотни людей. Работы столько, что просто некогда вздохнуть!.. Среди ста невинных обычно попадался по крайней мере один, из которого можно было кое-что выжать. Вот, например, и этого Вейса арестовали совершенно случайно: во время массовых обысков у него на квартире обнаружили десять килограммов тола. «Непонятно, откуда еще такие берутся? — с досадой думал следователь. — Уже одиннадцать лет мы огнем и мечом искореняем большевизм, но у него, точно у многоголовой гидры, вместо отрезанной головы вырастают все новые… Куда проще и приятнее поставить всех подозрительных к стенке и разом расстрелять. Так нет же, мучайся тут целыми днями, чтобы узнать имена и адреса соучастников!» Вот уже четырнадцать часов Рейнгольд, поочередно со своим коллегой, допрашивает Вейса. Какие только методы они не применяли! Но старый металлист пока молчит. Рейнгольд взглянул на часы. Если за четыре часа удастся вырвать у него признание, то можно еще съездить на Ванзее поудить рыбку. А на Вейсе надо испробовать новый термоэлектрический метод. Вот только выдержит ли у него сердце? Наплевать, будь что будет… И, приняв это решение, Рейнгольд вернулся в камеру для допросов. Арестованный лежал без сознания. По выражению лица коллеги Рейнгольд понял, что тот еще ничего не добился. Он перешел в герметически закрывающееся соседнее помещение и привел в действие сложный аппарат. Электрический ток тысячами игл впился в обнаженное тело и заставил Вейса очнуться. От нестерпимой боли арестованный корчился на металлической скамье, к которой был привязан широкими ремнями. Вдруг ледяной холод сдавил ему горло. Рейнгольд переключил рычаг. В течение пяти минут следователь держал стрелку прибора на тридцати градусах ниже нуля, затем снова перевел рычаг, и камера наполнилась тропическим зноем. Только что Вейс словно погружался в ледяную воду, а теперь невыносимо горячий сухой воздух жег кожу. Ледяная вода — раскаленное железо… Лед — огонь, огонь — лед и снова огонь… Когда Рейнгольд через полчаса выключил аппарат и вошел в камеру, арестованный уже не дышал, но сердце его еще билось. Следователь отстегнул ремни и вспрыснул Вейсу сильно возбуждающее средство. Дыхание возобновилось, и спустя мгновение Вейс поднял красные, обожженные веки. — Ну, Вейс, как вам нравится наш новый метод? — спросил Рейнгольд спокойным, деловым тоном. — Не придется ли повторить? Предупреждаю, до сих пор я ограничивался тридцатью градусами ниже нуля и сорока градусами жары!.. Впредь буду набавлять по десять градусов… Я думаю, разумнее все же рассказать, кто вам дал взрывчатку. Больше от вас ничего не требуется. Вы сегодня же сможете вернуться домой. — И для того чтобы арестованный поверил его словам, Рейнгольд добавил: — Конечно, вы должны будете дать расписку, что никому не расскажете о том, что здесь видели. «Что, если это правда? — размышлял Вейс, как только пришел в себя настолько, что смог связно думать. — Может быть, меня и вправду отпустят домой? Они же знают, что я никогда не занимался политикой… Если я скажу им, что тол дал мне на хранение брат, им незачем будет меня держать здесь… Но предать Герхардта, который верит мне, как самому себе? Нет, никогда! Однако я больше не выдержу… Если мне еще раз придется испытать эти адские муки, я не выдержу… я проговорюсь против своей воли… И тогда уже поздно будет спасать брата… Я не выдержу… Что же делать?.. Что сказать?.. Надо сказать… надо назвать кого-нибудь другого… Человека, которому эти убийцы ничего не смогут сделать… Но кто от них может спастись?.. Разве что мертвецы… Сказать, что Вильгельм?.. Нет, они замучили Вильгельма еще пять лет назад… Они не поверят, что я хранил тол все это время…» Вейс думал так долго, как стал бы думать человек, знающий, что от нескольких слов зависит его жизнь. И вдруг он вспомнил бывшего товарища по работе, Рудольфа Бауэра. Недавно он прочел его имя в списках погибших на Восточном фронте… До него-то гитлеровцы не доберутся. — Ну, Вейс, что вы решили? Ах, вы молчите! Тогда приступим… Опять совершим путешествие на Северный полюс и в пустыню Сахару? — И Рейнгольд стал уже пристегивать ремни. — Подождите, ради бога, подождите! Я все скажу… Тол мне дал на хранение ефрейтор Рудольф Бауэр, когда он последний раз приезжал в отпуск… Он живет на Гогенцоллерндам, 49… Я не знал, что находится в этом ящике… В тот же вечер Вейса отправили из гестапо, но только не домой, а в камеру смертников тюрьмы Моабит. В ушах его все еще звучал злорадный, издевательский смех следователя, когда Вейс напомнил ему об обещанном освобождении. Теперь все кончено. Хорошо еще, что брат спасен. Вместо него теперь ищут Бауэра. Долго им придется искать… Рудольф Бауэр погиб на Восточном фронте. Тщетно Вейс пытался уснуть. Все тело его было точно освежевано. Чтобы хоть на миг забыть о невыносимой боли, арестованный стал разглядывать надписи на стенах. Вдруг его передернуло так, словно по нему опять пустили электрический ток. Прямо перед ним были начертаны слова; «Сегодня меня приговорили к смертной казни. Будь проклят тот, кто меня предал». И под этим неровные буквы подписи: «Бауэр». Та же фамилия, что у Рудольфа! Но ведь Бауэров в Германии что деревьев в лесу… Глупец! Как он смел об этом забыть! Может быть, в списке убитых значился совсем не тот Рудольф Бауэр, его довоенный товарищ по работе, а какой-то чужой человек… однофамилец… Значит, он, Вейс, — предатель, низкий, подлый предатель… Утром следователю Рейнгольду сообщили, что арестованный ночью повесился. На следователя это событие не произвело никакого впечатления. Теперь перед ним был новый объект — ефрейтор Рудольф Бауэр, ранее проживавший в Берлине, по Гогенцоллерндам, 49, ныне военный шофер в рижской комендатуре. Следователь привел в действие все имеющиеся в распоряжении гестапо средства, чтобы разузнать о прошлом этого человека, и через несколько дней перед ним лежала пухлая пачка донесений, из которых следовало, что Бауэр когда-то принимал участие в коммунистическом движении.34
«Бои на берегах Даугавы продолжаются с неослабевающим напряжением, большевики бросают в бой все новые материальные и людские резервы. Нанося врагу уничтожающий урон, наши войска после удачного тактического маневра оторвались от противника и заняли заранее подготовленные позиции. Во Франции наши войска перешли в контрнаступление и выбили неприятеля из семидесяти трех населенных пунктов… 26-я американская мотодивизия полностью уничтожена…» В порыве внезапной ярости Рауп-Дименс скомкал газету и, громко выругавшись, бросил ее в корзину для мусора. «Удачный тактический маневр»! — со злобой мысленно передразнил он. — «Заранее подготовленные позиции»! Неужели эти писаки неспособны выдумать ничего нового? Да еще в придачу, будто в насмешку, упомянули семьдесят три населенных пункта во Франции… Куда умнее было бы бросить все силы против большевиков и заключить мир на Западе! Сегодня шестнадцатое сентября. Сколько еще удастся продержаться в Риге?.. Кто знает, встретим ли мы здесь Новый год… Но оставшееся время надо использовать полностью — нужно действовать, действовать!..» Зазвонил телефон. Несколько раз произнеся «так точно», Рауп-Дименс повесил трубку. «Что это Банге вдруг понадобилось?» — подумал он, застегивая френч с новыми нашивками штурмбанфюрера. Банге показал ему длинную телеграмму из Берлина. — Возьмите это дело в свои руки, Рауп-Дименс… Как вы думаете, может быть, для большей верности арестовать всех военнослужащих Рудольфов Бауэров, находящихся в Риге? Штурмбанфюрер внимательно перечитал директиву гестаповского центра. — По-моему, это излишне. Здесь ясно сказано, что данные тщательно проверены… Местожительство — Берлин, Гогенцоллерндам, 49… До мобилизации работал на заводе Борзига… Далее… прохождение службы — сначала в штабе 125-го егерского полка, затем откомандирован в распоряжение генерала Хартмута… — В голове Рауп-Дименса неожиданно блеснула догадка. — Вы помните трагическую гибель генерала Хартмута?.. Бауэр был его шофером, и он единственный, кто вернулся из этой поездки. Не удивлюсь, если окажется, что его побег от партизан был просто инсценировкой. Если Бауэр действительно долгое время связан с подпольем, мы можем через него напасть на важный след. Я предлагаю пока ограничиться слежкой. — Отлично, Рауп-Дименс, действуйте по своему усмотрению! Штурмбанфюрер вышел из кабинета довольный собой. Если его подозрения подтвердятся, может получиться громкий процесс. Наконец-то представился случай показать свое превосходство над этим сыном сапожника Вегезаком, которого после ликвидации подпольной группы Судмалиса считали в гестапо наиболее способным следователем! В этот вечер к штурмбанфюреру после долгой хандры снова вернулось хорошее настроение. Зато Марлена после концертной поездки на фронт была капризнее обычного. Она немедленно принялась докучать Харальду своими жалобами. — Что мне делать? Завтра я не смогу спеть ни одной ноты. Даже разговаривать мне трудно. В этой кошмарной поездке я совсем потеряла голос! — Как это ты умудрилась? По-моему, терять тебе было нечего, — поддразнивал ее Харальд, которого раздражало это вечное нытье. — Хорошо тебе смеяться надо мной, а мне каково? Да к тому же в машине так трясло, что чуть все пломбы не вылетели. Спасибо еще, что фронт недалеко, не пришлось долго мучиться. Харальд вскочил на ноги. — Ах ты, шваль латышская, ты тоже радуешься, что большевики близко?! — заорал он на весь дом. — Ну, так знай, тебя-то они повесят, об этом уж я позабочусь. Марлена затряслась от страха. — Ах, Харальд, милый, зачем ты говоришь такие ужасные вещи! Ты же меня не оставишь, ты возьмешь меня с собой в Германию?.. — Это мы еще увидим. Раздался звонок. В дверях появился Ранке. Марлена поспешно запахнула полы халата. Шарфюрер щелкнул каблуками. — Извините за беспокойство, господин штурмбанфюрер, — выпалил Ранке, косясь одним глазом на длинные ноги Марлены в тонких шелковых чулках. — Вы сами приказали уведомить, если при обыске что-нибудь обнаружат. — Хорошо, Ранке, иду. В своем кабинете штурмбанфюрер долго и внимательно рассматривал через лупу кусок коричневой оберточной бумаги, найденной шарфюрером Ранке в машине Бауэра при тайном обыске гаража.
— Оказывается, Ранке не такой уж болван, — тихо процедил он сквозь зубы, — другой бы не догадался прихватить это.
Перед ним лежал кусок простой оберточной бумаги, которую обычно употребляют для упаковки. Но Рауп-Дименсу эта бумага говорила очень многое. Кое-где на ней отпечатались буквы. Такие следы может оставить свежая газета. Однако на этот раз следы типографской краски остались не от газеты. Судя по сгибам, еще видневшимся на бумаге, в нее было завернуто какое-то печатное издание значительно меньшего формата. Штурмбанфюрер не сомневался в том, что Бауэр завертывал в эту бумагу листовки. А вот и последнее доказательство — в самом низу можно ясно различить буквы «Ц… ра… Ко…» Центральный Комитет! Ничего другого это не могло означать.
Мысль штурмбанфюрера напряженно работала. Он распутывал сплетенные нити и снова свивал их. Конечно, это Бауэр заманил генерала в заранее расставленную ловушку и выдал его партизанам. Затем, используя легкомысленную доверчивость начальства, шофер продолжал свою преступную деятельность. Подумать только, какой козырь в руках коммунистов! Шофер немецкой комендатуры развозит большевистские прокламации! Но теперь можно побить этот козырь. Погоди, голубчик, ты еще попрыгаешь в петле, но сперва ты мне поможешь раскрыть все их карты…
Рауп-Дименс достал из сейфа одну из листовок, которые собирал уже в течение трех лет, и сравнил шрифт с отпечатавшимися на оберточной бумаге буквами. Итак, шрифт и формат совпадают… Значит, выходит, что листовки Бауэра напечатаны в той же подпольной типографии, которую, по данным агентуры, возглавлял Жанис. Тем лучше!
Только не следует спешить. Необходимо взвесить каждую мелочь. Расставить сети с таким расчетом, чтобы в них попали не только Бауэр, но и Жанис и все работники типографии.
Прежде всего Рауп-Дименс приказал вызвать тайного агента номер шестнадцать.
Хлопнув ладонью по обложке папки, на которой было написано «Жанис», штурмбанфюрер самодовольно воскликнул:
— Ну, Кисис, наконец-то у нас появилась возможность довести до конца это проклятое дело! Выжмите из себя все, что можете, а я уж позабочусь о том, чтобы наша бухгалтерия по достоинству оценила голову Жаниса.
Кисиса новое задание в восторг не привело. Чем ближе подходила Красная Армия, тем менее пылким становилось его рвение. По ночам ему мерещились кошмары, он кричал и стонал, но вознаграждение его, несомненно, прельщало. И Кисис согласился, твердо решив про себя, что это будет последнее рискованное дело, в котором он участвует. А затем он возьмет все, что загреб за три года, и отправится куда глаза глядят — в Германию, в Швецию, в любое место, только подальше отсюда!
Отпустив Кисиса, Рауп-Дименс вызвал Ранке.
— С этой минуты слежку за Бауэром надо усилить. Чтоб он и шагу не мог ступить без нашего ведома. Пусть шарфюрер Гессен возьмет в помощь трех… по мне, хоть пятерых человек. Фотографию Бауэра размножить и раздать всем нашим агентам… Да, еще одна вещь. Какая у Бауэра машина?
— «Хорьх», восемь цилиндров, максимальная скорость сто тридцать километров в час, — отрапортовал Ранке.
— Я поговорю с Банге. Пусть предоставит в наше распоряжение две машины «мерседес-компрессор». На таких вы легко сможете за ним следовать. Кроме того, слежка поручена тайному агенту номер шестнадцать. Бауэр, возможно, натолкнет нас на Жаниса, а этот агент — единственный, кто его хоть сколько-нибудь знает.
Через двенадцать часов фотография Рудольфа Бауэра и подробное описание всех его примет были получены официальными и тайными агентами гестапо. С этой минуты немецкий антифашист не мог сделать ни одного шага, о котором бы тотчас не узнал Рауп-Дименс.
В своем кабинете штурмбанфюрер долго и внимательно рассматривал через лупу кусок коричневой оберточной бумаги, найденной шарфюрером Ранке в машине Бауэра при тайном обыске гаража.
— Оказывается, Ранке не такой уж болван, — тихо процедил он сквозь зубы, — другой бы не догадался прихватить это.
Перед ним лежал кусок простой оберточной бумаги, которую обычно употребляют для упаковки. Но Рауп-Дименсу эта бумага говорила очень многое. Кое-где на ней отпечатались буквы. Такие следы может оставить свежая газета. Однако на этот раз следы типографской краски остались не от газеты. Судя по сгибам, еще видневшимся на бумаге, в нее было завернуто какое-то печатное издание значительно меньшего формата. Штурмбанфюрер не сомневался в том, что Бауэр завертывал в эту бумагу листовки. А вот и последнее доказательство — в самом низу можно ясно различить буквы «Ц… ра… Ко…» Центральный Комитет! Ничего другого это не могло означать.
Мысль штурмбанфюрера напряженно работала. Он распутывал сплетенные нити и снова свивал их. Конечно, это Бауэр заманил генерала в заранее расставленную ловушку и выдал его партизанам. Затем, используя легкомысленную доверчивость начальства, шофер продолжал свою преступную деятельность. Подумать только, какой козырь в руках коммунистов! Шофер немецкой комендатуры развозит большевистские прокламации! Но теперь можно побить этот козырь. Погоди, голубчик, ты еще попрыгаешь в петле, но сперва ты мне поможешь раскрыть все их карты…
Рауп-Дименс достал из сейфа одну из листовок, которые собирал уже в течение трех лет, и сравнил шрифт с отпечатавшимися на оберточной бумаге буквами. Итак, шрифт и формат совпадают… Значит, выходит, что листовки Бауэра напечатаны в той же подпольной типографии, которую, по данным агентуры, возглавлял Жанис. Тем лучше!
Только не следует спешить. Необходимо взвесить каждую мелочь. Расставить сети с таким расчетом, чтобы в них попали не только Бауэр, но и Жанис и все работники типографии.
Прежде всего Рауп-Дименс приказал вызвать тайного агента номер шестнадцать.
Хлопнув ладонью по обложке папки, на которой было написано «Жанис», штурмбанфюрер самодовольно воскликнул:
— Ну, Кисис, наконец-то у нас появилась возможность довести до конца это проклятое дело! Выжмите из себя все, что можете, а я уж позабочусь о том, чтобы наша бухгалтерия по достоинству оценила голову Жаниса.
Кисиса новое задание в восторг не привело. Чем ближе подходила Красная Армия, тем менее пылким становилось его рвение. По ночам ему мерещились кошмары, он кричал и стонал, но вознаграждение его, несомненно, прельщало. И Кисис согласился, твердо решив про себя, что это будет последнее рискованное дело, в котором он участвует. А затем он возьмет все, что загреб за три года, и отправится куда глаза глядят — в Германию, в Швецию, в любое место, только подальше отсюда!
Отпустив Кисиса, Рауп-Дименс вызвал Ранке.
— С этой минуты слежку за Бауэром надо усилить. Чтоб он и шагу не мог ступить без нашего ведома. Пусть шарфюрер Гессен возьмет в помощь трех… по мне, хоть пятерых человек. Фотографию Бауэра размножить и раздать всем нашим агентам… Да, еще одна вещь. Какая у Бауэра машина?
— «Хорьх», восемь цилиндров, максимальная скорость сто тридцать километров в час, — отрапортовал Ранке.
— Я поговорю с Банге. Пусть предоставит в наше распоряжение две машины «мерседес-компрессор». На таких вы легко сможете за ним следовать. Кроме того, слежка поручена тайному агенту номер шестнадцать. Бауэр, возможно, натолкнет нас на Жаниса, а этот агент — единственный, кто его хоть сколько-нибудь знает.
Через двенадцать часов фотография Рудольфа Бауэра и подробное описание всех его примет были получены официальными и тайными агентами гестапо. С этой минуты немецкий антифашист не мог сделать ни одного шага, о котором бы тотчас не узнал Рауп-Дименс.
35
Рудольф Бауэр ехал к Буртниеку за листовками. Ему не нужно было скрывать частые посещения книжного агентства, потому что его новый начальник, заместитель рижского коменданта, под влиянием шофера заинтересовался редкими изданиями с сугубо натуралистическими иллюстрациями. Все эти месяцы нелегальная работа шла гладко. Рудольф занимался ею с увлечением; ей он самозабвенно отдавал всю накопившуюся за годы бездеятельности энергию. Теперь он больше не чувствовал себя лишним, подпольная борьба с фашизмом дала ему цель в жизни, чувство собственного достоинства, веру в свое светлое будущее и будущее своего народа. Теплое рукопожатие латышских товарищей как бы говорило простым, ясным языком: мы боремся с фашистами, а каждый честный немец — наш друг. Поднятая рука шуцмана остановила машину. Шофер терпеливо ждал, пока не иссякнет поток прохожих. Неподалеку остановился синий лимузин «мерседес-компрессор». Не без зависти Бауэр оглядел мощную машину — вот на такой можно ездить! Интересно, чья она?.. Наверно, какого-нибудь начальства. Шуцман снова взмахнул палочкой. Можно ехать. Приближаясь к дому, где находилось книжное агентство, Бауэр убавил скорость. В одном из окон квартиры Висвальда спущена штора — значит, сегодня листовок не будет. В это мгновение мимо проехал синий «мерседес». В третий раз Бауэр заметил синюю машину через час, когда приближался к гаражу. Трудно предположить, что это простая случайность. Чтобы проверить свои подозрения, Бауэр поехал дальше. В городской толчее он не замечал, чтобы за ним следили, но стоило ему выехать на взморское шоссе, как в зеркале сразу же отразилась синяя машина, вынырнувшая из-за поворота. Бауэр свистнул. Значит, влип — за ним явно следят. В этом не могло быть ни малейшего сомнения. Что им надо? Острое чувство опасности овладело всем его существом, и совершенно инстинктивно Рудольф довел скорость до ста двадцати километров в час, хотя отлично знал, что от мощного «мерседеса» ему не уйти. С особой прозорливостью, часто появляющейся в такие минуты, он вдруг вспомнил про оберточную бумагу, оставленную им несколько дней назад на ночь в машине. Наутро бумага исчезла. Тогда Бауэр не придал этому значения, теперь же он понял, что кто-то ночью обыскал его машину и прихватил с собой бумагу. Гестапо! Это слово внушало каждому немцу панический страх! Но Бауэр уже не одинокий путник, сгибающийся под непосильным бременем слепой ненависти… Теперь он борец, он чувствует за собой силу более могущественную, чем гестапо. Смерти он не боится. Гестаповцы могут растерзать его самого, но они не в силах убить идею, за которую он борется, ибо эта идея бессмертна. И она ко многому обязывает. Необходимо подумать о товарищах. Надо немедленно предупредить Буртниека. Увидев перед собой определенную цель, Бауэр обрел прежнее хладнокровие. Возвращаться в город сейчас нельзя: гестаповцы поймут, что поездка по шоссе — всего лишь уловка, чтобы проверить, следят ли за ним. Нет, надо действовать обдуманно, иначе его план провалится. И Бауэр спокойно доехал до булдурского пляжа. Вода была очень холодная, но он все же выкупался, выпил бутылку пива и только после этого отправился в обратный путь. Хотя до самой Риги синий лимузин больше не показывался, Бауэр был уверен, что он все время следовал за ним окольным путем. Подъехав к зданию комендатуры, Бауэр не спеша вылез из кабины, тряпкой вытер с машины дорожную пыль и вошел в дом. Он рассчитывал, что гестаповцы подумают, будто его задержали у начальника, и будут спокойно ждать на улице. Это даст ему возможность выиграть время и отделаться от преследователей. Через проходной двор Бауэр попал на Экспортную улицу. Он пересек парк Виестура, убедился в том, что никто за ним не следит, и возле ликерного завода Вольфшмита сел в трамвай. …Буртниек был занят беседой со своим постоянным посетителем Макулевичем. — Здравствуйте, господин Бауэр, — приветствовал шофера хозяин книжного агентства. — Чем могу служить? Бауэр незаметно подмигнул ему, и Висвальд тотчас сказал: — A-a, вы, должно быть, за книгами для полковника? Они в соседней комнате. Пройдите, пожалуйста. Господин Макулевич нас, конечно, извинит. Поэт склонился чуть не до земли: — Прошу вас, прошу вас. Не обращайте на меня ни малейшего внимания… — Ну, что случилось? — спросил Буртниек, тщательно затворив дверь. — За мной следят. Пришел тебя предупредить. И Бауэр вкратце рассказал все, что с ним произошло. — Да, положение очень серьезное, — сказал Висвальд. — Пока неясно, как они все это пронюхали. Заподозрили, что ты связан с партизанами? — Не верится, чтобы они вдруг опомнились через девять месяцев… — Что же тогда остается? За нашим домом не следят, в этом я уверен. Тут беда где-то в другом месте. Сколько машин стоит в твоем гараже? — Около дюжины. — Ну, вот видишь. Может быть, гестаповцы подозревали кого-нибудь другого. А когда стали обыскивать гараж, случайно в твоей машине обнаружили эту злополучную бумагу. — Это же простая оберточная бумага. — На ней могли остаться оттиски текста. В прошлый раз, когда ты брал листовки, краска была совсем свежая… Одним словом, тебе надо скрыться, пока не поздно. Но куда тебя девать? — Переправить к партизанам. — Это само собой понятно. Но на поезд без увольнительной записки ты все равно не попадешь. — А пешком?.. Я бы мог переодеться в штатское… Нет, в провинции тоже на каждом шагу военная жандармерия. — Знаешь, мне пришла в голову одна мысль. Этому Макулевичу принадлежит фамильный склеп, он мне его однажды показывал. Я сразу подумал, что склеп можно будет в случае необходимости использовать. Кто в царстве мертвых вздумает искать живых людей? Достать второй ключ тоже оказалось нетрудно. Там у меня сейчас спрятаны боеприпасы для курземских партизан. Через несколько дней кто-нибудь из них придет и заодно захватит и тебя. Тем временем мы достанем фальшивые документы. Вот с продовольствием будет трудно… Больше, к сожалению, ничего не могу тебе дать с собой. — И Буртниек засунул в портфель все, что было у него съестного. — Постой, я нарисую тебе план кладбища. Смотри: здесь вот, по этой дорожке, до конца… Здесь усыпальница. Уже темнеет, тебе надо сейчас же отправиться в путь. Видя, что Бауэр прощается, Макулевич поднял с пола свою трость и потрепанную шляпу. — Разрешите и мне откланяться, любезный господин Буртниек. Я знаю, что все великие люди обычно очень заняты… Я забежал лишь на минуту, осведомиться, не удалось ли вам отыскать стихи Мориса Керковиуса… Таким образом случилось, что Бауэр вышел из дома в сопровождении Макулевича и отделался от автора венка сонетов только возле здания гебитскомиссариата.36
Услышав пронзительный звонок, Ранке помчался в кабинет штурмбанфюрера. На него излился поток отборных ругательств. Рудольф Бауэр исчез. Эти ослы, эти дегенераты упустили из рук человека, с которым он, Рауп-Дименс, уверенный в своей силе, намеревался играть, как кошка с мышью! Даже трепет насмерть перепуганного шарфюрера не доставлял ему теперь удовольствия. Когда Ранке пулей вылетел из кабинета, штурмбанфюрер вынул дрожащими пальцами сигарету, уже пятую или шестую за этот час. Взять себя в руки! Так больше нельзя — он сам чувствует, что с нервами неладно. Куда девался хладнокровный психолог, следователь, чье ироническое спокойствие и выдержка поражали всех работников гестапо? Теперь он превратился в желчного неврастеника, который даже с Мери не может управиться. Но штурмбанфюрер не думал сложить оружие. После шестой сигареты Рауп-Дименс настолько успокоился, что мог уже просматривать донесения. Шарфюрер Гессен сообщал: «…Следовали за Бауэром до комендатуры. Когда он через два часа не вернулся от полковника, я зашел в комендатуру и установил, что Бауэр там вовсе не был…» Донесение обершарфюрера Клюгенхейма: «…В девять часов тридцать пять минут Бауэр вышел из квартиры и направился в гараж. Дальнейшее наблюдение за ним продолжал шарфюрер Гессен. Я оставался на посту перед домом до восьми утра. Бауэр за это время в свою квартиру не возвращался…» Агент номер шестнадцать (Кисис): «В 21.18 заметил человека, которого опознал по фотографии и описанию. Это был Рудольф Бауэр. Рядом с ним шел какой-то субъект, привлекавший внимание своей нищенской одеждой. Он мне сразу показался подозрительным. Оба оживленно беседовали, но расслышать, о чем шла речь, не удалось. У здания гебитскомиссариата Бауэр попрощался и исчез в освещенном вестибюле. Зная, что для слежки за Бауэром выделены специальные агенты, я отправился следом за подозрительным и выследил его до дома, где он проживает (улица Рихарда Вагнера, 6, кв. 19). От дворника я узнал, что это некий Антон или Антуан Макулевич, по национальности латыш, без определенных занятий. От соседей мне удалось добыть дополнительные сведения. Все считают Макулевича подозрительным типом. Днем он почти никогда не появляется на улице, а выходит только с наступлением темноты. Никто не знает, на какие средства он живет. По словам жены дворника, которая раз в месяц убирает его комнату, на письменном столе Макулевича лежат листы бумаги, исписанные симметричными строчками. Текст непонятен, по всем признакам — шифрованный». Рауп-Дименс медленно опустил на стол прочитанный лист бумаги. В его глазах снова появилось выражение, какое бывает у гончей, учуявшей след дичи. Кисиса непременно следует наградить! Его донесение лишний раз доказало, что гестапо способно найти даже иголку в стоге сена, не то что человека… При помощи Макулевича он снова разыщет Бауэра. Штурмбанфюрер вызвал Ранке, приказал ему немедленно арестовать Макулевича и произвести обыск в его квартире. Через час на столе штурмбанфюрера лежала целая кипа исписанных каллиграфическим почерком страниц. Читать их он не стал. Прежде всего надо узнать, где скрывается Бауэр. Ранке на этот раз спешил и не успел еще обработать арестованного по своему излюбленному методу. Только несколько синяков на физиономии Макулевича свидетельствовали о том, что арестованный познакомился с процедурой приема в гестапо. Эта физиономия была весьма своеобразна: пятнистая кожа обтягивала широкие, монгольского типа скулы; глубокие глазные впадины производили отталкивающее Впечатление; и вместе с тем огромный лоб и тонкие губы придавали этому лицу особую утонченность. Смятение, безграничное удивление, полнейшее непонимание, чего от него, собственно, хотят, выражалось не только во взгляде Макулевича, не только в каждой черте его лица, но и в суетливых, робких движениях. Сначала он положил свой котелок и перчатки на пол, но тут же снова их поднял. Прежде чем Рауп-Дименс успел задать первый вопрос, в кабинете прозвучал срывающийся, как у подростка, фальцет арестованного: — Простите, сударь, что беспокою вас, но меня сюда привели… Я сам никогда бы не отважился явиться сюда без уведомления, ибо я знаю, что у всех выдающихся деятелей мало времени. В первый момент штурмбанфюрер даже опешил. Эти фразы казались заимствованными из книги о хорошем тоне. Перед ним, должно быть, продувная бестия! Ну ничего, покамест поддадимся игре, а потом поразим его неожиданным вопросом. И, в свою очередь, преувеличенно любезным тоном Рауп-Дименс ответил: — Как раз наоборот, это мне следует просить прощения, что обеспокоил вас, вызвав сюда. Но я уже давно собирался справиться о вашем здоровье. Арестованный, как видно, не почувствовал в этих словах насмешки, так как с весьма серьезным видом отвесил изысканный поклон. — Покорнейше благодарю за любезность. Я бы не хотел жаловаться — ведь жаловаться в наше время запрещается. Но по ночам меня мучит бессонница… И потом, моя работа, которую во что бы то ни стало нужно довести до конца… Врач признал, что у меня neurosis generalis.*["39] Вы же сами понимаете… — Да, да, мне известны ваши труды. — И, сунув Макулевичу под нос листовку, Рауп-Дименс вдруг загремел: — Это плод вашего вдохновения?! Макулевич, на которого приемы штурмбанфюрера не произвели ни малейшего впечатления, принялся спокойно разглядывать листовку. — К величайшему прискорбию, — напыщенно произнес он, — вынужден признать, что это не мое произведение. Я принципиально пишу только по-французски. Латышский язык, равно как и немецкий, представляется мне чересчур варварским, не способным облечь тончайшие чувства в изысканную художественную форму… На сей раз Рауп-Дименс просто опешил — это было выше его сил. — Падаль этакая! — взревел он. — Вы думаете, мы тут все идиоты?! Не забывайте, что вы в гестапо! Сознавайтесь, иначе вы немедленно на своей шкуре испытаете, что все ужасы, которые о нас рассказывают, ничто по сравнению с истиной! — Достопочтенный сударь… простите, пожалуйста, не имею чести знать ваше имя… Зачем вы так волнуетесь? У вас же полная возможность ознакомиться с моими произведениями! Там, на вашем столе, лежит венок сонетов, над которым я тружусь вот уже тринадцать лет… «Совершенно непонятный субъект! То ли это великолепная игра, то ли он и в самом деле рехнулся? Как его заставить говорить?» И, обдумывая новый ход, Рауп-Дименс стал проглядывать принесенные Ранке бумаги. Штурмбанфюрер достаточно владел французским языком, чтобы с первого взгляда определить, что перед ним действительно венок сонетов, написанный по всем классическим канонам. Рауп-Дименс увидел множество поправок и перечеркнутых строк. Именно это и убедило его, что Макулевич действительно автор сего опуса. Теперь многое прояснилось. Перед ним — помешанный. Это подтверждалось содержанием творений Макулевича. Считать этого юродивого коммунистом столь же бессмысленно, как искать подпольную организацию в сумасшедшем доме. С ним нет нужды хитрить, добиться толку можно только прямыми вопросами. Сделав помощнику знак, чтобы тот стенографировал ответы арестованного, Рауп-Дименс принялся допрашивать Макулевича. — Вы знаете Рудольфа Бауэра? Вам известно, где он сейчас находится? — Мне выпала честь и удовольствие время от времени обмениваться с господином Бауэром несколькими словами. Весьма интеллигентный человек, с хорошим поэтическим вкусом. Но сказать, что мы по-настоящему знакомы, к сожалению, нельзя. Мы встречались только у господина Буртниека. — У какого Буртниека? — У моего друга Буртниека. Он владелец книжного агентства в Старой Риге. — Бауэр часто посещает Буртниека? — быстро спросил Рауп-Дименс, который почувствовал, что теперь нащупал нить. — К величайшему сожалению, ничего не могу об этом сказать. Насколько я в состоянии судить, они, по-видимому, добрые знакомые. И неудивительно, что два человека выдающегося интеллекта находят общий язык… Штурмбанфюрер снова прервал рассуждения Макулевича. — Когда вы видели Бауэра у Буртниека в последний раз? — Вчера вечером. Господин Бауэр пришел за книгами, и они оба вышли в соседнюю комнату о чем-то поговорить. За это время я прочитал последний номер «Volkischer Beobachter». Господин Геббельс очень способный журналист, но, должен заметить, писатель из него никогда не выйдет… — Бауэр взял свои книги? — продолжал спрашивать Рауп-Дименс, подозрения которого становились все определеннее. — Делая заключение дедуктивным путем, можно сказать, что да. Из соседней комнаты он вышел с портфелем под мышкой. «Часто бывает у Буртниека… Хорошо знакомы… Полный портфель… Бауэр был там последний раз перед исчезновением… Ясно, что Макулевич рассказал все, что знает… Но и этого достаточно. Теперь ясно — прямой путь ведет в агентство Буртниека! Пропади я пропадом, если это агентство не что иное, как вывеска, скрывающая центр распространения коммунистической литературы. Простая логика заставляет сделать вывод: побег Бауэра организовал Буртниек…» — Господин Макулевич, будьте любезны, расскажите все, что вы знаете о Буртниеке. Допрашиваемый принялся рассказывать длинно и обстоятельно. Как только он упомянул о совместном посещении кладбища, штурмбанфюрер вскочил. — Значит, вы сказали, что ключ от дверей, ведущих в склеп, был неисправен, а Буртниек взял его, чтобы починить? — И Рауп-Дименс быстро снял телефонную трубку. — Гараж! Две машины в мое распоряжение! — Затем быстро набрал другой номер. — Ранке! Дать десять человек. Да, команду Озола тоже. Немедленно ехать на кладбище Святого Петра! — И он снова повернулся к Макулевичу. — Вы тоже поедете и покажете, где находится ваша усыпальница.37
Бауэр уже привык к мраку, к запаху тлена. В подземной части склепа столько ниш, что легко можно спрятаться, если придет Макулевич. К тому же густой, многолетний слой пыли говорил о том, что хозяин никогда не спускается вниз. Буртниек спокойно может использовать этот необычный тайник. Рядом, в пустом цинковом гробу, Бауэр нашел оружие для партизан: два ручных пулемета, патроны, ручные гранаты и динамит с бикфордовым шнуром. Сырое, холодное, мрачное помещение все же не навевало мыслей о смерти. Бауэр думал о жизни, о той жизни, которая расцветет в Германии, освобожденной от ига нацизма. Рудольф представил себе один из теплых тихих вечеров… 1950 года. После дневной смены на заводе Борзига, который уже больше не является собственностью одного хозяина, а принадлежит всему народу, он на Александерплац встречается с Ингеборг. Липы в цвету, и кажется, даже волосы Ингеборг пахнут липами. Теперь они с Ингеборг муж и жена. И вот они гуляют по бывшей Курфюрстендам, ныне улице Эрнста Тельмана, заходят в кафе выпить по стакану рислинга. Вокруг за столиками оживленно беседуют свободные, счастливые люди… Ингеборг гладит его по плечу и говорит: «Рудольф, расскажи мне еще раз, как ты тогда прятался в склепе…» Царапанье ключа в замке прервало его мысли. Макулевич! В три прыжка Бауэр неслышно соскочил с лестницы, ведущей в склеп, и спрятался в самой темной нише. Нет никаких оснований беспокоиться, и все же лучше, чтобы этот чудак не слишком долго засиживался у своих предков. Но это был вовсе не владелец усыпальницы… Топот ног, стук подбитых гвоздями сапог по каменным плитам, бряцанье автоматов, команда: «Обыскать склеп!» — не вызывали сомнений в том, кто пришел.
Гестапо! Окружен… Конец… Бежать некуда. Но он еще волен сделать выбор между смертью на виселице и гибелью в бою, он еще свободен, он еще может бороться! Ведь у него есть динамит… В этот миг Бауэр желал только одного: чтобы гестаповцев было как можно больше. Один он не погибнет! «Я не хочу умирать молча. Десять лет я молчал, потому что не хватало смелости говорить. Еще можно искупить свою вину. Товарищи, вы слышите меня? Так много хочется сказать, а времени осталось так мало…»
Услышав, как внизу чиркнула спичка, Озол выстрелил. Это был его последний выстрел. В тот же миг, взметая увядшие венки, сотрясая замшелые памятники, оглушительный взрыв волной прокатился по кладбищу.
Рудольф Бауэр сказал свое последнее слово.
Топот ног, стук подбитых гвоздями сапог по каменным плитам, бряцанье автоматов, команда: «Обыскать склеп!» — не вызывали сомнений в том, кто пришел.
Гестапо! Окружен… Конец… Бежать некуда. Но он еще волен сделать выбор между смертью на виселице и гибелью в бою, он еще свободен, он еще может бороться! Ведь у него есть динамит… В этот миг Бауэр желал только одного: чтобы гестаповцев было как можно больше. Один он не погибнет! «Я не хочу умирать молча. Десять лет я молчал, потому что не хватало смелости говорить. Еще можно искупить свою вину. Товарищи, вы слышите меня? Так много хочется сказать, а времени осталось так мало…»
Услышав, как внизу чиркнула спичка, Озол выстрелил. Это был его последний выстрел. В тот же миг, взметая увядшие венки, сотрясая замшелые памятники, оглушительный взрыв волной прокатился по кладбищу.
Рудольф Бауэр сказал свое последнее слово.
Макулевич проснулся с таким чувством, словно он все еще лежит между двумя могильными холмиками, куда его швырнула взрывная волна. Но нет, он лежит одетый на своей постели, и это вовсе не взрыв, а просто ветер ворвался в отворенное окно и опрокинул китайскую вазу. От старинного произведения искусства осталась лишь груда синих осколков, и это как нельзя более соответствовало настроению хозяина… Все в комнате перевернуто вверх дном: бронзовые часы с аллегорическими фигурами муз повалены, книги с полок сброшены на пол, миниатюры XVII столетия сорваны со стен. В таком виде оставили комнату гестаповцы после обыска. Когда Макулевич доплелся домой с кладбища, у него не было сил даже закрыть окно. Он лишь с трудом дотащился до кровати. Потом все закружилось, заколыхалось, в ушах зазвенело, его стошнило, но и после рвоты не наступило облегчения. Его стал мучить кошмар. Это был полубред-полусон. Порою Макулевич просыпался, непонимающим взором окидывал комнату, не узнавал ее и снова погружался в долгий беспокойный сон. И вот наконец пробуждение… холодный ветер… груда осколков фарфора. В другое время Макулевич пришел бы в отчаяние из-за разбитой вазы. Это была самая красивая вещь в его коллекции антикварных редкостей. В ту пору, когда от денег отца еще кое-что оставалось, он отказывал себе в куске хлеба, лишь бы пополнить унаследованную коллекцию. Все эти бронзовые и фарфоровые часы, из которых ни одни не ходили, эти терракотовые и фаянсовые вазы, строгие, застывшие формы которых не оживлялись даже цветами, эти бесчисленные кубки из потемневшего серебра и зеленого хрусталя, которые никогда не наполнялись вином, он берег и лелеял. Одна лишь мысль о продаже какого-нибудь фонаря XVIII века или старинной картины всегда представлялась ему варварской, преступной. Каким же он был глупцом, отдавая всю свою любовь этим мертвым, пыльным вещам, сочиняя никому не нужный венок сонетов о счастье усопших, в то время как его окружали живые люди, люди большой души! Безмерны их страдания, но и безмерно их величие. Что представляет собой его жалкая философия по сравнению с таким взглядом на мир, который дал возможность шоферу и в смерти торжествовать над своими врагами! Взрыв на кладбище разрушил не только фамильный склеп Макулевича, он взорвал и опрокинул весь круг его мыслей и представлений. В тот миг, когда его величайшая гордость — строение выдающегося архитектора превратилось в груду щебня и пыли, похоронив под своими развалинами десяток злодеев и одного героя, Макулевич понял, что Человек бессмертен. Тщетно фашисты, опираясь на свою абсурдную философию уничтожения, проповедуемую такими же, как и они, слепцами, пытаются истребить Человека. Жизнь невозможно уничтожить!.. Теперь вся прежняя жизнь Макулевича оказалась разбитой вдребезги, и он сомневался, хватит ли у него сил построить новую. Но одно он еще в силах сделать, и сделать это абсолютно необходимо! Нужно предупредить Буртниека! Несмотря на всю свою наивность, Макулевич в конце концов понял, что Буртниек спрятал Бауэра в склепе. Ах, почему он не сообразил этого на допросе? Он ни за что бы не упомянул о ключе.Сожалеть об этом поздно! Но, может быть, не поздно исправить то, что еще можно исправить? Гестаповцы погубили Бауэра, теперь в опасности жизнь Буртниека. И он, Макулевич, может спасти его, он знает, что Буртниек на подозрении у следователя гестапо. А если чудовища с улицы Реймерса узнают, что он предупредил своего друга? Ведь его заставили дать подписку, что он будет молчать. Его будут избивать, мучить, рвать его тело по жилке, пока не умертвят… Бывшему проповеднику философии уничтожения так хотелось жить… Может быть, Буртниек как-нибудь все узнает сам, и тогда не к чему ставить свою жизнь на карту… И, точно страус под крыло, Макулевич спрятал голову под подушку. Ничего не видеть, ничего не знать — это самое лучшее. Но бурная жизнь все время стучала в двери и окна, напоминала о себе, побуждала к действию. Целый день Макулевич старался преодолеть свою трусость. Даже взяв в руки шляпу и перчатки, он все еще не был уверен, что пойдет к Буртниеку. Однако перед уходом Макулевич не забыл на всякий случай вверить попечению соседки своего черного кота, которого в честь повелителя царства мертвых некогда окрестил Плутоном.
38
Буртниек был чрезвычайно удивлен тем, что Макулевич начал разговор без обычного пространного вступления. Однако удивление Висвальда еще более возросло, когда его гость тщательно запер дверь на засов. — Скажите, кроме нас с вами, в квартире никого нет? — шепотом спросил Макулевич. Висвальд отрицательно покачал головой. — А в соседних комнатах? — не отставал поэт. — Никого. Если угодно, удостоверьтесь сами. Только теперь Макулевич схватил его за руку: — Как хорошо, что вы еще живы, уважаемый друг!.. Я так беспокоился за вас… — Но зачем же вам беспокоиться, господин Макулевич? Я вовсе не собираюсь умирать. Тут Макулевич, кажется впервые в жизни, неучтиво прервал речь собеседника: — Я пришел, чтобы открыть вам великую тайну. — Он так понизил голос, что Буртниек едва улавливал его слова: — Ваша жизнь в большой опасности… Гестапо… Больше не спрашивайте, это все, что я могу сказать. Словно ничего не случилось, Буртниек снял очки и стал протирать стекла платком. Подумать только, кто таился под личиной мечтателя! Значит, бессмысленная философия смерти была лишь маской, под которой скрывался гитлеровский агент, интересующийся не абстрактной смертью, а вполне конкретной и реальной! Теперь Макулевич хочет его поймать на удочку. А усыпальница? Выходит, это была ловушка? Бауэр, быть может, уже пойман… Неужели Рудольф что-нибудь открыл своим палачам? Нет, Рудольфу Бауэру Висвальд верил до конца. Такой не предаст товарищей. — Дражайший господин Буртниек, почему вы ничего не предпринимаете? — все более волнуясь, продолжал Макулевич. — Вам следует немедля собрать саквояж и бежать за границу. Висвальд заставил себя улыбнуться: — Уважаемый друг, ведь сегодня не первое апреля. — Это вовсе не шутка… Умоляю вас принять все меры! — Ну что вы, что вы, господин Макулевич! Я владелец частной фирмы, и мне нечего опасаться гестапо. Они преследуют коммунистов, и хорошо делают. — А я-то, признаться, думал, что вы тоже коммунист… — разочарованно протянул Макулевич. — Как могла вам прийти в голову такая нелепая мысль? — Видите ли, штурмбанфюрер — тот самый господин, что меня допрашивал, — сказал, что господин Бауэр якобы коммунист… — бессвязно начал рассказывать Макулевич. — И вот, ничего не подозревая, я рассказал про ключ… И потом этот же господин насильно усадил меня в машину и отвез на кладбище Святого Петра… Кое-что я понял из их разговоров. И я видел, как они окружили склеп… А потом страшный взрыв… Подумать только, как раз накануне я беседовал с господином Бауэром, не подозревая, что он герой, ничуть не уступающий героям Плутарха… А потом я был очень долго болен. Мне и сейчас очень страшно… Вы ведь никому не расскажете, что я к вам приходил… Пожалуйста, прошу вас, уезжайте. Я никогда не простил бы себе, если бы с вами что-нибудь случилось, мой дорогой господин Буртниек. Рассказ этот был весьма сумбурен, однако Буртниек все понял, а недосказанное можно было легко домыслить. В голосе Макулевича звучало такое отчаяние, такой неподдельный страх, что невозможно было заподозрить притворство. Гость и теперь еще весь дрожал. Самопожертвование этого человека так растрогало Буртниека, что на миг он забыл о гибели Бауэра и о грозящей ему самому опасности. Впервые за время знакомства он пожал руку Макулевичу от всего сердца. — Спасибо! Вы хорошо сделали, что подумали о живых… Обо мне не тревожьтесь, идите спокойно домой. Когда достану стихи Керковиуса, я вам сообщу. — Благодарю вас, господин Буртниек. Но они мне больше уже не нужны… С прошлой жизнью навсегда покончено… а начать новую жизнь… не знаю, сумею ли… К Янису Буртниек собирался со всеми предосторожностями. Он был взволнован более, чем хотел себе в этом признаться: даже ни одна успокоительная латинская поговорка, вопреки обыкновению, не приходила на ум. Ведь из-за него следят за всем домом. А это ставит под угрозу типографию. Сквозь узкую щель он сначала понаблюдал за лестницей, подождал, пока кассир Общества взаимного страхования поднимется в свою контору, и только тогда сошел вниз. В это время Янис обдумывал очередные задачи подпольной организации. Свобода близка. Прикладами советских винтовок она уже стучится в ворота Риги. Нужно встретить ее с честью. На многих заводах существуют охранные группы. В тот день, когда фашисты начнут эвакуацию Риги, рабочие достанут спрятанные винтовки и будут охранять свои цехи от подрывников. Там, где гитлеровцы начали вывозить оборудование, эти группы уже проводят большую работу — зарывают в землю станки, а в Германию отправляют ящики с камнями. Когда Буртниек вкратце пересказал свой разговор с Макулевичем, Янис помрачнел: — Жаль Бауэра. Замечательный человек… Но как мы сами не заметили, что за домом следят?! — Неудивительно, — ответил Буртниек и подвел Яниса к окну, выходящему на улицу. — Я только теперь догадался. Посмотри-ка, ничего подозрительного не замечаешь? Янис слегка отодвинул плотную занавеску, всегда скрывавшую комнату от любопытных глаз. Но он напрасно высматривал шпиков. Обычно их было легко распознать: лениво прохаживались они взад и вперед, делая вид, будто кого-то ждут или читают вывески. Таких перед домом не видно. На углу тоже никого нет. По улице торопливо снуют редкие прохожие. У дома напротив дворник подметает тротуар. — Уж не думаешь ли, что дворник? — с сомнением спросил Янис. — Он самый. Погляди, как он метет. Теперь Янис и сам заметил, что дворник вот уже сколько времени водит метлой все по одному и тому же месту и при этом смотрит не на тротуар, а на их дом. Да, Висвальд прав. — Ну и растяпы же мы! Нам следовало догадаться, почему вдруг сменили дворника! — Это еще не все, — сказал Буртниек. — Со двора за домом тоже следят. Пойдем на кухню, я тебе покажу. На этот раз Янис почти сразу обнаружил агента гестапо. В соседнем доме у окна второго этажа сидел какой-то тип и читал газету. Время от времени он позевывал, уставясь во двор их дома. — Я наблюдал за ним довольно долго, — сказал Висвальд. — Он даже ни разу не перевернул листа газеты. — На этот раз негодяи взялись всерьез, — сказал Янис, вернувшись в комнату. — Видно, твердо решили не упустить тебя. Должно быть, вокруг дома торчат и другие шпики. Но оставаться тебе тоже нельзя. — Ну, чего там обо мне… За типографию боязно. Не лучше ли пока прекратить работу? — Нет, мы не можем этого допустить. Пойми, сейчас надо работать днем и ночью. Разве можно на решающем этапе складывать оружие? Нужно призывать рижан уклоняться от принудительной отправки в Германию, спасать свой город от разграбления, не давать фашистам вывозить транспорт, саботировать распоряжения оккупационных учреждений, всеми средствами облегчать приход советских вооруженных сил. Листовки нужны ежедневно. Нет, мы не вправе прекращать работу… А ты как думаешь, Надя? Известие, сообщенное Буртниеком, не застигло Надежду врасплох. В условиях подпольной работы нужно быть ко всему готовым! Но нельзя допустить, чтобы «квартиру без номера» обнаружили именно теперь, когда победа так близка. Конечно, трудно сказать, когда именно наши войска освободят Ригу, потому что гитлеровцы будут отчаянно сопротивляться, чтобы удержать последний крупный опорный пункт в Прибалтике. Все же Надя твердо верила: в годовщину Октябрьской революции башни Риги обязательно украсятся алыми знаменами. — Все это так, — ответила Надежда. — Но именно поэтому надо особенно остерегаться провала. Наш долг — быть на посту до конца. Нужно считаться с тем, что за домом следят, и поэтому выносить листовки обычным путем нам не удастся. — Я уже подумал об этом, — подхватил Янис. — Ведь у нас есть еще запасной путь — подземный ход, который ведет к развалинам у реки. Там, правда, трудно вылезать, но ничего не поделаешь… Тебе, Висвальд, тоже придется воспользоваться этим ходом. Некоторое время проживешь у Силиня. Ты знаешь, в Чиекуркалне… А пока нельзя терять времени. Надевай мои старые туфли, а твои мне потребуются. Я задумал военную хитрость. Заметив, что Буртниек удивился, Янис пояснил: — Ты исчезнешь, но шпики не будут знать о твоем уходе из дому. Понятно, возникнет подозрение, что ты прячешься в чьей-нибудь квартире. Для предотвращения повального обыска инсценируем побег с чердака, по крыше. Попрощавшись с Надеждой, Буртниек в сопровождении Яниса спустился в «квартиру без номера». Там он впервые встретился с Эриком, о котором так много слышал. Буртниеку стало как-то стыдно уходить, оставлять товарищей, которых, быть может, он больше не увидит. Но… «dum spiro, spero» — «пока дышу, надеюсь»! Все будет хорошо, они непременно еще встретятся в тесном кругу друзей и, беседуя, будут переворачивать листок за листком в календаре воспоминаний. Крепко пожав руку товарищам, Висвальд Буртниек, низко пригнувшись, нырнул в подземный ход. Янис поднялся наверх, а Эрик снова принялся за работу. Думать о нагрянувшей опасности не было времени, нужно как можно скорее набрать текст листовки. Подпольная типография продолжала работать.39
Октябрь… Вот уже третью осень Рауп-Дименс в Риге. На бульварах — золотые липы, по ночам заморозки, днем под усталыми лучами солнца мутно-коричневая гладь канала превращается в блестящее стекло. На воде — мозаика из желтых, красных, оранжевых листьев, в садах — печальные вздохи ветра, бледное солнце над Бастионной горкой… Всюду приметы осени, увядания, но на лицах рижан сквозь горе и печаль пробиваются первые робкие ростки радости. Эта радость в глазах прохожих приводила Рауп-Дименса в бешенство. Рига больше не казалась ему приятной. За последнее время все шло вкривь и вкось. Эхо взрыва, погубившего Ранке, Озола и еще восемь человек, докатилось от кладбища Святого Петра до самого Берлина. Там эти столичные болваны вдруг вообразили, что Бауэр был замешан в подготовке покушения на Гитлера, и поэтому не могли простить штурмбанфюреру его промах. Только благодаря влиянию отца и тому, что в Риге гестаповцам сейчас приходилось работать с двойной нагрузкой, штурмбанфюреру удалось спастись от отправки на передовые позиции. Да, Бауэр каким-то дьявольским образом проскользнул между пальцами. Зато теперь в закинутых сетях барахтается Буртниек! Его стерегут днем и ночью, из соседнего дома в бинокль наблюдают за окнами книжного агентства… За каждым посетителем Буртниека немедленно устанавливается слежка. Со дня на день можно ожидать, что следы приведут Рауп-Дименса в подпольную типографию, а оттуда — в центр рижской подпольной организации. Воображению штурмбанфюрера уже рисовались сотни арестованных, целая аллея виселиц от памятника Свободы до Видземского рынка… Пусть эти мертвецы будут единственными, кто дождется возвращения большевиков! Уже во всех деталях был разработан план насильственной эвакуации жителей Риги, в котором не только каждому шуцману и жандарму, но и каждой полицейской собаке отводилась своя роль. Ни одной живой души они не оставят большевикам, ни одного дома! Но грезы подобного рода лишь на краткий миг убаюкивали Рауп-Дименса. После малейшей неудачи он терял самообладание, и у шарфюрера Гессена, сменившего Ранке, были все основания беспокоиться о здоровье своего начальника. Внезапные переходы от злобного отчаяния к преувеличенно восторженным надеждам вызывали у Рауп-Дименса прилив лихорадочной энергии. Никогда еще он столь безжалостно не гонял своих подчиненных, никогда еще его действия не были столь хитроумными и всесторонне продуманными. Теперь, когда осталось так мало времени, нельзя ошибаться, каждый удар должен попадать в цель. Рауп-Дименс приказал Гессену дважды в день докладывать о результатах наблюдения за Буртниеком. На этот раз шарфюрер появился ранее назначенного часа. — Господин штурмбанфюрер! Сейчас сообщили по телефону, что книжное агентство Буртниека посетил какой-то человек. Судя по описанию, это Макулевич. — И Гессен из предосторожности попятился к двери. — Значит, кроме меня, ни у кого мозги не работают? Какого черта эти кретины дали ему войти? Надо было арестовать сумасшедшего прямо на улице, если нет иного выхода! — Осмелюсь доложить, господин штурмбанфюрер, вы сами изволили категорически запретить задерживать посетителей агентства и приказали только следить за ними и докладывать вам. Мои люди думали… — Нужно думать головой! Немедленно арестовать Макулевича! — Уже исполнено, господин штурмбанфюрер. На этот раз вспышка злобы у Рауп-Дименса была скорее внутренней, чем внешней, ибо он сознавал, что сам в значительной мере повинен в этой непростительной оплошности. Банге прав! Тот, кто однажды попадет в гестапо, не должен выходить оттуда живым, будь он трижды ни в чем не виновен. Теперь Макулевич сам подписал свой смертный приговор… Ничего, Буртниек еще не успел удрать. Он не сможет удрать — агенты гестапо пойдут за ним следом хоть на край света. Пришло время начинать! Буртниека нужно немедленно арестовать, а в его квартире устроить ловушку. Через десять минут Рауп-Дименс в сопровождении всех имеющихся в его распоряжении людей подъехал к углу улицы Грециниеку. Чтобы захватить Буртниека врасплох, гестаповцы в штатском по одному входили в парадное и поднимались в контору Общества взаимного страхования. Выставленным на постах агентам было приказано задерживать любого, Кто попытается выйти из дому. Несмотря на троекратный звонок, двери книжного агентства никто не отворил. Штурмбанфюрер шепотом приказал отомкнуть замок. Обыскали каждый угол, все обшарили, но Буртниека и след простыл. «Улизнул, мерзавец! — подумал Рауп-Дименс, проглотив проклятье. — Спокойно! Без истерики! Нужна ясная голова! Итак, если Буртниек вышел из дому, агенты бы его заметили. Значит, он где-то в доме, прячется в погребе, или на чердаке, или у кого-нибудь из соседей. Хорошо, что мы не подняли шума». Он обернулся к Гессену: — Привести Лео! Несколько минут спустя в дом вошел полный, с виду добродушный мужчина в сдвинутом на затылок котелке. Его старомодный длинный пиджак был расстегнут, и на животе поблескивала массивная цепочка от часов. Такой же добродушной выглядела огромная овчарка, помахивавшая хвостом и неторопливо шагавшая рядом со своим хозяином. Никому бы не могло прийти в голову, что этот добродушный пес и есть Лео — знаменитая ищейка гестапо. В квартире Буртниека инструктор пристегнул к ошейнику собаки поводок и резко дернул его. Это был знак начать работу. Лео тут же преобразился. Его тело напряглось, уши поднялись и даже шерсть взъерошилась. Обнюхав одежду Буртниека, пес направился в заднюю комнату, затем вернулся в контору и, принюхиваясь к невидимым следам, сбежал вниз по лестнице.«…Красная Армия у ворот Риги. Наступает решительный момент. Фашисты приняли все меры к тому, чтобы после их бегства в нашем городе не осталось ни одного целого дома, на котором можно было бы водрузить знамя свободной Советской Латвии… Фабрики, учреждения, мосты заминированы…» Нить мысли оборвалась. Даугавиет погрыз карандаш, снова начал писать, потом посмотрел на Надежду, которая стояла у окна, спрятавшись за занавеской, и наблюдала за улицей. Старый Донат с метлой в руках появлялся то во дворе, то в парадном. Посты расставлены, меры предосторожности приняты. Все же обстановка окружения, хотя и не относящаяся пока непосредственно к типографии, подавляла Яниса. Быть может, поэтому сегодня так медленно пишется? Но ведь самое позднее к завтрашнему утру листовки должны быть готовы! Времени так мало, в любую минуту гитлеровцы могут приняться взрывать важнейшие объекты. Янис заставил себя продолжать работу. Вдруг из ванной донесся глухой стук… Даугавиет торопливо дописал фразу, вырвал из блокнота исписанную страничку, отдал ее Эрику и, словно извиняясь за спешку, сказал: — Сегодня придется ударным темпом. Когда кончишь — постучи. Как только придет Скайдрите, пошлю ее на подмогу. Вернувшись в комнату, Янис вопросительно взглянул на Надежду. — Скайдрите все нет, — сказал он озабоченно. — Будем надеяться, что ничего плохого не случилось… Подождем еще?.. — Даугавиет посмотрел на часы. — Нет, больше ждать нельзя. В шесть вечера к Буртниеку придет рабочий с ВЭФа. Его нужно предупредить. Ничего не поделаешь, придется пойти к Донату. Я сейчас ему скажу. Янис отворил дверь на лестницу, но выйти ему не удалось. Едва не опрокинув Даугавиета, в коридор проскочил большой серый пес. Следом за ним выросла фигура высокого гестаповца. — Руки вверх!
 Эти произнесенные шепотом слова прозвучали в ушах Яниса подобно раскату грома. Выхода не было, пришлось повиноваться. Подталкивая Даугавиета дулом револьвера, гестаповец вошел за ним в квартиру. Услышав шаги, из кухни прибежала Надежда. Ей тоже приказали встать к стене с поднятыми руками.
— Обыскать комнаты! — скомандовал Рауп-Дименс.
Тысяча вопросов промелькнула в мозгу Яниса, но все они так и остались без ответа. С чем связано появление гестаповцев? Ищут Буртниека или стало что-нибудь известно о типографии? А он даже не успел предупредить Эрика сигналом тревоги! Это непростительно! Нужно это сделать сейчас, как-нибудь ухитриться. Штурмбанфюрер, будто назло, закрыл своей спиной как раз то место, где под обоями замаскирована кнопка звонка. Достаточно гестаповцу услышать стук Эрика, и он тут же поймет, что за ванной комнатой есть еще какое-то помещение. Примутся выстукивать все стены, потолки, полы и, наконец, обнаружат типографию. Этого допустить нельзя! Нельзя ни в коем случае! Секунда летит за секундой… Быть может, Эрик сейчас набирает последние слова… Янису почудилось, что он слышит, как Эрик карабкается по узкому проходу… Сейчас раздастся стук… Нет, лучше умереть, чем погубить типографию.
Одним прыжком Янис очутился возле гестаповца и, с силой толкнув его в стену, привел в действие сигнал тревоги.
Не дав Рауп-Дименсу опомниться, Янис кинулся на кухню, распахнул окно и выпрыгнул во двор. Но в этот миг кто-то оглушил его сильным ударом по голове, и он упал. Оба агента, дежурившие во дворе, скрутили беглецу руки за спиной и втащили обратно в квартиру. Потом его дубасили кулаками, пинали ногами, били рукояткой револьвера по голове. И все-таки с лица его не исчезла торжествующая усмешка.
«Квартира без номера» была теперь вне опасности!
Эти произнесенные шепотом слова прозвучали в ушах Яниса подобно раскату грома. Выхода не было, пришлось повиноваться. Подталкивая Даугавиета дулом револьвера, гестаповец вошел за ним в квартиру. Услышав шаги, из кухни прибежала Надежда. Ей тоже приказали встать к стене с поднятыми руками.
— Обыскать комнаты! — скомандовал Рауп-Дименс.
Тысяча вопросов промелькнула в мозгу Яниса, но все они так и остались без ответа. С чем связано появление гестаповцев? Ищут Буртниека или стало что-нибудь известно о типографии? А он даже не успел предупредить Эрика сигналом тревоги! Это непростительно! Нужно это сделать сейчас, как-нибудь ухитриться. Штурмбанфюрер, будто назло, закрыл своей спиной как раз то место, где под обоями замаскирована кнопка звонка. Достаточно гестаповцу услышать стук Эрика, и он тут же поймет, что за ванной комнатой есть еще какое-то помещение. Примутся выстукивать все стены, потолки, полы и, наконец, обнаружат типографию. Этого допустить нельзя! Нельзя ни в коем случае! Секунда летит за секундой… Быть может, Эрик сейчас набирает последние слова… Янису почудилось, что он слышит, как Эрик карабкается по узкому проходу… Сейчас раздастся стук… Нет, лучше умереть, чем погубить типографию.
Одним прыжком Янис очутился возле гестаповца и, с силой толкнув его в стену, привел в действие сигнал тревоги.
Не дав Рауп-Дименсу опомниться, Янис кинулся на кухню, распахнул окно и выпрыгнул во двор. Но в этот миг кто-то оглушил его сильным ударом по голове, и он упал. Оба агента, дежурившие во дворе, скрутили беглецу руки за спиной и втащили обратно в квартиру. Потом его дубасили кулаками, пинали ногами, били рукояткой револьвера по голове. И все-таки с лица его не исчезла торжествующая усмешка.
«Квартира без номера» была теперь вне опасности!
40
Нападение Даугавиета было таким неожиданным, что человек, державший собаку, невольно выпустил из рук поводок. Предоставленный самому себе, Лео, однако, продолжал поиск. В столовой пес как бы в нерешительности остановился. Запах привел его в ванную комнату. Но точно такой же запах, и даже несколько более сильный, вел назад, к выходу. Следуя за ним, Лео выбежал из квартиры, помчался вверх по лестнице и, мордой толкнув дверь, попал на чердак — одним словом, проделал тот же путь, что и Даугавиет, относивший туфли Буртниека. На чердаке люди Рауп-Дименса нашли неопровержимые доказательства побега — открытый люк, под ним перевернутый ящик и туфли, которые беглец, очевидно, снял, чтобы лучше удержаться на скользкой крыше. К тому же и владелец дома, Бауманис, подтверждал, что незадолго до прихода гестаповцев Буртниек приходил к нему за ключом от чердака. Пришлось дать команду разыскивать Буртниека по всей Риге и ее окрестностям. Рауп-Дименса снова постигла неудача. Пытаясь скрыть свой провал, штурмбанфюрер сообщил начальству, что арестованные им жильцы квартиры № 1 — студент Дзинтар Калнынь и Ядвига Скоростина (без определенных занятий) — являются ответственными работниками коммунистической партии. Сам Рауп-Дименс отлично сознавал, что его заявление не подтверждается никакими убедительными фактами, если не считать нападения Калныня и его попытки к бегству. Но отсутствие веских улик ничуть не тревожило Рауп-Дименса. «Раз улик нет, их нужно добыть!» И он днем и ночью допрашивал арестованных, в надежде, что они запутаются в сетях каверзных допросов. Но и Калнынь, и Скоростина, несмотря на все ухищрения следователя, стояли на своем: с Буртниеком имели только добрососедские отношения, политикой не интересуются. Свою попытку к бегству Калнынь объяснял внезапным помутнением рассудка: после перенесенного в детстве менингита такие приступы у него повторяются довольно часто. Штурмбанфюрер не унимался, стараясь собрать исчерпывающие сведения о прошлом арестованных. В соответствии с паспортом и показаниями самой арестованной, Скоростина раньше проживала в Резекне. Этот город уже в руках большевиков, но Рауп-Дименсу посчастливилось найти бывшего начальника резекненской охранки, сбежавшего в Ригу. Однако и он ничего дельного сообщить не смог. — Неужели ничего, так-таки ничего? — упорствовал штурмбанфюрер. — Посмотрите-ка еще раз на это лицо. Неужели оно вам ничего не говорит? Начальник охранки повертел в руках резко контрастный снимок, изготовленный гестаповским фотографом, и выразительно пожал плечами. — Быть может, старая фотография вам больше пригодится? — И Рауп-Дименс протянул ему паспорт Скоростиной. — За эти годы ее внешность ведь могла измениться… На маленькую фотографию начальник охранки взглянул лишь мельком, но зато долго изучал вторую страницу паспорта. — Фальшивый! — воскликнул он вдруг. — Видите, документ выдан в марте, а я хорошо помню: Васараудзис, который якобы подписал этот паспорт, начал работать у нас только в ноябре… Паспорт фальшивый! В этом нет никаких сомнений! Наконец-то лед тронулся! Пока начальник резекненской охранки находился в кабинете, Рауп-Дименс ничем не выдал своей радости. Не к чему этому латышу знать, какую он оказал услугу штурмбанфюреру. Но как только тот ушел, Рауп-Дименс вызвал Гессена. — Ну, Гессен, можете меня поздравить! Мое предчувствие оправдалось. Эта Скоростина вовсе не Скоростина, а подпольщица, у нее фальшивый паспорт. Как вы думаете, Гессен, что это означает? Шарфюрер щелкнул каблуками, продолжая хранить молчание. — Это значит, что Калнынь тоже подпольщик! Да, Гессен, мы с вами поймали крупную дичь. Немедленно сообщу Банге. Попрошу, чтобы меня освободили от всех других заданий и дали возможность заняться исключительно этим делом. Я не удивлюсь, если этот Калнынь окажется тем, кого я уже давно ищу… Ну, что вы стоите без толку и пялите на меня глаза? Дайте знать агенту номер шестнадцать, чтобы немедленно явился ко мне. Уже несколько суток Янис не смыкал глаз. В тесной бетонной камере в подвале гестапо все время горит нестерпимо яркий свет. Из-за этой щедрой иллюминации он никак не мог уснуть. Таким способом гестаповцы надеялись ослабить волю арестованного. Но Даугавиет не давал сломить себя. Он знал, что должен придерживаться первоначальных показаний. Только таким путем, может быть, удастся спасти Надежду. Возможно, придется еще раз изобразить приступ «помутнения рассудка». Мог ли он себя в чем-нибудь упрекнуть? Конечно, в работе не обошлось без ошибок… Пожалуй, роковым оказалось именно то обстоятельство, что агентство Буртниека находилось в том же доме, где и тайная типография. Но разве в сложнейших условиях подпольной работы можно абсолютно все предвидеть? Многое, очень многое было тщательно обдумано и взвешено. Три года «квартира без номера» работала бесперебойно — это ли не лучшее тому доказательство? О своей участи Янис не горевал. Главное сделано: типография вне опасности. Если бы еще удалось спасти Надежду от смерти, он бы считал, что долг его выполнен до конца. Сегодня в камере впервые потушили свет. Янис достаточно знал приемы гестаповцев, чтобы понять: надо быть готовым к очередной хитрости. Но усталость взяла верх, он закрыл глаза и погрузился в глубокий сон. Янису снилось, что в «квартире без номера» воет сигнал тревоги. Нет, это вовсе не сигнал тревоги, это рев фашистского танка. Сейчас он подомнет под свои гусеницы все живое. Стальное чудовище нужно остановить… Янис хочет кинуть гранату, но вдруг замечает, что к танку привязана Надя. Пряди ее мягких, светлых, как лен, волос разметались… Если кинуть гранату, Надя погибнет… Нет, он не может этого сделать… А гусеницы танка все вращаются, вращаются, перемалывая все новые жертвы. Ревущий танк ближе, ближе. Надежда видит Яниса и кричит ему: «Не думай обо мне, бросай гранату!..» Он стискивает зубы, замахивается… Граната летит… Слепящая вспышка, оглушительный взрыв… Даугавиет проснулся. Необычайно яркий, режущий свет заливает камеру и, точно раскаленными иглами, колет глаза. Спасаясь от него, Янис инстинктивно отвернулся и прикрыл рукою лицо. В тот же миг свет погас.В кабинете Рауп-Дименса Кисис взволнованно уверял штурмбанфюрера: — Это он! Он! Теперь я не сомневаюсь! — Но ведь вчера вы сомневались? — возразил Рауп-Дименс, хотя сам был уверен в том, что Калнынь и есть не кто иной, как Жанис. — Вот поэтому я и предложил такой эксперимент. Точно так же он и в тот раз закрыл лицо, когда я зажег спичку. Это Жанис! Господин Рауп-Дименс, разрешите напомнить, что мне полагается обещанная награда за поимку Жаниса… — Это я его поймал, а не вы! Я, я, только я, поняли?! Целый год вы не могли его разыскать! Штурмбанфюрер злобно выругался — теперь ругань стала для него привычкой. Но даже крича на Кисиса, он уже обдумывал дальнейшие шаги. Нужно устроить очную ставку Жаниса и этой женщины, попытаться кого-нибудь из них загнать в тупик. Самые большие надежды Рауп-Дименс возлагал на подпольщицу. Недаром женщин именуют слабым полом…
…Рано или поздно это должно было случиться… Холодную камеру, издевательства эсэсовцев, ежедневную порцию пыток Надежда считала логическим продолжением ареста. И таким же логическим его завершением будет смерть от руки палача. Надежда ни о чем не жалела. Жить — означало бороться, а борьбы не бывает без жертв. Ничего от нее не добьются, ничего она им не скажет, она будет молчать. В эти дни она много думала о Янисе, думала с нежностью сестры и гордостью друга. Как самоотверженно он поступил, когда в последнюю минуту спас типографию и Эрика! Для себя Надежда ничего не желала, но Янису она желала всего: жизни, победы, счастья. А еще она желала ему любви лучшей девушки на свете. Янис это заслужил. И все же Надежда понимала, что всем этим мечтам не суждено сбыться: из гестапо на свободу ведет лишь один путь — позорный путь предательства. Быть может, их поведут вместе на казнь, быть может, удастся тайком пожать руку друга и сказать: «Янис, я всегда знала, что ты меня любишь. Спасибо тебе». В ночь на седьмое октября Цветкову опять вызвали на допрос. На этот раз штурмбанфюрер принял ее необычайно любезно и сам подал стул. — Почему вы стоите? Садитесь, пожалуйста. Вам больше нечего опасаться — мне уже все известно… Последовала долгая пауза, во время которой Рауп-Дименс не сводил пристального взгляда с ее лица. Но лицо арестованной оставалось таким же бесстрастным, как и прежде. Можно было подумать, что она даже не поняла смысла его слов. Наконец гестаповец прервал молчание. — Я больше не хочу мучить вас загадками. Шарфюрер Гессен, приведите Жаниса. Надежда едва заметно вздрогнула, но это не ускользнуло от глаз Рауп-Дименса. «Первое попадание!» — с удовлетворением отметил он про себя и заговорил притворно-дружелюбным тоном: — Я вижу, вы поражены. Признаться, я и сам был поражен, я считал вашего друга человеком железной воли… Но, оказывается, даже у коммуниста есть сердце… Когда я ему сообщил, что от его признания зависит ваша жизнь, Жанис заговорил. О вас мы тоже теперь все знаем: что у вас фальшивый паспорт, что вы помогали Жанису в подпольной типографии. Мы даже знаем ваше настоящее имя… Надежде хотелось крикнуть; «Это ложь, ложь! Янис никогда не станет предателем!» Но разум неумолчно твердил другое. Откуда же гестаповцы все узнали? Ведь, кроме Даугавиета, в Риге больше никто не знает ее настоящей фамилии. Янис, неужели это правда? Неужели ты, спасая меня, сказал о типографии? Ты же сам говорил, что подпольщик должен отказаться от личной жизни, от личных чувств. Нет, не может быть… Любовь не заставит Яниса забыть свой долг. Этому она, Надежда, никогда не поверит. Рауп-Дименс не дал арестованной прийти в себя от потрясения. — Если вы поможете мне довести дело до конца, — сказал он, — я сделаю для вас все, что в моих силах. Свободу, конечно, не обещаю, но смягчение наказания гарантирую. Для того чтобы и теперь несколько облегчить ваше положение, я приказал привезти ваши теплые вещи. Прошу расписаться в получении. Рядом на стуле и в самом деле лежали ее вещи: пальто и подарок Скайдрите — голубое шерстяное платье. Все еще продолжая мысленный разговор с Янисом, Надежда машинально взяла в руки протянутую авторучку. Написав первую букву, она спохватилась — чуть было не попалась на удочку, едва не подписалась своей настоящей фамилией. Мгновенно Надя поняла, что именно этого ждет от нее гестаповец, и тут же исправила первую букву. Рауп-Дименс вырвал бумагу у нее из рук. Разочарование на лице гестаповца подтвердило, что она не ошиблась. Штурмбанфюрер вскочил с кресла. — Теплой одежды захотелось? — злобно усмехнулся Рауп-Дименс. — Подождите, скоро вам и без одежды станет жарко! — И он повернулся к Гессену. — Шарфюрер, вывести арестованную в соседнюю комнату! Когда дверь закрылась, он начал пытливо вглядываться в подпись… Тонко разработанный маневр не дал ожидаемых результатов. Скоростина! Те же самые, пожалуй, чересчур ровные буквы, что и в паспорте. А это что такое? Рауп-Дименс взял лупу. Буква «С». Но под ней другой штрих. Явно буква «Ц». Значит, сначала она хотела подписать свою настоящую фамилию, но потом спохватилась. «Ц», «Ц», «Ц»! Эта буква могла бы открыть секрет, если бы только за ней следовали недостающие… Какие русские фамилии начинаются на «Ц»? Царицына, Циолковская, Цветкова… Цеткина, Цветкова… Цветкова, Цветкова… Цветкова… Почему эта фамилия все время вертится в голове? Рауп-Дименс выкурил сигарету, другую, не ощущая вкуса, не замечая даже, что стряхивает пепел на брюки. Цветкова, Цветкова — ведь эту фамилию он совсем недавно где-то прочел. Конечно же! Штурмбанфюрер снял трубку внутреннего телефона… — Штурмфюрер Бурхарт! Материалы, взятые в квартире Скоростиной, немедленно доставить ко мне… Через две минуты в кабинет Рауп-Дименса внесли большую корзину. Вывалив ее содержимое на пол, Рауп-Дименс принялся лихорадочно отбрасывать в сторону учебники, конспекты лекций, старые рецепты, таблицы логарифмов, романы в пестрых обложках. Вот! Вот то, что он ищет. Маленькая книжка в красивом переплете. На синей коже золотое тиснение — «Евгений Онегин». Он раскрыл книгу. На первой странице наискось было написано: «Надежде Викторовне Цветковой.
41
Перевод из застенков гестапо в Центральную тюрьму означал, что Янису осталось жить всего лишь несколько дней. После пережитого смерть представлялась ему огромным облегчением. И вовсе не потому, что он желал смерти. Ему хотелось жить, жить хоть сто лет. Но все же лучше умереть, чем видеть, как выродки калечат любимого человека. Чем больше шрамов искажало Надины черты, тем горячей любил он это до неузнаваемости изуродованное лицо. Только теперь, в самые черные дни своей жизни, Янис осмелился признаться себе, что любил и любит Надежду. Но любовь подпольщика — это песня без слов, далекий огонек, мерцающий в ночи… Теперь самое страшное позади. Гестаповцы прекратили бесплодную борьбу. Надежду Цветкову больше не мучили. Подпольщики победили! …Гитлеровцы отступали, и это чувствовалось даже в тюрьме. Казалось, самый воздух насыщен лихорадочным ожиданием. Надзиратели рыскали по камерам, то и дело без всякого повода набрасывались на любого, кто попадался под руку. Фашисты явно нервничали. А заключенные жили надеждой. И, невзирая на побои и карцеры, вся тюрьма по ночам гудела от перестуков. Казалось, будто слышится глухая барабанная дробь. Заключенные делились сведениями о продвижении Красной Армии. Эти известия проникали даже сквозь каменные стены и чугунные решетки. Было известно, что гитлеровцы решили всех умертвить перед отступлением, и все же многие верили в чудо. Ибо там, где сражаются советские люди, возможны чудеса. Последняя ночь перед казнью… Надеяться на чудо Янис уже не мог. В эту ночь он мысленно хотел проститься со всем, что в жизни было ему дорого и близко: со звездами, что сверкали здесь, в рижском небе, и там, над Москвой; с землей, на которой так чудесно жить; с товарищами, связанными с ним большой, мужественной дружбой борцов за общее дело; с Надей… Было бы куда лучше провести эту ночь одному. Но как раз сегодня в камеру привезли еще одного смертника. Это был знакомый Буртниека — Макулевич. Бедняга лежал на нарах и все время тихонько всхлипывал.
Янис большими шагами мерил камеру: от окна до дверей, от дверей до окна. Потом он остановился. Проведя ногтем по прутьям решетки, точно по струнам, он вдруг вспомнил свою любимую песенку. Ту, что часто пел Надежде. Ту, в которой каждый раз взамен позабытых слов придумывал новые.
Он и сам не заметил, как начал вполголоса напевать:
Было бы куда лучше провести эту ночь одному. Но как раз сегодня в камеру привезли еще одного смертника. Это был знакомый Буртниека — Макулевич. Бедняга лежал на нарах и все время тихонько всхлипывал.
Янис большими шагами мерил камеру: от окна до дверей, от дверей до окна. Потом он остановился. Проведя ногтем по прутьям решетки, точно по струнам, он вдруг вспомнил свою любимую песенку. Ту, что часто пел Надежде. Ту, в которой каждый раз взамен позабытых слов придумывал новые.
Он и сам не заметил, как начал вполголоса напевать:
Я умираю за Советскую Латвию, умираю за…
42
Эрик поднял кулак, чтобы постучать в стену ванной комнаты. Но рука его вдруг повисла в воздухе — он услышал негромкий, как звонок будильника, сигнал тревоги. Он уже давно привык к этим кратким перерывам в работе, которые случались по крайней мере раз десять в день. Вечно погруженный в работу, он как-то полностью еще не осознал всей важности последних событий, о которых рассказывал Даугавиет. «Наверно, пришла Скайдрите, — подумал он, — или, может быть, Донат». Растянувшись на животе в узком проходе, Эрик терпеливо ждал «отбоя». Но минуты шли, а звонка все не было. Пожалуй, нет смысла здесь торчать, лучше пойти поработать. Спустившись к себе, Эрик оттиснул гранки и начал тщательно вычитывать корректуру — не хотелось попусту терять время. Нашел несколько опечаток, быстро исправил ошибки. Звонок молчал. Эрик начал нервничать. Он знал, что задание исключительно срочное. Вынужденный отдых впрок не шел, наоборот — только выбивал из колеи. Ничего не поделаешь, приходится терпеливо ждать… Его мучительно клонило ко сну. Чтобы превозмочь себя, он включил радио. Эрик сегодня дважды слушал последние известия, и все же он опять надеялся услышать что-нибудь новое. Красная Армия гигантскими шагами устремлялась вперед, и каждый час мог принести значительные изменения в положении на фронтах. Но, как назло, в приемнике гудело, трещало, выло — наверно, зубной врач на четвертом этаже снова включил бормашину. Звонок молчал. Мысленно проклиная назойливого посетителя, Краповский вытянулся на койке. Взгляд его упал на бутылку, в ней стояли красные кленовые листья — подарок Скайдрите. С тех пор как она появилась в «квартире без номера», душный подвал всегда оживляла какая-нибудь зелень. Зимой — ветки хвои, в марте — пушистая верба, в мае — первые фиалки, потом сирень, жасмин, васильки, астры и, наконец, осенние листья. Да, время неудержимо мчалось вперед, и, кажется, вместе с полетом времени росла его любовь к этой хрупкой девушке, проявлявшей столько воли и выдержки. Однажды, много-много месяцев назад, он снисходительно улыбался, слушая ее ребяческие рассуждения о бегстве к партизанам. Но ведь она все-таки добилась своего. Вот какая у него подруга! Звонок молчал… Теперь Эрик физически ощущал мучительную тишину. Он взглянул на часы, но тут же вспомнил, что не засек времени, когда раздался сигнал тревоги. Полчаса наверняка уже прошло, а может быть, и больше… Скайдрите давно бы следовало вернуться, ей надо сделать оттиски. Почему же она не идет? Что случилось наверху? Ведь за домом слежка, ищут Буртниека… Что бы он сам стал делать на месте гестаповцев? Прежде всего обыскал бы весь дом. Да, да, именно так; теперь Эрик точно знал, что звонок был не обычным предупреждением, а настоящим сигналом тревоги. Сигналом тревоги, после которого нет отбоя… Наверху гестаповцы! Яниса и Ядвигу арестовали, может быть, и Скайдрите! Жизнь товарищей в опасности, а он, оторванный от внешнего мира, ничем не может им помочь. Сознание собственной безопасности заставляло его еще острее тревожиться о друзьях. Найти «квартиру без номера» фашистам так легко не удастся. Запаса консервов и сухарей хватит на неделю, даже больше. Он дождется Красной Армии. А типография, а листовки? Кто их будет писать, распространять?.. Какой толк в том, что он, Эрик Краповский, спасет свою жизнь, если погибнет типография? Опять он остался один, как в тот раз, на Шкедском шоссе. Такое же отчаяние, то же безвыходное положение. Но тогда вопреки всему борьба продолжалась, и теперь он тоже не может, не смеет ее прекращать. Недаром Янис говорил, что воля человека не знает преград. Волнение не давало Эрику покоя, побуждало действовать. Он снова добрался по проходу до ванной комнаты и приложил ухо к стене. Ни звука… Сквозь толстую стену не доносилось ни малейшего шума… Вдруг Эрик вздрогнул — он услышал тихие шаги. Нервы у него были так напряжены, что ему сначала показалось, будто шаги раздаются по ту сторону стены, в ванной комнате. Нет, кто-то ходит внизу, в типографии. Но кто? Тихо, стараясь не шуметь, он стал спускаться, вниз и вдруг ощутил на лице чье-то горячее дыхание. Чья-то рука нащупала его руку… Скайдрите! Ну конечно, она пробралась по запасному ходу… — Что же нам теперь делать? — спросил потрясенный Эрик, после того как Скайдрите рассказала ему о случившемся. Девушка сбросила забрызганный грязью плащ и вынула из Элизиной сумки хлеб и бидончик с молоком. — Будем работать, Эрик. Листовки нужно выпустить. Ведь Жанис сказал, что завтра люди должны их прочитать. Пусть гестаповцы увидят, что нас не одолеть. Голос Скайдрите был так же спокоен, как всегда. Да, эту девушку, прошедшую суровую школу подполья, ничто не могло сломить. Сейчас нет времени скорбеть. Горе переплавлялось в ненависть. Борьба продолжалась с удвоенным напряжением. В этот миг Эрик понял яснее, чем когда-либо, как неузнаваемо изменился характер его любимой и как вместе с этим изменились и их отношения. Прежде Скайдрите была необходима поддержка и руководство, теперь же сам Эрик черпал надежду в ее суровом спокойствии. — Я и сам уже об этом думал. Но Жанис успел написать только половину. Видишь, на чем кончается текст?.. — И Эрик показал ей еще мокрый оттиск.«…Списки подлежащих расстрелу уже составлены. В этих списках, может быть, есть и твое имя или имя твоих близких. А те, кому посчастливится спастись от эсэсовской пули и душегубок здесь, в Латвии, будут насильно увезены в гибнущую под бомбами Германию. Екельн и Дрекслер обещали фюреру, что не оставят в Риге ни одного человека, который бы дождался освободителей…»— Тебе, Эрик, самому придется дописать воззвание, — строго сказала Скайдрите. — Я помогу. Эрик взял толстый карандаш, который столько раз держали пальцы Яниса, когда он записывал последние известия из Москвы. Эрик быстро набросал первые фразы:
«Чтобы спасти свою жизнь и свободу, перед тобой, рижанин, только один путь…»Эрик и Скайдрите сидели рядом, сдвинув головы, крепко прижавшись друг к другу, и казалось, что карандаш водят две руки.
«Рижские рабочие! Организуйте на своих заводах отряды охраны! Спасайте машины и средства транспорта, не давайте вывозить их в Германию. Оказывайте вооруженное сопротивление шуцманам, которые хотят угнать в неволю вас и ваши семьи. Безжалостно бейте гитлеровских бандитов, закладывающих мины под здания города. С оружием в руках помогайте Красной Армии быстрее освободить родной город!»— Как ты думаешь, не написать ли в конце какой-нибудь лозунг? — спросила Скайдрите, когда воззвание было написано. — Например: «Нет победы без борьбы!» — Идет, — согласился Эрик. — А в самом конце дадим четверостишие из «Песни латышских стрелков»:
43
В шесть часов утра в коридоре у дверей камеры звякнула связка ключей. Обычно в это время осужденных уводили на казнь. Попрощавшись с Макулевичем, Янис твердым шагом вышел из камеры. Даугавиета посадили в закрытую тюремную машину. «Разве виселица находится в самом центре?» — подумал Янис, прислушиваясь к приглушенному шуму уличного движения. Он различал скрежет гусениц танков и самоходных орудий, резкие гудки легковых машин, тяжелый стук множества подкованных сапог. Рига превратилась в прифронтовой город. Вот раздался громкий лай собак. По хмурому лицу охранника-эсэсовца промелькнула злорадная усмешка. — Слышишь, Ганс? Жаль, что нам не пришлось участвовать в охоте. Дрекслер сказал, что ни одного латыша не оставит в Риге… «Пусть ухмыляются, — подумал Янис. — Завтра они сами будут качаться в тех же петлях, которые сегодня приготовили для нас». Он по-прежнему не испытывал страха, наоборот — он чувствовал даже какую-то горькую радость от того, что еще раз увидит Надежду. Но когда машина остановилась и дверцу отворили, Янис понял, что его привезли не на казнь, а снова в гестапо. …Все окна в кабинете штурмбанфюрера были тщательно занавешены. Портьеры из плотного черного бархата слегка приглушали непрерывный гул канонады. Рауп-Дименс ее не слышал с 1941 года. Гул орудий действовал на нервы, мешал сосредоточиться. Однако это совсем не означало, что Рауп-Дименс трусил. Он лично уведомил Банге о своем намерении остаться в Риге и закончить дело Жаниса. Конечно, Жаниса можно было увезти с собой. Но это означало бы потерю времени. Кроме того, Рауп-Дименс давно решил, что допрос Жаниса должен состояться именно в Риге. В глубине сознания гестаповец опасался, как бы арестованному в суматохе поспешного отступления не представился случай совершить побег. Штурмбанфюрер смотрел на Жаниса не только как на обычного арестованного коммуниста, а как на своего личного врага, которого никому не хотел уступать. Недавно удалось пронюхать, что в Лиепае тоже работает подпольная типография. Учитывая новую обстановку на фронте, лиепайскую типографию необходимо немедленно ликвидировать. Рауп-Дименс был уверен, что именно Жанис знает о ее существовании. Надо заставить арестованного выдать руководителей типографии и ее местонахождение. В предстоящем поединке во что бы то ни стало нужно выйти победителем. Ожидая арестованного, гестаповец помогал своим подчиненным подготавливать бумаги для эвакуации. Окинув взглядом толстые кипы папок, он решил, что ему не в чем себя упрекнуть. Сделано немало, работал он хорошо, как и полагается истинному Рауп-Дименсу. Только в одном деле его постоянно преследуют неудачи: Бауэр кончил жизнь самоубийством и погубил десять его лучших помощников, Буртниек скрылся, Цветкова умерла, так и не сказав ни слова. Но Жанис у него в руках! Уж с ним-то он рассчитается за все! В дверях показался шарфюрер Гессен: — Хайль Гитлер! — Этим приветствием Гессен как бы хотел подчеркнуть в эту тяжелую пору свою веру в фюрера. Рауп-Дименс небрежно махнул рукой. — Ну, что у вас, Гессен? — Осмелюсь доложить, господин штурмбанфюрер, доктор Банге только что изволили отбыть. Он приказал передать, чтобы вы взяли Жаниса с собой, если здесь не удастся заставить его говорить. В отношении нашей эвакуации все подготовлено. Комендант позвонит, когда последние учреждения будут уезжать из города. В наше распоряжение предоставят три машины. — Спасибо, Гессен. Где Жанис? — Уже доставлен, господин штурмбанфюрер. Лицо Рауп-Дименса исказила уродливая гримаса. — Должно быть, радуется, что вылез из петли. Ничего, у него эта радость быстро пройдет. Он еще на коленях будет умолять меня, чтоб его повесили. — Господин штурмбанфюрер, я забыл доложить вам, что при обыске у него обнаружили вот это. Мне кажется, там что-то ценное. Рауп-Дименс схватил протянутый листок бумаги. — Как, опять какие-то стихи?! — заорал он. — Да знаете ли вы, кто их написал, идиот вы этакий?44
«Пожалуй, стоило промучиться три невыразимо тяжелых года ради этого дня», — думал Буртниек, прислушиваясь к громким раскатам орудий. Казалось, они гневно переговариваются: с одной стороны доносился глухой, полный отчаяния, уже охрипший голос гитлеровской артиллерии, с другой — гремел ликующий клич наступающей Красной Армии, все ближе, все громче… Но не все встретят этот праздничный день победы. Буртниек узнал о гибели Надежды Цветковой, знал и о том, что Яниса Даугавиета сегодня казнят, а может быть, уже казнили… Буртниек сидел на грязном, усыпанном железными опилками токарном станке, зажав меж колен винтовку. Пятна ржавчины на ее стволе говорили о том, что оружие долго хранилось в сыром месте. Висвальд неусыпно наблюдал за заводским двором, где в беспорядке валялись части разобранных машин, и за широкой улицей с редкими деревцами у тротуаров, по которой в таком же беспорядке шагали, бежали, ехали и мчались фашистские части. Большинство их двигалось на запад, к центру города, но порою какое-нибудь подразделение направлялось на восток, к близкой линии фронта. И тогда узкая струя зелено-синих касок сталкивалась с откатывающимся потоком, все сливалось и смешивалось, образовывался затор, слышалась брань офицеров, выстрелы, пока клубок наконец не распутывался. В панике отступления, казалось, не было места для обдуманных действий. Однако Буртниек не сомневался, что фашисты при малейшей возможности примутся уничтожать все крупнейшие фабрики и заводы, в том числе и завод, который рабочие взялись охранять под его руководством. Висвальд Буртниек всю свою жизнь провел в мире книг. На заводах и фабриках ему случалось бывать не часто, его всякий раз раздражал и отпугивал заводской шум и грохот, казавшийся чем-то хаотическим, стихийным. Сегодня же он поймал себя на том, что болезненно ощущает мертвую тишину цеха. Огромное помещение выглядело совсем опустевшим. Светлые четырехугольники на цементном полу указывали места, где прежде стояли машины. Часть из них уже на пути в Германию, остальные группе Силиня удалось закопать. Остались только старые негодные станки да старомодные приводные ремни, беспомощно свисающие с потолка, как поникшие паруса при полном штиле. Грохот канонады все приближался. В громовых раскатах артиллерии уже можно было различить гневное рычание танков, глухие разрывы мин, вой «катюш». Буртниек надеялся, что фашисты позабыли о заводе. Но вот совсем рядом грянул выстрел, из окон цеха вылетели стекла, и почти в это же мгновение на улице показалась зелено-бурая автомашина. Подъехала команда фашистских подрывников — к счастью, их было только четверо… Гитлеровцы соскочили с машины и бросились во двор. Они волокли за собой длинные шнуры. Несмотря на волнение, Буртниек все же заметил, что первым выстрелил старый рабочий. Бежавший впереди гитлеровец странно выгнулся, выпустил из рук свою ношу и тяжело плюхнулся на землю. Фрицы бросили взрывчатку и, в свою очередь, открыли огонь. Пуля просвистела мимо уха Буртниека и, рикошетом отскочив от потолка, ранила одного из защитников завода. Через несколько минут автоматы фашистов смолкли. Посреди заводского двора лежали четыре немецких солдата; гудел мотор машины подрывников.
Буртниек заметил, как Силинь побежал выключить его, и услышал слова, сказанные старым рабочим:
— Первый раз в жизни человека убил… Но разве таких назовешь людьми?
— «Если враг не сдается, его…» — Буртниек хотел процитировать Горького, но буквально на полуслове глаза его закрылись и он уснул.
Затем, будто сквозь туман, он услышал голос Силиня: «Проснись!» Висвальд почувствовал, как его трясут сильные руки. С большим напряжением он открыл глаза и инстинктивно схватил винтовку:
— Фашисты?
— Сообщение о Жанисе!
Только теперь Буртниек заметил женщину, принесшую новую весть.
Сегодня утром Жаниса перевезли из Центральной тюрьмы в гестапо!
Висвальд тут же стряхнул с себя сон. Необходимо во что бы то ни стало воспользоваться последней, единственной возможностью спасти Даугавиета…
— Как ты думаешь? — робко спросил он товарища.
Силинь понял Буртниека с полуслова.
— Но как? У нас ведь никаких шансов…
Да, шансов действительно было мало. Отчаянно пытаясь найти хоть какой-нибудь выход, какую-нибудь лазейку, Буртниек молча уставился в окно. Его взгляд бессознательно скользил по неподвижным телам подрывников, остановился на немецкой военной машине, окрашенной в маскировочный цвет, затем снова вернулся к темно-зеленым мундирам убитых фашистов. И тут вдруг его осенила мысль переодеться в немецкую форму! Безумная мысль, но чего только не сделаешь ради спасения товарищей! Силинь поведет машину. Сам он, свободно владея немецким языком, постарается провести их в здание гестапо, а когда нужно будет, все четверо сумеют за себя постоять.
Буртниек не думал об опасности, он думал о Янисе и о других неведомых ему узниках гестапо, которые, быть может, тоже погибают в этот час победы. И не сомневался, что товарищи пойдут за ним.
Фрицы бросили взрывчатку и, в свою очередь, открыли огонь. Пуля просвистела мимо уха Буртниека и, рикошетом отскочив от потолка, ранила одного из защитников завода. Через несколько минут автоматы фашистов смолкли. Посреди заводского двора лежали четыре немецких солдата; гудел мотор машины подрывников.
Буртниек заметил, как Силинь побежал выключить его, и услышал слова, сказанные старым рабочим:
— Первый раз в жизни человека убил… Но разве таких назовешь людьми?
— «Если враг не сдается, его…» — Буртниек хотел процитировать Горького, но буквально на полуслове глаза его закрылись и он уснул.
Затем, будто сквозь туман, он услышал голос Силиня: «Проснись!» Висвальд почувствовал, как его трясут сильные руки. С большим напряжением он открыл глаза и инстинктивно схватил винтовку:
— Фашисты?
— Сообщение о Жанисе!
Только теперь Буртниек заметил женщину, принесшую новую весть.
Сегодня утром Жаниса перевезли из Центральной тюрьмы в гестапо!
Висвальд тут же стряхнул с себя сон. Необходимо во что бы то ни стало воспользоваться последней, единственной возможностью спасти Даугавиета…
— Как ты думаешь? — робко спросил он товарища.
Силинь понял Буртниека с полуслова.
— Но как? У нас ведь никаких шансов…
Да, шансов действительно было мало. Отчаянно пытаясь найти хоть какой-нибудь выход, какую-нибудь лазейку, Буртниек молча уставился в окно. Его взгляд бессознательно скользил по неподвижным телам подрывников, остановился на немецкой военной машине, окрашенной в маскировочный цвет, затем снова вернулся к темно-зеленым мундирам убитых фашистов. И тут вдруг его осенила мысль переодеться в немецкую форму! Безумная мысль, но чего только не сделаешь ради спасения товарищей! Силинь поведет машину. Сам он, свободно владея немецким языком, постарается провести их в здание гестапо, а когда нужно будет, все четверо сумеют за себя постоять.
Буртниек не думал об опасности, он думал о Янисе и о других неведомых ему узниках гестапо, которые, быть может, тоже погибают в этот час победы. И не сомневался, что товарищи пойдут за ним.
Кисис сидел в нагруженном до предела грузовике. Только благодаря хорошим связям ему удалось раздобыть машину. Теперь он уезжает из Риги, прочь от большевиков, снаряды которых, как ему казалось, зловеще вопрошали: «Где ты, Кисис? Где ты, Кисис?» Нет, он не дастся в руки большевикам. Кисис торопил шофера, сулил ему золотые горы. Проехав мимо здания гестапо — оно теперь казалось каким-то заброшенным, в дверях не видно даже охраны, — машина Кисиса чуть не столкнулась с воинским грузовиком, мчавшимся с бешеной скоростью. Перед ним мгновенно промелькнуло изрытое оспой продолговатое лицо в очках. Опытный глаз агента успел опознать в немецком солдате Висвальда Буртниека, Буртниека, которого гестапо так долго разыскивало! Буртниека, за голову которого была обещана крупная награда!.. Ноздри Кисиса дрогнули. В других условиях он, разумеется, не упустил бы такого солидного куша, но сейчас колебался не более секунды. Где-то за спиной гулко раздавались выстрелы, и Кисис погнал машину вперед. Остановиться ему пришлось уже далеко за пределами города, и то лишь потому, что образовавшаяся на шоссе пробка не давала возможности проехать дальше.
45
Штурмбанфюрер начал допрос заранее приготовленными словами: — Вы, кажется, горячо любили Цветкову… В таком случае могу вас порадовать приятной вестью: ваша возлюбленная отправилась, как говорится, в лучший мир. Но не рассчитывайте, что я вам тоже выдам туда билет. Вы слишком много знаете, чтобы я мог с вами так легко расстаться… Скажу ясно и прямо: мне нужна лиепайская типография. У вас стальная воля, но, как известно, алмазом режут даже сталь… Я прикажу вас пытать дни и ночи, без перерыва, без отдыха… Четверо эсэсовцев будут заниматься только вами. — Все равно я не скажу ни слова. А вот вам бы лучше подумать над тем, как вы будете оправдываться перед судом народа. Вас не станут пытать, но все равно вы все расскажете. У вас нет той идеи, которая дает нам силу молчать… Даугавиет ждал, что гестаповец прервет его ударом кулака, но тот лишь иронически усмехнулся. — Вы правы. Такой идеи у меня нет. Зато у меня есть другие, куда более полезные идеи. Я вам еще не все сказал… Мы вас увезем в Германию, а здесь, в моем кабинете, случайно забудем написанное вашей рукой донесение, которое будет весьма красноречиво свидетельствовать о том, что вы были нашим агентом и провокатором. Вот этого нежного любовного послания вполне достаточно для того, чтобы наши специалисты могли воспроизвести ваш почерк, причем они не ошибутся ни в одной буковке, ни в едином штрихе. Если же вы дадите мне необходимые сведения, то все останется между нами и это письмецо я вам, разумеется, отдам. Никакими ужасами и пытками нельзя было запугать Яниса, но это дьявольское измышление его потрясло. Они это сделают! В глазах сотен товарищей Янис Даугавиет будет подлейшим негодяем, предавшим Бауэра и Буртниека, продавшим палачам Надежду Цветкову… Почти во всех провалах, происшедших в Риге за три года, будут обвинять его. Быть может, скажут, что на его руках кровь Иманта Судмалиса и Джемса Банковича… Нет, этого допустить нельзя. Выход только один: убить гестаповца! Вошел Гессен. — Господин штурмбанфюрер, только что звонил комендант. Русские пытаются прорваться в город с северо-запада. В любую минуту может поступить приказ об эвакуации… Какие будут распоряжения? — Пока можете идти. — И, повернувшись к Янису, Рауп-Дименс заметил спокойно и деловито: — Сами видите, мало осталось времени. Так что выбирайте! От напряжения на лбу Даугавиета вздулись жилы. Как исполнить задуманное? Нужно остаться с гестаповцем наедине, но за машинкой сидит молодой эсэсовец, готовый записывать каждое слово. Рауп-Дименс не спускал с Даугавиета глаз, пытаясь распознать, увенчался ли его маневр успехом. Он не знал, что в этот момент советские танки-амфибии, зайдя в тыл гитлеровским войскам, форсируют Киш-озеро, что рижская телефонная станция взорвана и комендант уже не может больше звонить в гестапо. Грохот боя нарастал. Где-то вдали играл наводящий ужас орган «катюш», где-то с глухим взрывом взлетали в воздух склады боеприпасов, совсем близко трещали отдельные выстрелы… Молодой эсэсовец прислушивался к тому, что доносилось с улицы. Он побелел как бумага, но не смел обнаружить страх перед начальством. — Выбирайте! — повторил штурмбанфюрер. Янис, как бы в отчаянии, закрыл лицо руками. Сквозь пальцы он следил за Рауп-Дименсом, который правой рукой сжимал лежавший на столе револьвер. Медленно, словно борясь с самим собой, Даугавиет промолвил: — Тут нечего выбирать… Вы загнали меня в тупик… Я вынужден принять ваш ультиматум… Я все скажу… Наконец-то Жанис прижат к стене!.. Какая победа! Внезапно почувствовав себя словно на десять лет моложе, Рауп-Дименс крикнул эсэсовцу: — Вернер, записывайте! Не отнимая ладоней от лица, Янис сказал: — Вы обещали, что это останется между нами… — Правильно! Вернер, выйдите. Эсэсовец скорее вылетел, чем вышел из кабинета. Рауп-Дименс выпустил из руки револьвер и, вынув из нагрудного кармана авторучку, приготовился записывать. — Пишите… Руководитель подпольной типографии в Лиепае… — Дальше, дальше, — подгонял Рауп-Дименс. Но прежде чем он успел поднять голову, руки Яниса сдавили ему горло. В этот миг длинные портьеры на окнах зашевелились, из-за них выскочили двое гестаповцев и кинулись на Яниса. Штурмбанфюрер, не в силах вымолвить ни слова, несколько раз судорожно глотнул ртом воздух и в безумной ярости забарабанил кулаками по кнопкам звонков. В коридоре послышался топот. — Увести убийцу! — прорычал Рауп-Дименс. Однако автоматы вбежавших солдат обратились против всей стоящей в комнате группы. Один из солдат — это был Буртниек — шагнул вперед и, глядя в упор на Рауп-Дименса, сказал: — Об этом вы можете не заботиться, убийцы от нас никуда не уйдут! Остолбеневшие эсэсовцы отпустили свою жертву, и Янис в последнее мгновение успел выхватить у Рауп-Дименса пистолет, который штурмбанфюрер уже собирался поднести к своему виску.
Теперь они стояли лицом к лицу. Янис мог бы отплатить ему за все пытки и муки, за смерть тысяч людей, за утрату любимой женщины. Почти каждый на его месте именно так бы и поступил, и никто не посмел бы осудить его за это. Но Даугавиет выпустил бессильно повисшую руку гестаповца. Отвернувшись, он шепотом произнес:
— Уведите! Пусть их судит народ!
Затем он подошел к Буртниеку и просто сказал;
— Спасибо, друг!
Остолбеневшие эсэсовцы отпустили свою жертву, и Янис в последнее мгновение успел выхватить у Рауп-Дименса пистолет, который штурмбанфюрер уже собирался поднести к своему виску.
Теперь они стояли лицом к лицу. Янис мог бы отплатить ему за все пытки и муки, за смерть тысяч людей, за утрату любимой женщины. Почти каждый на его месте именно так бы и поступил, и никто не посмел бы осудить его за это. Но Даугавиет выпустил бессильно повисшую руку гестаповца. Отвернувшись, он шепотом произнес:
— Уведите! Пусть их судит народ!
Затем он подошел к Буртниеку и просто сказал;
— Спасибо, друг!
46
Улыбаясь сквозь слезы, Рига осыпала своих освободителей золотом осенних листьев. Листья падали на каски и погоны бойцов, прилипали к стволам орудий. Не один солдат смахивал набежавшую слезу, принимая это приветствие родного города. Оставив товарищей стеречь Рауп-Дименса, Янис вышел на улицу один. Попытки разбудить тут же уснувшего Буртниека не увенчались успехом. Висвальда наконец окончательно свалил сон. После дней, проведенных в тюрьме, улицы казались Янису необычайно широкими. На набережной еще рвались снаряды, горели дома, но в центре, на перекрестке улиц Кришьяна Барона и бульвара Райниса, уже стояла девушка в красноармейской форме. Помахивая красным флажком, она указывала колоннам победителей путь на запад. Своими белокурыми длинными волосами регулировщица напоминала Надежду. Но, подойдя ближе, Янис увидел, что она совсем другая — краснощекая, курносенькая. На тротуарах толпилось множество людей. То тут, то там, полыхая, точно пламя, на резком октябрьском ветру, развевались сбереженные красные флаги. У разрушенного здания почты стоял приземистый подполковник и наблюдал за тем, как бойцы протягивают телефонный кабель. — Прямой провод с Москвой налажен! — доложил подполковнику сержант-связист. Даугавиет споткнулся о кабель и, стараясь удержать равновесие, невольно ухватился за рукав подполковника. — Товарищ Авот! — вскричал он. — Вот так встреча! Авот долго вглядывался в лицо Яниса, которого никак не мог узнать. — Даугавиет? — неуверенно спросил он наконец. — Как ты изменился! — Гестапо, — кратко пояснил Янис и вспомнил, что уже две недели не курил. — Нет ли у тебя папиросы? Авот поспешно вытащил пачку «Беломора». Ему вдруг вспомнилась Центральная тюрьма. Тогда товарищи курили самодельный табак: смесь из раскрошенных, пропитанных никотином трубок и соломы из тюремных матрацев. — Долго? — спросил он. — Ты совсем поседел… — Как сказать… Четырнадцать дней, а может, и четырнадцать лет… Еще час, и вы бы не застали меня в живых. А Надежду замучили. — Голос его дрогнул. — Да ты ведь ее не знал… Мимо проехала зенитная батарея. Круглые глаза прожекторов отражали небо. Чей-то детский голос спросил: — Посмотри, мама, какая большущая миска! Разве из нее стреляют?.. — Ты представить себе не можешь, как я рад видеть тебя, Ригу… Ну сам подумай, какое замечательное совпадение: мы были вместе в первый день войны и теперь — в первый день освобождения!.. Если не очень торопишься, пойдем к нам. Спешу домой, хочется поскорей узнать, что с товарищами… — Пошли! Ну, рассказывай же! На улице Грециниеку им преградил дорогу сапер. В руке он держал миноискатель с торчащими металлическими усиками. — Товарищ подполковник, дальше идти опасно. С того берега фрицы палят. Авот отмахнулся — не впервой, а Янис и вовсе не слышал предупреждения. Чем ближе к дому, тем сильнее мучило беспокойство за Эрика, Скайдрите, старого Доната и Элизу. Застанет ли он их в живых? Неужели они погибли в последнюю минуту? В клубах черного дыма, поднимавшегося с набережной, виднелся дом Бауманиса, по-прежнему целый и невредимый. В парадном Даугавиет и Авот услышали сердитое ворчание Доната, доносящееся с площадки второго этажа. В следующее мгновение старик, точно юноша, легко сбежал по ступеням. — Удрала все-таки, проклятая фашистская га… Последнее слово так и застряло у него в горле. От изумления из рук Доната выпала метла и покатилась к ногам Яниса. — Глядите! Да ведь это Жанис! И, даже не поздоровавшись, он стрелой влетел в квартиру: — Эрик! Скайдрите! Элли, чего ты там возишься? Скорее! Наш Жанис жив! …Они сидели вокруг стола, за которым, бывало, Янис так часто сидел с Надей. На стене еще висела ее кофточка, на комоде разбросаны ее заколки, и только теперь Янис по-настоящему ощутил, что навсегда потерял верного друга и любимую женщину. Он отвернулся, чтобы скрыть слезы, но потом, взяв себя в руки, сказал: — Ну, товарищ подполковник, позволь выпить рюмку за твое здоровье. Вам, освободителям, честь и слава! Сейчас спущусь в «квартиру без номера» и принесу бутылку. Три года я хранил ее там ради этого дня. Авот ничего не ответил, но, поглядев на Скайдрите и Эрика, нежно соединивших руки, на старую Элизу, утиравшую платком слезы, на взволнованного Доната, усердно заталкивавшего в трубку предложенную подполковником папиросу «Беломор», на седые виски Яниса, на простую ситцевую кофточку Нади, висевшую на стене, подумал: «Вы, герои подполья, достойны не меньшей славы. В самые черные дни сохранили вы незапятнанной честь трудового народа, Советская Латвия вас никогда не забудет!»
Вл. Волосков ОПЕРАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ Приключенческая повесть

1. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
К вечеру мороз покрепчал. Усилился ветер. Он волочил по голубоватому затвердевшему насту седые, бесконечно длинные ленты сухого колючего снега. «Погодка... черт бы ее побрал! — сердито подумал начальник Медведёвского районного отделения милиции Сажин, злясь на разыгравшуюся поземку, на прохудившиеся сапоги, в которых ломило иззябшие ноги, и на полную загадочность ЧП. — Если и дальше так вьюжить будет — до дому не доберешься. Без ног останешься...» — Ну что, долго еще канителиться будем? — хмуро спросил Сажин следователя Задорину, молодую глазастую девушку. — Пожалуй, все... — неуверенно сказала Задорина осипшим от холода голосом. Сажину стало жаль ее. Он подосадовал в душе на свою грубоватость, еще раз оглядел место происшествия. Ничего нового не увидел. Внизу, на дне неглубокого оврага, лежал труп обнаженного человека с разбитой, обезображенной головой. Кто этот человек? Откуда? Никто этого не знал. Жители двух ближайших деревень труп не опознали. Пропавших без вести в деревнях не оказалось. Мертвеца обнаружили случайно школьники, ездившие вчера в поле за соломой. Один из них заглянул в овраг и увидел торчавшую из снега руку. Обследование оврага и прилегающей местности результата не дало. Ни одежды, ни каких-либо следов совершенного преступления обнаружить не удалось, хотя и перегребли за день горы снега. «Попробуй обнаружь... Этакие метели нынче», — в который раз невесело подумал Сажин и знаком дал команду грузить труп на подводу. Задорина последний раз щелкнула фотоаппаратом и робко взглянула на начальника. — Акт здесь писать будем? Сажин постарался улыбнуться. Это, кажется, у него получилось. — А вы способны писать? — Я не знаю... — Задорина пошевелила скрючившимися пальцами в большой шерстяной варежке и вздохнула: — Едва ли... — Я тоже так думаю, — согласился Сажин. — Оформим в деревне. — Ему опять стало жаль молоденького следователя. «Эх, молодо-зелено... — сокрушенно подумал он. — Молодехонька совсем, совсем девчонка. Ей бы по танцам бегать, а тут... Не женское дело — работать следователем в таком районе, как Медведёвский. Но ничего не поделаешь: война... Пропади она пропадом...» Подвода тронулась. Взяв лопаты, за ней гуськом потянулись старики колхозники, приглашенные в понятые. Сажин кивнул выжидательно глядевшим на него оперуполномоченному Скорикову и участковому Саблину, чтобы тоже шли. Сам же еще раз прошелся по дну оврага, раскидывая сапогами груды снега. Он знал, что ничего не найдет: ведь все, что можно сделать, сделано, но все же зачем-то полез в овраг. С обрыва на него смотрели несколько деревенских ребятишек и Задорина. Маленькая, хрупкая, в подшитых фетровых валеночках и заношенном пальтишке, она почти ничем не отличалась от деревенских девчонок, точь-в-точь как они, простудно шмыгала прямым тонким носиком, и выражение лица у нее было печальное. Сажин долго бродил по сугробам и, лишь набрав полные сапоги снега, заставил себя наконец бросить безрезультатные поиски. Увидев жиденькую толпу на краю оврага, рассердился: — Это что за зрители? А ну, марш в деревню! Ребятишки попятились к дороге. Вышагивая по проселку вслед за двигающейся в деревню печальной процессией, Сажин рассматривал горбящиеся на ледяном ветру фигуры стариков, ребятишек и думал невеселую думу о неизвестном человеке, ставшем жертвой чьей-то преступной руки. На взрослых старые полушубки, на ребятишках отцовские телогрейки и разношерстные шубейки. Пообносились люди. Товаров в магазинах мало. До последней овчины, до последнего куска сукна — все идет на фронт. Война поедает все. И самое главное — пожирает тысячи человеческих жизней. Сажин с заботой глядел на бредущих в деревню колхозников и напряженно думал: «На фронте — это понятно. А здесь? Почему этот человек должен был умереть здесь? Зачем? Кто он? Кому потребовалось убить его и запрятать труп так далеко?» На востоке, за деревней, небо совсем померкло. Оттуда, из сгущающейся синевы, неслось навстречу людям студеное дыхание ветра. Задорина повернулась и пошла по дороге задом наперед — маленькая, тоненькая, иззябшая. «Эх, водочки бы ей сейчас. Как бы не заболела», — подумал Сажин, зная, что во всех районных магазинах едва ли найдется бутылка спиртного. Он ускорил шаги и, обогнав девушку, сердито сказал: — Пристраивайтесь. В затылок. За спиной потеплее будет. Задорина благодарно кивнула и подчинилась. Они пошли по-солдатски, след в след: полный большой человек в милицейской шинели и хрупкая девушка в старых фетровых валенках. Вокруг быстро темнело. Набирала силу декабрьская ночь 1941 года. В кабинете было жарко натоплено, но Сажин все равно мерз. Он стоял у окна, слушал приехавшего из областного центра судебно-медицинского эксперта и никак не мог унять трясучий озноб, который бил его уже третьи сутки, со дня бесплодного расследования в злополучном овраге. Он чувствовал, что гриппует, но болеть «нормально», отлеживаться дома, было нельзя. Срочной работы наплывало много, а людей не хватало. Районное отделение милиции не имело и половины штата. Каждому приходилось работать за двоих. В углу кабинета, прижавшись спиной к печке-голландке, стояла Задорина. Ее обветренное лицо пылало жарким румянцем, она склонила голову набок и, часто поправляя сползающие на глаза прядки черных вьющихся волос, казалось, не слушала, а думала о чем-то своем. Эксперт, низкорослый седой старичок, устало говорил о результатах аутопсии — судебно-медицинского вскрытия трупа. — Несомненно, это убийство. Совершено неделю назад. Внутренние органы в норме. Убитый был трезв и, судя по всему, голоден. Его ударили внезапно. По голове. Следов борьбы на теле не обнаружено... «Это мы и без вас знаем...» — вяло подумал Сажин. — Удар по лицу был нанесен, очевидно, топором. Потом его, уже мертвого, били по голове обухом и еще чем-то плоским, с острыми краями. Чем-то вроде лопаты... — Какой садизм, — поежилась Задорина. — Умысел, барышня! — внушительно поднял палец старичок. — Умысел! Убийцам было нужно, чтобы труп не опознали. — Вы говорите: лопатой и обухом! — оживился Сажин. — Значит, убийц было двое! — Вполне вероятно, — веско сказал эксперт. — Можно предполагать также, что убийцы привезли труп в овраг на подводе. На голове убитого обнаружены прилипшие былинки сена. — Мы так и полагали, — подтвердил Сажин. Старичок со снисходительным сочувствием посмотрел на него и, прикрыв золотозубый рот маленькой одрябшей кистью, утомленно зевнул. — Очень приятно такое единомыслие. Теперь, как говорится, вам и карты в руки. Ищите! — Легко сказать... — превозмогая озноб, сердито пробурчал Сажин. — Конечно, дело путаное, — еще раз посочувствовал эксперт. — Но что поделаешь, Порфирий Николаевич. Такова уж наша планида. Искать придется. Старичка тоже разморило от тепла, и он еле сдерживал зевоту. Первой заметила его состояние Задорина. — Вы очень устали. Отдохнули бы перед дорогой. Поезд идет поздно вечером. Время позволяет. — А есть где? — Найдем, — заверил Сажин. — Вы и не ели давно, наверно? — Со вчерашнего дня. Все некогда как-то, да и с питанием в городе не совсем щедро... — помявшись, признался старичок. — Много эвакуированных. Все помещения забиты. Людям — горе, а преступникам — раздолье в таком муравейнике. У вас вот тут тишь... Прямо наслаждаешься тишиной. А там... Сажин хотел возразить, но передумал. К чему заводить пустой спор! Было б здесь тихо — нечего было бы делать судебному эксперту в Медведёвке. Кажется, ясно. — Ну, пожелаю вам успеха, — сказал эксперт, прощаясь. — Вполне возможно, что дело придется прекратить. Но вы не огорчайтесь. Всякое в нашей службе бывает... — он слабо махнул рукой. — Да, — согласился Сажин. — Отдыхайте. Надежда Сергеевна вас устроит, поесть что-нибудь сообразит. Сообразит? — Сообразит, — чуть улыбнулась Задорина и с сожалением отстранилась от печки. «Значит, двое... — неторопливо размышлял Сажин, оставшись один. — С подводой. Это — наши. Из другого района сюда не поедут. Долго добираться, да и деревень не минуешь. Надо искать. Где?» От бессилия решить этот каверзный вопрос Сажин сердился и упрямо заставлял себя думать. Но думалось плохо. Голова была тяжелой, и очень хотелось спать. Да и что придумаешь? Задорина с оперуполномоченным Скориковым, исполнявшим обязанности начальника уголовного розыска, объехали почти все населенные пункты района и нигде не обнаружили ничего существенного, что дало хотя бы ниточку к организации розыска. Осталось объехать несколько деревень, что находились за железной дорогой, пересекавшей южную часть района. Но что из того? Сажин был уверен, что и там Скориков с Задориной ничего не нащупают. Район хоть большой, лесной, но все равно вести в нем разносятся быстро. Если бы пропал человек или заподозрили кого-либо в преступлении, то участковые уполномоченные давно сообщили бы в Медведёвку. В народе живут. Сажин поглядел в окно. За окном голый, унылый сад, над которым хозяйствовал неяркий, ветреный зимний день. Под порывами резкого ветра деревья скорбно качали скрючившимися обнаженными ветвями, как бы жалуясь на свою стылую наготу и печальную зимнюю участь. «Если б не зима, то непременно что-нибудь да нашлось... — сосредоточенно думал Сажин. — Не могли они не оставить следа. А тут... Бураны все прикрыли...» Сажин был уроженцем Медведёвки. В начале тридцатых годов он демобилизовался по болезни сердца из армии, где с гражданской войны служил в войсковой разведке. Райком партии направил его работать начальником лесосплавной конторы. Дело с детства знакомое (все Сажины — потомственные лесовики), и потому бывший кавалерийский разведчик быстро освоился в новой должности. В работе да заботе летели годы. Порфирий Сажин совсем уже привык к мысли, что доживет до конца дней своих при полюбившемся лесном деле. Построил на окраине Медведёвки небольшой домишко (оба сына учились в Москве, а много ли старикам надо!), завел пчел, посадил мало-мальский садик — совсем собрался Порфирий встречать почетную старость, да не тут-то было. Весной 1937 года, в самую горячую сплавную пору, вызвали его вдруг в областной городСосногорск и предложили, как бывшему разведчику, возглавить районное отделение милиции. Сажина это ошеломило. Он не имел не то что опыта, а никакого представления о милицейской работе и прямо сказал об этом в обкоме партии. Его доводы не подействовали. Сказали: раз райком партии рекомендует, значит, подходишь. И обязали. Делать было нечего — Сажин отправился к новому начальству. После окончания краткосрочных курсов Порфирий Николаевич вернулся в Медведёвку начальником районного отделения милиции. Как всякий коренной таежник, Сажин не умел делать дела спешно, торопливо, и ему было трудно на новой работе. Два года проработал он в милиции, но так и не смог по-настоящему освоиться. Может быть, потому, что годы эти — 1937-й и 1938-й — были необычными годами. Сажин со свойственными ему упорством и обстоятельностью осваивал тонкости нового дела и, очевидно, стал бы неплохим начальником райотдела, если бы... не это же самое беспокойное время. Оно подорвало здоровье Сажина. Постоянные служебные заботы, постоянное беспокойство за судьбы знакомых и полузнакомых людей оказались непосильной нагрузкой для больного и восприимчивого сажинского сердца. Он стал часто болеть и в конце концов оставил службу в милиции. Его отпустили. Почти год лечился Сажин, а потом вернулся в лесосплавную контору. И вот грянула война. Сажин был одним из тех немногих людей в районе, которые уже в первые дни сказали вслух, что родной народ стоит перед невиданными тяжкими испытаниями. Как-то в райкоме Сажина даже обозвали за это капитулянтом и трусом. Но события вскоре доказали его правоту... Когда Сажину предложили вновь вернуться на работу в милицию — он безоговорочно надел старую милицейскую шинель. Порфирий Николаевич возобновил работу в милиции уже с новым чувством. В нем не было прежней неуверенности. Теперь он знал, что так надо, что иначе быть не может. Сажина не расстраивало даже то, что один за другим уходили в действующую армию работники отделения и ему фактически почти не с кем стало работать. Сейчас Сажин глядел на унылый зимний пейзаж и мучался вопросом: «Где искать?» В дверь тихо постучали. Вернулась Задорина. Она опять стала к печке, выжидательно посмотрела на начальника. — Ну, что мыслите предпринять? — помолчав, спросил Сажин. Задорина пожала покатыми плечами. Она была немногословна, эта вчерашняя студентка. — Надо продолжать в намеченном плане. Завтра завершим объезд. Иного ответа Сажин не ожидал. Сам он ничего другого предложить не мог, и собственная беспомощность сердила его. — Хорошо. Езжайте. — Сажин старался говорить спокойно, но это не удавалось. — И думайте. Думайте! Вас, кажется, учили думать? — Учили. — Хм... Вошел Скориков. Он был бледен, чем-то озабочен. — Сегодня звонили из Заречья. Спрашивали: не задерживала ли милиция какого-нибудь пьяницу на станции. — Ну? — Сажин напрягся. — Дежурный сказал, что не задерживала. — А кто звонил? — Кажется, начальник геологоразведочной партии. — Что, у них человек пропал? — Не сказал. — А что же вы не спросили! — взорвался Сажин. — Или это пустяк? — Разговаривал дежурный. Скориков мал ростом, узок в плечах. У него больные почки, потому его крупное, постоянно опухшее лицо кажется непомерно большим для столь хилого тела. — Вы пробовали связаться с геологоразведкой? — Нет. — Так что же вы! — Я не могу сейчас ничего. Я и пришел это сказать... — Скориков тяжело опустился на стул. — Не могу... Сажин только теперь обратил внимание на бледность оперуполномоченного и понял, что у него очередное обострение болезни. Скориков не считался талантливым работником, но был трудолюбив и исполнителен — это Сажин хорошо знал еще по совместной работе в довоенное время. Ему стало жаль оперуполномоченного, кусавшего от боли губы. — Чего ж ты тогда... Давай в больницу! Я дам команду, чтобы отвезли, — виноватым голосом сказал Сажин. — Придется, — пробормотал Скориков, с трудом поднявшись со стула. — Жизни не рад... — Ну-ну... Не раскисай! — прикрикнул Сажин и позвонил дежурному по отделению. — Вот дела, — озадаченно сказал он, когда Скориков покинул кабинет. — Надо что-то делать. Никого не остается. — А вы поезжайте в Сосногорск. Может быть, в госпиталях найдут подходящих людей, — посоветовала Задорина. — Пожалуй, — подумав, согласился Сажин. — Очень даже дельно. Ну, а теперь давайте думать о наших делах, Надежда Сергеевна. Теперь вы весь наш уголовный розыск. Так что и спрос с вас. Что думаете предпринять? — Надо связаться с геологоразведкой. — Правильно. Свяжитесь. Вызовите начальника,2. ГДЕ НИКОЛАШИН?
Начальник геологоразведочной партии Возняков приехал в Медведёвку на следующий день. Худой, высокий, он стремительно вывалился из кошёвки и, забыв отряхнуть от снега валенки, быстро вошел в здание райотдела милиции. В кабинете начальника, где его поджидали Сажин и Задорина, Возняков с ходу швырнул на первый попавшийся стул свою полевую сумку и сердито сказал: — Вот, притащился. Двадцать верст по морозу. Где он? Давайте сюда Николашина! — Вы бы разделись, — вежливо улыбнулся Сажин, — присели... Простите, не знаю, как вас... — Олег Александрович. Хорошо. Я разденусь. — Возняков стащил засаленный черный полушубок, бросил опять же на стул, хотя в кабинете была вешалка. — Слушаю вас. Что опять натворил Николашин? Сажин не торопился с ответом. Верный своей привычке, оглядел гостя. Нет одной пуговицы на дорогом, затасканном пиджаке, ворот шелковой синей рубашки измят. Из нагрудного кармашка торчат авторучка и несколько карандашей. Интеллигент. Живет, видимо, без семьи. Беспризорно выглядит. Сделав такое заключение, Сажин собрался наконец заговорить, но Возняков опередил его. — Что же вы молчите? — нервничая, спросил он резким голосом. — Я приехал за документами. Управление с меня требует! — Какими документами? — Как какими? Которые повез Николашин! — Когда и куда он их повез? — Я отправил его еще второго декабря. В Сосногорск. В геологическое управление. — Он что, туда еще не приехал? — Странный вопрос. Конечно не приехал. Мне вчера опять позвонили оттуда и устроили выволочку. Сколько раз зарекался не поручать ему серьезных дел! — Где же он сейчас? — Как где? У вас! — У нас его нет. — Зачем же вы тогда меня вызвали? — Возняков растерялся, снял зачем-то очки, беспомощно заморгал. — Я полагал... — Что, ваш Николашин такой ненадежный человек? — осторожно поинтересовался Сажин. — Зачем же вы ему доверяете? — Почему ненадежный! — удивился Возняков, уже забывший только что самим сказанные слова. — Вполне надежный. Опытный, знающий геолог. Правда, немного того... — Возняков сделал выразительный щелчок по горлу. — Но это у него временами. Когда по покойной жене затоскует. — И часто у него это бывает? — Сажин повторил жест Вознякова. — Я же говорю: временами. Я знаю Николашина много лет. Раньше он не пил... — Возняков замялся, потом потеплевшим голосом добавил: — Вообще-то Трофим Степанович только внешне сердит и груб, а внутри — вата. Добряк. Ему тяжело одному. Дочери замужем и не очень хорошо к нему относятся. Его можно понять... Сажин переглянулся с Задориной и решил приступить к делу. — Олег Александрович, возможно, что с Николашиным случилось несчастье. Расскажите нам, пожалуйста, о нем все. — Какое несчастье?! — всполошился Возняков. — Он обещал мне не пить в дороге. С ним же документы... — Мы вам объясним потом. Все пока что в области предположений. — Сажин приподнял указательный палец. — Итак, мы вас слушаем. Возняков еще долго растерянно вертел головой, зачем-то часто оглядываясь на Задорину, пока собрался с мыслями и начал свой нестройный рассказ. Складно говорить о простых житейских вещах он явно не умел, его то и дело приходилось подбодрять наводящими вопросами. Разговор затянулся. В конце концов Сажину и Задориной многое стало ясно. Инженер-геолог Николашин, как и Возняков, специализировался на поисках руд цветных металлов. В Сосногорском геологическом управлении он работал давно и был на хорошем счету. Только в последнее время репутация его пошатнулась. Внезапно скончалась жена, которую он очень любил. Николашин, не встретив должного внимания со стороны замужних дочерей, запил. Это, естественно, не могло не отразиться на служебных делах. После нескольких случаев запоя Николашина наконец сняли с должности главного геолога одной из северных экспедиций и перевели на рядовую работу. Это так потрясло старого геолога, что он совсем опустился. Об этом узнал Возняков. Он упросил руководство управления, чтобы Николашина перевели в его поисковую партию. Вознякову не пришлось жалеть о своем выборе. Отличный специалист, Николашин вскоре стал правой рукой начальника партии. Жили они вместе, на одной квартире, и Возняков на правах старого товарища одергивал Николашина, ограничивал в деньгах, загружал работой. Правда, Николашин иногда все же срывался. Это случалось, когда Возняков уезжал в Сосногорск или отправлял туда самого Николашина. Но в последнее время Николашин не вспоминал о водке. Произошло это оттого, что стало много по-настоящему интересной работы. Николашин иногда сутками находился на поисковых участках, закружили его новые заботы. Возняков сам чересчур увлекся чисто специальными геологическими проблемами и потому запустил свои хозяйственные и административные дела. — Понимаете... — сбивчиво рассказывал он. — Ни кассира, ни бухгалтера в штате нет, только счетовод с завхозом. Все сам. Материально ответствен за все. Один во всех лицах. Конец месяца, надо отправлять в управление ведомости на зарплату, авансовый отчет и всякую документацию, а тут интереснейшие геологические результаты. Зарылся, понимаете... Увлекает. Когда в управлении начали метать громы и молнии, только тогда и спохватился. Ну, к тому времени и пробы подоспели. Авралом соорудил отчет и решил послать нарочного. Сам ехать не мог. Всяких организационных дел накопилось. А послать нужно компетентного человека, ибо необходимо было выяснить целый ряд специальных принципиальных вопросов. Решил послать Николашина. Больше некого. — Возняков сильно постучал снятыми очками по краю стола. Постучал так, что у Сажина возникло опасение, как бы геолог не разбил очки. — Взял с него, сукина сына, честное слово, что он капли в рот не возьмет за время командировки. Обещал. Даже, кажется, обиделся. Вот и все. Нагрузил его пробами, передал документы, вручил авансовый отчет на сто девять тысяч рублей и отправил второго декабря в Сосногорск. — И что потом? — Пятого декабря мне снова позвонили из управления. Как ни удивительно, Николашин там не появлялся. А вчера снова. Сам начальник управления сделал мне разнос. Он почему-то непоколебимо уверен, что Николашин опять запил где-нибудь. Обвинил меня в либерализме и легкомыслии... Обещал строго наказать. — Скажите, — неожиданно нарушила молчание Задорина. — Ваша партия базируется в Заречье? — Да. База на окраине села. Мы там арендуем пустующие колхозные помещения. — Какой у вас имеется транспорт? — А-а... Какой там транспорт! Бедствуем, — безнадежно махнул рукой Возняков. — Шесть лошадей да одна полуразбитая полуторка, которая день ходит, два стоит. Перевозку буровых по неделе производим. А для чего, собственно, вы это спрашиваете? — Николашин должен был ехать в Сосногорск со станции Хребет? — Задорина смотрела на начальника партии спокойно и требовательно. — Ну да... — Как он добирался до станции? — Машиной. Наша полуторка как раз шла на нефтебазу. — Его довезли до вокзала? — Нет. Шофер сказал, что он сошел на повороте. Машина пошла на нефтебазу, а Николашин через железнодорожные пути — к станции. — На вокзале его кто-нибудь видел? В буфете, например? — Откуда я знаю... Собственно, что вы меня допрашиваете! — рассердился Возняков. — Я приехал спрашивать вас! — Ну-ну... — постарался притушить его вспыльчивость Сажин, а Задорина с прежней невозмутимостью спросила: — Каков из себя Николашин? — Каков? — Возняков надел очки и с удивлением посмотрел на девушку. — Обыкновенный. — Беспредметно. Рост, телосложение, возраст и прочее. — Возраст... Не помню точно. Но, очевидно, как и мне. Пятьдесят с хвостиком. Странно, но мы почему-то никогда о возрасте не говорили. Скажите, а зачем я это должен знать? — Возняков опять начал сердиться, резко повернулся к Сажину: — И вообще, что это за игра в прятки? Вы скажете наконец, зачем меня заставили сделать этот двадцатикилометровый вояж? — Вы хорошо знаете Николашина. Вместе жили. Скажите, какие у него есть особые приметы на теле? — Задорина не замечала предостерегающих жестов Сажина. — Татуировка, шрамы, какие-нибудь другие особенности? — Ничего не замечал. Простите... Вы говорите — на теле! — Возняков побледнел, опять повернулся к девушке всем корпусом: — Вы говорите — на теле! Это что... Вы говорите о нем, как о мертвеце! — Не торопитесь с выводами! — поспешил вмешаться Сажин, сердито покосившись на Задорину. — Я уже говорил, что есть только предположения. Ничего конкретного нет. Нам просто нужна ваша помощь. — Какая? — Вы должны помочь нам опознать одного человека. — Какого? — Мы его сами не знаем.В маленьком морге при районной больнице Возняков долго с брезгливым страхом смотрел на мертвое тело и молчал. — Он? — спросил Сажин. — Н-не знаю... — неуверенно, тихо ответил геолог. — Как же без лица? — Он беспомощно пожал плечами. — И вообще... — Значит, не он? — Право, не знаю... — Взгляд Вознякова упал на ноги покойника, и геолог даже пошатнулся. — Что с вами? Вам плохо? — встревожился Сажин. — Ноготь... ноготь... — Возняков судорожно тыкал пальцем в сторону покойника, голос его срывался. — Ноготь... Мы мылись в бане как-то... Я столкнул ему на ногу чугунок с холодной водой. Сажин увидел. На правой ноге мертвеца два ногтя резко отличались от других. Они были черно-синими. Вознякову стало плохо. Он схватился за сердце, и Сажин поспешил вывести его на улицу. Там их встретила Задорина. Сажин утвердительно кивнул, и ее миловидное лицо сразу стало хмурым, озабоченным. По тропинке, петляющей между сугробами, они медленно пошли назад в милицию. Возняков был подавлен. Он даже забыл надеть шапку и, видимо, не чувствовал ледяного ветра, который теребил его редкие седеющие волосы. Когда Задорина выхватила из его руки ушанку и нахлобучила ему на голову, Возняков, как большой ребенок, слабо улыбнулся и неожиданно сказал: — Спасибо, девочка... Задорина чуть порозовела, покосилась на Сажина. Тот сделал вид, что ничего не слышал. «Правильно, — подумал он. — Маленькая, добрая и неопытная девочка. Нелегкая у тебя профессия. С таких лет лицом к лицу столкнуться с жестокостями жизни... Надолго ли хватит твоей доброты и твоей выдержки?» Возняков стал наконец приходить в себя от потрясения. — Скажите, — со страдальческой гримасой обратился он к Сажину. — Как же так? А? Как это могло случиться? Сажин промолчал. — Ведь человек... — повернулся Возняков к Задориной. — Хороший человек! — Какие у него были глаза? — вдруг тихо спросила девушка. — Глаза? Глаза... Темные. — Карие, черные? — Нет... Пожалуй, светлее... — Серые? Возняков даже приостановился, изумляясь. Наморщил лоб. — Что за чертовщина... Никак не припомню. Столько лет знал его и... на тебе... — его голос был удивленным, виноватым. — Бывает, — сочувственно сказала Задорина. «Да. Бывает, — согласился в мыслях Сажин. — Как ни странно, но бывает». В кабинете Возняков выпил стакан воды и удрученно опустился на стул. Задорина заняла обычное место у печки. Помолчали. — Что у Николашина с собой имелось? — спросил Сажин. — Что... Я ведь уже говорил: пробы и документы. — А деньги? — Какие? — Личные деньги. — А-а... Какие там деньги. — Возняков вяло качнул кистью. — Я ему не позволил много со сберкнижки снять. Пятьсот рублей дал. По нынешним временам — какие это деньги... Ерунда чистая. — Но может быть, были продукты, вещи или еще что-либо другое, что сейчас ценится? — Да нет... Какие у геолога вещи... В рабочем поехал. Правда, взял с собой масла топленого килограмма два: дочерям гостинец — вот и все. Булка хлеба да килограмм пайковой селедки... — Не богато. — Да. В последнее время нам плохо отоваривают карточки. — А кто знал об отъезде Николашина? — Как кто? Все знали. Опять установилось молчание. Возняков поерзал на стуле, ссутулился. Сажин размышлял, комкая толстыми пальцами клочок газеты. — Что же мне делать теперь? — потерянно спросил Возняков. — Ехать? Я вам больше не нужен? — Да. Пожалуй... — рассеянно откликнулся Сажин и спросил с сочувствием: — А как же вы теперь будете отчитываться? Ведь сто девять тысяч на вас числятся. — Не знаю... — Николашин не дал вам никакой расписки в получении документов? — Я же не знал, что такое может случиться... Подождите! — Возняков чуть оживился, что-то вспомнив. — Трофим Степанович вообще-то всегда был аккуратистом. Возможно, что он и написал расписку, если... Если я ее куда-нибудь не швырнул по рассеянности... — Как же можно так относиться к денежным документам? — упрекнул Сажин. — Ведь этак недолго и по миру пойти. — Деньги... При чем тут деньги! — вдруг рассердился Возняков. — Человека нет. Вот главное! — М-да... — этот выкрик Вознякова Сажину не понравился. Помолчав, он спросил: — Вы что-то говорили о пробах. Что это за пробы? — Николашин повез образцы пород на опробование. — Они представляют какую-то ценность? — А как же! — До сознания Вознякова только сейчас дошла какая-то мысль. — Подождите! — Он стремительно вскочил. — Подождите! Вы говорите, что из вещей ничего не обнаружено! Это ж, выходит, и чемодан с пробами пропал?! — Очевидно... Возняков снова рухнул на стул. — Боже мой! — с отчаянием пробормотал он. — Что он наделал! — Вы успокойтесь, — сказала Задорина, подошла к столу и налила в стакан воды. — Выпейте! — «Успокойтесь»!.. — Возняков оттолкнул стакан и снова вскочил. — Вы понимаете, что вы говорите? «Успокойтесь»... Ведь в этих образцах итог нашей длительной работы! Вы можете понять это? — Могу, — спокойно сказала Задорина. — Что это были за образцы? — поинтересовался Сажин. — Боксит... Мы наконец-то уловили кондиционную руду! — Возняков замахал длинными нескладными руками. — Мы наконец-то нащупали мощную рудную залежь... С таким трудом! — Вы говорите, боксит? — оживился Сажин. — Да... — Возняков смешался, покраснел. — Простите меня. Я, кажется, болтаю лишнее... Никак не привыкну к новым временам. — Да нет, ничего лишнего, — постарался успокоить его Сажин. — У нас, понимаете, поступили недавно такие строгие инструкции... — сконфуженно признался Возняков. — А-а... — Сажин понял геолога. — Ну коль так... вопросов больше не имею. Есть только просьба. Прошу вас сказать в коллективе, что найденный нами труп вы не опознали. — Как так? — Скажите, что это не Николашин. — ? — Так нужно. — Но сумею ли я? — Должны суметь, — жестко сказал Сажин. — Так нужно для следствия. — Хорошо, я постараюсь. Возняков стал прощаться. Когда он пожимал руку Задориной, Сажин чуть улыбнулся: — А с Надеждой Сергеевной вам надо обязательно подружиться. Она будет вести следствие. — Ну и времена! — только и нашелся сказать Возняков, с изумлением оглядев нахмурившуюся девушку. — Сумку забыли, — напомнил Сажин, когда геолог направился к двери. — Вот разиня! — чертыхнулся Возняков, вернулся и взял сумку, — Вы рассеянны, — заметил Сажин. — Да. Чертова рассеянность. Я все время попадаю из-за нее в разные истории. Чаще всего неприятные. — Зачем вы запретили рассказать о судьбе Николашина? — спросила Задорина, когда Возняков уехал. Сажин долго думал, морща широкий бугристый лоб, потом сказал: — Об этом мы всегда успеем сообщить. Разве не так? — Так, — согласилась Задорина, ее карие глаза оживленно блеснули. — Вы полагаете, что мы можем вспугнуть преступников? — Да. — Значит, я должна искать следы исчезнувшего Николашина? — Совершенно верно. — Мне это не совсем ясно. Сажин испытующе посмотрел на девушку. Помолчал. — Вы должны всем ходом следствия показать, что ищете живого исчезнувшего человека, а не его убийц. — Почему? — Вам ничего не говорит исчезновение проб и отсутствие у Николашина каких-либо ценностей? В чем первопричина преступления? — Для меня это пока не ясно. — Для меня тоже. — Сажин начал сердиться. — Потому я вас обязываю быть осторожной. Неизвестно, что за всем этим кроется. — Хорошо. Я поняла. Вы поедете со мной в Заречье? — Нет. Завтра я еду в Сосногорск.
3. ТРЕВОЖНЫЕ ВЕСТИ
Перед самым обеденным перерывом капитана Новгородского вызвал к себе полковник Костенко. По тону, каким начальник отдела сказал в телефонную трубку: «Зайдите», Новгородский сразу догадался, что предстоит новое задание. Через несколько минут он входил в кабинет полковника. Костенко был не в духе. Он всегда бывал не в духе, когда случалось что-нибудь непредвиденное. Тогда полковник курил папиросу за папиросой и голос его становился отрывистым, громким. Очутившись перед окутанным клубами сизого табачного дыма полковником, Новгородский понял, что этим самым «непредвиденным» придется заниматься ему. — Вот что, капитан... — медленно начал Костенко, ткнув папиросу в пепельницу. — Хотел дать вам отдохнуть, но... сами понимаете. — Понимаю, — сказал Новгородский. — Тогда к делу. — Костенко пристукнул костяшками длинных тонких пальцев по столу и заговорил в своей обычной манере: — Сегодня у меня был человек из района. Точнее: начальник Медведёвского райотдела милиции. Сажин Порфирий Николаевич. У них ЧП. В деле есть обстоятельства, внушающие некоторые подозрения. Сажин будет у вас в семнадцать ноль-ноль. Вникните в существо дела. Разберитесь. Выводы и предложения доложите вечером. Ясно? — Ясно, — четко ответил Новгородский. Костенко кивнул бритой головой, отпуская капитана. Сажин оказался пунктуальным человеком. Ровно в пять вечера в кабинет Новгородского вошел массивный пожилой мужчина в мешковатом штатском костюме. Он поздоровался. Посмотрел в пропуск, спросил: — Это сто седьмая комната? — Да. — Вы капитан Новгородский? Посетитель внимательно оглядел капитана и еще раз заглянул в пропуск. — Присаживайтесь, — стараясь быть приветливым, пригласил Новгородский и весело подумал: «Еще не хватало, чтобы он потребовал у меня удостоверения личности». — Благодарю. — Сажин неторопливо сел, опять огляделся и, очевидно, убедившись, что пришел, куда надо, сказал: — Полковник Костенко просил меня встретиться с вами. Вот я... — Да-да. Я давно жду вас, — поспешил развеять его скованность Новгородский. — Полковник очень заинтересовался вашим делом. Вы только что из района? — Да. — У вас в Медведёвке тоже морозы с ветрами? Достается? — Да. Зима сердитая нынче. Достается. — Сочувствую. — Спасибо. Вам отогреваться в городе небось тоже не часто приходится? — Да. Другой раз матушка-зима до цыганского пота проберет! — Новгородский рассмеялся. Сажин тоже улыбнулся. — Ну, давайте, Порфирий Николаевич, хвалитесь своими новостями, — простецки сказал Новгородский, почувствовав, что контакт с собеседником установлен. — Хвалиться особенно нечем. — Сажину понравилось, что моложавый капитан назвал его по имени-отчеству. — Дело, собственно, только начато... Пока гость рассказывал о трагедии Николашина, Новгородский делал короткие записи в серый блокнот и бросал исподлобья быстрые, любопытные взгляды на неторопливого рассказчика. Сажин ему нравился. Несмотря на грузность и медлительность, он был точен в движениях, в нем чувствовались сила, твердость. Большеносое, полное лицо с глубоко посаженными серыми глазами тоже дышало этой спокойной твердостью. — Так вы говорите, что Возняков об образцах боксита упомянул вскользь? — спросил Новгородский, когда Сажин кончил рассказывать. — Да. Время военное. Геологи, очевидно, ограничены теперь в информации. — Понятно. Возняков вернулся к месту работы? — Нет. Он вчера тоже приехал в Сосногорск. — Зачем? — Не знаю. Я случайно видел его на вокзале. Мы не разговаривали. — Значит, вы полагаете, что гибель Николашина каким-то образом связана с образцами, которые он вез? — Я ничего не полагаю, товарищ капитан. — Зовите меня просто Юрий Александрович. — Я ничего не полагаю, Юрий Александрович. Мне просто кажется странным это преступление. Оно было подготовлено. В этом я убежден. Случайные убийства так не совершаются. Ведь труп убитого завезли за семнадцать километров от станции. И завезли ночью, ибо днем на полевых дорогах относительно людно: вывозят корма к фермам и дрова из лесосек. — Убедительно. — Новгородский пытливо посмотрел на обветренное, красное лицо Сажина и вдруг быстро спросил: — А если дело в документах? Сажин долго думал, почесывая толстый, вислый нос, потом сказал: — Не думаю. Насколько я понимаю, в авансовый отчет начальника партии входят в основном платежные ведомости, по которым выдается зарплата. Эти ведомости нетрудно восстановить. Ведь коллектив обычно получает деньги скопом, в одно время и чаще всего по одному документу... Сумму, причитающуюся каждому, таким образом, видят все. Едва ли мотивом убийства послужило желание кого-то вторично получить деньги. — Пожалуй... Давайте сделаем еще одно предположение. Что, если у Вознякова крупная недостача? Он составляет фиктивный отчет, берет с Николашина расписку, отправляет его с отчетом и в дороге... — Новгородский рубанул ладонью воздух. — Тоже не совсем вероятно, — ничуть не удивляясь предположению капитана, возразил Сажин. — Я Вознякова видел всего один раз и потому не могу чего-либо утверждать. Но все же сдается, что он не способен на такое. У меня создалось первое впечатление, что он рассеянный, неуравновешенный, но вообще-то отзывчивый, не дурной человек. Хозяйственник-администратор, конечно, он аховый... — А если он играет такового? — Не думаю, но... — Сажин помялся. — Все может быть. Я в таких делах специалист не особенно опытный. Проверим. — Вот-вот! Надо проверить. — Новгородский встал. — Надо обязательно проверить. Кто у вас ведет следствие? — Надежда Сергеевна Задорина. — Опытная? — Нет. Только что из института. — Она не вспугнет преступников? — Не думаю. Девушка неглупая. Мы условились, что она должна вести следствие так, будто ищем не убийц, а самого исчезнувшего Николашина. — Да. Это вы предусмотрительно сделали, — одобрил Новгородский. — Но вот документы... Надо, чтобы ваш следователь попробовал выяснить фактические расходы Вознякова за отчетный период. — Хорошо. Вы полагаете, что нам, милиции, так и придется вести расследование до конца? — А что в том плохого? Сажин ничего не ответил, задумался. — Будет необходимость — мы вмешаемся, — успокоил его Новгородский. — А для существа дела гораздо полезнее, если все будут знать, что следствие ведет милиция. Значит, дело уголовное! — Оно и так уголовное. — Конечно. Но если мы имеем дело не с уголовниками, а с другим врагом — для него это много значит. — Понятно, — сказал Сажин. — В общем, мы будем работать с вами в контакте. Я вскоре приеду в Медведёвку. Там мы переговорим обо всем конкретно. Договорились? — Добро. — Дайте мне ваш телефон и домашний адрес. Думаю, что нам удобнее встретиться на квартире. — Конечно, — согласился Сажин. — Ну, не буду вас задерживать. Совершенно правильно сделали, что поставили нас в известность. Сейчас в Медведёвку? — Да нет. Еще на денек-другой задержусь. — Дела? — Да. Людей не хватает. Нет даже начальника уголовного розыска. Хочу просить в областном управлении поддержки. Может, в госпиталях подходящие нестроевики найдутся, которым податься некуда. — Вполне возможно, — одобрил Новгородский. — У многих родные хаты за линией фронта остались. Не прошло и нескольких минут после ухода Сажина, как Новгородского снова потребовал к себе Костенко. Для капитана это было неожиданностью. — Товарищ полковник, я еще не успел подготовиться, — доложил Новгородский, войдя в кабинет. — Ну что ж... На нет — суда нет, — кисло улыбнулся Костенко. — Будем выводы делать вместе. Берете в компанию? Костенко опять невесело улыбнулся. Он любил пошутить. Полковник закурил, прижмурил выпуклые черные глаза, задумался, глядя куда-то мимо присевшего на диван Новгородского. В свете настольной лампы его худое лицо с крючковатым тонким носом казалось бледнее, чем было на самом деле. Капитан глядел на своего начальника с сочувствием. Он знал, как много приходилось работать Костенко в последние месяцы. Почувствовав на себе его взгляд, полковник встряхнулся, выпустил под абажур лампы струю дыма. — Разглядываете? Да, устаю. Так бы и удрал на рядовую оперативную работу. Осточертел этот кабинет. Нервишки, что ли, сдают... — пожаловался Костенко и обычным деловым резким голосом, от которого Новгородский сразу выпрямился, сказал: — Вызвал вас по делу. Сейчас звонил начальник геологического управления Локтиков. Просил принять. Вот жду. Думаю, что речь пойдет о поисковой партии Вознякова. Предполагаю. Потому вас и вызвал. Чтобы были в курсе. — Понимаю. Окутавшись дымом, Костенко опять погрузился в свои сложные и трудные думы...Помимо официальных какие-то очень странные, внешне ничем не проявлявшиеся отношения связывали капитана с полковником. Новгородский много раз пытался разобраться в сущности этих отношений и каждый раз оставался в недоумении. Ничего четкого сформулировать не удавалось. Костенко — начальник, Новгородский — подчиненный. Сколько помнит капитан, никаких бесед, кроме деловых, они никогда не вели. За все время совместной службы полковник даже ни разу не поинтересовался семейными делами Новгородского. И все равно что-то было... Костенко — давний бобыль. Сотрудники знали, что жена его более десяти лет назад погибла при железнодорожной аварии, что у полковника есть сын и дочь. Но где они находятся — не знал никто. Жил Терентий Иванович одиноко, питался в управленческой столовой, зачастую оставался ночевать в своем кабинете, даже тогда, когда в том не было особой нужды. «Рисуется. Трудягу из себя изображает», — ворчал иногда кое-кто из сотрудников (как правило, из провинившихся, получивших от полковника взбучку). С обиженными не спорили, хотя все знали, что это не так. Тем не менее и понять полковника, без всякого смысла лишавшего себя домашнего постельного уюта после напряженного рабочего дня, было трудно. Не понимал и Новгородский. Сам капитан был тайным сластеной, что тщательно скрывал от сослуживцев, боясь подначек и розыгрышей. Он любил мороженое, хорошие конфеты, в доброе довоенное время не раз страдал желудочными расстройствами из-за чрезмерного увлечения фруктами, которые поедал без разбора и в неограниченном количестве (были бы фрукты и наличные деньги). А всего больше любил Новгородский после утомительной командировки очутиться дома... Красота! Вымыться в ванне, выпить стопку коньяку, уничтожить тарелку огненно-горячих пельменей, закрепить это удовольствие стаканом сладчайшего чая, завалиться на белоснежные, пахнущие свежей стиркой простыни и потянуться, чтобы кости захрустели, — это ли не разрядка! Утром проснешься бодрый, отдохнувший, заряженный энергией на всю неделю. Полковник без всяких видимых причин такого удовольствия себя лишал. Понять это было трудно. Тем более трудно, что сотрудникам своим без крайней нужды сверх положенного засиживаться на работе Костенко не давал. «Мне измочаленные дистрофики не нужны! — обычно бурчал он. — Нашей службе нужны люди мобильные, здоровые, с крепкими нервами. Марш домой! Учитесь организованности, учитесь управляться с делами в нормальные сроки...» Сие, впрочем, не мешало полковнику на следующий день безапелляционно потребовать с того же самого сотрудника быстрейшего выполнения порученного задания. Вообще-то Терентий Иванович не относился к категории начальников, не позволявших себе выходить за рамки устава, жесткого регламента военного учреждения. Он мог пошутить, при разборе какой-либо неудачной операции огорошить исполнителей насмешливым сравнением, произнести вместо реплики ядовитую цитату из классиков. Но не был он и демократом в том смысле, когда начальник снисходит до покровительственно-приятельского отношения с подчиненными, позволяет себе и им маленькие вольности, вроде обмена мнениями о достоинствах фигурки той или иной кинозвезды или чего-то подобного. Костенко был требователен, но ровен. Он был начальником и никогда не играл такового. Были неприятности — он был хмур и зол, были удачи — был весел и не скрывал этого. Он не умел важничать. Терентия Ивановича уважали. Уважали и побаивались все сотрудники, в том числе и те, кто, получив взбучку, ворчал, что полковник «рисуется». Костенко был чекистом старой школы, работал когда-то в непосредственном подчинении у самого Дзержинского. Но уважали его не за это (хотя такая деталь биографии сама по себе взывала к уважению). В органах безопасности имелись и такие кадровики из старой гвардии, которые давно растеряли былые качества. Костенко же был умен, грамотен и очень опытен. Он знал все тонкости оперативной работы и потому с полуслова понимал своих подчиненных, понимал их трудности. Но не в том была его сила. Костенко обладал обостренным чувством предвидения. Сотрудники отдела не раз поражались интуиции полковника, который еще задолго до официального уведомления соответствующего промышленного ведомства брал под контроль ту или иную военную новостройку... И как правило, не ошибался. Уважал полковника и Новгородский. Но не побаивался. Почему? Это ему трудно понять. Наверное, из-за тех самых странных отношений. Полковник с капитаном при своих встречах никогда не перешагивали рамок служебных отношений, а все равно было между ними что-то такое, что заставляло Новгородского не только уважать полковника, но и испытывать чувство смутной привязанности, симпатии, сыновнего доверия... Во время совещаний или при беседах с глазу на глаз Новгородский не раз ловил на себе внимательный, изучающий взгляд полковника. Было в этом взгляде столько теплого, недоговоренного, что казалось, Костенко вот-вот встанет, скажет что-то хорошее, очень личное. В таких случаях Новгородский каждый раз напрягался, выжидающе замирал. Но Костенко отводил взгляд и... ничего не говорил. А после недолгого раздумья обычным суховатым тоном задавал очередной деловой вопрос. В беседах с подчиненными он всегда предпочитал спрашивать. Глядя сейчас на окутавшегося клубами табачного дыма размышляющего полковника, Новгородский думал, что во всей истории, рассказанной Сажиным, может оказаться много сложного и неожиданного. Этого неожиданного Костенко, конечно, предвидеть не мог. Как можно знать, что где-то существует маленькая поисковая партия Вознякова? Геологические организации с представлением необходимой информации задержались... Костенко потянулся за карандашом, подвинул к себе объемистый блокнот, лежавший на краю стола, что-то записал. В этих неторопливых движениях было столько вялости, было столько усталого, старческого, что капитан сочувственно вздохнул: «Н-да... Однако, неуютно живет наш старикан!..»
Локтиков оказался высоким, крепким, ладно сложенным человеком. Он, кажется, ничего не умел делать тихо и медленно. Ввалившись в кабинет, он шумно поздоровался, шумно придвинул к столу Костенко стул (хотя рядом стояло кресло), с громким стуком выложил на стол полковника простенький портсигар, спички. — Курить можно? — басисто спросил он. — Безусловно, — дружелюбно улыбнулся Костенко. Он успел согнать с лица выражение усталости, и выпуклые темные глаза с любопытством ощупывали шумного посетителя. — Под дымок разговор вкуснее. — Во-во! — обрадовался Локтиков и тут же сунул в рот папиросу. — Я к вам по одному дельцу... Посоветоваться надо. — Он оглянулся на Новгородского. — Вы можете говорить абсолютно все, — понял его взгляд Костенко. — Добро. — Локтиков прикурил и сразу приступил к изложению своего дела. — У нас случилась большая неприятность. Чтобы вы лучше поняли частное значение случившегося, я обрисую сначала общую обстановку. Не возражаете? — Не возражаю. — Итак, несколько месяцев назад управлению был резко увеличен план по приросту запасов основных видов металлургического сырья — руд черных и цветных металлов. Я думаю, вам понятно значение такого решения в военное время. — Да. Понятно. — Особенно резко увеличен нам план по приросту запасов алюминиевого сырья — по бокситам. Нам предписано ценой любых усилий в кратчайшие сроки разведать и сдать промышленности несколько крупных месторождений бокситов, наличие которых, по всем данным, предполагается в Сосногорской области. Я ясно говорю? — Ясно. — Итак, в соответствии с этим важнейшим заданием мы стали форсировать поисковые работы на всех перспективных площадях. Одна из таких перспективных площадей территориально относится к южной части Медведёвского района. И мы в управлении, и академик Беломорцев возлагали и возлагаем на этот участок особенно большие надежды. — Академик Беломорцев? — Да. Это один из ведущих специалистов по алюминиевому сырью. — Так... — Полковник оживился. Новгородский сделал короткую запись в блокноте. — На указанной площади работает поисковая партия. Возглавляет ее опытный инженер-геолог Возняков. Матерый бокситчик. — Локтиков выхватил из портсигара новую папиросу. — Партия провела большой объем работ. Работа была трудной и не очень удачливой. Я думаю, не стоит сейчас говорить об этих геологических превратностях. Главное в другом. Главное в том, что Возняков в конце концов нащупал основное месторождение. Скважина, пробуренная в километре от села Заречье, вскрыла почти десятиметровый пласт кондиционнейшего диаспорового боксита. Представляете! — Локтиков энергично встряхнулся на стуле, и тот заскрипел под его могучим телом. Великолепнейшее глиноземное и абразивное сырье! — Интересно, — подбодрил его Костенко. Жадно хватая дым, Локтиков продолжал: — Возняков, конечно, сразу сообщил нам новость, и мы с нетерпением ждали, когда образцы руды появятся в нашей центральной лаборатории, но... но они не прибыли! — Почему? — удивился Костенко, будто и не было у него беседы с Сажиным. — Этот Возняков додумался поручить пробы некоему инженеру-геологу Николашину. Понимаете, какая безответственность! Николашин злоупотребляет алкоголем. Он был снят с ответственной должности из-за этого и, видимо, был бы уволен из системы управления. Но Возняков поручился за него, попросил направить Николашина в его партию. Мы пошли навстречу. И вот итог... Николашин бесследно исчез вместе с документами и пробами. — Так. — Но это не все. — Локтиков закурил третью папиросу. — Вчера в управление приехал сам Возняков и сообщил нечто странное. Не надеясь больше на появление своего посланца, он решил срочно отправить на опробование в лабораторию управления остатки рудного керна. — Чего? — спросил Костенко. — Керна. Образцов породы, поднятых из скважины. Образцы эти имеют цилиндрическую форму, и мы на анализы берем только половину, раскалывая столбики пополам. По вертикали. — Локтиков выхватил из прибора полковника толстый карандаш, поставил его торчком и показал резким движением руки, как колется сверху вниз керн. — Понятно, — сказал Костенко. — Как полено. — Так вот, — Локтиков начал волноваться, — оставшейся половины рудного керна Возняков не обнаружил. Ящики с этим керном бесследно исчезли из кернохранилища. — Как так?! — Костенко тоже закурил, и выражение его лица стало жестким. Новгородский передвинулся по дивану. — Вот так. Возняков заявил, что он самолично проследил, как керновые ящики с этой скважины перевезли в кернохранилище — они арендуют для этой цели колхозный сарай, и сам закрыл его на замок. Ни у кого, кроме него, ключей к сараю нет. — Т-так-с... Скажите, а Вознякову можно доверять? — пристально глядя в лицо Локтикову, спросил Костенко. — Абсолютно. Это один из наших опытнейших, честнейших инженеров. Администратор, правда, он неважный, но тут уж ничего не сделаешь, — шумно вздохнул Локтиков. — Рассеянность — его несчастье. — Зачем же вы назначили его начальником партии? — А кого же! — удивился Локтиков. — У нас такой острый недостаток в кадрах, что мы далеко не во всех партиях имеем на руководящих должностях дипломированных специалистов. Это главная наша беда! — Да, беда, — согласился Костенко. — И как Возняков объясняет исчезновение керна? — Он в полной растерянности. Ведь пропали результаты его полуторагодичных тяжелых поисков. Подавлен. Ничего не понимает. А в его отношении к исчезновению Николашина вообще много странного. Мне кажется, он чего-то недоговаривает. — Так! — Костенко затушил папиросу и обратился к Новгородскому: — Юрий Александрович, вам, кажется, что-то известно об этой истории. У вас есть вопросы к товарищу Локтикову? — Есть, — оживился Новгородский. — Скажите, рудный керн пропал весь без остатка? — Да. Весь. Вместе с ящиками. У Вознякова остался только маленький кусочек боксита, который он взял себе на память об открытом месторождении. Вот он! — Локтиков достал из кармана бумажный сверток, развернул бумагу и подал полковнику небольшой тяжелый кусок породы темно-вишневого цвета. Костенко долго с интересом ворочал его тонкими пальцами, а потом передал Новгородскому. Тот тоже внимательно осмотрел кусочек руды. — Значит, это и есть боксит? — Он возвратил образец Локтикову. — Да. Это наши будущие боевые самолеты, ценнейшие сплавы. В общем, стратегическое сырье. — Понятно. — Новгородский помедлил. — Скажите, вы не думаете, что кто-то хочет сбить геологов с правильного направления поисков? — Нет! — голос Локтикова повеселел. — Теперь нас уже никто не собьет! Контакт нащупан. Нас кто-то хочет задержать. Кому-то надо замедлить разведку месторождения, а следовательно, и скорейшую передачу его в эксплуатацию. — Так. И кому же, вы полагаете, этонужно? — Ну, дорогие товарищи, — Локтиков широко развел в стороны сильные руки. — Это вам, органам безопасности... Костенко с Новгородским переглянулись. — Скажите, а в чем вы видите смысл такой, будем говорить прямо, вражеской акции? — спросил Новгородский. — Я уже сказал: замедлить предварительную и детальную разведку месторождения. Дело в том, что проходка скважин в Заречье весьма сложна. Очень часты аварии. Враг, видимо, хочет заставить нас заново бурить опорную скважину. Это же месяц-два трудной работы. Он рассчитал верно. — Почему? Локтиков загорячился: — Понимаете, первые результаты анализов дали бы нам основание требовать дополнительные ресурсы и средства для форсирования работ по разведке месторождения. А этих результатов у нас нет. Их у нас выбили из рук. Ведь никто не согласится бросать огромные средства и материальные ресурсы на необоснованное, беспочвенное мероприятие. А вещественных аргументов у нас нет. Только слова и свидетельство работников геологической партии. Понимаете? — Понимаем, — хмуро сказал Костенко. — Вот я и пришел к вам за помощью. Вернее, меня послал секретарь обкома Исайкин. Он специально сейчас занимается вопросами сырья. Когда я сообщил о нашей беде, он буквально за голову схватился. Оказывается, по решению Государственного Комитета Обороны уже наращиваются мощности алюминиевых заводов под наши будущие запасы. — Вот как! — Лицо Костенко совсем потемнело, раздулись тонкие ноздри на горбатом носу. — Так что просим вас, товарищи чекисты, избавить партию Вознякова от дальнейших неприятностей. — Вы могли этого не говорить! — Полковник резко встал, вышел из-за стола. О чем-то думая, прошелся по кабинету. — Вот что, товарищ Локтиков, — отрывисто заговорил он, — в порядке информации сообщаю. Для личного вашего сведения. Николашин убит. Образцы и документы исчезли. Знакомьтесь! — Он кивнул в сторону дивана. — Капитан Новгородский. Будет заниматься вашими вопросами. Прошу оказывать содействие и помощь. Как говорится: прошу любить и жаловать. — Любую помощь и в любое время! — угрюмо пробасил Локтиков, беспомощно оглядываясь на Новгородского, — так преобразило его известие о смерти Николашина. — У вас есть еще вопросы, капитан? — Костенко снова сел. — Пока нет, — сказал Новгородский. Локтиков медленно убрал в карман портсигар и стал прощаться. — Что вы думаете предпринять? — спросил полковник Новгородского, когда они остались вдвоем. — Начну со сбора информации, — подумав, ответил капитан. — Надо все же получше войти в курс дела. — Правильно, — одобрил Костенко. — Завтра же посетите секретаря обкома Исайкина и академика Беломорцева. Я позвоню. Попрошу, чтобы они нашли время вас принять. Вечером доложите мне о своих планах уже в деталях.
4. СЕЙЧАС ВЕЗДЕ ВОЙНА
Следующий день у капитана Новгородского был загружен до предела. С утра он рылся в технической библиотеке управления, выискивая сведения по алюминиевому сырью. Это занятие было капитану даже приятно. Когда-то он хотел стать физиком и питал большую склонность к технической литературе. Роясь в справочниках, капитан на какое-то время вновь почувствовал себя восемнадцатилетним парнем Юркой Новгородским, будто не было за плечами тридцатитрехлетней жизни, службы в пограничных войсках, органах контрразведки... Собственно, эта склонность к технической литературе и привела юного Новгородского на службу в органы безопасности. Юрка хотел стать физиком, но эти мысли были общими, лишенными какой-либо конкретности. Юрка увлекался всем, чем придется. То целыми вечерами сидел в школьном физическом кабинете, занимаясь самыми невероятными опытами, то вдруг увлекался строительством авиамоделей, то мастерил «всамделишную» мортиру, приспособленную для боя в городских условиях... Увлечения школьных лет не прошли бесследно. Поступив на завод, Юрка стал посещать кружок Осоавиахима, стрелковую секцию и городской радиоклуб. Там-то и заметили упорного, любознательного парня. Старший инструктор заинтересовался: где молодой сталевар набрался столь пестрой мешанины разнообразных знаний и навыков? — а узнав, удивился. — Ты, Новгородский, первостатейный болван! — констатировал он. — Если бы энергию, которую ты затратил на свою самодеятельность, направить в одном направлении — давно бы быть тебе профессором! Не меньше. Факт. Учти, кто в жизни по-заячьи петляет, тот ничего не добивается. Заяц он и есть заяц. Сигает от куста к кусту, как ты... Прыти в тебе много, жадность к познанию хорошая есть, а храбрости ни на грош! — Ну да! Храбрость у меня есть! Хочешь, с третьего этажа выпрыгну? — обиделся Юрий. — Ей-богу, болван! — рассердился инструктор. — Храбрость храбрости рознь. Для того чтобы одному делу себя посвятить и перед неудачами не пасовать — тоже храбрость нужна. Только своего рода. Что-то вроде самодисциплины. Понял? Слышал, набор в пограничное училище идет? Вот давай-ка туда. Там тебя в руки возьмут. К полезному делу приставят. Поверь старому пограничнику! Юрий в ту пору имел смутное представление и о самом училище, и о том, к какому делу его там могут приставить. Но у него было пылкое сердце, он хотел быть полезным родной стране и потому с энтузиазмом принял предложение бывшего пограничника. Принял и до сих пор не жалеет... Капитан рылся в справочниках, и ему было приятно вспоминать бесшабашного Юрку Новгородского. После технической библиотеки последовали дела менее приятные. Второй секретарь Сосногорского обкома партии Исайкин встретил Новгородского довольно неприветливо. Среднего роста, худой, измотанный бессонницей, он нервно вышагивал по обширному кабинету и без всякого стеснения желчно ругал органы безопасности, милицию... — Среди бела дня в центре тыловой промышленной области у нас, как у слепых котят, стащили из-под самого носа не только ценнейшие образцы, но и убили инженера! Позор! Черт возьми, из-под самого носа! Новгородский молча слушал секретаря и не обижался. Он понимал — это просто-напросто нервы, темперамент и переутомление. Никому в области в те напряженные дни не жилось легко. Разве только редким прохвостам. В Сосногорск потоком прибывали беженцы, составы с демонтированным оборудованием, дефицитными материалами. Все это нужно было устраивать, размещать, быстро включать в производство. Исайкину доставалось. Новгородский это понимал и потому сочувственно пережидал, пока обозленный, переутомленный секретарь выговорится. Наконец Исайкин немного успокоился. Он сел за свой широкий стол, подпер обтянутые желтой кожей скулы худыми кулаками и сказал: — Ну, говорите теперь вы. Новгородский постарался быть кратким. — Нас интересует общая оценка положения, чтобы предвидеть, в каком направлении может активизировать свои будущие действия вражеская агентура. — Понятно. Еще что? — Какие последствия повлекли или повлекут уже происшедшие события и как можно эти последствия нейтрализовать. — Последствия? — Исайкин печально посмотрел на Новгородского большими серыми глазами, на которые упрямо наползали отяжелевшие веки. — Последствия самые скверные. Даже при самом благоприятном стечении обстоятельств наша промышленность получит так необходимый для выполнения военных заказов алюминий уже на месяц позже, чем это могло быть. — Плохо. — Да. Плохо. Больше мы не можем допускать беспечности. Месторождения бокситов, имеющиеся на территории области, должны быть вовлечены в сферу производства как можно скорее. Это архиважно. Этого требуют интересы войны. Москва каждодневно интересуется ходом поисковых работ. Исайкин потер переносицу и уже почти совсем спокойно продолжал: — Имеются важнейшие решения об увеличении выпуска вооружения. Вопросы обеспечения оборонной промышленности сырьем, таким образом, встают на первый план. Мы, в нашей Сосногорской области, под предполагаемые запасы бокситов увеличиваем мощности алюминиевых заводов. Уже сейчас строим несколько мощных глиноземных и электролизных цехов. Это в такое тяжелое время, да еще под будущие, я это подчеркиваю, еще не выявленные, не подсчитанные запасы. Завтрашние потребители алюминия — предприятия авиационной промышленности — тоже наращивают мощности. Под будущий алюминий. Не под тот, который нам обещают поставить по ленд-лизу американцы — то слезы, — а под свой. Под большой алюминий. Действующая армия требует новой авиационной техники. Мы ее должны дать. Теперь вы понимаете, какие проблемы кроются за результатами работ этого растяпы Вознякова? — Понимаю, — сказал Новгородский и не сдержался: — Надо было все же предупредить нас. — Милый капитан, — слабо улыбнулся Исайкин. — У нас сотни таких объектов. Сейчас везде война. Везде! Сейчас все важно. — Конечно. Но все же... — Это уж ваше дело: предвидеть, где враг может в первую очередь ужалить. Новгородский насупился, покраснел. Это почему-то немного развеселило Исайкина. Он примирительно сказал: — Не сердитесь, капитан, это общее наше упущение. — Пожалуй. — Теперь важно обезвредить гадюку, которая пробралась в геологоразведочную службу, и боюсь, что не одна. — Она будет обезврежена! — уверенно сказал Новгородский. — Не сомневаюсь. — Исайкин смотрел на капитана уже совсем благожелательно. — И еще. Надо смотреть вперед. Враг может нанести в будущем удар по руднику, который будет строиться, по транспортным путям, соединяющим его с основными железнодорожными магистралями. Имейте это в виду. — Мы учтем. — Очень хорошо. — Исайкин встал, подошел к Новгородскому и запросто простился с ним. — Будем надеяться на вас. А на меня не сердитесь. Знаете, со всеми бывает. Заботы горб ломят. — Понимаю, — улыбнулся Новгородский. Академик Беломорцев встретил капитана тоже неприветливо. Он куда-то спешил — то и дело поглядывал на часы, мял в руках голубоватый пуховый шарф. — Товарищ Беломорцев, — сразу приступил к делу Новгородский, — начальник геологического управления Локтиков информировал вас об исчезновении проб, высланных Возняковым? — Да. — Академик откинулся на спинку стула и стал скептически оглядывать посетителя. Одетый в штатское капитан, с его точки зрения, очевидно, выглядел слишком молодо, чтобы сразу внушить уважение. — Вы бы не могли высказать свою точку зрения на последствия этого происшествия? — Это что, для расследования? — Нет. Для правильной ориентации в создавшейся обстановке. — Последствия налицо. — Невысокий, седой, с добрым бабьим лицом, академик говорил рубленым военным языком. — Основания! Нам нужны основания для широкого разворота работ в Заречье. Этих оснований у нас нет. Их похитили. Будь у нас в руках первые анализы — были бы приняты соответствующие решения. — Но ведь боксит найден. Кондиционный боксит. Нет проб — есть люди, которые его нашли, — заметил Новгородский. — В Государственном банке, в Министерстве финансов сидят серьезные люди. Они журавлей в небе не признают. В Госплане — тоже. — Значит, форсирование разведочных работ пока отменяется? — Совершенно точно. Будут пробы — будут решения. Мы готовы в любой момент направить в Заречье технику и буровые бригады. Даже из других районов страны. В военное время затяжек не может быть. Дайте нам материальное доказательство — и мы пойдем на риск. В конце концов одна скважина — еще не месторождение. Может оказаться только маленькая линза. Карман. Но, повторяю, мы пойдем на риск. Боксит там должен быть. В это мы верим. — Так... — Новгородский решил спросить о главном. — А немецкие ученые тоже могут предполагать, что в данном районе есть месторождения бокситов? Беломорцев взметнул жидкие седые брови и с удивлением посмотрел на капитана. Подумал и потом убежденно сказал: — Безусловно. Все месторождения бокситов так или иначе связаны с латеритовым выветриванием. То есть приурочены к прибрежным районам древнейших, ныне несуществующих, морей с тропическим и субтропическим климатом. Это известно любому геологу. Не секрет также, что крупнейшие пластовые месторождения бокситов залегают в известняках определенного геологического возраста. Любому геологу известно, что на территории Сосногорской области имеются именно такие известняки. Причем они занимают очень большие площади. — Следовательно, фашистская разведка может заинтересоваться поисковыми работами, проводимыми на этих площадях? — Безусловно. — И каким образом? — Ну, милый юноша, — Беломорцев смешался, — для меня это темнейший лес. Я тут ничего не понимаю. — Немцы могут забросить свою агентуру в районы вероятных поисков стратегического сырья? — Увольте. Не знаю. Хотя... — Беломорцев помолчал, что-то обдумывая. — Хотя в принципе это возможно. Но практически — едва ли. Перспективных районов слишком много. Тут надо иметь целую армию квалифицированных агентов. Им проще и надежнее иметь своего человека в центральных органах, где концентрируются все данные геологических изысканий. Помнится, у них были такие попытки. — Были. — Если у них нет своих людей в Москве, — продолжал вслух свои размышления Беломорцев, — то они постараются иметь их в важнейших территориальных геологических управлениях. — В том числе Сосногорском, — досказал его мысль Новгородский. — Конечно. В Сосногорском — обязательно! Сосногорск всеми ресурсами работает на войну. Это понятно любому. — Благодарю вас, товарищ Беломорцев, за беседу. — Новгородский встал.Локтиков долго бушевал у телефона, пока смог наконец заговорить с Новгородским. — Беда, — шумно вздохнул он, свирепо швырнув трубку на рычажки аппарата, — ничего нет. Транспорта мало, станков недостаточно. А главное — не хватает сменного бурового оборудования. Инструмент изнашивается, а мы его не пополняем и не заменяем. С ума сойдешь! Тут авария, там авария, все орут: давай новые буровые штанги, давай добрый инструмент! А я что, рожу? Новгородскому стало весело. Несмотря на ожесточение и откровенную злость, в голосе начальника управления не было уныния и паники. — Работайте получше, дайте отдачу — тогда вам, может, чего-нибудь и подкинут, — с улыбкой сказал капитан, вспомнив разговор в обкоме. — Как же... Подкинут. Держи карман шире, — проворчал Локтиков и тут же признался: — Душу из Исайкина вытрясу, а своего добьюсь. Инструмент они нам дадут. Никуда не денутся. Штанги хоть и не пушки, но тоже далеко стреляют. Может, еще похлеще... Новгородский счел возможным приступить к делу. — Скажите, многие в управлении знают о существовании партии Вознякова? — Знают? — Локтиков закурил и удивленно посмотрел на капитана. — Вы спросите: кто не знает? Ясное дело, все знают. Стенд с показателями соцсоревнования стоит в коридоре. Новгородский нахмурился. Ответ ему не понравился. — И многим известно целевое задание партии? — спросил он. — Это уже другой вопрос. Здесь круг посвященных уже меньше. — И достаточно велик этот круг? Локтиков подумал, потом сказал: — Нет, не особенно велик. Но обширен. — Я мог бы иметь список сотрудников, которым известны геологические задачи и результаты работы геологических партий? — Конечно. Но ведь это проверенные люди! — Локтиков помрачнел. — Неужели вы кого-нибудь подозреваете? — Мы никого не подозреваем, — хмуро заверил Новгородский. — Нам просто хочется иметь информацию по данному вопросу. — Пожалуйста. Завтра мы этот список подготовим.
5. ЛЮДЕЙ У НАС МНОГО!
На совещании у полковника Костенко Новгородский кратко изложил свои соображения. Сообщив о собранной информации, он констатировал, что вражеская агентура стремится сорвать или хотя бы затормозить развитие сырьевой базы оборонной промышленности. — Случай с Николашиным надо рассматривать, видимо, только как частный трагический эпизод в этой широко задуманной диверсии, — сказал Новгородский. — Да, — подтвердил Костенко. — Есть сведения, что и в других районах страны немецко-фашистская агентура заметно активизировалась. — Не исключено, что в системе Сосногорского геологического управления действуют несколько агентов немецкой разведки. Сколько их — пока определить трудно, — продолжал Новгородский. — Безусловно, один из них окопался в аппарате управления и имеет допуск к секретным документам, определяющим целевые геологические задачи полевых партий. Именно он направил своих помощников в партию Вознякова, как наиболее перспективную. Без хорошего знания общей геологической обстановки такой точный выбор сделать трудно. Ведь партий в управлении более ста! — Резонно, — согласился Костенко. — Следовательно, наша основная задача сводится к выявлению вражеских агентов как в геологической партии, так и в аппарате управления. — Каким образом? — Самое главное — нащупать каналы связи, которыми пользуются периферийные агенты с Сосногорском. — Согласен. — Костенко что-то записал себе на память. — Наша радиоразведка никаких посторонних радиостанций на территории Медведёвского района пока не запеленговала, — доложил один из сотрудников отдела. — Отлично. Значит, остаются: почтово-телеграфная связь, телефонная или личные встречи. — Новгородский покосился на полковника, который выжидательно смотрел на него, и сказал: — Эту работу надо поручить особой группе сотрудников. — Ого! — Костенко откинулся на спинку стула. — Не лишка ли по нынешним временам! — Но, как минимум, один опытный работник должен взять контроль связи на себя, — твердо сказал Новгородский. — М-да... Хорошо. Подумаем. — Полковник нахмурился. — Продолжайте. — Маловероятно, чтобы вражеские агенты, действующие в Заречье, оказались местными жителями. Их, скорее всего, надо искать среди тех, кто командирован из управления или принят на месте, но не является жителем Заречья. Для выявления и проверки этих людей необходимо иметь в штате партии своего человека. Он же должен выяснить, кто из сотрудников партии выезжал второго декабря вечером на станцию Хребет или вообще отсутствовал. — Так. А как вы мыслите дезориентировать противника? Ведь после того как пропажа рудного керна стала известной, враг настороже. Он же не может допустить, что наша контрразведка не заинтересуется этим происшествием, — сказал Костенко. — Безусловно, — согласился Новгородский. — Я думаю, что работа сотрудников Медведёвского отделения милиции сослужит нам хорошую службу. Пусть продолжают следствие. Во-первых, нам будут необходимы их материалы, во-вторых, они смогут выполнять какие-то наши отдельные поручения, в-третьих, их активность будет создавать видимость, что версия о чисто уголовном характере дела — преобладает. Но, помимо этого, надо специально послать двух или трех человек для проверки обстоятельств пропажи керна. Мне кажется, хоть это и не очень гуманно, но Вознякову придется пережить несколько неприятных дней, может быть недель. Эти проверяющие... — Не много ли? — опять насупился Костенко. — Ну, пусть проверяющий, — неохотно уступил Новгородский, — должен создать впечатление в геологической партии и управлении, что на подозрении Возняков. Как это лучше сделать — надо подумать. — Решено. — Костенко продолжал хмуриться. — Хоть и жалко Вознякова, но своим легкомыслием он заслужил наказание. Нельзя же, в конце концов, быть таким растяпой... Отправлять важные пробы с одним человеком. Без сопровождающего! Это послужит ему уроком на будущее. Что у вас еще, капитан? — Основное я доложил, — сказал Новгородский. Полковник разрешил ему сесть и долго молчал, постукивая карандашом по столу. — Вот что, капитан, — наконец сказал он, — помните главное. Зареченские и сосногорские агенты — только звено в немецко-фашистской агентурной сети. Мы должны выявить сие звено и через эту ниточку идти дальше. Полной ясности пока нет, но будем исходить из этой посылки. Недооценки ситуации мы позволить себе не можем, в то же время для широких обобщений нет достаточно прочных оснований. Выявление людей, причастных к преступлению, — вот ближайшая конкретная задача. В этом главное. Вы меня поняли? — Так точно. — Кто из сотрудников медведёвской милиции ведет дело Николашина? — Некто Задорина. Только-только с учебной скамьи. Но Сажин характеризует ее с самой положительной стороны. — Гм... Вы намерены проинструктировать ее, привлечь к проведению операции? — Да как сказать... — Новгородский помялся. — Считаю нецелесообразным. Человека мы не знаем, а дело серьезное. — Обожглись на молоке — теперь дуете на воду? — усмехнулся Костенко. Новгородский слегка порозовел, насупился. По кабинету пронесся легкий смешок. Месяц назад капитану очень не повезло. На одну из электростанций Сосногорска проник в качестве диспетчера фашистский агент. Выявили его быстро, но Новгородский с арестом решил не спешить. Решил подождать — не явится ли кто к агенту на связь, не будет ли он сам искать ее... Для того чтобы держать новоявленного «диспетчера» под контролем, капитан привлек к сотрудничеству его напарницу по смене — молодую девушку-комсомолку. Соответственно проинструктировал ее. Но энергичная девушка перешагнула все рамки дозволенного. Вообразила себя этаким заправским сотрудником и стала следить за напарником везде и всюду. Понятное дело, опытный агент не мог не заметить этого. В один прекрасный день он бесследно исчез из города. Что возьмешь со сверхпредприимчивой девицы? Она не хотела плохого. А Новгородскому досталось. Досталось бы еще больше, если б по счастливому стечению обстоятельств исчезнувший фашистский лазутчик не был задержан в Челябинске. Зато какой стыд жег уши капитану, когда на допросе пойманный агент с сарказмом отозвался о методах работы «советской чекистки», а заодно и ее шефов... — Значит, пуганая ворона куста боится, так? — повторил Костенко, и в голосе его капитану послышалось осуждение. — При чем здесь молоко и ворона... — на секунду забывая о субординации, огрызнулся Новгородский. — Повторяю. Человек незнакомый, а дело серьезное. Для этой же девушки лучше быть в неведении относительно истинных наших целей. Будет вести себя естественнее, как и положено обычному следователю уголовного розыска. Ведь за ней наверняка будут наблюдать. — А если эта девушка поймет неестественность своего положения? — Сажин будет контролировать ее деятельность. На этого человека мы можем положиться. — Ну а если Сажин не сможет следить за каждым ее шагом? — Костенко впился взглядом в лицо капитана. Новгородский решил стоять на своем. — Сажин опытный работник... — А все же? — Ну... Ну, присмотримся, проверим, на что эта Задорина способна, тогда можно будет соответствующе информировать и инструктировать ее! — уступил настойчивости полковника Новгородский. — А спешить... Спешить не стоит. А то опять... По кабинету снова пронесся легкий смешок. — Не путайте репу с мясом! — сердито сказал Костенко. — Задорина дипломированный юрист. Но впрочем, смотрите сами... Ответственность за успех операции в полном объеме лежит на вас. Повторяю: решайте сами. Но не забывайте ни о молоке, ни о вороне. Считаю вопрос исчерпанным. Что вас еще интересует? — Люди. — Людей я вам не дам! — решительно отрубил Костенко. — Как же... Полковник опять что-то долго соображал. Потом решился: — Дадим вам в помощь лейтенанта Клюева. И все. Больше у нас людей пока нет. — Но для успешного проведения операции нам нужен хоть один работник с геологическим образованием... — растерянно сказал Новгородский. — Я же не специалист! — Нет у нас свободных людей! — жестко повторил полковник. — Нет ни геолога, ни горняка... Вы это знаете. Новгородский знал. В Сосногорск с потоком эвакуированных проникло много всякой нечисти. Сотрудники отдела работали с огромным напряжением. То и дело тайный враг давал знать о своем существовании. То обнаружена попытка вывести из строя уникальное станочное оборудование, то делается покушение на секретные сейфы в номерных конструкторских бюро, то вдруг поползут по перенаселенному городу невероятные слухи, авторство которых не вызывало сомнений... — Но без человека со специальным образованием нам не обойтись, — поразмыслив, пришел к неутешительному выводу Новгородский. — Кого мы пошлем в партию? — Ищите. Думайте, — сурово отрезал полковник. — Больше опирайтесь на массы. Помогает же вам медведёвская милиция! — Разве подыскать подходящих людей в геологоуправлении... — неуверенно предложил Новгородский. — Табу, капитан! Табу! — энергично стукнул костяшками пальцев по столу полковник. — Запрещаю. В управлении все должно быть тихо. Ищите другой путь. Думайте! Новгородский безнадежно махнул рукой и вдруг вспомнил разговор с Сажиным. — А если в госпиталях поискать, товарищ полковник? Костенко с интересом посмотрел на него. — В госпиталях? — Ну да. Ведь есть же среди выздоравливающих люди с геологическим образованием! — Это хорошая мысль, — оживился полковник, окидывая сидящих в кабинете многозначительным взглядом. — Мы плачем, а ведь у нас действительно неограниченный выбор. У нас много людей! Да каких! Обстрелянных. Это мысль. Одобряю. Действуйте, капитан.Выбор Новгородского пал на двух человек: лейтенанта Огнищева и капитана Стародубцева. Геологи по образованию, оба готовились к выписке. Нашлись еще геологи, но все они по тем или иным причинам показались Новгородскому людьми малоподходящими для предстоящей работы. Один из них сам пришел к капитану, услышав от кого-то, что представитель военно-строительной организации подыскивает специалистов для срочных инженерно-геологических изысканий. — Возьмите меня, товарищ капитан, — умолял раненый. — Я гидрогеолог, но несколько лет работал на инженерно-геологических съемках. Я понимаю, это нехорошо. Но что сделаешь... — Он виновато, удрученно потупился. — Танки... Все время танки... Три раза меня утюжили в окопе. Как жив остался — не понимаю. Стыдно признаться, но боюсь... Как вспомню про танки, так мороз по коже. Пробовал перебороть — ничего не получается. Никогда не думал, что окажусь трусом. А вот... Возьмите! Новгородский смотрел в мерцающие тоской большие зеленоватые глаза долговязого человека в синем госпитальном халате и не чувствовал презрения. Он мог понять этого раненого, хотя сам никогда не был в танковой атаке. Гидрогеолог боялся повторения пережитого, но оставался честным человеком. Новгородский не мог презирать его, хотя к себе в группу не взял. Разговор со Стародубцевым сначала удивил Новгородского. Он сам ненавидел фашизм, но никогда не думал, что эта ненависть может быть такой исступленной, всепоглощающей, какой она была у артиллерийского капитана. — В военно-строительную организацию? В тыл? Не пойду. Дудки! — сразу заявил Стародубцев, едва его представили Новгородскому. — Мне тут делать нечего. Копыто, слава богу, зажило (он качнул раненой ногой), теперь назад. К своим пушечкам. Господа фрицы еще узнают Егора Стародубцева! — А может быть, все же передумаете? — доброжелательно сказал Новгородский. — В тылу тоже очень много важных дел. — Брось, капитан. Пустое говоришь! Мои счеты с фашистами еще не кончены. — Счеты с ними можно сводить по-разному. — Да что ты меня уговариваешь! — рассвирепел Стародубцев. — Сказал — и точка! Это чтобы я, Егор Стародубцев, в тыл подался... За кого ты меня принимаешь! Это после того, как я со своей батареей от Кишинева до Одессы фрицам задницу показывал? После такого позора? Не-ет! Я еще дождусь наступления. Я еще до Берлина доберусь. И, дай бог удачи, собственными руками этого иуду Гитлера придушу! Не-ет. К стволу привяжу. И ахну фугасным! Вот что я с ним сделаю! Стародубцев со времени финской кампании служил в артиллерии. В нем чувствовался кадровый военный. Движения крепкого мускулистого тела и сильных рук были резки, четки. В могучем басе то и дело звучали властные нотки. Это был прирожденный солдат-командир, и он как нельзя лучше подходил для роли, которую сразу определил для него Новгородский. — Вам все же придется подумать, — дружески сказал он. — Война идет везде, и везде нужны бойцы. — Чего ты ко мне привязался! — огрызнулся Стародубцев. — Какой из меня сейчас геолог. Я солдат. Артиллерист. Мне фашистским гадам по большо-ому счету платить надо, а ты... У меня, брат, семья где-то в неметчине бедствует. Понял? Мне с тобой не по пути. Новгородскому так и не удалось в тот раз уговорить злого, упрямого артиллериста. Стародубцев ушел, с треском захлопнув дверь. Разговор с лейтенантом Огнищевым происходил в кабинете комиссара госпиталя. Молоденький лейтенант стеснялся и явно недоумевал, гадая, зачем он кому-то понадобился. У него еще не выработались военные привычки, и Новгородскому то и дело казалось, что перед ним сидит не лейтенант инженерных войск, а обычный школяр, ожидающий выволочки за очередную проказу, но какую, сам не знает. У Огнищева было на редкость простодушное лицо. На нем будто сама природа устроила все так, чтобы подчеркнуть это простодушие. Румяный, круглолицый, с пухлыми девичьими губами, над которыми весело топорщился широкий, усыпанный веснушками курносый нос, Огнищев глядел на незнакомого капитана прозрачно-синими глазами, и недоумение так и лучилось с его круглой физиономии. Новгородскому даже стало неловко, что он должен поручить этому мальчику-воину с ясными глазами сложное и рискованное задание. Но выбора не было. Огнищев был уроженцем Заречья, и такой удачи капитан упустить не мог. И притом внешность... Эта простецкая вывеска могла разоружить самого матерого шпиона. Новгородский с первого взгляда понял, что в руки ему попал бесценный клад. Вот к этой-то наружности да твердый характер! Но характера у Огнищева, к великому огорчению капитана, никакого не оказалось. «Вывеска» воистину оказалась зеркалом души. — Вы окончили Свердловский горный институт? — Да, с грехом пополам... — Почему же? — Напортачил в дипломном проекте. Пришлось переделывать. — Так. И когда кончили? — Нынче летом. — И успели на фронт? — А как же... Все добровольцами, а я что — рыжий? Новгородский посмотрел на белесые, с рыжинкой, вихры лейтенанта и с трудом подавил улыбку. — Кем же вы служили? — Командиром взвода в инженерно-строительном батальоне. — Укрепления возводили? — Да нет. Попросту драпали. На правах пехоты. — Как так? — А так. От Могилева до Брянска. Там нашему батальону и конец пришел. — Что, был уничтожен? — Да нет. Постепенно усох до полуроты. Потом расформировали. — И куда вас направили? — Кому я нужен... Толкнули в артиллерию. Дежурным при штабе полка болтался. Потом в артиллерийскую разведку сбежал. — Зачем же? — У них рации. — Ну и что? — Как что? Рации надо кому-то ремонтировать... Да и радистов не хватало. «Никакого самолюбия», — огорченно подумал Новгородский. — Вы разбираетесь в радиоаппаратуре? — Немножко. До войны в радиоклубе занимался. — Умеете работать ключом? — А как же. Новгородский ободрился. «Очень кстати». — Где же вас ранило? — Да уже под Ливнами, когда из брянского котла вырвались. — И куда? Огнищев сконфузился, ткнул пальцем в ягодицу. Новгородский только сейчас заметил, что лейтенант сидит на краешке стула. — В самое бюрократическое место. — Кость задета? — Чуть-чуть. Ходить могу. Готов к выписке. — Так. Что ж... Придется поработать в тылу. — В тылу? — Лицо Огнищева озадаченно сморщилось. — Это почему же? — Так ведь и в тылу кому-то воевать надо. — Ага, — в голосе молодого человека зазвучала обида, — это что? Все после ранения едут снова на фронт, а Володька Огнищев не подходит. Так, что ли? — Поймите, лейтенант, кому-то надо работать и здесь. — В тылу! Не-е... — Огнищев, как капризный ребенок, замотал круглой головой. — Я в тыл не могу. Нет! Да как же я в тыл! — Лейтенант с изумлением воззрился на Новгородского. — Да ведь я, считай, ни одного фашиста не убил. Как же я в тыл? — Что, и стрелять не приходилось? — удивился Новгородский. — Пальбы хватало. Да только это все коллективный огонь. А вот так — чтобы собственными руками, чтобы точно... Не было. — Все же придется остаться в тылу. — Не-е... Не могу. Вот в следующий раз на поправку привезут, тогда — пожалуйста. «И это говорит фронтовик. Человек, побывавший в окружении. Святая простота! Ребенок. Абсолютный ребенок! — окончательно огорчился Новгородский. — Это дитя все дело провалит». А вслух сказал сурово: — Придется подчиниться, лейтенант. — Что ж, прикажут — подчинюсь, — добродушно ухмыльнулся Огнищев. — Только ведь я все равно сбегу. И на что я вам нужен? Мало ли геологов. У меня и опыта никакого нет. «Нет, у него, кажется, есть характер», — ободрился Новгородский. В ясных глазах ухмыляющегося лейтенанта он совершенно неожиданно обнаружил лукавые, хитроватые искринки, в лице его уже не было ничего простецкого. Перед капитаном сидел привычно улыбающийся молодой человек, и за этой улыбкой крылось столько упрямства, желания стоять на своем, что капитан понял: никакие уговоры и внушения не помогут: лейтенант подчинится только приказу. А Огнищев, по-своему оценив задумчивость Новгородского, с воодушевлением продолжал: — Вас же самих на смех подымут, если меня возьмете. У меня ведь физиономистика — во! — Он поводил ладонью перед лицом. — Все говорят: никакой солидности! — Главное не в наружности, а вот тут! — Новгородский постучал себя по груди. — В содержании главное. — Сказал так, а сам подумал, что ясноглазый лейтенант не хуже его самого знает, в чем главное. «Хитер малый, ловко прячется за своим простодушием, как за щитом». — Оно, конечно, так... — мягким баском пророкотал Огнищев. — Только я к вам не пойду. Мне вон ребята с фронта пачками письма шлют. Все назад в часть ждут. Даже командир дивизии написал. Велел сообщить, где буду, чтоб меня затребовать. Новгородский не усомнился в его словах. Этот симпатичный мальчик мог, даже обязательно должен был быть любимцем у фронтовиков. Капитан и сам поймал себя на мысли, что ему очень нравится этот большой упрямый ребенок с лукавым взглядом. Заставив себя быть строгим, Новгородский безапелляционно сказал: — Итак, решено. Придется на время остаться в тылу. — Вот те и дела... — скис Огнищев.
6. ШИФРОВАННАЯ ПЕРЕПИСКА МЕЖДУ РЕЗИДЕНТОМ НЕМЕЦКОЙ РАЗВЕДКИ АТЛАСОМ И АГЕНТОМ № 79
«Сегодня ночью скважина возле Заречья вскрыла десятиметровый пласт кондиционного боксита. Предотвратить не удалось. Ожидается отправка образцов в лабораторию управления. Жду указаний. 27.11.41. 79-й». «Действуйте согласно инструкций. 30.11.41. Атлас». «Нарочный и образцы уничтожены. 03.12.41. 79-й». «Весь оставшийся рудный керн уничтожить. Сообщите последствия исчезновения нарочного. 05.12.41. Атлас». «Керн уничтожен. Возняков считает, что нарочный Николашин запил. Следственные органы пока не уведомлены. 07.12.41. 79-й». «Вознякова вызвали в Медведёвку. Труп не опознан. Обнаружено исчезновение керна. Вчера в партию прибыл следователь уголовного розыска. 11.12.41. 79-й». «Будьте осторожны. Активные действия прекратить. Информируйте о ходе следствия. 14.12.41. Атлас». «Следователей стало двое. Новый, безусловно, работник госбезопасности. Он осматривал кернохранилище. Есть основание полагать, что Возняков на подозрении. Версия уголовного преступления все еще сохраняется. Следователь милиции продолжает работать. Ищет Николашина. 17.12.41. 79-й». «Будьте максимально осторожны. Контрразведка может принять дополнительные меры. Всякую переписку прекратить, поездки в Сосногорск — тоже. Письменные сообщения или выезд разрешаю только в экстренном случае. Продумайте возможность исчезновения в случае провала. 18.12.41. Атлас».7. КРУТОЙ ПОВОРОТ
Володя Огнищев ехал домой со смешанным чувством радости и тревоги. В жизни произошел такой неожиданный, крутой поворот, что ему до сих пор было не по себе. Все смешалось. К радости от предстоящей встречи с родителями и родным селом примешалась тревога. Если бы Володю заставили объяснить эту тревогу, он не нашел бы нужных слов. Было трудно поверить, что в его тихом родном Заречье притаился враг. Страна детства — увитое зеленью берез и черемух Заречье — и такие события... Уму непостижимо! Володя стоял в тамбуре и глядел в вагонное окно. Поезд только что отошел от узловой станции Каменка и медленно тащился меж бесчисленных эшелонов, забивших все станционные пути. Смотреть на однотонные пыльно-красные бока ползущих за окном товарных вагонов было скучно, и Володе хотелось, чтобы поезд поскорее выбрался из этой нудной станционной толчеи на простор, на белое приволье зимних лесов. Вагон тряхнуло на стрелках, потом еще раз, еще... Стальные руки рельсовых путей стали сходиться, смыкаться, вот этих путей за окном меньше, меньше, остались где-то позади буро-красные близнецы-вагоны, за окном разлеглось широченное, дремлющее под белым саваном снега поле. А за этим полем серая чалма дыма и пыли, неровные зубцы высоких недостроенных труб, поблескивающие стеклами вместительные корпуса огромного завода. Лейтенант с интересом посмотрел туда, за поле. Вспомнил беседы с Новгородским. Конечно, об этом заводе капитан говорил с особой тревогой. Каменский алюминиевый... Там, за полем, возле строящихся корпусов и труб кишел муравейник машин, кранов, почти незаметных человеческих фигурок. Таежное зеленое Заречье должно было дать пищу этому богатырю... Володя с волнением смотрел на уползающую куда-то вбок, за кромку узкого окна, панораму военной новостройки и только сейчас ощутил всю серьезность и важность происходящего в непривычном зафронтовом мире. Ясное дело, чего бы то ни стоило, он, зареченский парень Володька Огнищев, выполнит свой солдатский долг. Это он понял сразу, как только Новгородский ввел в курс дела. Понял, и улеглось волнение, которое охватило его, когда он узнал, в какое учреждение ему предстоит явиться для дальнейшего прохождения службы. А вот Новгородский не понял... И сейчас боится, что Огнищев не справится, провалит операцию. Но Володя не обижается на Новгородского. В конце концов симпатичный капитан не ясновидец. Откуда он может знать, что, несмотря на свою простецкую внешность, Огнищев унаследовал все особенности характера своих дедов и прадедов-таежников: прост, приветлив и при всем том себе на уме, осмотрителен и до невероятности упрям. Откуда капитану знать, что за это улыбчивое упрямство отец, бывало, частенько драл настырного наследника вожжами, «подправляя» ему характер. Новгородский этого не знает... А Володя уже при первой встрече в служебном кабинете Новгородского знал, что не остановится ни перед чем, чтобы выполнить задание, и хотел сказать про то капитану. Хотел... и не сказал. Не умеет Огнищев говорить высокие слова... Поэтому Новгородский целых три дня, вперемежку с разными наставлениями, твердил одно и то же: — Главное — выдержка, естественность. И зоркость. Вы всегда должны быть самим собой. Во всем и для всех — вы раненый фронтовик. Геолог. Обыкновенный зареченский парень. Это самое важное в вашей работе. У Новгородского длинные, вьющиеся каштановые волосы. Он гибок, как девушка, среднего роста. Кожа на лице и руках тоже белая, как у девушки. Ему бы в кинокартинах сниматься. Этакий красавчик. Он любит улыбаться. Наверняка знает, что это у него здорово получается. Серые глаза его тогда искрятся веселыми дружелюбными искорками. А когда он озабочен, глаза эти становятся темно-свинцовыми, узкими и вся женственность куда-то исчезает. Капитан многому научил Володю за три дня. Успел даже сходить с ним в тир — проверить, как Огнищев стреляет из пистолета. Правда, оружия лейтенант не получил. Новгородский сказал, что после нескольких дней жизни в родном селе он получит и оружие, и все прочее. Что это за «прочее» — Володя догадывался: рация. Не зря же водил его Новгородский в радиокласс, а специальный инструктор учил пользоваться шифрами. Весть о том, что домой вернулся сын кузнеца Тихона Огнищева, мигом облетела село. Гость еще не успел как следует оглядеться в родительском доме, как нагрянула большая ватага родственников, соседей и просто любопытных. Атакованный шумной толпой обрадованных односельчан, Володя растерялся от столь неожиданного почета и невпопад отвечал на сыпавшиеся со всех сторон приветствия. Володя не знал, что он первый зареченец, вернувшийся с войны, и его немало удивляли наивные вопросы: — Моего Петра не встречал? — А Николая нашего? — А Ефимку Корякина? Странные люди. Да разве на таком огромном фронте, где схлестнулись в небывалой сече миллионы людей, разыщешь Петра или Ефимку? Володя хотел сказать об этом вслух, но, поглядев на обращенные к нему десятки тревожных, ожидающих глаз, передумал. Ответил тихо: — Нет. Не встречал. — Ну, присаживайся, сынок, повечеряем, — скомандовал отец, когда поток гостей схлынул. Коренастый, с такими же, как у сына, рыжеватыми волосами, медлительный и невозмутимый, отец говорил тем же непререкаемым тоном, каким всегда командовал в семье. Будто домой вернулся не солдат-фронтовик, а прежний пацан Володька. Старик уже успел куда-то сбегать. Торжественно водрузив на середину стола замысловатую посудину — не то графин, не то кувшин, — он с достоинством занял свое хозяйское место. Обрадованная, заплаканная мать суетливо расставила тарелки с соленьями, дымящейся картошкой, яйцами и, несколько раз всхлипнув: «Мяса-то нету!» — скрестила руки на животе, ожидая, когда сядет сын. Такой чести Володе раньше не бывало. Чтобы скрыть неловкость, он взял свой вещевой мешок и выложил на стол привезенные продукты. Отец неторопливо оглядел консервные банки и довольно крякнул: — Паек, значит? — Паек. — Убирай покедова, — скомандовал отец матери. — Не все сразу. Пусть нашего тылового хлебушка пожует. Мать с неохотой подчинилась. Володя сел рядом с отцом и тут только заметил незнакомого человека, стоявшего в дверях горницы. Невысокий, русоволосый, он с любопытством разглядывал Володю веселыми зелеными глазами и дружелюбно улыбался. — Э-э... Да ведь вы не знакомы! — спохватился отец. — Знакомься. Наш квартирант Василий Гаврилович Мокшин. Тожегеолог, значит... — Геолог? — Да, коллега. — Мокшин подошел и крепко пожал Володе руку. — Работаем здесь. Вот, уплотнил ваших родителей. — А! — вспомнил Володя. — Папаша говорил, когда в госпиталь ко мне звонил. Работаете, значит? — Работаем. — И что ищете? — Поживете — узнаете! — Мокшин добродушно, вполголоса засмеялся, отчего на его розовых щеках образовались симпатичные ямочки, и тоже сел. — Если по чистой списали, то еще вместе поработаем. Как? — Да не знаю. Всего на шесть месяцев комиссовали. — Что, серьезное что-нибудь? — Да не особенно. Контузия, ну и тазовую кость малость задело... — Вон как... А говорил — в ногу! — Отец оскорбленно насупился. — Выходит, на немцев этим самым местом наступал... — Да меня во время бомбежки. Осколком. Под Ливнами. На переформировании мы были... — Неожиданно Володя почувствовал себя виноватым перед отцом и покраснел, впервые пожалев, что не заслужил ни ордена, ни самой скромной военной медальки. Мокшин поспешил ему на выручку. — Это, Тихон Пантелеевич, не гражданская война. Нынче где угодно прихлопнуть может. Такая война. Война моторов! — авторитетно сказал он. — Точно, — поддакнул Володя, с благодарностью взглянув на симпатичного геолога. — Я разве что говорю, — чуть подобрел отец, продолжая хмуриться. — Только ведь в такое позорное место клюнуло... Стыд на всю деревню. Огнищевы еще никому спину не показывали! — Тихон Пантелеевич в гражданскую войну воевал в дивизии Чапаева и всю жизнь гордился этим. — Так ведь бомба — дура. Она не разбирает. — Я разве что говорю... «Тебя бы под бомбежку... Не такие герои под бомбами слюни пускали», — почему-то рассердился на отца Володя, вспомнив, как при первой бомбежке рядом с ним, запахавшись головой в болотную жижу, растянулся незнакомый штабной офицер. При каждом близком взрыве лоснящиеся каблуки его новых хромовых сапог нервно стукали друг о друга перед самым Володиным носом. — Что ж, придется мне теперь другую квартиру подыскать, — озабоченно сказал Мокшин, стараясь замять неприятный разговор. — Мигом освобожу вашу светелку, Владимир Тихонович. — Что, нравится? — спросил Володя. — Хорошая комнатка, — с легким сожалением сказал Мокшин. — Теплая. А вид! Красота! Вся река — как на ладони. Девушки гулянья устроят — смотреть прелесть! — Он заразительно засмеялся, обнажая ровные иссиня-белые зубы. — Точно. Залюбуешься! — тоже заулыбался Володя, вспомнив недавнее прошлое. — А зачем вам переезжать? Живите. Мне места хватит. — Да неудобно как-то... — И вправду, Василий Гаврилович, — оживился отец. — Чего вам мотаться. Шесть месяцев — срок невеликий. Оставайтесь. Он у нас парень не балованный. — Отец строго посмотрел на сына. — Чать привыкли? — Да, привык, — вздохнул Мокшин. — Так как? — Ну добро, — решился Мокшин. — Раз не гоните, остаюсь. Думаю, не передеремся. — Не передеремся! — Володю обрадовало, что симпатичный геолог останется. — Веселее будет. Пришли братья Тихона Пантелеевича: старший — Моисей и младший — Савелий. Они успели раздобыть где-то небольшую корчагу браги, шумно радовались приезду племянника и предстоящей выпивке. Увидев на столе отцову посудину, обрадовались еще больше, утащили корчагу на кухню. Туда же их жены пронесли миски с чем-то съестным. В доме стало людно. Когда все уселись за стол, отец бережно налил в стопки мутноватого, пахнущего резиной спирта-сырца, и пир начался. После нескольких стопок вонючего зелья Володя охмелел и пить отказался. Голова кружилась, а во рту противно жгло, пахло каучуком, будто он только что изжевал целую автомобильную покрышку. — Что, отвыкли? — спросил Мокшин, подталкивая тарелку с яйцами. — Да нет... Не привыкал. На фронте, бывало, пил. Законную. Фронтовую. Только не такую. Мокшин понимающе улыбнулся: — Это, дорогой коллега, не фронт. Этакого дерьма и то днем с огнем не найдешь. Дефицит. Тыловой ликер. Спасибо еще Вознякову. Удружил Тихону Пантелеевичу. Из своего энзэ. По случаю семейной радости. — Возняков? Кто это? — пьяно удивился Володя, туго вспоминая инструкции Новгородского. — Наш начальник. Если придет, то обязательно будет сватать тебя на работу, — уже совсем по-приятельски сказал Мокшин. — Люди нам нужны. А специалистам вообще цены нет. — Какой я специалист, — пренебрежительно фыркнул Володя. Возняков пришел поздно, когда дородные тетки пустились в пляс под разухабистый перепев гармошки, которую с пьяной беспощадностью терзал дядя Савелий. Мокшин как в воду глядел. Гость выпил штрафную и, узнав, что к чему, действительно обрадовался. — На шесть месяцев? Батенька ты мой! Да я на руках тебя носить буду, только поступай работать. Участковым геологом. Паек, зарплату — все дадим! Я съезжу в управление — оформлю как надо. — Не велик чин. Сам съездит, — вмешался отец. Он все еще не мог смириться с неудачным ранением сына и мнительно косился на подвыпивших родственников — не усмехается ли кто. — Так как? Договорились? По рукам? — По рукам, — благодушно согласился Володя. Шумный, простецкий начальник ему понравился. «Точь-в-точь как наш комбат!» — с пьяным умилением подумал он. — Вот и хорошо! — Начальник пригладил свои седеющие редкие волосы и шумно вздохнул. — По крайней мере, легче будет. А то у нас... — Он помрачнел и устало махнул рукой. Мокшин тоже стал серьезным и чуть печальным. Отец уловил перемену в настроении геологов и поспешил налить стопки.8. ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ
Утром Володя проснулся позже всех. Сел, свесив ноги с сундука, на котором мать устроила постель, и стал с тревогой вспоминать вечерние события. Сильно захмелевшего, еще задолго до конца гулянки отец с Мокшиным отвели его спать. Володя долго морщил лоб, вспоминая свое поведение. Родившаяся было тревога стала ослабевать. Кажется, он не сболтнул ничего лишнего, не наделал глупостей. Даже наоборот. Знакомство с Возняковым получилось совсем непреднамеренным, а с устройством на работу получалось еще лучше. Тревоги Новгородского оказались напрасными. Довольный собой, Володя натянул галифе и пошел умываться. Едва мать успела подать завтрак, как в дверь постучали. Ввалился Возняков. — Ну, проснулся наш герой? — зашумел он еще у порога. — Не забыл за ночь о нашем разговоре? — Не забыл, — улыбнулся Володя и пригласил гостя завтракать. Возняков не стал церемониться. Вымыл руки и запросто сел за стол. — Давай оформляйся. Если здоровье не позволяет, то я в Сосногорск съезжу. Геологи нам вот как нужны! — зычно гудел он, проводя возле горла вилкой с насаженной на нее картофелиной. — Зачем беспокоиться. Сам съезжу. Сначала надо здесь в районе на учет встать. — Так в чем дело! — обрадовался Возняков его готовности. — Езжай сегодня же. Как раз и оказия есть. — И вдруг помрачнел. — Что это вы? — простодушно удивился Володя. — Да так, — поскучневшим голосом произнес Возняков. — Не обращай внимания. Дело тут у нас одно неприятное вышло... Володя тактично промолчал, а потом сказал неуверенно: — Только вот как освоюсь — не знаю. Бокситы. Темой моей дипломной работы были залежи массивных медистых колчеданов в метаморфизованных породах. — А, ерунда! — отмахнулся Возняков. — Освоишься мигом. У нас разрез простенький. Я сам когда-то диплом о касситеритах писал. А стал бокситчиком. Попутчики у Володи оказались молчаливыми. Хмурый широкоплечий мужчина и розовощекая тоненькая девушка с большими карими глазами — следователи уголовного розыска. Это Володя узнал еще в конторе. Возняков упросил следователей подвезти его до района и отправить, по возможности, назад. Те не очень охотно согласились. Завалившись в сани рядом с девушкой, Володя укутался в старый отцовский тулуп и стал разглядывать своих неприветливых попутчиков. Девушка-следователь, втянув голову в поднятый воротник нового дубленого полушубка, призакрыв красивые глаза, о чем-то размышляла. Володе почему-то было смешно видеть на этом розовом юном лице выражение многозначительной серьезности, строгости, и он невольно улыбнулся. Заметив эту улыбку, девушка сердито сдвинула черные густые брови, дернула плечом. Что-то знакомое почудилось Володе в этом непроизвольном жесте, в сердито сдвинутых темных бровях. «Где-то я ее видел...» — подумал он и стал вспоминать знакомых девушек. Дело это было нетрудное, ибо знакомств среди прекрасной половины рода человеческого лейтенант имел не больше, чем пальцев на руках. Безуспешно порывшись в необремененной женскими лицами памяти — «нет, не встречал», — он прекратил это бестолковое занятие и стал разглядывать мужчину. Тот неумело дергал вожжи, погоняя без того резво идущую лошадь, и вид у него был мрачный, решительный. В каждом жесте чувствовалась сила, резкость, военная выправка. Даже полушубок был подогнан по фигуре, перетянут широким командирским ремнем. «Кадровый, — решил Володя. — Кой леший занес его в милицию? Наверное, тоже по ранению». На повороте сани резко накренились, и девушка чуть не выпала в снег. Володя успел ухватить ее за руку и неожиданно рассердился на мужчину. «Кучер из этого вояки, однако, аховый. Прет, как на танке!» Девушка благодарно кивнула Володе, и он осмелел, обратился к мужчине: — Давайте вожжи. У меня, может, лучше получится. Тот только зло мотнул головой и еще сильнее дернул вожжами. Девушка чуть улыбнулась. — Характерец, однако... — вслух проворчал Володя, смущаясь от этой улыбки. Он всегда терялся перед незнакомыми девушками, а перед красивыми — особенно. — Сиди! — простуженным басом огрызнулся возница. — А то прямой наводкой на дорогу вышибу. Пойдешь пехотой. — Н-да... Зла артиллерия! Только ведь лошадь — не пушка. К ней другой подход нужен. Видать, из корпусной, на механической тяге? — А ты откуда знаешь? — удивился следователь. — Так как же... Раз с лошадкой на «вы» обращаешься — сразу видно, что не из полковой. — Фронтовик? — Пришлось. — Где ранило? — На Брянском. — А-а... — голос следователя подобрел. — На тогда эти собачьи лямки. Никак не привыкну. — Он протянул Володе вожжи. — Тебе, видать, привычней таким тягачом управлять. Пехота? — Да нет. Сначала инженерные, а потом артиллерийская разведка. — Ха! — обрадованно передохнул следователь и, совсем подобрев, подал сильную руку. — Тогда давай знакомиться. Стародубцев. Капитан Стародубцев. Володя ослабил вожжи, подвинулся ближе к капитану. Заметив его недоумение, пояснил: — Нечего ее понукать. Лошадь, брат, дорогу домой лучше нас с тобой знает. Завязался разговор о фронтовых делах, отступлении, немецких танках, госпиталях и всяких прочих солдатских разностях, неизбежных при встрече двух военных людей. Задорина (она тоже представилась) молча слушала их неторопливую беседу и изредка с любопытством косилась на Володю карим лучистым глазом. Под этими редкими взглядами тот терялся и начинал нести околесицу. Стародубцев это заметил. — Э-э... лейтенант... Ты что-то того! — Чего «того»? — Да так. Молод ты, брат. Окрутят тебя в твоей деревне в два счета. Для такого слабака шесть месяцев срок вполне достаточный. Оженят тебя как пить дать. — Ну, скажешь... — пришибленно промямлил Володя и поглядел на Задорину. — А здесь у тебя ничего не выгорит. Ты мне тут всякие пристрелки брось, — заметил и этот взгляд Стародубцев. — Надежда Сергеевна — девушка серьезная. Понимать надо. Шуруй в своей деревне, а здесь брось! — напрямик рубанул капитан и пригрозил Володе увесистым кулаком. — Ишь раскраснелся. Володя совсем растерялся, не знал: не то сердиться на капитана, не то смеяться. Ему стало немного легче только тогда, когда заметил, что Задорина тоже смущена и сердита на своего коллегу. — Ты не очень-то, капитан... — А что мне юлить? Я, брат, прямой. Прямой наводкой. Учти! Капитан был начисто лишен дипломатических способностей, и Володя решил с ним не связываться. Тем более что присутствие строгой девушки продолжало странным образом тревожить его. Испытывая неловкость от затянувшегося молчания, заговорил о другом: — Ты как же в милицию-то попал, капитан? По ранению списан? — По ранению. Провались оно пропадом! — снова становясь злым, сипло буркнул Стародубцев. — А ты уж не в уголовный ли розыск собираешься? — Да нет. Я геолог. В партию Вознякова хочу устраиваться. Чего мне в милиции делать... А ты до армии юристом, что ли, был или, как сейчас, — в милиции? — Я? Хм... — Стародубцев замолчал, насупился, недосказанные слова будто застряли у него в горле. — И интересная работа? — продолжал допытываться Володя. — Да чего ты меня допрашиваешь! — вдруг взорвался Стародубцев и снова схватил вожжи. — Больно любопытный что-то! От этой неожиданной гневной вспышки Володя опять смешался и недоуменно уставился на рассвирепевшего капитана. Задорина улыбнулась и отвернулась. Всю оставшуюся дорогу путники ехали молча. В военкомате Володю встретили довольно любезно. Облысевший, большелобый лейтенант, принявший его документы, только коротко поинтересовался: — Фото с собой есть? — Есть. — Володя подал заранее заготовленные фотокарточки. — Погуляйте немного. Через час все будет готово. Немало удивленный такой оперативностью, Володя вышел из военкомата и стал раздумывать над тем, как убить час неожиданно свалившегося свободного времена. Его так и подмывало зайти в соседнее здание, где помещался райотдел милиции. Хотелось еще раз встретиться с тоненькой розовощекой девушкой, которая умела так строго хмурить темные брови над большими, красивыми, совсем не следовательскими глазами. Не посмев зайти в милицию, он решил побродить по Медведёвке, в которой не бывал несколько лет. Над селом быстро тускнел недолгий декабрьский день. Сумерки окутали чернильными, фиолетовыми тенями дома, деревья, сугробы. Все было обыкновенно, буднично, как пять и десять лет назад. Безбоязненно засветившиеся электрическими огнями дома выглядели мирно, беззаботно — будто не было ни войны, ни всеобщей тревоги, таившейся за светлыми окнами. Озираясь по сторонам, Володя пошел по узкому, расчищенному от снега деревянному тротуару. Он отошел уже довольно далеко, когда его неожиданно окликнули. Остановился, поглядел назад. С крыльца ему махала Задорина. Володя отчего-то заволновался, заспешил обратно. Девушка пошла навстречу. — Ну, как ваши дела? — озабоченно спросила Задорина, когда они остановились меж высоких сугробов. — Лучше, чем ожидал. Через час все будет готово. — Так быстро? — Представьте себе. — Тогда вам совсем повезло. Часа через два наша машина пойдет на станцию. Имейте это в виду. — Спасибо, Надежда Сергеевна! — Володя напрягся, еще больше заволновался. Каким-то шестым чувством он угадал, что выбежала она на мороз не только для того, чтобы сообщить о машине. — Не зовите меня так официально, — сказала Задорина. — Просто Надя. Мы ведь сверстники. — Слушаюсь! — козырнул Володя и почувствовал себя свободней. — Когда вы снова к нам приедете? — Видимо, завтра, — неуверенно сказала Задорина. — Почему «видимо»? — Надо проанализировать документы и показания. Работы много. — Что, подозреваете кого-нибудь? — О! Вы и вправду любопытный! — улыбнулась девушка. — Уж не собираетесь ли вы ко мне в помощники? — А что! И пошел бы. Не боги горшки обжигают! — Ладно уж, бог! Обжигайте ваши геологические горшки, — продолжала улыбаться Задорина. — Это у вас наверняка лучше получится. От ее откровенной приветливости Володе стало весело, и он вдруг сказал: — А вы все же приезжайте завтра. С ночевкой. У нас в Заречье клуб что надо. Я, правда, хромой, но потанцуем. Надеюсь, на это-то гожусь? Задорина не успела ответить. К ним быстро подошел высокий, массивный человек, одетый в белый полушубок, и весело захохотал: — Ай да фронтовики! Это я понимаю! Уже свидание! А я, старый дуралей, по всей Медведёвке Огнищева ищу! — Сажин запросто потрепал Володю по плечу и отступил на шаг, рассматривая. — Хорош! Экой мужчина образовался! Как, Надежда Сергеевна, хорош? — лукаво спросил он Задорину. Та смешалась, а потом сказала строгим голосом: — Я просто информировала Владимира Тихоновича, что наша машина идет вечером на станцию. Возняков просил меня отправить его. — Ага! Значит, не свидание, — с шутливым сожалением сказал Сажин. — Не свидание, — совсем сердито сказала девушка и распрощалась. — А я, брат, тебя ищу. Не забыл меня, старика? — спросил Сажин, когда Задорина ушла. — Не забыл. — Ну и на том спасибо. Пойдем ко мне. Поужинаем. — Да мне через час надо быть в военкомате. — Знаю. Все, брат, знаю. Только оттуда. Не пойму, как тебя проглядел. Успеем. Пошли! — Сажин по-приятельски подтолкнул Володю в спину и весело прикрикнул: — Слушай, когда старшие приказывают! Сажин еще с дореволюционных лет дружил с отцом Володи, Тихоном Огнищевым. В довоенные годы он часто приезжал в гости к приятелю, а в страдные дни весеннего лесосплава целыми неделями, бывало, жил в Заречье. Володя любил Сажина. Большой, добродушный, он всегда вносил в устоявшуюся жизнь родительского дома праздничную суету и шум. В такие дни суровый Тихон Пантелеевич добрел, становился мягче. Вспомнив об этом, Володя улыбнулся. Сажин понял эту улыбку по-своему. — Улыбаешься... Ничего не поделаешь. Пришлось снова в милицию идти. Не берут меня на фронт. Стар стал Порфирий Сажин. — Здесь дел тоже много, — серьезно сказал Володя. — Тоже не на перинах прохлаждаетесь. — Это точно... — вздохнул Сажин. Первый, кого увидел Володя в доме Порфирия Николаевича, был Новгородский. Как ни удивительно было увидеть капитана в чистой, уютной горнице, но то был он. Одетый в штатское, Новгородский сидел за парадным хозяйским столом и что-то записывал в блокнот. Взглянув на вошедших, капитан дружелюбно улыбнулся, обнажая красивые белые зубы, и, будто это он был хозяином дома, радушно сказал: — Добро пожаловать! Жена Сажина быстро накрыла на стол и куда-то ушла. Сажин запер за ней дверь и стал раздеваться. Новгородский позавидовал его добротному полушубку: — Красота-то какая! И где вы такой отхватили? — В управлении. Выторговал десять полушубков, двадцать пар валенок и четырех инвалидов. Новгородский рассмеялся: — Ну и как эти инвалиды? — Да ничего ребята. Поартачились немного, да куда денешься. Края ихние оккупированы. Осваиваются. Все четверо до войны на оперативной работе были. — Вам повезло. — Да. Повезло, — совершенно серьезно согласился Сажин. За ужином, с аппетитом похрустывая квашеной капустой, Новгородский будничным голосом сказал: — Ну, рассказывайте, лейтенант, как встретили вас в родных пенатах? — Да ничего встретили... — Володя покосился на Сажина. — Рассказывайте, рассказывайте, — подбодрил его Новгородский. — Тут посторонних нет. Володя еще раз, уже с удивлением, посмотрел на хозяина дома и стал рассказывать. — Так-с... — раздумчиво проговорил капитан, когда он кончил. — Очень хорошо. Значит, опьянели? — Да. Как-то нехорошо получилось... — Наоборот. Очень хорошо, — оживился капитан. — Очень. А что за человек Мокшин? — Не знаю. Участковый геолог в партии Вознякова. С виду парень хороший. Простой. — Так-с... Он о чем-нибудь вас спрашивал? — Нет. Спросил только о ранении. — Ага. — Новгородский что-то решил. — Все равно. Проверьте его. Просмотрите повнимательней вещи. Обратите внимание, с кем он переписывается. — Хорошо, — сказал Володя, хотя приказание капитана ему очень не понравилось. — Наведите о нем справки у Вознякова. Только осторожно, — продолжал Новгородский. — У Вознякова? — Да. В своей работе вы должны исходить из того, что начальник партии надежный во всех отношениях человек, — твердо сказал Новгородский. — От этого и пляшите. — Хорошо. — Теперь вот что... — Новгородский переглянулся с Сажиным. — Мы тут побеседовали и решили, что вам надо кого-то привлечь себе в помощь. Самое главное — выяснить, кто брал лошадь вечером второго декабря. Это весьма важное обстоятельство. Оно прояснит нам все. — Да, — согласился Володя. — Самому вам выяснением этого факта заниматься не следует. Расшифруете себя. — Конечно. — Следователям милиции при опросе работников партии выяснить сию деталь пока не удалось. Тут нужен местный житель. Не знаете, кто бы мог помочь нам распутать эту загадку? — Не знаю, — подумав, честно признался Володя. — Я в последние годы бывал в селе только наездами. — А ваш отец? Ему ведь можно доверять? — Конечно. Он же... — Решено, — твердо сказал Новгородский. — Всего ему говорить не обязательно, а задание дайте. — Задание? — изумился Володя. Сама мысль, что он должен командовать своим властным отцом, была смешной, неожиданной. — Да. Задание. Он ведь бывший чапаевец, военный человек? — Да. — Вот и командуйте. Ваш отец военную дисциплину должен понимать. — Попробую, — с откровенным сомнением сказал Володя. Сажин с Новгородским переглянулись, рассмеялись. «Не доверяет. Не надеется, — огорченно думал Володя о Новгородском, покидая уютный дом Сажина. — На второй день проверять приехал. Будто я мальчишка. Подожди, капитан, ты еще узнаешь Володьку Огнищева!» Думая так, Володя если и ошибался, то не совсем. Новгородский действительно беспокоился за исход операции, в которой главнейшая роль отводилась Огнищеву. Но приехал он в Медведёвку не только для того, чтобы еще раз убедиться в надежности молодого геолога. Новгородский приехал с лейтенантом Клюевым и работником военной цензуры. Военного цензора он попросил самым тщательным образом просматривать всю переписку работников геологической партии. Устроить Клюева удалось быстро, и капитан воспользовался возможностью ознакомиться с результатами следствия. Результаты эти были малоутешительны. Выяснить главное — кто из работников партии отсутствовал вечером второго декабря — следователю еще не удалось. Новгородский понимал, как Задорина стеснена в своих действиях инструкциями Сажина, что очень ограничивало возможности следствия, но решил пока ничего в принятых решениях не менять. Сама по себе работа следователя давала плоды. У счетовода партии сохранилась копия авансового отчета и расписка Николашина, что подтвердило полную невиновность Вознякова. Хотя Новгородский ни на минуту не сомневался в честности начальника партии, ему было приятно окончательно убедиться в этом. Задорина скрупулезно проверила документальную сторону дела и путем опроса работников подтвердила подлинность копии авансового отчета, имевшейся у предусмотрительного счетовода. Ни один из работников партии не оспорил ранее полученных сумм и не отказался подписаться в дубликатах денежных документов. А Стародубцев капитана огорчил. Лихой рубака не умел справляться со своим прямолинейным характером. Он действовал чересчур открыто, а это никак не входило в расчеты Новгородского. Правда, Стародубцев добросовестно обследовал кернохранилище и точно установил, что никакого взлома не было. В сарай проникли через дверь, открыв замок ключом. Никаких заметных следов преступники не оставили, так как земляной пол кернохранилища с осени хранил отпечатки десятков пар ног. Стародубцев старался. Он проявлял такое рвение и старательность, что превзошел все ожидания. Артиллерист явно спешил рассчитаться с так неожиданно свалившимися на него делами, чтобы поскорее вернуться на фронт. Новгородский не мог без улыбки вспоминать, какое изумление отобразилось на лице бравого артиллериста, когда тот впервые оказался в его кабинете. Стародубцев даже простовато приоткрыл рот от удивления, узнав в Новгородском своего госпитального гостя. Тем не менее он быстро пришел в себя и спросил, что, в конце концов, от него хотят. Новгородский не заставил долго ждать. Пояснил суть дела и сказал, что ему, Стародубцеву, как бывшему геологу, поручается под видом следователя уголовного розыска прибыть в поисковую партию и выявить преступника. Рассказывая подробности происшествия, Новгородский дал понять, что причастность начальника партии к преступлению очевидна, и потребовал от артиллериста добыть доказательства этой причастности. Стародубцев не усомнился в подозрениях капитана. Он твердо верил, что фашисты способны на любую подлость, хитрость, и тут же в кабинете поклялся задушить фашистскую гниду своими руками. Новгородскому потребовалось много времени, чтобы внушить Стародубцеву, что этого делать не следует, что надо быть весьма осторожным. Артиллерист крайне неохотно пообещал выполнить все указания в точности. И все же Стародубцев переигрывал. Он действовал слишком неприкрыто, и враг мог понять, что это лицо подставное, второстепенное, действующее для отвлечения внимания. Новгородскому пришлось вызвать к себе неудачливого «следователя». Разговор происходил на квартире у Сажина, после того как ушел Огнищев. — Мне не нравится ваша неосторожность, — напрямик сказал Новгородский. — Действуя так, вы испортите все дело. — Я и так стараюсь, — простуженно просипел Стародубцев. — Не знаю, как еще можно сдерживаться, когда тут вот кипит! — Он постукал себя увесистым кулаком в грудь. — И так слишком миндальничаем с этим... как это сказать... — Артиллерист свирепо сморщился, выбирая выражение похлеще. — Но ведь не доказано еще, что Возняков враг! — воскликнул Новгородский. — Документально это не подтверждается. — Ну и что! Он и не собирался красть деньги. Тут у него все чисто. Ему нужно было уничтожить керн. А финансовая непорочность нужна ему для отвода подозрений. По-моему, ясно. — Зачем же Вознякову понадобилось тогда вместе с керном уничтожать свой авансовый отчет? — А он прекрасно знал, что проверка финансовой деятельности кончится полным его оправданием, — уверенно отрубил Стародубцев. — Эти фашистские ублюдки не дураки. Уж я-то знаю! Познакомился на фронте. Лицом к лицу. Да. — Положим, это так, — более миролюбиво сказал Новгородский, — но нам нужны не предположения, а доказательства. — А где я их возьму, если их нет! — рассердился Стародубцев. — И притом я не следователь. Всяких юридических финтов не знаю. — Но зато вы геолог! — веско произнес Новгородский. — Мы потому и надеемся на вашу помощь. Ведь могли бы вы поговорить по-хорошему с Возняковым. Поинтересоваться хотя бы методикой поисков месторождения. Может быть, здесь, как специалист, вы и найдете ключ к Вознякову. Ведь не может быть, чтобы он не затягивал умышленно поисковые работы. Найдите этот геологический криминал — и ваша миссия будет выполнена. — А ведь это мысль! Правильная мысль. Я, пожалуй, займусь этим. — Прекрасно, — одобрил Новгородский. — Только не надо смотреть на него, как на врага. Постарайтесь сойтись с ним на дружеской основе. — Еще что! — изумился Стародубцев. — А вы постарайтесь, — настойчиво повторил Новгородский. — Хорошо. Постараюсь. — Вот так-то лучше, — облегченно вздохнул Новгородский. — И вообще старайтесь, чтобы как можно меньше бросалось в глаза людям, что вы человек военный. И думайте. Над каждым фактиком думайте. — Я и так думаю. — Это хорошо. Когда вы осматривали кернохранилище? Днем? — Днем. — А ночью? — Зачем еще ночью? — очень удивился Стародубцев. — А я бы пришел к сараю ночью и подумал: в какую сторону удобнее в темноте нести или отвозить похищенные ящики. Встал бы возле дверей, осмотрелся и представил себя на месте врага. Такое перевоплощение иногда помогает. — Хм... — Стародубцев с интересом посмотрел на Новгородского, подумал, а потом чуть улыбнулся. Улыбка эта у него получилась кривой, неумелой, и Новгородский невольно пожалел смелого артиллериста, разучившегося за время войны улыбаться. — Тоже не плохо, — сказал Стародубцев. — Актер из меня, ясное дело, плевый, но постараюсь. Как это вы... Перевоплощусь. — Вот и добро, — похвалил Новгородский. — И главное — осторожность. Старайтесь как можно меньше мозолить людям глаза. Кто знает, может быть, враг где-то со стороны наблюдает за вами. — Я это учту, — пообещал Стародубцев. Побеседовав со Стародубцевым и с Огнищевым, Новгородский стал собираться в обратную дорогу. Надо было спешить в Сосногорск, где капитана ждала срочная работа. В его сейфе лежали личные дела номенклатурных работников геологического управления. Где-то в этих бумагах пряталась разгадка.— Проснулся? — приветливо улыбнулся Мокшин, когда Володя соскочил со своего сундука. — Вроде этого, — Володя потянулся, сделал несколько взмахов руками и стал одеваться. — Разбаловался в госпитале. Сплю, как пожарная лошадь. На фронт вернусь — долго привыкать придется. — Привычка — дело наживное. Отсыпайся, пока есть возможность. Мокшин сидел за письменным столом, розовый, свежий после умывания, и рылся в полевых книжках. Белая шелковая майка плотно обтягивала широкую мускулистую грудь, и Володя невольно позавидовал атлетической красоте его тела. — Значит, едешь в Сосногорск? — спросил Мокшин. — Еду, Василий Гаврилович. Возняков обещал письмецо написать в управление. Возьму и мотану дневным поездом. — Давай, — одобрил Мокшин. — Да не задерживайся. Буду ждать. Хоть облегчишь малость мое положение. А то замотался. — Не задержусь! Чего мне там делать. Оформлюсь — и домой. — Он увидел оброненную Мокшиным женскую фотографию и с любопытством потянулся к ней. — Это что за девушка? — Женщина, — нахмурившись, поправил Мокшин. — Все равно. Какая красивая! Что, невеста твоя? — Бывшая невеста... — невесело уточнил Мокшин. — Вот те на! Неужто погибла? Такая красавица! — Не погибла. — Мокшин спрятал фотокарточку. — Замуж вышла. — За кого? — изумился Володя. — За кого, — голос Мокшина стал тихим, — чудно спрашивать... Володе стало жаль загрустившего геолога. — Как же это она, а? — с сочувствием сказал он и простовато удивился: — Неужто лучше нашла? — Эх, неискушенная душа... — снисходительно улыбнулся Мокшин. — Молод ты, как я посмотрю. — Как же это она... — не обижаясь, с сожалением продолжал рассуждать Володя. — Такая красивая! Жалко. Муж, наверно, тоже красавец... — Красавец... — Мокшин поморщился. — На двадцать лет старше ее. — Не может быть! — поразился Володя. — В жизни все может быть... — Мокшин стал надевать рубашку. — Да как же она с таким живет? — Живет... на два фронта. — Как так? — А так. Бедности боится. А как в Сосногорск приеду, так целыми сутками у меня пропадает. Всего слезами умоет. Володя опешил, долго смотрел на медленно двигающегося по комнате Мокшина. Потом вдруг выругался: — Сволочь! Стрелять таких мало! И чего вы, Василий Гаврилович, с ней путаетесь? Гнали бы к черту. С глаз долой — из сердца вон! — Хочу, да не получается. — Мокшин грустно потрепал Володю по плечу. — Эх ты, юная душа. Не все просто в этой жизни... — Любите, значит... Мокшин не ответил. Он затолкал в полевую сумку блокноты, накинул пиджак и вышел из комнаты. «Хороший человек, — с жалостью и симпатией подумал Володя. — Только невезучий». Когда во дворе стукнула калитка, он встряхнулся от задумчивости и стал торопливо одеваться. Надо было переговорить с отцом до того, как он уйдет на работу. Они разговаривали на кухне. Мать ушла доить корову, в доме царила дремотная утренняя тишина. Тихон Пантелеевич сидел за кухонным столом и пытливо смотрел на сына. Он быстро справился со своим удивлением, но, видимо, не знал, как теперь себя держать. — А зачем это тебе надо знать? — спросил он наконец. — Надо! — отрывисто сказал Володя, и Тихон Пантелеевич только качнул головой, все поняв и смирившись, что большего ему знать не положено. — Очень желательно установить это поскорее, — повторил Володя. — Но без шума и осторожно. — Не маленький, — хмыкнул Тихон Пантелеевич, продолжая разглядывать сына с возрастающим уважением. — Разведаем аккуратно. Чапаевскую службу еще не забыли. — Я тоже так думаю. Тихон Пантелеевич поразмыслил, потом уверенно сказал: — Ясное дело, лошадь они брали не в партии. — А где? — В колхозной конюшне, ясное дело. В партии всех и лошадей-то шесть голов. А в колхозе под сотню. Уследи попробуй, какая лошадь притомилась, если ежедневно из всей конюшни и половина на работу не выходит. Сбруй не хватает. Да и порядка на конюшне нет. Никто конюхов ладом не контролирует. Заморенную лошадь оставить на день дома конюхам — плевое дело. Никто и не заметит. — Пожалуй, — согласился Володя и улыбнулся: — Ты вроде бы заранее думал над этим. — А что, мы дурнее вас, молодых, что ли! — приосанился Тихон Пантелеевич. — Ясное дело, как слух прошел про Николашина, так мужики и давай на свой манер прикидывать что к чему. Я еще тогда подумал: ежели с Николашиным что сделали, так это только наши, а если лошадь брали, то не иначе как на колхозной конюшне. — Ну, коль так, то давай действуй, — сказал Володя. — Считай это фронтовым заданием. Приеду из Сосногорска — доложишь. — Ишь ты, молокосос! — весело изумился отец.
9. БУДНИ
На столе перед Новгородским лежали три тоненькие папки. Это было все, что осталось от объемистой стопы личных дел работников геологического управления, над которыми он много и кропотливо работал. Три дела. Три человека. Капитан пристально всматривался в фотографии трех обыкновенных, по всем внешним признакам весьма порядочных людей и гадал: который? Только у этих людей он нашел некоторые неясности в биографиях и перемещениях по службе. Все остальные личные дела были тщательно проверены и отложены в сторону. Люди, которым они принадлежали, были вне всяких подозрений. Новгородский еще и еще раз пробегал взглядом по документам, всматривался в фотографии и мучительно размышлял. Пискарев Захар Савельевич. 46 лет. Инженер геолого-производственного отдела. До войны работал в одном из институтов Академии наук, не раз бывал в заграничных командировках. По собственному желанию перешел на рядовую работу в Сосногорское управление. Почему? Зачем? Не совсем ясно. Лебедев Игорь Серапионович. 48 лет. Старший инженер проектно-сметной группы. Шестнадцать лет подряд работал на одном из сибирских рудников. За три года до войны вдруг сорвался с места и успел поработать во многих промышленных районах страны. Тихвин, Магнитогорск, Запорожье, Никополь, Баку и наконец Сосногорск. Что за резвость? Отчего такая прыть? На третий месяц войны вздумал впервые жениться. Что за метаморфоза произошла с этим холостяком. Не ясно. Аржанков Иван Аскольдович. 30 лет. Старший инженер производственно-технического отдела. Эвакуировался из Запорожья. В гражданскую войну потерял родителей. Знает только, что родители были крестьянами-бедняками. Больше о них и о своем раннем детстве ничего не помнит. Воспитывался в детдоме. А дату и место рождения указывает совершенно точно. И притом — Аскольдович. Почему его отец крестьянин-бедняк Смоленской губернии и вдруг — Аскольд. Не крестьянское имя. Все это требует уточнения, а Смоленская область оккупирована. Все возможные запросы Новгородский сделал и теперь напряженно обдумывал свои предстоящие действия. Выбрать верное направление в дальнейшей работе было трудно. Костенко торопил, требовал практических результатов, а их пока не было. Были необходимы дополнительные сведения, ответы на сделанные запросы, нужно было время. Времени же не давали. В Москве, очевидно, расценили сообщение из Сосногорска, как весьма тревожный факт — потому Центр каждодневно интересовался ходом расследования. Утром полковника посетили Исайкин и академик Беломорцев. Они только что вернулись из столицы, где присутствовали на очень важном совещании в Центральном Комитете партии. — Проблема обеспечения оборонной промышленности необходимым сырьем рассматривалась в комплексе, — озабоченно рассказывал Исайкин. — Но вопрос о резком увеличении выплавки алюминия был поставлен во главу угла. В правительстве и Центральном Комитете основные надежды возлагают на нашу область. Мы обещали, что все зависящее от производственников будет сделано качественно и в срок... — Секретарь обкома оглянулся на Беломорцева. Академик нахмурил жидкие брови. — Геологи и горняки не подведут. Поскольку Медведёвское месторождение уже дало первый сигнал о себе — мы постараемся выявить его по всей площади как можно быстрее. Главное, чтобы Вознякову больше не мешали. Полковник понял намек. Тоже нахмурился, потянулся за папиросой, взглянул исподлобья на сидевшего в углу Новгородского. Капитан расценил этот взгляд как предложение высказаться. — За нами дело не станет. Создадим Вознякову условия, — сказал он. Сказать было нетрудно, а вот сделать... Клюев пока что ничего не нащупал. Стародубцев действует вхолостую. Огнищев... Тот только-только осваивается. Ничего ценного от него еще не получено. Мелочь всякая. Далась ему эта красивая женщина. Добрую четверть часа рассказывал о неудачной любви Мокшина. Мокшин, женщина... А в самом деле, кто она такая? Документы Мокшина безупречны, биография проста. Тридцать лет. Окончил Ленинградский горный институт. Есть люди, которые вместе с ним учились. Звезд с неба не хватал. Работал коллектором, старшим коллектором, участковым геологом. Все время на рядовых должностях, все время в полевых партиях, все время в Приднепровье. Незадолго до войны переведен в Сосногорск, как способный, инициативный работник. Мокшин ясен. А о бывшей его невесте и ее муже ничего не известно. Кто они такие? Огнищеву приказано выяснить все это подробно и сфотографировать женский портрет. Что это даст? Новгородский сам не знал. Оперативная работа превращалась в изнурительные, наполненные поисками, но пока что безрезультатные будни. Будни черновой работы.Рабочие будни Задориной тоже были нелегкими. Она чувствовала, что следствие заходит в тупик. Строгие установки Сажина сводили работу к простой констатации очевидных фактов. Проанализировав имеющиеся документы, Надя решила открыто изложить начальнику отделения свои соображения. Сажин встретил ее, как всегда, радушно. Он был утомлен, глухо кашлял, но все же заставил себя заулыбаться и вышел из-за стола. — Ну, чего новенького, Надежда Сергеевна? — Вы же сами знаете, что ничего новенького быть не может, — сухо сказала Надя. — Как это не может быть? — удивился Сажин. — Очень просто. Я ограничена в своих действиях вашими инструкциями. Ход следствия умышленно направлен по ложному пути. Разве вы этого не понимаете? Сажин нахмурился, вернулся к столу и грузно опустился на стул. — Не понимаю. Вас теперь двое. Почти настоящая оперативная группа. Вам и карты в руки. — Он попробовал еще раз улыбнуться. — Нет, вы все понимаете, Порфирий Николаевич, — настаивала Надя. — Что проку, коль нас стало двое? Стародубцев не сведущ даже в азбучных юридических истинах. Какой из него следователь! — Учите! — Я уже говорила, что у него нет желания всерьез осваивать дело. Я не вижу смысла в его назначении моим помощником. А вы видите? — Стародубцев будет работать с вами, пока это будет нужно! Начальник опять что-то недоговаривал. Надя чувствовала эту недоговоренность давно, с первого дня следствия по делу Николашина, и не понимала ее. Как только дело доходило до откровенного обмена мнениями, она, как на каменную стену, натыкалась на эту недоговоренность, уходила от Сажина злой, обезоруженной. Сейчас она решила идти до конца. — Вы не откровенны со мной, — резко сказала Надя. — Я требую, чтобы мне дали свободу действий. Надо искать убийц Николашина и причины этого убийства, а не фикцию исчезнувшего человека. Лицо Сажина сделалось жестким, непроницаемым. Таким Надя его никогда не видела. Сажин сжал кулак и пришлепнул им по столу: — Следствие будет идти в заданном направлении. Стародубцев будет работать с вами. Учите его. Это приказ. Категорический приказ. Вам понятно? Надя поняла, что спорить с Сажиным бесполезно. За его властными словами крылось что-то тщательно скрываемое, важное. Она почувствовала — этого важного ей не полагалось знать. Надя сглотнула горечь обиды и с неохотой, упрямо сказала: — Понятно...
Вернувшись в свой кабинет, Надя сердито бросила папку с документами на стол, стала спиной к горячей печи. Работать не хотелось. Хотелось отдохнуть, отвлечься от утомительных однообразных дум об убитом Николашине и связанных с этим преступлением загадках. «Поеду в Заречье... — вдруг решила она. — Надо искать там!» Обрадовавшись этой мысли, она стала собираться в дорогу. «Только там. Только в Заречье!.. Здесь, в кабинете, ничего не прояснится!» Надя говорила себе так, будто оправдывалась, будто ей было необходимо убедить себя в правильности принятого решения. Поехать в Заречье ей и в самом деле хотелось очень. Но не из-за служебных дел. Она и сама не знала, что может дать для следствия эта поездка. А на донышке сердца теплилась надежда: вдруг представится возможность хотя бы случайно встретить раненого лейтенанта... Он и не подозревал, этот немножко неловкий, немножко неуклюжий парень, сколько неожиданных тревог, волнений и теплых воспоминаний вызвал своим вторичным вторжением в жизнь районного следователя Нади Задориной. Встретились они действительно во второй раз. Давно была та первая встреча. По их возрасту, очень давно. Три года назад. И Надя давно забыла о ней. Но в то студеное декабрьское утро, когда в милицейские сани завалился раненый лейтенант («Голубчики! Подкиньте нашего новичка до военкомата!» — просил Возняков), у Нади вдруг отчего-то гулко затрезвонило сердце. Она сразу узнала прозрачно-синие глаза, со следами госпитальной бледности округлое лицо, простодушную улыбку. Осенью 1938 года студенты Свердловского горного института принимали гостей — коллег из юридического института. Взаимные встречи студенческих коллективов в те довоенные годы были не так уж редки. Но для молоденькой студентки Нади Задориной встреча эта была большим событием. В плане встречи значился студенческий бал, а Надя в свои девятнадцать лет на балах никогда не бывала... Это был первый выход «в люди», как громко выразилась Надина мама, и потому перед таким незаурядным в жизни каждой девушки событием было много хлопот, маленьких девичьих волнений. Мама суетилась больше дочери. Почти всю ночь просидела за швейной машинкой, дошивала «бальное» платье. Надя до сих пор помнит каждую строчку тогопростенького, голубого в белый горошек, легкого платьица, последнего «маминого»... Как это часто бывает, чем тщательней готовишься, чем больше тревожишься, чтобы не опоздать, тем вернее, что опоздаешь. Опоздали и Надя с подругами. Когда они появились в актовом зале горного института, торжественная часть уже закончилась, стулья были составлены вдоль стен, а на эстраде звонко гремел духовой оркестр. Бал начался. Девушки застенчиво присели на стулья. Зал был полон народу. Танцевали в основном преподаватели и старшекурсники — народ бывалый, самоуверенный, давно сбросивший перья отроческой стыдливости. В противоположном углу толпились студенты-горняки. С первого взгляда видно — младшекурсники. Полумальчики-полуюноши, с первым пухом на румяных щеках, они с подчеркнуто скучающим видом глазели на танцующих, отпускали по их адресу остроты, заговорщицки подталкивали друг друга локтями. Они чем-то напоминали молодых петушков — так независимо задирали они головы, так демонстративно старались не пялить глаза на сидевших напротив девушек-юристок. При виде этой воинственно хохлящейся толпы девушки присмирели. Грохнув барабанами, замолк оркестр. На эстраду вышли распорядители бала: незнакомый плечистый горняк и Оська Кауфман, студент-дипломант, известный в юридическом институте остряк и враль. Распорядители обменялись несколькими незлобивыми шутками по адресу своих институтов, а потом объявили мужской вальс. — Танцевать всем, пассивных кавалеров администрация бала будет штрафовать! — пригрозил плечистый. — Рыцари кирки и отбойного молотка, не поджимайте хвосты, будьте мужчинами, гостьи скучают, — добавил Оська, адресуясь в угол. Когда-то на первом курсе Надя была немножко влюблена в грубоватого Оську, потом это прошло. Снова загремел оркестр. И тут только Надя с ужасом обнаружила, что противостоящая толпа пришла в движение. Возымели-таки действие угроза штрафа и язвительная Оськина реплика. «Ой! — оборвалось что-то в груди. — Лишь бы из наших, лишь бы из наших...» Она страстно желала этого, хотя знала, что мольба ее бесполезна. Надя была самой хрупкой, самой маленькой в институте. Сокурсники считали ее чуть ли не девчушкой, относились покровительственно, старались не обижать... И на том их внимание исчерпывалось. Нет, на приглашение знакомых студентов-юристов ей рассчитывать не приходилось... И вдруг перед ней вырос он. Вырос неожиданно, протиснувшись сквозь толпу. Надя увидела огромные прозрачно-синие глаза, голубую футболку (предмет туалета дешевый, доступный и потому в ту пору в студенческой среде весьма популярный), увидела протянутую к ней руку. — Разрешите!.. Почему-то эта протянутая рука особенно запомнилась ей. Сильная, загорелая, с толстыми, грубыми пальцами, на которых в великом множестве красовались ссадины и царапины. Очевидно, запомнилась потому, что то была первая мужская рука, протянутая к ней. Это был первый жест признания ее девичьей зрелости. Не заметил Надиного волнения, багрянца, брызнувшего ей в лицо, обладатель голубой футболки. А она этот первый «настоящий» вальс запомнила надолго. Ведь до той поры ей случалось танцевать лишь с одноклассницами на школьных празднествах да с подружками на институтских вечерах... Все Надино внимание было сосредоточено тогда на том, чтобы не оступиться, не упасть. И еще она боялась, что студент в футболке вдруг заговорит, начнет спрашивать. Надя чувствовала, что танцевать и разговаривать одновременно она будет не в состоянии. К счастью, молодой человек молчал. В конце концов Надя обрела себя, даже позволила себе улыбнуться. И тут только поняла — ее партнеру не до разговоров: все его мысли сконцентрированы на контроле за движением собственных ног. И Наде вдруг стало очень весело, она почувствовала превосходство над взъерошенным, насупленным парнем. Все-таки это она, хрупкая и маленькая, первой пришла в себя, обладала более «мобильной нервной системой», как любил выражаться преподаватель психологии доцент Сверчевский. У эстрады скопилось особенно много вальсирующих пар. В это скопище и занесли непослушные ноги голубую футболку. Надю толкнули раз, затем другой... Тут-то партнер и издал первый звук: — А ну, поосторожней!.. — И, кружась, бочком стал отпихивать локтем соседние пары. Надя поняла, что толкаться ему более привычно, нежели танцевать. Как бы желая подтвердить это, уже на совершенно свободном месте студент наступил Наде на ногу. Надя сморщилась, остановилась, поглядела на свои новые белые туфельки, потом сердито на партнера. Тот сконфуженно заморгал, сипло пробормотал: — Вот черт... Извините... товарищ юриспруденция... Надя хотела рассердиться и уйти, но передумала. — Ладно. Бывает... — усмехнулась она и покровительственно положила руку на его плечо. В это же время оркестр смолк. Молодой человек проводил Надю к подругам, поблагодарил, угловато кивнув рыжеватой головой, и пристыженно заспешил в угол к своим петушащимся приятелям. — Утюг! — пожаловалась Надя подругам. — Медведь косолапый. Чуть ногу не искалечил. Туфлю испачкал. — А сама ждала следующего танца. Но синеглазый парень исчез. Не пригласил он ее ни на фокстрот, ни на танго... Откинувшись на спинку стула, Надя обмахивалась платочком и искоса поглядывала на поредевшую кучку нетанцующих студентов, но знакомой голубой футболки среди них не увидела. Это почему-то огорчило ее, ей стало скучно в шумном веселом зале. Она пожалела, что была не слишком снисходительна к неловкому партнеру. Снова объявили вальс. А у Нади всякий интерес к балу уже пропал. Она скучающе глядела на танцующих и соображала: удобно или неудобно уйти домой, не предупредив подруг. И вдруг она увидела его. Голубая футболка уверенно двигалась от двери прямо к ней. Студент приглаживал широкой ладонью мокрые, только что причесанные волосы и широко улыбался Наде как давнишней и близкой знакомой. У Нади застучало в висках, она улыбнулась ответно, разом простив голубой футболке и запачканную туфлю, и «товарища юриспруденцию», и долгое отсутствие... Но в это время откуда-то сбоку подлетел Оська Кауфман. — Ха! Надюшка! Скучаем, маленькая? — И изогнулся в поклоне. — Прошу, мадам! Наде ничего не оставалось делать, как подать Оське руку. Они провальсировали рядом с голубой футболкой. Широко расставив ноги, сунув руки в карманы, он стоял среди танцующих, и прозрачные глаза его были темны от обиды и мальчишеской злости. Надя почувствовала себя виноватой. Она хотела крикнуть, чтобы он сел на ее место, но Оська увлек ее в другой конец зала. После вальса голубой футболки Надя не увидела. Были всякие: красные, желтые, зеленые и такие же голубые. Но все это были не те. Коренастый парень с прозрачно-синими глазами и сильными рабочими руками исчез из праздничной суеты студенческого бала. Станцевав еще несколько раз, Надя покинула зал. В фойе, где шустрые затейники организовали потешные конкурсы, викторины и аттракционы, «своей» голубой футболки Надя также не обнаружила (она так и сказала себе: «Моего нет»). Не оказалось его и в аудитории, в которой проходил шахматный турнир. Уже потеряв надежду встретить обиженного студента, Надя неожиданно увидела его у волейбольной площадки. Юристы проигрывали горнякам начисто. Недавний Надин партнер восторженно орал по этому поводу, махал загорелыми руками. Подходить к нему с объяснениями, что она, Надя, ничуть не виновата в случившемся, говорить, что ждала она его, а идти танцевать с Оськой не имела никакого намерения, не было смысла. Надя обиженно повернулась и пошла в фойе. Много воды утекло после того студенческого бала, когда она впервые почувствовала себя вполне взрослой и самостоятельной. Были и балы, и поклонники, было всякое. Тот же Оська, ставший вскоре преуспевающим юрисконсультом какого-то огромного треста, объяснялся ей в любви. А она смеялась. И нет теперь ни Оськи, ни его любви. В первые дни войны ушел он добровольцем на фронт и погиб где-то под Витебском. А главное — нет мамы. Ее слабое, издерганное болезнями сердце перестало биться. Отца Надя никогда не видела. Простой уральский рабочий, в гражданскую войну он командовал ротой, батальоном, служил начальником разведки бригады, был председателем ревтрибунала... Он погиб при освобождении Сибири от колчаковцев. Милая, беспокойная мама! Она хранила верность отцу всю свою жизнь. Она любила его возвышенной, восторженной любовью и научила этой любви Надю. «Учись, доченька. Учись, — часто говорила мама. — Твой папа очень хотел, чтобы ты стала юристом. Неси людям справедливость». Едва ли отец мог говорить так, ведь он погиб за месяц до рождения дочери, но Надя никогда не брала под сомнение мамины утверждения. В конце концов, какое это имело значение! Стать юристом — этого хотела и мама, и сама Надя. Она пошла в юридический. Мама была счастлива. Она выкраивала из своей скромной бухгалтерской зарплаты все возможное, чтобы дочь могла учиться. И вот мамы не стало. Заботы, недостатки, ответственность за свое будущее... Все это разом свалилось на неокрепшие Надины плечи. Но она выдержала, хотя порой приходилось ой как тяжело. И где уж тут помнить о какой-то голубой футболке, о каком-то бале... А не забыла, оказывается. Взглянула в знакомые синие глаза, увидела ясную мальчишескую улыбку — и всколыхнулось сердце. Всплыло в памяти все, до мельчайших подробностей. С трудом сдержалась, чтобы не выдать свою радость. А на то, что Володя не узнал ее, Надя не обижается. Она уже давно не та наивная девчонка, которая могла рассердиться на случайного партнера по танцам. Надя знает: уж так устроен мир, что женщины более бережно хранят в своей памяти радости и счастливые мгновения молодости. Своим появлением Володя как бы вернул Наде самую счастливую, беззаботную пору ее юности. Ведь тогда была жива мама, тогда все было легко и просто, тогда она, Надя, вступала в самостоятельную жизнь, ей открылись первые ее радости и увлечения... Она была благодарна за это Володе. Так было поначалу. Потом появилось другое. Что-то глубокое, очень серьезное и важное... Надю радовало и тревожило каждое Володино появление. Ее всерьез начали беспокоить и волновать и то, как он смотрит на нее, как улыбается ей, как говорит с ней... Занимаясь в зареченской конторе, Надя уже не раз ловила себя на том, что то и дело поглядывает в окно, ожидая, не появится ли Огнищев. А когда он действительно появлялся, уже была не в состоянии углубиться в бумаги, все ее мысли были там, возле коренастого, слегка прихрамывающего молодого лейтенанта. Надя каждый раз делала новые открытия. Ее Володя, ее голубая футболка, представал каждый раз в новом качестве. То простодушный, то лукавый, то сконфуженный, робеющий перед ней, Надей, то неожиданно дерзкий... А однажды она увидела его совсем иным. Володя шел по улице и о чем-то думал. Просто шел и думал. Но в этой задумчивости, в валкой твердой походке было столько серьезности, озабоченности и решимости, что Надя удивилась. Это шел и о чем-то сосредоточенно размышлял сильный, полностью сформировавшийся мужчина. Мужчина-солдат. В последнее время ночами, когда плохо спалось, Надя часто думала о Володе. К благодарности за возвращенные ей радости юности прибавилось что-то совсем новое, женское, зрелое, стыдливое... Надя отгоняла от себя эти мысли, но они упорно возвращались вновь. Видеть Володю стало потребностью. Встретив его, хотя бы мельком, она успокаивалась, обретала душевное равновесие. Наверное, поэтому, придя от Сажина, Надя вдруг решила поехать в Заречье.
С геологическим разрезом Володя ознакомился быстро. Несколько разновидностей известняков и доломитов — породы, слагающие район поисков, — изучить было нетрудно. Мокшин провез его по всем четырем буровым вышкам, познакомил со старшими мастерами и буровыми бригадами. Среди старших мастеров нашелся знакомый. Назар Осинцев. Тот самый, чья бригада первой подсекла пласт боксита. Осинцев в свое время учился в горном институте и жил в одном общежитии с Володей. На третьем курсе Назар заболел, запустил учебу и вынужден был уйти из института. Встреча была неожиданной для обоих. Назар шумно приветствовал однокашника, долго хлопал его по спине короткими толстыми руками. — Бери наш участок, — веселым юношеским тенорком тараторил он. — Мы на верном месте. Боксит тут! — И стучал по заснеженной земле большим стоптанным валенком. Володя увидел торчащий из снега рядом с корпусом буровой вышки — тепляком — деревянный репер и понял, что то была та самая скважина, которая вскрыла руду. — Тут? — спросил он, указывая на репер. — Тут. — Осинцев не умел мрачнеть, он только перестал улыбаться. — Здесь вскрыли. Почти десять метров. Вот теперь бурим заново. — Отступили на пять метров, — уточнил Мокшин. — Отступили... — проворчал Назар. — А должны были прослеживать пласт дальше. Вон туда, за двести метров, должны были переезжать, — махнул он рукой в глубь леса. — Да, двойную работу приходится делать. Жалко? — Как не жалко! Столько труда положили. Здесь же карст. Сам понимаешь. То и дело аварии. Бурить не так-то просто. — Месяц работы, — констатировал Мокшин. — Во! Месяц дармовой работы! Давай, Володька, бери наш участок. — Это уж как прикажут. — А ты попросись. Что, у тебя языка нет? — Осинцева ничуть не смущало присутствие Мокшина, за которым был закреплен этот участок. — Видно будет, — уклончиво ответил Володя, испытывая неловкость за своего квартиранта, который обиженно поджал губы. — Ладно. Потом поговорим. Вечером Возняков информировал Володю об истории поисков месторождения. Они сидели в геологическом отделе вчетвером. Мокшин чертил проектные разрезы новых скважин, за угловым столом рылся в бумагах следователь Стародубцев. Он изменил своим привычкам и поговорил сегодня с Возняковым запросто, без обычной подозрительности. Начальник партии был потому в хорошем настроении и с увлечением рассказывал молодому геологу о своих мытарствах. — Куски боксита были обнаружены в речных отложениях несколько лет назад. Найденными образцами заинтересовались в управлении, но поиски были начаты лишь незадолго до войны. Провели мы детальную геологическую съемку и тоже нашли в русле реки обломки диаспорового боксита. Дело очевидное — где-то в пойме реки есть выход пласта на поверхность. Знаком с обломочно-речным методом поисков? — спросил Возняков Володю. — Знаком. — Во! — весело продолжал Возняков, размахивая длинными, костлявыми руками. — Согласно классическим принципам этого метода мы и поползли вдоль реки. Вверх по течению. Ваша Студянка — река быстрая. Сумасшедшая речка! Растащила обломки боксита на добрый десяток километров по руслу. И причем обломки одиночные, редкие. Всю осень мы на этой проклятой Студянке плюхались. Накупались досыта. Все по той рваной цепочке обломков шли вверх. Стали к Заречью подходить, чувствуем — цель близка. Куски боксита стали встречаться чаще, стали менее окатанными, прямо-таки настоящие обломки, совсем не похожие на гальку, причем укрытые более свежими наносами. Ага, думаем, есть! За селом обломков боксита уже не нашли. Все облазили, все перерыли — нет! Значит, выход где-то в районе села. Давай прикидывать, где он — тот собачий выход. Искали, искали — не нашли. Давай теоретически прикидывать. Местность гористая, лесная, значит, где-то можно найти обнажение. Опять давай искать. — Помню, — улыбнулся Володя, — я как-то осенью домой отпросился. Мать болела. Видел, как ваши люди по кручам с молотками ползали. — Во-во! — захохотал Возняков, сейчас ему было смешно вспоминать свои былые злоключения. — Все облазили. Ничего не нашли. Заложили несколько шурфов и дудок — тоже ничего. Все наши сосногорские ученые мужи в тупик встали. Гадали, гадали и решили начать буровые работы. А где скважины первые закладывать? Опять загадка. Обломки боксита по обоим берегам Студянки есть. Решили так. Правый берег представляет собой широкую пойму. Этакая долина, образованная речными наносами. Левый берег крутой, обрывистый. Поскольку в обнажениях этого берега боксита и признаков продуктивного горизонта мы не нашли, то, разумеется, надо бурить на правом берегу: в пойме. Видимо, пласт боксита выходил на поверхность где-то в старом русле и сейчас закрыт аллювием — речными отложениями. — Выходил? Это значит — когда-то! Что, найденные вами образцы были сильно разрушены? — неожиданно спросил Стародубцев. Он давно отодвинул в сторону бумаги и с интересом слушал начальника партии. Вознякову понравилась заинтересованность следователя. Он по-мальчишески подмигнул Володе: «Ага! И этого чиновника заинтересовало!» — Нет. Обломки боксита были вполне сохранившимися. Но надо учитывать, что образование, накопление бокситов происходит в зонах выветривания. Поэтому этот минерал очень устойчив к воздействию химических агентов. — Понятно... — промычал Стародубцев. Возняков бодро продолжал: — Смонтировали две буровые вышки на правом берегу. Начали бурить. В коренные породы врезались — и на тебе! — продуктивный горизонт тут же. Почти у дневной поверхности. А кондиционного боксита, что в реке находили, нет! Есть только жиденькие включения серого боксита. — Он что, ценности не имеет? — спросил Володя. — Для алюминиевой промышленности не годится. В нем много пирита, а это сводит на нет ценность всех других компонентов. Не кондиционен — так говорят технологи. Много вредных примесей. — Понятно. — Тут война началась. Нас стали торопить. Увеличили число буровых до четырех. Стали форсировать поиски. К осени убедились — на правом берегу продуктивная толща выклинивается. Выходит отдельными языками на поверхность, а основное месторождение, оказывается, надо искать на левом берегу. Туда, полого падая, уходит продуктивная толща. — Надо было геофизику ставить, — опять высказался Стародубцев. — Ставил, — огорченно отмахнулся Возняков. — Геофизики нас только запутали. Методика геофизических работ еще далека от совершенства, геофизическая аппаратура тоже, методы интерпретирования весьма условны. — Вы что, не верите в геофизику? — с любопытством спросил Стародубцев. — Почему же... У геофизики большое будущее. Но на данном этапе... — Возняков развел руками, — сами посудите. Геофизики проработали у нас все лето. Съели почти все наши деньги. А что дали? Приблизительно определили простирание известняков, к которым приурочен рудоносный горизонт. Эти известняки мы и без них проследили. А вот где искать? Где заложить скважину? Ведь площадное распространение этих известняков только в нашем районе превышает тысячу квадратных километров. Вот и решайте! Мы пробурили на левом берегу несколько скважин, основываясь на данных магнитометрической съемки. А вскрыли все тот же некондиционный серый боксит. Содержащийся в нем пирит дает ложные аномалии. — Н-да, дела... — в раздумье пробурчал Стародубцев. Ответ начальника партии его, видимо, удовлетворил вполне. — Мы решили пробурить несколько скважин вдоль берега реки. Ведь где-то там пласт выходил на поверхность. Прошли восемь скважин — опять сюрприз. Продуктивная толща вдруг нырнула сразу на двести метров в глубину. Оказывается, река текла как раз по зоне какого-то древнего тектонического нарушения. Попросту говоря — по сбросу. Давняя подвижка пород когда-то разорвала рудоносные известняки, по этому-то нарушению и пошел сток поверхностных вод. Мы решили, что за зону разлома попал лишь маленький язычок месторождения, оставшегося на двухсотметровой глубине. Отсюда, вопреки проекту, я решил на свой страх и риск бросить буровые за линию сброса, на километр в сторону от реки. Николашин тоже считал это единственно правильным решением. И вот — первая же скважина вскрыла диаспоровый боксит! — Возняков воинственно оглядел присутствующих. — Вопреки сомнениям специалистов управления и вашим тоже, Василий Гаврилович! — дружелюбно погрозил он худым кулаком Мокшину. — Ну уж, и меня туда же! — улыбнулся Мокшин. — Я ведь вас поддерживал, только высказал некоторые предположения, а не сомнения! — Мокшин многозначительно приподнял указательный палец. — Ну, пусть, предположения, — миролюбиво согласился Возняков. — Главное в другом. Теперь выяснилось, что серый боксит подстилает основное месторождение. Осинцев поднял всего тридцать сантиметров серого боксита, а диаспорового — почти десять метров. Выходит, что ценные сорта бокситов где-то перед рекой выклиниваются, а подстилающий их пиритизированный боксит имеет большее площадное распространение, что и ввело в заблуждение геофизиков. — А как же обломки диаспорового боксита оказались в реке? — спросил Володя. — Можно предполагать, что небольшой язычок основного рудного тела тоже попал за линию сброса и где-то выходит на поверхность. Он настолько невелик или так хорошо замаскировался, что мы не сумели обнаружить его. — Вполне достоверно, — опять же неожиданно согласился Стародубцев. — Скажите, пожалуйста! — удивился Возняков. — Даже вы, неспециалист, все поняли. — Вы очень доходчиво рассказываете, — сказал Стародубцев и дружелюбно предложил: — Давайте закурим. Ленинградским «Беломором» разбогател... Довоенным. — Вот это да! — восхитился Возняков. — Обожаю!
10. НОВОСТИ
На улице Володя неожиданно столкнулся с Осинцевым. Маленький, круглый как шар, в своем широком полушубке, он стремительно выкатился откуда-то из-за угла и сразу спросил: — Ну, на какой участок назначили? — К вам. — Порядок! — обрадовался Назар. — Значит, вместе работать будем. — Выходит. — Зайдем ко мне. Поболтаем, — предложил Осинцев. — Нет, пойдем лучше к нам. Есть хочу. С утра во рту крошки не было. — Н-да, жратва — дело важное, — согласился Осинцев. — Только заходить к вам что-то не хочется. — Почему? — Да так... — Назар замедлил шаги. — Неохота лишний раз встречаться с этим охломоном. — С кем? — Да с Мокшиным. Ну его... — За что ты его не любишь? Человек он вроде порядочный. — Вот именно — вроде, — сердитой скороговоркой сказал Осинцев. — Ну ты всегда умел преувеличивать, — улыбнулся Володя. — Обыкновенный, хороший человек! — Чего ты о нем знаешь! Я с ним уже семь месяцев работаю, а понять не могу. — Плохо глядел, — сказал Володя, вспомнив невеселый разговор с квартирантом. — Ну да, плохо... — обиделся Назар. — Я поначалу его тоже за человека принял. Даже деньги взаймы брал, вместе выпивали, а потом... — Он махнул рукой, и Володя опять улыбнулся (Своей привычкой жестикулировать маленький Назар очень походил на долговязого Вознякова). — Потом разочаровался. Сухой он какой-то. Все правильным, точным хочет быть, ни с кем не ругается — тьфу! — Чудак ты, Наварка! Фантазер, как раньше. Все с кем-нибудь да воюешь. — Не каждому же быть таким всеядным, как ты! — беззлобно огрызнулся Назар. — Ладно. Пойду ужинать, — сказал Володя. У него не было желания спорить. Мокшин был в плохом настроении. Володя сразу понял это, когда зашел в свою комнату. Квартирант сидел за письменным столом и курил, сердито пуская тугие струи дыма к низкому потолку. — Невеселы что-то, Василий Гаврилович, — сказал Володя. — Чем расстроены? — Да ничем. Просто устал. — А мне показалось, что расстроены. Тоже устал, лягу спать. Завтра на участок ехать. Не обижаетесь, что отнял у вас две буровых? — Ну что ты! Рад бесконечно. Баба с возу — кобыле легче. Надоел мне этот Осинцев. Все ему не так, все ему не ладно. — Он такой! — добродушно согласился Володя. — И в институте таким был. — Ну его! Мучайся теперь с ним ты. — Мокшин помолчал, а потом сказал: — Олег Александрович тоже хорош. Выставляет меня на посмешище, приписывает какие-то сомнения. Это после того, как я вместе с ним ночей не спал, сутками на вышке Осинцева сидел. — Да полноте, Василий Гаврилович. Ничего особенного он не сказал. Так... Употребил не то слово. — Все же... — Ерунда. Берегите нервы. Старик вас уважает, а сказать что-нибудь лишнее всякий может. — Бывает. — Мокшин повеселел, стал раздеваться. — Послушаю добрый совет. Тоже лягу спать. В комнату заглянул отец. — Пойдем-ка, Владимир. Подсоби матери. Надо картошки в погребе набрать. — А я уже спать собрался. — Спать... Ишь какой барин нашелся, — проворчал Тихон Пантелеевич. — Пойди подсоби. У меня нынче поясницу разламывает. Никак, опять застудился. — Баньку, баньку с веничком надо, — посоветовал Мокшин. — И то дело, — согласился Тихон Пантелеевич. — Завтра истопим, а то невмоготу что-то. Пошли. Подыми матери пару бадеек. Спускаясь в погреб, Володя вдруг подумал, что отец неспроста заставил его лезть за картошкой. Он не ошибся. Тихон Пантелеевич зажег керосиновую лампу и тоже спустился вниз. — Есть новость, — тихо прошептал он, склоняясь к сыну. — Второго числа вечером у Сидора Хомякова брал лошадь Иван Булгаков. За самогонкой в Порошино вроде бы гонял. Наипервейшего деревенского пьяницу колхозного конюха Сидора Хомякова Володя знал с детства, а вторую фамилию слышал впервые. — Кто такой Булгаков? — Не нашенский. Из раненых. Коновозчиком в партии работает. — Что же он не у себя лошадь брал? — Выходит, не резон было. — И долго ездил? — Сидор-то не помнит. Пьян был. Лошадь дал часов в семь вечера и спать завалился в конюховке. Ночью проснулся, видит — лошадь на месте, а Иван на полу спит. Четверть самогонки под столом. — Во сколько это было? — Да не знает Сидор-то. Я же говорю — пьян был. Разбудил Булгакова, еще выпили. У него вовсе ум вон. — Как ты все это узнал? — Это мое дело, — сердито прошипел отец. — Я свое дело сделал. Ивана-то сразу узнаешь. Однопалый он. — Давно в деревне появился? — Месяца четыре будет. У Ефросиньи Козыревой квартирует. — Откуда он явился? — Из госпиталя, говорят. По чистой. Места-то его под немцами. — Пьет часто? — Не особенно. Но бывает. Запоями. Редко, да метко. Володя наполнил ведра картошкой и полез было из погреба, но отец остановил его. — Вот что... как тебе сказать... — Он поскреб затылок. — Назарки Осинцева второго числа ночью в деревне тоже не было... — Осинцева? Где же он был? — А черт его знает! — сердито ругнулся старик. — Хозяйка квартирная сказывала, что только под утро заявился. Хмельной. Где был — не сказывал... «Вот те дела! — Володя промолчал, ошеломленный неожиданной новостью. — Неужто Назар?..» — Так что имей в виду... — продолжал шептать отец. — Может, он не того... Но все же... — Хорошо. Буду иметь в виду, — расстроенно буркнул Володя. Уже лежа на своем сундуке, он напряженно соображал, как лучше и скорей сообщить новости Новгородскому. Капитан еще в Сосногорске сказал, что звонить и писать письма не следует, что он сам установит связь в нужное время. Это нужное время подошло, а обещанной связи не было. Сейчас, воззрившись в густую, теплую темноту комнаты, Володя сердился на Новгородского за эту медлительность. Утром Володя уехал на участок. Описал поднятый ночными сменами керн. Описал быстро и сам удивился той легкости, с которой это ему удалось. Придирчиво просмотрев свои записи, он успокоился, хотя все равно испытывал чувство некоторой неуверенности из-за отсутствия Мокшина. На буровой Осинцева царил хаос. Бригада занималась ликвидацией свежей аварии. Маленький Назар, скинув полушубок и шапку, командовал буровиками. Дюжие парни, взявшись за трос, выбивали ударной бабкой намертво прихваченный где-то в глубине буровой снаряд. Володя сел на верстак в углу вышки и стал с интересом наблюдать за злыми, вспотевшими людьми. Бревенчатый тепляк наполнен грохотом и дымом, которым надсадно плевался одноцилиндровый, похожий на большой черный самовар, нефтяной двигатель. Через один из шкивов этого двигателя перекинут прорезиненный ремень. К обоим концам ремня прикреплены куски троса. За один трос держались буровики, к другому привязана цилиндрическая стальная бабка. Эта бабка имела в центре круглое отверстие и была насажена на буровую штангу, торчащую из скважины. Когда буровики натягивали трос, ремень плотно прилегал к шкиву, вращающийся шкив подхватывал ремень, и бабка стремительно взлетала вверх — ударяла по навернутому на конец штанги сальнику, через который закачивалась в скважину промывочная жидкость. Буровой снаряд вздрагивал своей головой-сальником и оставался стоять неподвижно. «Бом... бом... бом...» — мощно ухало в вышке в ответ на нервный, захлебывающийся лай движка. «Ну и прочность!» — подивился Володя, глядя на вибрирующую оконечность бурового снаряда. Хоть было это не в новинку, все равно казалось удивительным, что такая совсем не толстая стальная труба может выдерживать столь мощные удары. «Бом... бом... бом...» — неслось по вышке, и Володя, отвыкший от многого, стал удивляться той могучей силе, которая намертво ухватила снаряд где-то в глубине. — Какого лешего расселся! — заорал Осинцев, делая на штанге мазутную метку. — Нечего филонить. Помогай, ваше величество! Володя улыбнулся. Назар орал изо всей мочи, но слышно его было плохо. — Чего лыбишься? Помогай! А то в момент с вышки попру! Володя бодро соскочил с верстака и ухватился за трос. «Бом... бом... бом...» Упругое тело снаряда натужно вибрировало, но не подавалось вверх. Володя, в ритм движениям рабочих, рвал трос на себя и отчего-то радовался этому грохоту, этому размеренному ритму. Было до странного радостно впервые за многие месяцы слышать и создавать грохот, который не нес смерти и разрушения. «Бом... бом... бом...» Пот начал заливать глаза, заныла раненая нога, а Володя с давно забытым воодушевлением напрягал все силы. — Пошла! — вдруг завопил Осинцев, наблюдая за меткой. — Еще разок! Володя и сам почувствовал, что в вибрирующей штанге стала исчезать упругость, удары стали глуше, мягче. Потом снаряд неожиданно подпрыгнул над устьем скважины, залязгал, мотаясь в обсадной трубе. — Вот так и живем, — весело пожаловался Назар, когда буровики подняли весь снаряд и стали готовиться к рабочему спуску. — Не скучно, — ухмыльнулся Володя, отирая потный лоб. Они сидели на верстаке и наблюдали за сноровистой работой бригады. — Скучать не приходится, — вздохнул Назар. — Разрез собачий. Сверху, метров двадцать, разруха, а дальше еще чище. Закарстованные известняки. Сам знаешь — не шутка. То плотные породы, то пустоты, заполненные песком и глиной. Нарвешься на кремнистые известняки — и мозолишься до обалдения. Крепки. По четверти метра в сутки. Если же дробью с промывкой начнешь по ним бурить — жди аварии. Проскочишь монолитный слой, а под ним карстовая полость. Прозевал — получай вывал в скважину! Видал, как прихватывает? — Видал. — Вот так и маемся. Чуть проморгал — готова авария. Ликвидируй потом дедовским способом. Аварийного инструмента нет. — Назар попробовал сдвинуть непослушные жиденькие брови, что означало — сердится. — Попадись мне та сволочь, из-за которой здесь повторно канителимся, живьем бы бабкой в скважину забил! Ей-богу! — Ты можешь... — согласился Володя. У него поднялось настроение. — Как погляжу, ты сейчас все можешь. — А сам соображал, каким образом спросить Назара, где он был ночью второго декабря. Володя искоса рассматривал курносый профиль приятеля и чувствовал, что сам не верит своим подозрениям. Уж слишком мало Назар изменился с тех пор, как ушел из института. В нем оставалось столько ребячливого, мальчишеского, что было трудно поверить в его измену. Осинцев сидел на верстаке рядом, болтал короткими ногами, обутыми в большущие стоптанные валенки, и хвастливо орал: — А бригада у меня — во! Всем бригадам бригада! Народ что надо. С таким народом не то что искать боксит, сам земной шарик пополам расколоть можно. Очень даже запросто! — Ты скажешь! — Что, не веришь?! Да кого угодно спроси — бригада мировецкая! С такой бригадой хоть в огонь, хоть в воду! — Ладно. Верю, — продолжал улыбаться Володя. — Работаете и вправду здорово. А отдыхаете-то как? Как время свободное проводите? Где? Но Осинцев уже не слушал. Взмахивая короткими руками, он скатился с верстака и, выскочив из распахнутой двери тепляка, отчитывал только что подъехавшего коновозчика. — Ты что делаешь, раззява! Тебя кто учил так бочки швырять? И где ты швыряешь? Ты что, места не знаешь, к порядку не приучен? Долговязый конопатый коновозчик, неловко скинувший бочку с нефтью, топтался перед коротышкой мастером и виновато бубнил: — Поскользнулся, Назар Ильич... Хотел как лучше, а она, дура, возьми да треснись плашмя... — Плашмя... Тебя бы самого плашмя... — ворчал Осинцев, оглядывая бочку. — Черт однопалый... Бочки в партии на вес золота. Да и нефть... А если бы разбил? Ведь беречь надо! — Слушаюсь, Назар Ильич... «Однопалый?» Володя сразу перестал улыбаться и тоже вышел из тепляка. Пока Осинцев с коновозчиком откатывали привезенную бочку и грузили на дровни порожнюю, он внимательно разглядывал однопалого. Ничего особенного Володя в нем не обнаружил. Обыкновенный деревенский мужик, какого можно встретить в любом русском селе. Конопатый нос картошкой, небольшие серые глаза на длинногубом, морщинистом лице... «Неужели это он?» — с удивлением подумал Володя, и ему отчего-то стало не по себе. Было неправдоподобно видеть тайного жестокого врага в обыкновенном мужике с заурядной крестьянской внешностью. Но сомневаться не приходилось. Коновозчик работал без рукавиц. На левой изуродованной кисти его не хватало четырех пальцев и половины ладони. От этого уцелевший мизинец был страшен, длинен и походил на красную рачью клешню. — Куда подвода пойдет? — спросил Володя Осинцева. Тот в свою очередь обратился к коновозчику: — Ты куда сейчас, Булгаков? — Известно куда, на базу. Опростанную бочку залью, к Ушакову поеду. — Тогда я с тобой до села доеду, — сказал Володя Булгакову. — Мне в контору надо. По дороге в Заречье, примостившись на дровнях рядом с порожней бочкой, Володя с интересом разглядывал коновозчика. Никакого опасения он ему не внушал. Булгаков заметил это разглядывание, нахмурился. — Чего глазеешь? — Да не узнаю никак. Вроде не зареченский ты. А может, запамятовал. Ты уж не сердись. В последние годы домой только гостем приезжал. Не каждого узнаешь — кто вырос, кто состарился... — Тихона Пантелеича сын, говорят? — скупо поинтересовался Булгаков. — Ну да. По ранению. На шесть месяцев. — М-да... — неопределенно хмыкнул Булгаков, помолчал, потом неохотно сказал: — Не тутошний я. Войной прибило. — Что, тоже по ранению? Булгаков только хмуро кивнул и зачем-то сунул искалеченную руку в карман грязного полушубка. «Самострел!» — вдруг категорически решил Володя. Ему неожиданно вспомнилось, как осенью вырвавшиеся из окружения артиллеристы расстреляли пожилого солдата-сектанта, умышленно прострелившего себе руку, чтобы не везти боеприпасы на передовую. — Ну и как, нравятся тебе наши места? — Места ничего. Жить можно... — вздохнул Булгаков. — «Ничего». Шикарные у нас места! — постарался поправдивее обидеться Володя. — Красота-то какая! Леса, горы... река. Живи — не хочу! Как ты к нам попал-то? Россия ведь большая. — Да знакомый один зазвал. Вместе в госпитале лежали. На станции стрелочником работает... Вот и прижился здесь. — Правильно сделал. Народ у нас подходящий. Зря не обидит, не обманет... Булгаков промолчал. — А где ранило-то? Миной, осколком? Коновозчик вдруг на что-то озлился. Сердито дернул вожжи, выругался: — А-а... Не все равно где! Руки не вернешь, сучье вымя... Что, мне легче от этого? Под Псковом. Псковской я! — Н-да... Война везде найдет, — посочувствовал Володя. Булгаков ничего не ответил. Всю оставшуюся дорогу он хранил угрюмое молчание, ожесточенно понукая прихрамывавшую лошадь. У крыльца конторы Володя неожиданно столкнулся с Задориной. Оба смутились, неловко поздоровались и остановились, не зная, что друг другу сказать. Володя искоса рассматривал нежный профиль девушки и беспомощно напрягал память, подбирая разом забытые нужные слова. Он так и не нашел их. — Вы уже работаете? — спросила Надя. — Да, Надежда Сергеевна, работаю. Она укоризненно посмотрела на него. — Работаю, Надя, — осмелел Володя, радуясь ее взгляду. — А вы опять к нам? — К вам... — Надя чуть нахмурилась. — А как же наш уговор? — Какой уговор? — Насчет танцев... Я ведь жду. — Этот вопрос надо обдумать, — улыбнулась Надя. — Стоит ли? — Стоит! Надо ведь когда-то и отдыхать. Не все же о войне и работе думать! Надя помолчала, глядя куда-то мимо Володи, потом призналась: — Здесь неудобно. Я приезжаю сюда по делу. Только по делу... — Было в ее словах нечто недоговоренное, что заставило Володю заволноваться. — Как это понять? — В прямом смысле. — Надя посмотрела в синие Володины глаза и опять порозовела. — Дом у меня в Медведёвке. А здесь работа. Рабочее место. Понимаете? — Понимаю. А если я приеду в Медведёвку? Надя промолчала. — А если я приеду в Медведёвку? — укрепляясь в своей решимости, повторил Володя. — Приезжайте... — просто сказала Надя. — Когда же? — Я не знаю... — Тогда я приеду в субботу! Бывают у вас танцы в субботу? Или что-нибудь подобное... — Кажется, да. Но я точно не знаю... — Ничего. Я узнаю! — заверил Володя и хотел взять Надину руку, но ему помешал вышедший из конторы Стародубцев. — Привет геологам! — Следователь был зол, хмур, он стал рядом с Задориной и жадно закурил. «Принесла его нелегкая!» — расстроился Володя, выжидая, когда следователь пройдет. Но Стародубцев никуда уходить не собирался. Ему, очевидно, надо было поговорить с Задориной, и он продолжал стоять, зло попыхивая папиросой, недружелюбно косясь на молодого человека. Прошло немало времени, пока Володя понял это. — Ну, я пойду... — буркнул он и ступил на крыльцо. — Иди, Ромео, иди, — не удержался от мрачной шутки Стародубцев. Надя вскинула голову и так посмотрела на своего грубоватого коллегу, что тот осекся и неумело извинился: — Простите, Надежда Сергеевна... Виноват. Черт за язык дергает. Володя этого не слышал. Он с треском захлопнул за собой дверь конторы. В геологическом отделе было пусто, холодно и дымно. Возняков одиноко копошился за своим столом и дымил огромной самокруткой. — Я к вам, Олег Александрович. Проверьте мое первое описание, — сказал Володя, протягивая начальнику новенькую полевую книжку. — Не до того! — отмахнулся Возняков. — Дайте проверить Мокшину. — Так его же нет. Где он? — А бог его знает... На участке, наверное... Ждите. Володя с недоумением посмотрел на Вознякова и только сейчас заметил, что тот не в себе — чем-то сильно расстроен и даже бледен. — Что с вами, Олег Александрович? — А-а! Неприятность за неприятностью... В жизни такого не бывало, — угнетенно пробормотал Возняков. — Что-нибудь случилось? — Володе показалось, что начальник готов расплакаться, так судорожно дергался кадык на худой шее. — Не говорите... — Возняков резко задвинул ящик стола и встал. — Голова кругом идет. Вы уж с Мокшиным, голубчик, с Мокшиным... — Он накинул полушубок и, шаркая валенками, побрел к двери. Оставшись один, Володя огорченно повертел в руках свою полевую книжку и сунул обратно в сумку. Оставаться в геологическом отделе не имело смысла. Он уже жалел, что соблазнился возможностью поближе познакомиться с Булгаковым и рано уехал с участка. Гадая, что могло случиться с Возняковым, Володя пошел из конторы и на пороге неожиданно столкнулся с Сажиным. Сажин был серьезен и строг. — Ты-то мне и нужен, — озабоченно сказал он. — Слышал о новости? — Нет. Вижу только, что что-то стряслось. — Действительно стряслось... Возняков во время утренней оперативки обнаружил в своем столе исчезнувший авансовый отчет. — Отчет? — Вот именно. Тот самый подлинник, который отправлял с Николашиным. Все документы, кроме нескольких железнодорожных билетов и расходных ордеров, по которым деньги получил сам Возняков, целы. — Что за чертовщина! — Никакой чертовщины. Все абсолютно ясно, — жестко сказал Сажин. — Нервничают, подлецы! — Пожалуй, — согласился Володя. — Юрий Александрович скоро будет здесь? — Завтра. Есть что-нибудь новое? — Да как сказать... — замялся Володя; он не знал, в какой степени можно быть откровенным с начальником райотдела милиции. Сажин все понял. Полез в свою пухлую полевую сумку, достал миниатюрный браунинг. — От него. Расписку завтра самому отдашь. — Ага... — Володя проверил обойму, по-хозяйски взвесил пистолет в руке, потом спрятал в задний карман брюк. — Новости есть. Некто Булгаков, коновозчик из партии, ездил второго декабря на колхозной лошади за самогонкой. — Куда? — Сажин оживился. — Говорил конюху, что в Порошино. — Вот как! Интересная петрушка получается. Надежде Сергеевне тоже удалось выяснить, что одного из работников партии, которого не опознали, видели на колхозной лошади на станции Хребет. Тоже второго и тоже вечером. — Вот оно что... — Володя нахмурился. — У Ивана Булгакова есть знакомый стрелочник на станции. Он мне сам сказал. Будто бы лежали вместе в госпитале. — Молодец! — похвалил Сажин. — Очень важная деталь. Срочно выясни, кто этот стрелочник. Только без шума. — Не маленький. — Ну-ну, — Сажин чуть улыбнулся. — Тебе это легче незаметно сделать. Задорина со Стародубцевым сейчас выясняют, кто был тот человек и к кому он ездил. Ты облегчил их работу. А на станции я им до поры до времени показываться запретил. Их повторное появление там может вспугнуть преступников. — Не исключено, — согласился Володя. Ему стало приятно от сознания, что он чем-то помог Наде. Подумав, он все же решил сказать и о Назаре. — Осинцев? Где же он был? — Не знаю. Никто не знает. — Что же ты... — Сажин нахмурился. — Это чертовски важно! И ты не пробовал узнать? — Пробовал, но... — Володя рассказал о разговоре на вышке. Сажин огорчился: — Зачем ты так лобово спрашиваешь? Где время проводят... Это любого насторожит. Ведь если он враг... Понимаешь? — Назар враг? — Володя не сумел сдержать улыбку. — Ну в таких делах шуточки и безграничная доверчивость неуместны! — мрачно сказал Сажин. — Не вижу ничего смешного. Мало ли, что вместе учились... Ясное дело, он увильнул от ответа на твой вопрос... — Да нет, коновозчик действительно чуть не разбил бочку. А Назар такой... Увидел — сразу выскочил. — Не знаю. Все может быть.Только очень похоже, что ты вспугнул его своим вопросом. Так грубо действовать нельзя. — Учту. — Учитывать теперь поздно. Дело сделано. Постарайся по крайней мере узнать, где был тогда Осинцев, как-нибудь поделикатней. — Ладно. Будем деликатней. — Итак, до завтра, — подтолкнул его к двери Сажин. — Нам наедине долго оставаться самим господом богом противопоказано. Чуешь? — Чую. Нади и Стародубцева у крыльца уже не было. Володя постоял, подумал, решил еще раз съездить на участок. Он пока не знал точно, зачем это сегодня ему нужно, но втайне надеялся, что удастся что-либо узнать у словоохотливого Назара. Володя пошел на склад горючего в надежде застать там Булгакова и подъехать с ним до участка. Не хотелось длительной ходьбой перегружать побаливавшую ногу. Булгакова и его лошадь он заметил еще издали, а когда подошел ближе, увидел и Мокшина. Геолог сидел около пузатой цистерны: ждал, когда коновозчик наполнит бочку нефтью. — А я вас ищу, Василий Гаврилович. Привез на проверку первое свое описание — и впустую. Проверить некому. — А разве Вознякова в конторе нет? — спросил Мокшин. — Там, да только он что-то не в духе. Велел вам показать. — Потом, — отказался Мошкин. — Я сейчас на участок еду. — Вы что, не были еще? — Был, но снова поехать надо. Ушаков просил показать на местности будущую свою точку. Хочет дорогу туда заранее проложить. Вот и приезжал за картой. Сейчас ехать надо. Ждет Ушаков. — Он сокрушенно развел руками. — Не могу быть неточным. — Это хорошо, — похвалил Володя. — Ну, скоро ты там? Ехать пора! — крикнул Мокшин коновозчику. Этот окрик подействовал на Булгакова самым странным образом. Он передернулся, как от удара, чуть не выронил ведро. — Сейчас я, мигом, Василий Гаврилович, — испуганно отозвался он и спешно схватился за воронку. — Да долей бочку-то... — А она уже почти полная, — заискивающе бубнил Булгаков. — В один миг, Василий Гаврилович! Мокшин с досадой поморщился и покосился на Володю. Тот почесал затылок и как ни в чем не бывало произнес: — Выходит, сорвался мой выезд. Тоже хотел еще раз на участок сгонять. Не потянет ведь лошадь троих, да еще с грузом. — Не потянет, — подтвердил Мокшин. — А ты в камералке поработай. Начинай составлять колонки по своим скважинам. — Что ж, придется, — согласился Володя, улавливая цепким взглядом, как Булгаков поспешно закидывает на дровни недолитую бочку. «Боится же, однако, этот однопалый Мокшина. Как черт ладана боится, — думал Володя, возвращаясь в контору. — С чего бы?»— Скажи, ты на станции часто бываешь? — Приходится. — Тихон Пантелеевич выжидающе посмотрел на сына. — Работников тамошних хорошо знаешь? — Еще бы... — хмыкнул Тихон Пантелеевич. — Сам начальник станции кумом приходится. Не забыл, поди, Нестора Прохоровича? — Не забыл. — Володя помялся. — А новых людей на станции много появилось? — Война, сынок. Война. — Тихон Пантелеевич хитро сощурился. — Что-то виляешь ты. Говори начистоту. — Меня интересует новый стрелочник. Тот, который по ранению из армии демобилизовался. — Стрелочник? — Тихон Пантелеевич заехал корявой натруженной пятерней в свои редкие рыжеватые волосы. — Да ведь на станции, почитай, одни бабы работают. Мужиков — раз-два и обчелся. — Бабы? — огорчился Володя. — Они. Кругом бабы. Хотя постой... — Тихон Пантелеевич наморщил лоб. — А ведь точно... Был у них такой. Вроде старшего стрелочника или путевого рабочего... Только он не на фронте раненый, а при эвакуации под бомбежку, сказывают, попадал... — Кто такой? — не стерпел Володя. — Дай вспомнить, — отмахнулся старик и стал думать, чуть пошевеливая толстыми бесцветными губами. — Был... Вроде и сейчас там. Только на другой должности. Не то весовщиком, не то диспетчером... Подожди... Ну да! Фамилия потешная такая. Домишко у Савватеевых купил. Хохол вроде бы. Ну да. Вспомнил. Куница — фамилия его. Я говорю — потешная фамилия! — Где он живет? — Я ж говорю, перед ноябрьским праздником домишко у Савватеевых купил. Ничего домишко. Большой, крепкий еще. А цену дал, как за барахло последнее. Выжига. Скупердяй. Воспользовался чужой бедой. Сам Савватеев на фронте погиб. Женка заболела. На пенсию в такое время разве прокормишься... Детей голодом морить не будешь. Продали домишко. К родне перебрались. Колхозом-то оно веселее... — Где этот дом? — Да ты что, не помнишь? — рассердился Тихон Пантелеевич. — Вроде бы не нашенский. У переезда, около шпалорезки. Такой веселый домишко! На шесть окон. Еще на воротах всякие загогулины. Круги не круги, яйца не яйца — леший их разберет. — Ага. Вспомнил. Зеленой краской наличники выкрашены были. — Ну да. Самый савватеевский дом. На отшибе. — Понятно. Благодарю за службу! — Но-но! Ты полегче, — проворчал Тихон Пантелеевич, между прочим, без всякой обиды. — Тоже мне — генерал выискался. Вот огрею ремнем! Володя рассмеялся. Он видел: отцу очень хотелось утолить свое распалившееся любопытство. Ему стоило больших усилий молчать, не ронять достоинство бабьими расспросами. — Молодец. Ничего не надо спрашивать, — одобрил Володя, и Тихон Пантелеевич смущенно почесал затылок: сын явно рос в его глазах... — Я проверил твое описание, — сказал Мокшин, когда Володя вошел в спальню. — Все правильно. Можешь считать — первый блин испечен. — Спасибо, Василий Гаврилович. — Сам делал — себе и адресуй. — Мокшин устало потянулся, порылся в пикетажках. — Листочка чистого у тебя не найдется? — Для чего? — Письмишко черкнуть надо. Послушаю тебя. Буду кончать со своей... Ну ее к черту! — Мокшин вымученно улыбнулся. — Хватит. Действительно, стрелять таких мало. — Это мужской разговор! — одобрил Володя и полез в свою полевую сумку за тетрадкой. — На такое дело и бумаги не жалко. Мокшин взял листок и, не таясь, четким, убористым почерком написал несколько строк: «Анна! Я все-таки решил написать тебе правду. Былого уже нет. Ты сама все растоптала. Тебе пора это знать. Между нами уже ничего нет и не может быть. Не жди меня. Мне больше нечего сказать. Это все. Прощай. В.». — Правильно! — сказал Володя. — Кончено с красивой, — отрывисто сказал Мокшин. — Все кончено. — Он вложил листок в конверт, подождав, когда Володя отойдет, написал адрес и с видимым облегчением вздохнул: — Гора с плеч! А это в печку! — Мокшин сунул конверт в сумку, сгреб со стола груду порванных писем, клочья знакомой фотокарточки и, мрачно насвистывая, пошел на кухню. Пока он ходил, Володя успел вытащить конверт и прочитать адрес: «Сосногорск, главный почтамт, до востребования, Савицкой Анне Михайловне». — Савицкой Анне Михайловне, — запоминая, пробормотал Володя и отошел к своему сундуку. Вернулся Мокшин. Он молча прошел к столу, сел и обхватил голову руками. Володе вспомнилась дневная встреча с Надей, и ему тоже стало грустно. Захотелось пойти разыскать ее, поговорить или просто помолчать, разглядывая задумчивое лицо то хмурой, то затаенно-ласковой девушки. Ему все нравилось в ней, он все чаще и чаще думал о Наде, и каждый раз эти сумбурные думы непонятно волновали его. От одной только мысли, что маленькая строгая девушка когда-нибудь отвергнет его внимание, Володе становилось не по себе. — Переживаешь? — с участием спросил он Мокшина. Тот только пожал плечами: наивный вопрос. — М-да... — Володе хотелось поговорить. — Конечно, не легко. Если любишь. Я понимаю... А эта... следователь... Правда, хорошая дивчина? — вдруг выпалил он. — Мы договорились, что я приеду к ней в Медведёвку. В субботу на танцы пойдем. — Тоща больно, — равнодушно пробурчал Мокшин. Володя передернулся, на него будто ушат воды вылили. — Знаешь... ты... ты... — запинаясь от прихлынувшей внезапно злости, сказал он. — Ты, оказывается, того... скотина хорошая! Мокшин с удивлением обернулся к нему. Такой злости от Володи он, видимо, не ожидал. — Не дуйся, Володька! — поняв, что сказал что-то не то, поспешил извиниться Мокшин. — Я это так. Думал о своем и сболтнул черт те что. Не обращай внимания. Знаешь, бывает такое дурацкое настроение... На все и вся зол... Я ведь не знал, что у вас что-то серьезное. — Чего уж там... — буркнул Володя. Цинизм Мокшина покоробил его, он жалел, что пооткровенничал. — Ладно, не сердись, — примирительно сказал Мокшин. — Извини. Беру свои слова обратно. Без всякого умысла ляпнул. Под настроение. Эта Задорина и вправду пресимпатичная деваха. Я давно заметил. Володя промолчал. Мокшина его хмурость почему-то обеспокоила. — Я даже рад, что симпатизируете друг другу, — продолжал он с наигранным оживлением. — Дурак я. Ведь вы действительно здорово подходите друг другу. Такая пара! В субботу договорились встретиться? Володя решил не ссориться. — В субботу. — Обязательно езжай! Такая дивчина... Отвлечетесь от будней. Ты на фронте, наверно, уж забыл, как по-человечески отдыхают. — Посмотрим, — неохотно откликнулся Володя. Ему не хотелось разговаривать. В невольном возгласе Мокшина не было чего-то чрезмерно грязного, ранее не слыханного, и он не мог понять, что в конце концов так жгуче задело его. — Нечего и смотреть! — с энтузиазмом продолжал тем временем Мокшин. — Если у тебя нет выходного костюма — я тебе свой дам. И сорочку. Галстук подберем. Таким женихом оденем — вся Медведёвка ахнет! — Он рассмеялся. — Договорились? — Договорились, ладно. Давай спать. Володя лег первым. Раздевшись, Мокшин выключил свет и пошел к своей кровати. Вдруг он замер у окна. Потом оперся о подоконник и стал что-то рассматривать, вплотную прижавшись лицом к стеклу. — Чего ты там увидел? — спросил Володя. Он уже не мог обращаться к Мокшину на «вы». — Иди-ка сюда... — помолчав, почему-то шепотом позвал Мокшин. Володя соскочил с сундука и подошел к окну. — Смотри. — Мокшин ткнул пальцем в сторону реки, где возле заиндевелых берез одиноко чернел большой колхозный сарай, занятый партией под кернохранилище. Володя вгляделся. Полная глазастая луна как бы растворила ночь в своем холодном молочном сиянии. За окном царствовали контрасты. Белое и черное, черное и белое — и никаких других красок. — Красиво. Экая красотища! Видно как днем. Ты в Ленинграде учился: в белые ночи так же хорошо? — Да смотри же! — прошипел Мокшин. — У кернохранилища. И Володя увидел. Возле сарая стоял коренастый человек в полушубке и что-то разглядывал. Потом он сделал несколько шагов и опять встал. Что-то знакомое почудилось Володе в размашистых, резких движениях этого человека. — Что он делает? Мокшин промолчал. А человек то подходил к дверям сарая, то отходил от них, то вставал у дороги и крутил головой во все стороны. — Это же Стародубцев, — прошептал Мокшин. Володя сразу узнал воинственного следователя. — Что ему взбрело в голову плясать тут ночью? — Не догадываешься? — тем же шепотом спросил Мокшин. — Ума не приложу. — А кто он по-твоему? — Ясно — кто. Следователь. — Молодо-зелено... Да это же чекист. — Да ну! Володя действительно изумился. Сознание того, что кроме него Новгородский мог послать в Заречье кого-то еще, было настолько неожиданным, что он на какое-то мгновение потерял над собой контроль. Володя не заметил, как его удивленное, хорошо видное в мерклом лунном свете лицо пристально разглядывает Мокшин. Убедившись, очевидно, в искренности его изумления, Мокшин облегченно вздохнул и уже громче, спокойнее сказал: — Да ну его к черту. Пусть себе бродит. Давай спать. — Давай, — согласился Володя, приходя в себя.
11. ВЕРНЫЙ СЛЕД
Новгородский был хмур и очень утомлен. До того утомлен, что забыл встретить Володю своей обязательной улыбкой. Приехавший с ним лейтенант Клюев, молодой рыжеволосый худощавый парень, тоже неудержно зевал и делал отчаянные усилия, чтобы не задремать. Разговор происходил в кузнице. Отец попросил зашедшего на обед сына помочь починить старые мехи. Молотобоец уехал в военкомат, а старику надо было делать какую-то срочную работу. Они уже подходили к кузнице, как неожиданно встретили Сажина. Обменялись обычными приветствиями. — Топай, — сказал отец. — Я сейчас приду. Поговорить надо. Володя пошел один. Открыв дверь кузницы, удивился. В углу, у маленькой печки-каменки, наслаждались теплом Новгородский и Клюев. — Закрывай, — вместо приветствия, вяло сказал Клюев. — Тепло выпустишь. Володя спешно захлопнул широкую, тяжелую дверь и запер на засов. — Так-то лучше, — одобрил Новгородский и подвинулся. — Садись. Рассказывай. Володя не замерз, но тоже распахнул полушубок и выставил растопыренные пальцы над пышущей жаром каменкой. Выслушав его обстоятельный рассказ, Новгородский с Клюевым оживились, переглянулись. — Вот оно что... — повеселевшим голосом произнес капитан. — Значит, Мокшин взял листок для письма у тебя? — У меня. — И Булгаков его определенно боится? — Боится. — Очень хорошо. Значит, считаешь, что Мокшин странный человек? — Считаю. Во-первых, неясная еще зависимость от него Булгакова. Во-вторых, вчера он обманул меня. Сказал, что приезжал с участка за картой, чтобы отбить на местности точку для бригады Ушакова, а сам в конторе не был. Иначе Возняков видел бы его. Ведь карты лежат в сейфе. Сегодня я, между прочим, спросил Ушакова о месте следующей скважины. Тот сказал, что не знает ее местоположение. Спрашивается: зачем Мокшин приезжал, не связан ли его тайный визит на базу с появлением авансового отчета в столе Вознякова? И в-третьих, лично мне Мокшин что-то перестал нравиться. Вчера, когда смотрели на Стародубцева, он все шепотом говорил. — Последнее особенно убедительно, — впервые за все время разговора улыбнулся Новгородский, а Клюев даже рассмеялся. Володя застеснялся. — Не тушуйся, — доброжелательно сказал Клюев. — Все дельно. — Очень дельно, — подтвердил Новгородский и надолго задумался. Володе уже стало казаться, что капитан уснул, разморенный теплом и усталостью, но тот вдруг спросил: — Вещи Мокшина осмотрели? — Нет... — Володя покраснел. Было неловко признаваться, что он никак не может заставить себя рыться в чужих вещах. — Плохо, — сказал Новгородский и встал. — Вялость и неоперативность в нашем деле недопустимы. Поскольку вам со всей очевидностью стало ясным, что Мокшин возможный враг — надо было действовать. Ведь мы несем ответственность за мероприятие огромной государственной важности! В такой обстановке нерешительность недопустима. Возле жизненно важных изысканий крутится подозрительная личность — а вы спите. Чего вы ждали? Почему тянули? Где фотография этой Анны? Она нужна нам! Володя тоже встал, виновато вытянулся перед капитаном. — Я уже доложил, что фотографию и письма Мокшин уничтожил. — Безобразие! Люди тысячами гибнут на фронте, а лейтенант Огнищев изволит благодушествовать и играть в псевдоблагородство. — Виноват, товарищ капитан. — Виноват... — Новгородский снова сел, этой вспышкой раздражения как бы окончательно согнав усталость. — Оправданиями теперь ничего не поправишь. А если Мокшин собирается сбежать и заранее готовится к тому? — Как это сбежать?! — изумился Володя. Предположение, что Мокшин враг, все еще казалось случайным, надуманным. — Очень просто. Как все сбегают. А по пути прихлопнет добряка Огнищева, если тот попробует ему помешать! — вставил Клюев, и его узкое, энергичное лицо стало злым. — Вот что, Огнищев, — тоном приказа сказал Новгородский, — с Булгакова не спускайте глаз. Собирайте сведения о нем и Кунице. — Вы обещали связь, а ее нет. — Связь будет. Где вы можете развернуть портативную рацию? — На сеновале, — быстро ответил Володя. Он давно все продумал. — Сено корове дает только отец. Больше никто туда не поднимается. — Какое время всего удобнее для связи? — Вечернее. С восьми до десяти часов. — Добро. Вашему отцу, я вижу, можно вполне доверять. Через него передадим рацию и инструкции. Сажин это устроит. — Очень хорошо. — Связь будете держать с лейтенантом Клюевым. В случае его отсутствия, с вами вступит в связь центральный узел. — Ясно. — Надо бы как-то устроить, чтобы вы могли хоть раз в неделю бывать в Медведёвке. У вас есть там родственники? — Есть. Дальние... — сказал Володя и оживился. — Я найду убедительный предлог бывать там каждую субботу. — Какой? — Новгородский пристально посмотрел на своего юного помощника. Тот смешался. — Какой? Путаясь и повторяясь, Володя рассказал о Задориной. Его рассказ развеселил Новгородского, начавший было зевать Клюев опять рассмеялся. Володя рассердился и на них, и на свою болтливость. — Не сердитесь, Огнищев, — весело сказал Новгородский. — Получается здорово. Лучше не придумаешь. Значит, Мокшин обещал костюм дать? — Обещал. — Замечательно. Приезжайте в Медведёвку. Наша беседа не затянется. Обещаю — весь вечер будете свободны. Надежда Сергеевна прекрасная девушка. Она того стоит. Правда, лейтенант? — Точно, — очень серьезно сказал Клюев. Володя обмяк, посмотрел на них дружелюбнее. — А Осинцев, говорите, недолюбливает Мокшина? — спросил Новгородский. — Да. И не скрывает этого. — А может, он просто старается возбудить в людях недоверие к нему? С какой-то целью... Возможен такой вариант? — Возможен, конечно, но... Но как-то не верится. — Надо избавиться от старых предубеждений. Взгляните на Осинцева объективно, как на незнакомого человека. Может быть, появилось в нем что-то новое, настораживающее. — Постараюсь. — Не узнали, где был Осинцев второго ночью? — после недолгого раздумья поинтересовался Новгородский. — Нет. — Плохо. Надо это срочно выяснить. — Понимаю. — Хорошо, коль понимаете. И без лобовых вопросов. Умнее. — Ясно. — Итак, в следующую субботу жду в Медведёвке, — заканчивая разговор, сказал Новгородский. — Помните. И Булгаков, и Куница должны быть в поле вашего зрения. Мокшин с Осинцевым — особо. Понятно? — Понятно! — вытянулся Володя. — То-то! — удовлетворенно буркнул Новгородский.После поездки в Заречье Новгородский повеселел. Основания тому были. Стало ясно, что Огнищев совершенно неожиданно напал на верный след, что враг нервничает. Эта нервозность и толкнула его на непродуманный выпад. Появление злополучного авансового отчета в столе Вознякова говорило о многом. Фашистский агент, сделавший это, очевидно, хорошо знал о рассеянности Вознякова, об его привычке рыться при людях в своем столе, отыскивая тот или иной брошенный туда документ. То, что этим агентом был Мокшин, Новгородский уже не сомневался. Капитан рассуждал примерно так. В разговоре об истории открытия месторождения участвовали трое: Возняков, Огнищев и Стародубцев. Четвертый — Мокшин — только присутствовал. Именно после этого разговора и ослабло у Стародубцева недоверие к Вознякову. Он сам в тот же день рассказал обо всем Клюеву. Даже больше — вдруг категорически заявил, что кто-то «копает» под начальника партии. Конечно, бравый следователь не сумел скрыть перемену своего настроения и в конторе. Это все заметили. А раз стало очевидно, что следователь круто изменил свое отношение к «подозреваемому», кому-то понадобилось дополнительно скомпрометировать начальника партии. Кому? Свидетелями были трое. Огнищев и Стародубцев отпадают. Остается Мокшин. Предположение Огнищева о скрытой зависимости Булгакова от участкового геолога уже не удивило Новгородского. Оно только укрепило уверенность капитана. И еще Куница... Этот человек оставался загадкой. Кто он, что он? В какой степени связан с Булгаковым и Мокшиным? Была необходима срочная проверка. Потому Новгородский в тот же день собрал в местных организациях все необходимые сведения об этих людях. И Осинцев... Где был старший мастер всю ночь второго декабря? Это обстоятельство нарушало стройность предположений капитана, заставляло беспокоиться. Сообщив об Осинцеве, Огнищев будто занозу вогнал в напряженно работающий мозг Новгородского. О чем бы капитан ни думал, о чем ни говорил, его мысли то и дело возвращались к тревожному факту. Что за ним крылось: простое совпадение или... Новгородскому не хотелось спешить с ответом на это «или». Он решил подождать с выводами, так как не сомневался, что ближайшие дни принесут ответ на неожиданную загадку. Но главное было в другом. Надо было нащупать вражеского резидента в Сосногорске. Капитан был уверен, что письмо Мокшина наведет на верный путь. Поэтому, уезжая из Медведёвки, он сказал Клюеву: — Не зевайте, лейтенант. Сделайте все, чтобы письмо не проскользнуло мимо военного цензора. Мокшин может переписать адрес или вложить письмо в другой конверт. Глядите с цензором в оба! — И так почти не сплю, — обиделся Клюев. Он был отличным работником и знал, что всем в отделе это известно. — Я боюсь одного, вдруг тот прохвост вздумает опустить письмо на станции — прямо в почтовый вагон пассажирского поезда или пошлет нарочным. — В Сосногорске мы тоже примем меры. Дело важное. Костенко нам в помощи не откажет, — заверил Новгородский. — Как только убедишься, что в районной почте письма Мокшина нет, сообщи нам. А сам на станцию. Подыщи квартиру для нашего человека. Поближе к вокзалу. Станция — единственное место, через которое Мокшин со своей братией может быстро исчезнуть. Мы должны взять эту лазейку под контроль. — Сделаю, — сказал Клюев. Как только Новгородский вернулся в город, его принял полковник Костенко. Он внимательно выслушал доклад капитана и, видимо, остался доволен, так как ни разу не перебил, не задал ни одного вопроса. Когда Новгородский кончил, полковник сказал: — Выходит, сгодились в деле ваши фронтовички. — Представьте себе, — улыбнулся Новгородский. — Больше того. Они, кажется, входят во вкус и начинают проявлять самостоятельность. — Ага! — Полковник весело поиграл карандашом. — Значит, все пути ведут к Мокшину? — Безусловно. Даже предположение Стародубцева подтвердилось. — Какое предположение? — Я как-то посоветовал ему получше осмотреть кернохранилище, чтобы понять, как преступники могли похитить керн. Представьте себе, наш артиллерист добрых полночи пробродил у сарая и сделал-таки простое открытие. Преступники, видимо, отомкнули ночью замок своим ключом, забрали ящики с рудным керном и сбросили в прорубь. Как раз мимо сарая идет от села тропа к реке. Студянка в том месте глубока, дна не видно... Все шито-крыто. Стародубцев делал сие открытие, а Огнищев и Мокшин в это время наблюдали за ним из окна своей комнаты. Смех и грех. — Подождите! — Костенко отбросил карандаш. — Выходит, что Мокшин мог спокойно наблюдать из своей комнаты, как его подручный или подручные уничтожают керн! — Несомненно, так и было, — сказал Новгородский. — Огнищев утверждает, что из его комнаты сарай, окраина села и берег реки видны как на ладони. Мокшин, разумеется, сделал особые метки на ящиках с бокситом, и его помощникам не стоило большого труда отыскать их в штабелях. Пока совершалась эта операция, Мокшин, конечно, сидел у окна и наблюдал за селом: не появится ли кто. — Вы уверенно говорите: сообщники! Почему? — Век живи — век учись. — Новгородский опять не удержался от улыбки. — Огнищев развеял мое невежество одной простенькой справкой. Ящик с керном скальных пород весит в среднем не менее тридцати килограммов. Притом он длинен и широк. Одному нести его очень неудобно. Ясно, что в спешке, да еще в ночное время, ящики с бокситом таскали двое. Не менее. — Резонно, — согласился Костенко. Он посмотрел на часы и покачал бритой головой. — Время прямо-таки несется. Должен расстаться с вами, капитан. Почту из Медведёвского района военная цензура возьмет под контроль. И людей дадим. С других участков снимем, а дадим. Станцию Хребет надо прочно закрыть. Выделяю в ваше распоряжение двух оперативных работников. Инструктируйте и сегодня же отправляйте их на место. А сами займитесь Сосногорском. Дайте нам резидента. Кровь из носу, а дайте! И не вспугните. Это главное. Сделав нужные запросы по выяснению личности Булгакова, Куницы и Савицкой, Новгородский снова сел за стол и положил перед собой три тонкие папки с личными делами. Подумав, одну убрал. Остались две. Через работников одного из институтов Академии Наук, эвакуированного в Сосногорск, удалось выяснить мотивы внезапного перехода бывшего сотрудника этого института Пискарева на рядовую работу в Сосногорск. Мотивы эти оказались серьезными. В предвоенные годы у инженера Пискарева возникли разногласия с руководством института. Пискарев был не согласен с разработанными рекомендациями по методике поисков и разведки месторождений некоторых нерудных полезных ископаемых. Он считал, что в этих рекомендациях недостаточно учтен зарубежный опыт, что неизбежно снижало эффективность и сроки геологоразведочных работ. В разработке рекомендаций принимали участие некоторые ведущие работники института, и потому особое мнение Пискарева ставило под сомнение их компетентность и научную беспристрастность. На Пискарева стали оказывать давление, но он не изменил своего отношения к разработанным рекомендациям. Возникла скандальная ситуация, ибо Пискарев являлся членом комиссии. Спасая свою репутацию, руководство института вывело Пискарева из состава комиссии, обвинив его в «прокапиталистических» настроениях. То был явный перегиб. Но Пискарев, будучи вспыльчивым человеком, в свою очередь допустил ошибку. Он перессорился с коллегами, обиделся, махнул на все рукой и подал заявление об увольнении. Поскольку в Москве в тот момент подходящей работы не оказалось, он согласился поехать в Сосногорск на рядовую работу. Новгородский всесторонне проверил эту версию и убедился, что Пискарев действительно вне подозрений. Итак, остались двое: Аржанков и Лебедев. В последние дни капитан побывал на нескольких рудниках, где работали специалисты, эвакуировавшиеся из Запорожья. Те, что знали Аржанкова, отзывались о молодом инженере очень хорошо. Лебедева же почти никто не помнил. Слишком мало он там проработал. Новгородский слетал в Магнитогорск, но и там не узнал ничего существенного. Лебедева на руднике забыли. Память о летунах коротка. В имевшихся документах ничего примечательного не оказалось. Они полностью повторяли данные личного дела. А вот с сибирского рудника, где Лебедев много лет работал, характеристики пришли самые хвалебные. Чувствовалось, что там жалели об опытном инженере, покинувшем насиженное место из-за крайней необходимости сменить климат. И опять же Осинцев... Какое может быть личное дело у мальчишки! Школьник, студент, затем младший буровой рабочий, старший рабочий, сменный мастер... Недавно назначен старшим буровым мастером. Все это вмещается в пять лет. После ухода из института все время работал с Возняковым, как говорится, вырос при нем «от младшего до старшего». За пределы Сосногорской области за всю свою жизнь лишь один раз и выезжал. И тем не менее второго декабря самым таинственным образом болтался где-то всю ночь. Где? Так бы взял да выпорол проклятого мальчишку... Все карты путает. Неужели его сумели завербовать? Новгородский знал, что надо ждать и работать. Он с нетерпением ждал ответа на запросы, ждал дальнейшего развития событий, которые позволят ему точно определить: это враг! Новгородский чувствовал — этот час приближается.
12. ЧАС ПРОБИЛ
Но час этот пробил гораздо раньше, чем предполагал Новгородский. На следующий день на его стол лег бланк Сосногорского справочного бюро, в котором сообщалось, что в городе проживают три Савицкие Анны Михайловны. Первая — пенсионерка, восьмидесяти двух лет; вторая — школьница, одиннадцати лет; третья — плановик одного из оборонных заводов, двадцати семи лет. Первые две кандидатуры Новгородский сразу отверг. Занялся третьей. Поехал в районный отдел милиции. Начальник паспортного стола довольно скоро сообщил сведения о Савицкой. Замужем. Имеет сына шести лет. Муж, Савицкий Игорь Ипполитович, работник областного управления НКВД. Это была находка. Радиоинженера майора Савицкого Новгородский знал отлично. Они не были друзьями, но жили по соседству и хорошо относились друг к другу. Все же, прежде чем обращаться к Савицкому, Новгородский зашел посоветоваться с Костенко. — Вот как... — Костенко не разделил энтузиазма Новгородского. Вероятность того, что один из работников управления как-то связан с немецко-фашистской агентурой, привела полковника в скверное расположение духа. — А не сделаем мы глупости, обратившись сразу к Савицкому? Может, того... — Костенко сделал выразительный жест. — Может, сначала проверить... — Да ведь Савицкий на все сто процентов наш человек, товарищ полковник, — живо сказал Новгородский. — Мы знаем его. А время терять нам никак нельзя... — Наш-то наш, но ведь все бывает... — с сомнением сказал Костенко. — Не хочется мне что-то спешить... — Давайте пойдем на риск, — продолжал настаивать Новгородский. — В Савицком я уверен. Он поможет нам. Свой же человек! Костенко долго колебался, скорее для самого себя, нежели для Новгородского, высказал разные предположения и в конце концов решился: — Ладно. Волков бояться — в лес не ходить. Вызовем майора. Выслушав короткий рассказ Новгородского, Савицкий побледнел: — Анна получает письма от любовника? — Да. Майор Савицкий был невысок, ладно сложен, худощав. Отличный спортсмен. Сильное, тренированное тело его, видимо, больше привыкло к спортивному костюму, нежели к мешковатой гимнастерке. Игорь Ипполитович то и дело одергивал ее. Взгляд серых с рыжинкой глаз беспомощно перебегал с Костенко на Новгородского. — Не может быть, — ошарашенно произнес Савицкий. — Мы так хорошо... — Он не договорил. — Вполне возможно, что это не любовник, — поспешил успокоить его Новгородский. — А кто тогда? Новгородский помедлил с ответом. Он вспомнил рассказ Огнищева и сам удивился своей забывчивости. Майор был старше своей жены на четыре года, а не на двадцать, как говорил Мокшин. — Скажи, Игорь Ипполитович, — просто сказал он. — Ты веришь, что жена может тебе изменить? — Черт те знает... — Савицкий был крайне расстроен. — Говорят, не ручайся даже за печку... Костенко с Новгородским переглянулись, улыбнулись. — Но вообще-то никак не могу поверить, — растерянно продолжал Савицкий. — Женились мы по любви. И вообще... Анна так хочет дочь! — Вы ждете ребенка? — спросил Костенко. — Да. — Скажи, Игорь Ипполитович, твоя жена работала или училась в Ленинграде? — жалея угнетенного майора, поинтересовался Новгородский. — С чего ты взял! Она коренная сосногорка. Здесь родилась, жила, кончила машиностроительный техникум. И вообще, как мне помнится, за всю свою жизнь в Ленинграде ни разу не бывала. — Вот как! — повеселел Костенко. — И когда вы ждете ребенка? — Да месяца через четыре. Костенко с Новгородским опять переглянулись. Полковник одобрительно кивнул шишковатой головой. Капитан по-свойски сказал: — Ладно, Игорь, не волнуйся. Надо выяснить одно дело... Анна Савицкая в тот день не работала, отдыхала. Договорились, что майор позвонит жене и попросит принести чего-нибудь поесть — сошлется на занятость, невозможность сходить в столовую. Игорь Ипполитович с готовностью принял этот план и тут же из кабинета позвонил домой. Разговор мужа с женой оказался недолгим. Он состоялся в мастерской приемного радиоцентра. — Тебе, говорят, кто-то письма шлет... — сказал Савицкий после короткого разговора на домашние темы. — Ты что, с ума сошел! — Анна удивленно воззрилась на мужа продолговатыми зелеными глазами. — На главном почтамте от кого письма получаешь? До востребования. Тебя видели. Анна изумленно приоткрыла пухлые розовые губы и вдруг засмеялась. Засмеялась громко, безбоязненно. — Так ведь я тебе говорила. — Ничего ты мне не говорила! — продолжал сердиться Савицкий. — Да как же... Помнишь, я тебе о своей тезке Анке Мигунец говорила. Что со мной работает... О красивой. — Ну и что? — менее уверенно сказал майор, что-то припоминая. — Я еще тебе рассказывала, что она, дура, неудачно замуж вышла. Муж старше ее на двадцать лет... — Какой муж? — Да Лебедев какой-то. Геолог. А у Анны старый друг нежданно объявился. Первая и единственная любовь. Вот она и мучается теперь. Этот друг ей пишет до востребования, а муж ревнивый, каждый шаг контролирует. Анне самой на почтамт бегать никак не по пути, да и муж может проверить. Вот она и упросила меня Христом богом, чтобы я была посредницей в их переписке. — Сводней вроде бы! — возмутился Савицкий. — Как тебе не стыдно, Игорь! — обиделась Анна. — У человека жизнь поломана. Горе у человека, а ты... С кем ошибки не бывает! А Анна такая слабохарактерная. И вообще, я никого из них, кроме Анки, не знаю. Мы же рядом с почтамтом живем, что мне стоит пойти получить письмо и передать его ей. Может, от этого у человека вся будущая жизнь зависит! Мне — ерунда, а человеку каждое письмо — радость! — Что же, он на твое имя пишет? — Ну да. А я передаю Анке. Вот и все. — Черт знает что! Почему я об этом ничего не знаю? — Ну как же, Игорек... — виновато сказала Анна. — Неудобно как-то. Вместе работаем. Страдает. Не откажешь. А ты тоже того... — Чего того? — Ну... ревнивый... Надумаешь еще ерунду какую-нибудь... — Ревнивый... — Савицкий смущенно покосился на дверь смежной комнаты, в которой находились Костенко и Новгородский. — С каких это пор я стал ревнивым? — Ты всегда был таким, — ласково, но безапелляционно заявила Анна, и полковник с капитаном неожиданно услышали звук поцелуя. — Кажется, свидание сворачивает с намеченного курса, — улыбнулся Костенко. — Похоже. Теперь без стука туда не зайдешь, — согласился Новгородский. С одобрения полковника он подошел к двери и вежливо постучался. — Да, — сказал Савицкий. Полковник с капитаном вошли, и Анна зарумянилась. Майор конфузливо пригладил растрепанный чуб. — О! Да тут рандеву! — довольно искусно удивился Костенко. — Извините. Не помешали? — Нет, — сказал Савицкий, а его жена, не поднимая взгляда, стала торопливо прятать в сумку принесенные кастрюльки. — Куда же вы спешите, Анна Михайловна? — дружелюбно сказал полковник. — Покормите Игоря Ипполитовича. Анна растерянно опустила красивые полные руки и искоса поглядела на вошедших. — А для нас ничего там не найдется? — Пожалуйста... — Анна все еще не могла прийти в себя. Ее, видимо, терзал стыд при мысли, что начальство могло слышать звук поцелуя. Костенко простецки заглянул в одну из кастрюлек. — Котлеты... Настоящие, мясные? — Да. Говяжьи... — Боже мой, какая прелесть! — Полковник плотоядно потер руки. — Пусть Игорь Ипполитович хоть сердится, хоть нет, а одну штучку я у вас съем. — Пожалуйста! — ободрилась Анна. — Тут как раз всем по штуке. — Ну, Юрия Александровича можно и не кормить. Он только что из столовой. — Какая жалость. Только-только проглотил казенные харчи, — подтвердил Новгородский. — Вот если бы компот! — И обратился к майору: — А мы как чувствовали, что Анна Михайловна придет. Есть одно дело. По женской части. — Это что за дело? — чуть улыбнулась Анна: Новгородского она хорошо знала. — Поконсультироваться надо... — Вот что, — сказал Костенко, — вы тут говорите ваши разговоры, а мы с Игорем Ипполитовичем закусим. Принимается такой план? Не помешаем? — Нет, — сказал Новгородский. — Котлетки еще тепленькие! — совсем повеселела Анна, подсунула мужу кастрюльки и потребовала от капитана: — Что там у вас женское? Анна Савицкая была женщиной понятливой и энергичной. Не задавая лишних вопросов, она быстро сообразила, что от нее требуется. Ей не нужно было долго объяснять, что Мигунец ведет через нее переписку далеко не любовную. — Артистка, однако... — произнесла Анна, сердясь на свою близорукость, и упрямо поджала по-девичьи яркие губы. — Ничего. Мы тоже не лыком шиты. Все сделаю как надо. Игорь будет знать о каждом ее шаге. Не вспугну. Можете не сомневаться. Костенко с Новгородским не сомневались. — Действительно находка, — согласился наконец полковник с капитаном, когда они вернулись в кабинет. — Не женщина — клад. — Можно считать, что на работе эта Мигунец-Лебедева будет под надежным наблюдением, — подытожил Новгородский. — Можно считать, — подтвердил Костенко. — Кто, однако, эта Мигунец? Действительная или фиктивная жена Лебедева? — Во всяком случае — сообщница, — сказал Новгородский. — Скорее всего агент. Их брак — маскировка. Любовник Мокшин — тоже фикция. Сама система связи выдает их с головой. — Когда эта связь расшифрована, — вставил полковник. — А вообще, неплохо придумано. Переписка любовника с любовницей втайне от мужа. Правдоподобно. Факт. Связь есть, а Лебедев в стороне. Несомненно он резидент. Причем битый, осторожный. — Похоже. — Что ж, будем ждать письма. Оно подскажет нам дальнейший план действий. — Будем надеяться, — сказал Новгородский. Ждать пришлось недолго. На следующий день из военной цензуры капитану переслали долгожданный конверт. Новгородский внимательно осмотрел его со всех сторон, несколько раз прочитал написанный четким, убористым почерком адрес, проверил почтовый штемпель. Письмо было опущено в почтовый вагон пассажирского поезда. Волнуясь, капитан заспешил в химлабораторию. — Главное — конверт, — сказал он химикам. — Есть все основания полагать, что на самом письме тайнописи нет. Проверьте сначала конверт. Часы ожидания тянулись долго. Они показались бы еще более долгими, если б не поступили сведения о Булгакове и Кунице. Из госпиталя, в котором, как значилось в документах, лежал коновозчик, сообщали, что Булгаков Иван Нефедович ни в июле, ни в августе, ни в последующие месяцы 1941 года на лечении не находился. Новгородский ничуть не удивился тому и тут же отослал справки Булгакова на экспертизу. Позже из окружной военно-медицинской комиссии сообщили, что Куница Павел Тарасович действительно комиссовался в августе месяце и по состоянию здоровья (вследствии контузии почти ослеп на левый глаз) освобожден от несения воинской службы. Это обстоятельство несколько смутило капитана. Он поехал в управление железной дороги. Начальник отдела кадров долго рылся в пухлых папках, пока нашел копию приказа о зачислении Куницы на работу. — Вроде бы все в порядке, — сказал он. — Направлен на станцию Хребет управлением. — А почему путевым рабочим? Ведь вот здесь значится, что Куница в течение семнадцати лет работал диспетчером и дежурным по станции на Октябрьской дороге. — Новгородский подал кадровику трудовую книжку Куницы. Тот поглядел в нее. — Действительно дежурным. Путаница какая-то. Сейчас вызовем кого надо. Кадровик позвонил куда-то, и вскоре пришел сотрудник, который оформлял Куницу на работу. Он посмотрел бумаги и вспомнил: — А-а... Куница. Здоровый такой. Как же, помню. Единственный мужчина, которого мы приняли на работу в августе. Помню. Он и вправду на Хребет попросился. Сказал, что родные там живут. — А почему рабочим? — Во время эвакуации попал под бомбежку. Его контузило. По-моему, что-то со зрением случилось. Он откровенно признался, что не может работать в прежней должности. У нас везде нехватка в людях. Особенно на небронируемых должностях. Вот и послали... Попросив на несколько дней документы Куницы, Новгородский покинул отдел кадров. Решающее слово оставалось за экспертизой. Вечером к капитану зашел заведующий лабораторией. — Вы правы, — сказал он. — Само письмо интереса не представляет. А на внутренней стороне конверта симпатическими чернилами написана шифровка. — Конверт не подпортили? — Нет. — Слава богу! — с облегчением передохнул Новгородский. — А то закатили бы нам скандал в военной цензуре! — Закатили бы, — охотно согласился заведующий лабораторией. «Этот конвертик еще сослужит нам добрую службу! — весело подумал капитан, когда заведующий ушел. — Мы все-таки доставим его адресату. Любопытно, что кроется за этой цифирью?» В тот же вечер капитан пошел в шифровальное бюро. Дешифровщики долго разглядывали принесенный им листок и многозначительно переглядывались. — Что, новенькое что-нибудь? — забеспокоился Новгородский. — Не знаю, — честно признался старший дешифровщик, совершенно не похожий на кабинетного работника, здоровенный, светловолосый парень, с квадратным подбородком и пудовыми кулачищами. — Пятизначными группами шифруют многие, но... — Что, трудно? — Новгородский давно знал дешифровщика, но все равно при каждой встрече удивлялся его нематематической внешности. — Да. Ключ подобрать очень трудно. — Но нам нужно знать содержание документа как можно скорее. — Понимаю. — Хотелось бы к завтрашнему дню... — Вы очень многого хотите. — Но ведь дело-то архисрочное! — Товарищ капитан, — белобрысый богатырь рассердился, заговорил официальным тоном: — По-моему, вам известно, что несрочных дел у нас нет. — Ну хорошо, — смирился Новгородский и неумело польстил: — Будем надеяться на фортуну и вашу проницательность. — Не умеете, капитан. Комплименты — не ваше амплуа, — усмехнулся молодой человек. Новгородский вернулся к себе в кабинет очень недовольный разговором и еще больше самим собой. Он сел за стол и вынул из сейфа всего одну папку. Личное дело старшего инженера проектно-сметной группы геологического управления Лебедева. — Итак, милейший Игорь Серапионович, — хмуро сказал Новгородский вслух, глядя на красивое крупное лицо, смотревшее на него с фотокарточки, — ваш час пробил...13. ПЕРВЫЙ УДАР
Володя удивлялся Вознякову. Никакие житейские неприятности не могли даже на время загасить в нем страсть поисковика-геолога. Только-только начальник партии закончил тягостный разговор со Стародубцевым, был хмур и подавлен, а уже через какие-то полчаса снова шуршал картами, перебирал разрезы скважин и рассуждал: — Лешачье месторождение! Ясное дело, мы нащупали его. Оно за рекой, за линией сброса. Но откуда обломки диаспорового боксита в реке? Как вы, Василий Гаврилович, думаете? — Право затрудняюсь, Олег Александрович. Я не мастер на гипотезы. Вы знаете. Мне больше импонируют факты. — Ха! Факты! Факты обсосать любой может, — отмахнулся Возняков. — Вы попробуйте объяснитьнепонятное. А вы, Огнищев, что думаете? Того вопрос застал врасплох. — Надо получше обследовать береговые обнажения, — высказал он прописную истину. Возняков опять отмахнулся. — Все обследовано. На брюхе оползано, можно сказать. — Тогда я не понимаю. — Я тоже не понимаю, — признался Возняков. — А вот Николашин, кажется, догадывался. Он что-то узнал из разговоров с местными старожилами и хотел проверить, да не пришлось покойничку... — Покойничку? Он что, умер? — быстро спросил Мокшин. Володя заметил, как он напрягся, беспокойно заозирался. — Да нет. Я так... к слову... — растерялся Возняков. — Болтаю всякий вздор. Думаю частенько о Трофиме Степановиче... — Начальник партии не умел лгать, он покраснел, и выражение лица у него стало вымученным. — Не обращайте внимания. Это, видно, нервы... — Да. Скорее всего, — согласился Мокшин. — Чем черт не шутит, может, объявится где-нибудь наш Николашин. С пьяным всякое может случиться. Мокшин не поверил Вознякову, это было очевидно, но говорил почти искренне. «Ну и артист!» — подивился Володя. — Да, с пьяным всякое может случиться, — с жалкой улыбкой поспешил подтвердить начальник партии. — Всякое... Возняков был настолько расстроен своей болтливостью, что перестал жестикулировать и опустил руки. Они повисли вдоль тела, длинные, худые, сразу потерявшие свою живость. Володе стало жаль Вознякова, он поспешил ему на помощь. — Найдется ваш Николашин. Не иголка. Поберегите нервы. Сильно расстраиваетесь — вот и ползет всякая чушь в голову. — Да, да, — огорченно согласился Возняков, думая о чем-то своем. — Именно ползет. Вы уж не обращайте внимания. — А я и не обращаю. Возняков уныло собрал со стола карты и сложил в сейф. — Пойти по хозяйству распорядиться... — сказал он и ушел из камералки. — Олег Александрович, видимо, действительно что-то знает, — сказал Мокшин, когда дверь захлопнулась. — Тебе не кажется? Володя легкомысленно отмахнулся: — Дался вам обоим этот Николашин. Ничего особенного. Затаскали мужика, вот и заговаривается. Тебя бы так... Мокшин поежился. Почему-то боязливо покосился на окна, за которыми уже сгущалась ранняя вечерняя синь. Володя это заметил. — Пятый час, а уже темно. Давай кончать. Мне в Медведёвку сегодня надо. Потанцую! — Он зажмурился. — Кажется, век на танцах не бывал. — Как ты туда добираться будешь? Ведь суббота, — сказал Мокшин. — А на лесовозе. На шпалорезку лес сейчас круглые сутки возят. — Верно, — согласился Мокшин и стал собирать бумаги. Они уже оделись и собрались уходить, как в камералку неожиданно вернулся Возняков. Начальник партии был возбужден, недавнего уныния как не бывало. — Вот! — торжественно сказал он, со стуком положив на стол два куска керна. — Подходим! Володя по примеру Мокшина взял один из образцов, повертел в руках. Обычный серый известняк. Ничего особенного он в нем не увидел. — Смотрите лучше! — весело шумел Возняков. — Видите? Доломитизации уже нет. — Это что же... — без всякого энтузиазма сказал Мокшин. — Выходит, надо скоро ждать рудное тело? — Конечно! Именно эти известняки покрывают бокситы. Так что надо быть в готовности. Главное — сразу на двух буровых! У Осинцева и Ушакова. Это в двух километрах друг от друга. Вы понимаете, что сие значит? — Понимаю, — со значением в голосе сказал Мокшин, и, поняв смысл, который вложил он в это слово, Володе захотелось изо всей силы залепить ему в лицо тяжелым куском породы. Возняков же был далек от всяких подозрений. Он по привычке рассуждал вслух: — Образцы эти подняли часа два назад. Вероятность аварий теперь сведена к минимуму. И Ушаков, и Осинцев обсадили скважины трубами. Значит, вывалов не будет. Если будут бурить с такой же скоростью, как сейчас, то... — То завтра к вечеру можно ждать боксит, — досказал за него Мокшин. — Почему к вечеру? — энергично возразил Возняков. — Днем. Даже утром! Все может быть! Так что выходной день назавтра отменяется. — Понятно. — Не вижу энтузиазма, — рассердился на Мокшина Возняков. — Приказываю, товарищи участковые геологи, завтра с утра безотлучно находиться на буровых. Запаситесь провиантом и всем прочим. Ясно? — Ясно! — бодро отчеканил Володя. — Надо так надо, — согласился Мокшин, что-то решив. — За мной дело не станет. Возьму у Тихона Пантелеевича ружьишко и отправлюсь пораньше на участок. Володю его слова насторожили. — Это хорошо, — одобрил Возняков. — Только зачем ружьишко? — Поброжу по лесу. Постреляю. Может, добуду на общий стол зайчишку или глухаря. На днях несколько штук вспугнул. А то на вышке без дела сидеть — мучение чистое. Помрешь со скуки. — Ладно. Берите ружьишко, — согласился Возняков. — Только смотрите у меня. Не прозевайте рудное тело. Ко времени быть на месте. Голову оторву, если контакт прозеваете! — Не прозеваю. — Проверю. К обеду я сам буду на участке. Раньше не поспеть, — с сожалением сказал Возняков. — Ему что... Привык мотаться день и ночь, — ворчал Мокшин, когда они шли домой. — И другим покоя не дает. Торчи там сутками теперь. Жди его величество боксит... — Для этого и работаем, — сказал Володя. — Отдохнем после войны. — Работаем... — Мокшин, видимо, не считал нужным таить при Володе свое настроение. — Работать надо с умом. Без горячки. Если нужно тебе круглосуточное дежурство на буровой — поставь сменных коллекторов. — Где их взять. Людей без того не хватает! — И ты туда же! — проворчал Мокшин. — Молодой. А я уже уставать от этой вечной лихорадки начал. Вознякову что! Он будет спать сколько захочет, а ты изволь в раннюю рань на участок тащиться. Володя промолчал. Не хотелось впутываться в никчемный спор. Он уже ненавидел Мокшина и чувствовал, что скрывать эту ненависть ему становится все труднее. В споре могло вырваться неосторожное слово. «Вознякова мажешь, сволочь, — мрачно думал он. — Подожди, себя клясть будешь!» Семья Вознякова жила в Сосногорске. Жена работала врачом, сын и дочь учились. Володя слышал от сотрудников, что Олег Александрович очень любит их и сильно скучает в разлуке. Но беспокойный характер и привязанность к своей профессии заставляли его долгими месяцами быть вдали от семьи. Откровенная неприязнь к Вознякову, которую Мокшин не желал скрывать, а главное, его слова о ранней охоте встревожили Володю. «Что-то ты задумал, волчина, — продолжал сердито думать он. — Ясное дело. Только что? Нет. Тебе, Володька, нельзя сегодня ехать в Медведёвку. В другой раз». Вспомнив о Наде, он с еще большей неприязнью покосился на продолжавшего ворчать Мокшина. Из-за этого человека с нетерпением ожидаемое первое свидание могло не состояться. В последние дни Володя с Надей встречались всего два раза, да и то мимоходом. Надя все время куда-то спешила, была озабочена и утомлена. Оба раза они виделись в конторе, в присутствии многих людей, и потому поговорить не пришлось. Только одобрительный взгляд больших лучистых глаз был наградой Володе за сдержанность, ненавязчивость. А быть таким ему становилось все труднее. Его так и подмывало подойти к Наде, сказать ей что-нибудь хорошее, чтобы исчезла хмурая складка на переносице, осветилось сдержанной улыбкой нежное, почти детское лицо. Вчера он не сдержался — оторвал субботний листик календаря и тайком показал его Наде. Она чуть порозовела, промолчала и только взглядом сказала: жду. Сегодня она не приезжала в Заречье. Сейчас Володя шел рядом с Мокшиным и от сознания того, что поехать к Наде все же не придется, был полон злости и непонятной грусти. Даже во вторник, когда осматривал вещи Мокшина, он не испытывал к тайному врагу такой ненависти, как сейчас. Обнаружить тогда ничего не удалось. Носильные вещи, всякие житейские безделушки. Из заслуживающего внимание были только деньги. Двенадцать пачек красных тридцатирублевок. Новеньких, хрустящих, в банковских бандеролях. Несчастный жених оказался не таким уж нищим, как казалось после его грустных рассказов. Деньгам Володя не удивился. Он почему-то считал, что так и должно быть. Еще была в чемодане большая металлическая коробка. Как ни бился, открыть ее не удалось. Какой-то хитрый запор крепко держал крышку. В тот день за ужином Мокшин был необычайно разговорчив, почти весел. Володе даже почудилось, что от него попахивает водкой. Квартирант сочувственно говорил о горестях неудачливого Вознякова, а Володе нет-нет да казалось, что во взгляде блестящих мокшинских глаз проскальзывала усмешка: «Что, обыскал? Нашел? Молокосос!» Эти ехидные поглядывания вывели Володю из себя. Он раньше всех встал из-за стола и ушел во двор колоть дрова. В тот же вечер Володя связался по радио с Клюевым. Очевидно, злость помогла. Он не допустил ошибок в радиообмене и даже не волновался, когда услышал далекий писк клюевского передатчика. Все казалось само собой разумеющимся: и маленькая батарейная рация, скупо освещаемая ручным фонариком, и шуршащее под ногами сено, и вся ночная таинственность родного сеновала, на котором он был вынужден от кого-то и зачем-то прятаться. Он сообщил Клюеву результаты осмотра мокшинских вещей и даже пожалел, когда тот дал «ец» — конец связи. С сеновала уходить не хотелось. Было противно снова видеть ехидно-веселый прищур мокшинских глаз. Уже потом, развалившись на своем сундуке, Володя понял, что злость его была напрасной. Мокшин был действительно пьян и городил чепуху. На свое имущество он не обратил никакого внимания. «С чего бы он хлебнул?» — подумал тогда Володя.— Ну, собирайся, жених! — сказал Мокшин после ужина. — Заждалась, наверно, невеста. — Ты это брось! — Молчу, молчу, — хохотнул Мокшин и бросил на спинку стула пиджак. — Облачайся. — Да я передумал... Холодно. И вообще... — Ты что, с ума сошел?! — всполошился Мокшин. — Работа завтра важная. Какие уж тут танцы, — стал неохотно объясняться Володя. — Работа! Вы посмотрите на него! Его такая дивчина ждет, а он о работе рассуждает. — Глаза Мокшина беспокойно ощупывали лицо собеседника. — До утра успеешь сто раз вернуться. На вышке отоспишься. Времени у тебя будет предостаточно. Это только Возняков может считать, что до руды дойдут завтра. А на самом деле... — Ладно, поеду, — изменил свое решение Володя. Он счел ненужным возбуждать подозрительность Мокшина. — Щегольну в твоем обмундировании. Только ты того... если не вернусь вовремя... Загляни к Осинцеву. А то съест меня Возняков. — Какие могут быть разговоры! — Мокшин явно обрадовался, засуетился. — Все будет в порядке. Езжай спокойно. «Ему зачем-то надо выпроводить меня, — думал Володя, натягивая костюм. — Я в чем-то могу ему помешать. — Тревога росла. Вдруг его осенила догадка: — А если он задумал новое преступление?» — Костюмчик будто на тебя шили, — меж тем оживленно продолжал Мокшин. — Красавец! «Не радуйся, — мрачно думал Володя. — Никуда я не поеду. В сосульку превращусь, но до утра с дома глаз не сведу. На сей раз у тебя ничего не выйдет!» Но события приняли неожиданный оборот. Едва он вышел за калитку, как кто-то крепко взял его за рукав. Это произошло так внезапно, что Володя вздрогнул, резко рванулся в сторону и ухватил в кармане полушубка теплую рукоять браунинга. — Огнищев! — тихо сказал человек в тулупе. Володя приблизился, присмотрелся: узнал Клюева. — Что случилось? — Срочное дело. Надо незаметно взять Булгакова и быстро доставить в Медведёвку. — Я не могу уходить далеко. — Почему? Володя торопливым шепотом рассказал о своих подозрениях. Они стояли у самых ворот. Вечер был темным, ветреным. Низкие облака закрыли луну, вдоль улицы с посвистом разгуливал ветер, бросая в лица пригоршни колкого сухого снега. Володе отчего-то стало не по себе. В пучке света, струящемся из кухонного окна, вихрились, плясали искрящиеся снежинки. Кругом пусто и тихо. Как в пустыне. Все живое поглотила и упрятала студеная январская темнота. — Все же тебе придется поехать, — после недолгого раздумья сказал Клюев. — Дело серьезное и срочное. А я не знаю даже, где он живет. — У доярки колхозной Ефросиньи Козыревой. — Она дома сейчас? — Не знаю. По-моему, вечерняя дойка еще не кончилась. — Тогда надо спешить! — заторопился Клюев. — А Мокшин? — Вот еще морока, черт те дери! — выругался Клюев. — Не люблю спешки. Капитан срочно погнал, а Стародубцева не нашли. Куда-то в баню мыться пошел. Да и тебе приказано срочно явиться туда... В снопе света, падающем из окна, метнулась тень. Володя решился. — У тебя один пистолет? — Два. А что? — Тогда поручим отцу. — Подходит. Мне, кстати, велели тебя через него вызвать. Володя по завалине осторожно подобрался к окну, заглянул. Отец сидел на кухне один, чинил валенок. Володя поскреб ногтем по стеклу. Отец продолжал работать. Володя поскреб посильнее. Отец вздрогнул, поднял голову, затем встал и подошел к окну. Посмотрел на освещенное лицо сына, прижавшего палец к губам, нахмурился, кивнул головой и пошел к вешалке. Володя возвратился к воротам. — Не нашумит он там? — беспокойно спросил Клюев. — Все будет в порядке. Старый вояка. Еще нас кое-чему научит. Тихон Пантелеевич выскользнул из калитки по-кошачьи бесшумно. — Чего тебе? — приглушенно спросил он, ничуть не удивляясь присутствию постороннего человека. — Ефросинья Козырева до скольких работает? — без всяких объяснений спросил Володя. — Когда как. Раньше семи вечера они на ферме не управляются. — Значит, ее еще нет? — Не должно быть. — Хорошо. — Володя вытащил из кармана браунинг и сунул отцу в руку. — Держи. С квартиранта глаз не спускай. Враг. Не ложись спать, пока я не вернусь. Будь начеку. Тихон Пантелеевич только крякнул от изумления, но ничего спрашивать не стал, быстро упрятал оружие. — Глаз с него не спускай. Головой отвечаешь. Куда пойдет — следи, — повторил Володя. — Ладно. — Тихон Пантелеевич передвинул шапку на голове. — Ты вот что... Пришли-ка ко мне Назарку Осинцева. Давно просит валенки подшить. Пусть несет. — Осинцева? Осинцева нельзя! — категорически отрубил Володя. — Почему? — удивился старик. — Нельзя! — А! — Тихон Пантелеевич все понял. — Ежели из-за той ночи, то напрасно. У Комарова он был. На крестинах. Это точно. — У какого Комарова? — Да у Федора. Сменным мастером у Назарки в бригаде работает. Конопатый, здоровенный такой. Пацан родился. Крестины второго числа справляли. В соседней деревне Федор-то живет... — Чего ж ты до сих пор молчал? — рассердился Володя. — А я откудова знал... Сегодня с Федором разговорились — так он все и высказал. — Тьфу, черт! Клюев прыснул в рукав тулупа. — Ругался Федор-то на попа, — продолжал шептать Тихон Пантелеевич. — Жаден оказался. Двух кур за крещение содрал... — Какой поп? — Да из Порошино привозили. Пацана, значит, крестить... Теща Федорова тайком пригласила. Клюев, не в силах сдерживаться, продолжал тихонько хохотать, корчась в просторном тулупе. — Черт знает что... — расстроенно пробормотал Володя, представив, как отругает его Новгородский за непроверенное сообщение об Осинцеве. — Так позови Назарку-то, — сказал Тихон Пантелеевич. — Мне удобнее будет вечер коротать. — Ладно, позовем, — вмешался Клюев. Пароконная милицейская подвода, на которой приехал Клюев, стояла за огородами. Володя завалился в набитые сеном розвальни и взял вожжи. — К Осинцеву? — Давай. Теперь бояться нечего. Возьми! — Клюев сунул ему в карман тяжелый ТТ. Не выезжая на главную улицу села, они окраинами добрались до дома, где квартировал Назар Осинцев. Старший мастер ничуть не удивился приглашению Тихона Пантелеевича. Даже обрадовался. — Подошьет? Молодец старикан. Я его давно прошу. Как раз кстати. Завтра на вышку жить перебираться, а валенок прохудился, и подшить нечем. Кто знает, сколько суток там просидишь. Всяко бывает... — Давай шпарь. Подошьет как надо. — А ты куда собрался? — В Медведёвку. — Ого! Ты смотри у меня! — всполошился Назар. — С завтрашнего утра быть на вышке. Боксит ждем. Ребята жмут изо всей мочи. — Возняков говорил. — То-то! Опоздаешь — рыло намылю! — Назар подставил к Володиному носу пухлый кулачишко. — Дело не шуточное. Понял? — Понял, — улыбнулся Володя и решил все же проверить рассказ отца. — К утру буду. Как штык. Не ты, не на крестины еду... — А ты откуда про них знаешь? — опешил Назар. — Земля слухом полнится... — Ерундистика получается... — Назар озадаченно запустил пятерню в встрепанный чуб. — Уже сплетни пошли! — Вроде этого... — Хм... Вот старая ведьма! Подстроила нам штуку!.. — Какая ведьма? — Да Федорова теща. Я к ним, как к путным, на крестины, а они — на тебе! — попа приволокли... Радуйся, крестный! — Что, и в самом деле крестным был? — Володя рассмеялся. — Еще чего! Я думал по-новому отпразднуем, по-современному, а тут... Удрали мы с Федором на кухню, пока там вся эта хирургия происходила. Вот ведь чертова баба, что придумала! — Взяли бы да выгнали попа. — Неудобно как-то. Я гость, да и хозяйки ко мне со всем уважением... Моим именем парнишку назвать надумали. А Федора жена упросила. Заревела. Не стали скандал подымать. Плюнули... — Выходит, ты теперь по всем правилам крестный! — хмыкнул Володя. — Ну да! Скажешь... — Назар сконфузился. — Ты уж того, Володька... Не болтай в конторе. Хоть и не было ничего, но все равно... Комсомолец все же.... — Ладно, — великодушно пообещал Володя. Убедившись в непричастности приятеля к трагическим событиям, он был готов расцеловать его. Изба Ефросиньи Козыревой стояла на выезде, у самой дороги, идущей от села к станции. Сразу за огородами начинался пологий спуск к Студянке. Володя с Клюевым подъехали к усадьбе Ефросиньи со стороны реки. Привязали лошадей к пряслу огорода, огляделись. Света в окнах не было. Прошли на улицу, подошли к воротам. В передних комнатах тоже темно. Только в кухонном окне, выходящем во двор, тускло светилась керосиновая лампа. — Давай! — тихо скомандовал Клюев. Володя напрягся. Сунул руку в карман, сдвинул предохранитель пистолета. Взялся за кольцо калитки: она подалась. Открыл, заглянул во двор. Темно, пусто. В красноватом квадрате окна ни одной тени. Володя оглянулся на Клюева. — Давай, — нетерпеливо прошептал лейтенант, — как говорили... Володя громко хлопнул калиткой, прошел к крыльцу. Поднялся. Гулко постучал. Стал напряженно ждать. В доме ни звука. Попробовал коленом входную дверь. Не подалась. Опять постучал. Нетерпеливо, требовательно. Где-то в глубине дома послышалось движение. Володя заглянул в окно. С крыльца кухня просматривалась хорошо. На столе керосиновая лампа — семилинейка с подвернутым фитилем. В ее тусклом свете видны ведра, большая русская печь, чугунки и кринки на шестке. На кухню кто-то зашел. Большой, взлохмаченный. Длинная костлявая рука потянулась к лампе, подкрутила фитиль. Окно сразу засветилось желтым ярким светом. Володя невольно качнулся к перильцам крыльца. Среди кухни стояла Булгаков. Босой, встрепанный, в выпущенной поверх шаровар гимнастерке. Он, видимо, только что слез с печки. Володя постучал еще раз. Булгаков лениво почесался своей клешней и пошел с кухни. — Кто? — сонно спросил Булгаков, выходя в сени. — Ефросинья дома? — Откудова... Не пришедши она еще. — Булгаков безбоязненно открыл дверь и заспешил в избу. Володя зашел вслед за ним. Клюев остался в сенях. — Рано. Не пришедши она еще, — зевая, повторил Булгаков. — Ждать будешь или как? — Подожду, Булгаков еще раз почесался: — На кухню иди. Там лампа, — и снова полез на печь. Володя выхватил пистолет. — Руки вверх! Булгаков оцепенел. Замер около печи на подогнувшихся ногах. Из сеней быстро вбежал Клюев. — Руки вверх! — повторил Володя. Булгаков не пошевелился. Его будто хватил паралич. Клюев резко рванул коновозчика за плечо. Повернул лицом к себе. Булгаков чуть не упал. Его небольшие глаза округлились: они были полны животного ужаса и смотрели в одну точку — на черное дульце Володиного пистолета. Длинное, морщинистое лицо было бледно, отвисшая толстая губа вздрагивала. Клюев ловко ощупал его со всех сторон. — Где оружие? Булгаков продолжал молчать. Страх начисто лишил его способности соображать. Он безотрывно смотрел на пистолет. Володя сунул ТТ в карман. — Оружие есть? Молчание. — Где оружие? — свирепо рявкнул Клюев. Этот выкрик вывел Булгакова из оцепенения. Ноги его окончательно ослабли, он упал на колени и вдруг тоненько всхлипнул: — Откудова... Нету у меня никакова оружия... Не виноватый я... Богом, матерью клянуся! Не виноватый я! Это они все... Они! Душегубы! — Вздрагивая и плача, он пополз к Клюеву. — Ноги вам расцелую... Не губите! Не виноватый я! — Встать! — властно скомандовал Володя, Булгаков подчинился. Володя заглянул на печь, скинул сушившиеся валенки и портянки коновозчика. — Одевайся! Володя вышел последним. Он затушил лампу, запер избу на висячий хозяйский замок, который нащупал на дверной ручке. — Куда ключ кладете? — спросил он Булгакова. Тот трясущейся рукой засунул ключ за наличник кухонного окна. Володя тут же, на всякий случай, проверил — не провалился ли он куда-нибудь в щель. Булгаков перестал всхлипывать и стучать зубами, только длинные ноги все еще подламывались в коленях. — Ложись, и чтобы ни звука! — приказал Клюев, когда они подошли к подводе. Булгаков лег в сани. Его накрыли большим овчинным одеялом и закидали сеном. — Предупреждаю. Ни звука! — повторил Клюев, берясь за вожжи. — Слушаюсь, товарищ начальник, — срывающимся шепотом пообещал Булгаков — из сена торчала только его голова. Володе стало смешно. Он надвинул шапку на вспотевший лоб коновозчика. — Чуть что, пеняй на себя! — Володя похлопал себя по карману. — Слушаюсь, товарищ начальник! — повторил Булгаков, и Володя почувствовал, как он панически вздрогнул под сеном. Лошади с места пошли резвой рысью. Всю дорогу до станции Булгаков молчал. Не проронил он ни слова, когда проезжали по безлюдным улицам станционного поселка. И только на выезде вдруг завозился, сделал попытку сесть. — Вон там... Того иуду брать надо... — хрипло зашептал он, кивая вправо. — Куницу. Да Мокшина. Это они... — Молчать! — приказал Клюев. — Так ведь гады они, товарищ начальник, — плачуще прошептал Булгаков. — Доподлинные гады... — Он заскрипел зубами от бессильной злобы. — Это они Николашина-то... Клюев зажал ему рот полой полушубка. Володя посмотрел направо. В конце улицы, возле шпалорезки, темнел высокий большой дом. Было странно сознавать, что в этом обыкновенном, знакомом с детства крестьянском доме притаился враг. Проехали мимо шпалорезки, так по застарелой привычке зареченцы именовали бывшую мастерскую райпромкомбината, разросшуюся за месяцы войны в большой деревообрабатывающий завод. За длинным деревянным забором в ярком свете электрических огней визжали дисковые пилы, шумно всхлипывали пилорамы, разносился гулкий стук перекантовываемого леса. За заводом свернули к переезду, на дорогу, ведущую в Медведёвку. Володя стал устраиваться поудобней, сунул ноги, обутые в мокшинские фетровые бурки, под овчинное одеяло. Подвязал болтающиеся шнурки шапки-ушанки. Семнадцать километров — путь не близкий. Но Клюев вдруг завернул лошадей с тракта на узкую проселочную дорогу. Володя удивился. Он собрался сказать, что едут не туда, как подвода неожиданно остановилась. Впереди на дороге чернел большой грузовик с крытым кузовом-фургоном. От грузовика подошел человек. — Как? — коротко спросил он Клюева. — Порядок. Бери лошадей — и на станцию. Глаз с вокзала не спускай. Мокшин что-то задумал. — Ясно, — хмуро сказал человек, и Володя окончательно убедился, что никогда не слышал его голоса. — Вставай! — скомандовал Булгакову Клюев. Тот послушно вылез из-под сена, поддерживая обеими руками сползшую на ухо шапку. Клюев сказал Володе: — Веди его в машину. Шофер распахнул заднюю дверку кузова, и Булгаков трусливо полез в фургон. Володя последовал за ним. — Смотри, Званцев, в оба! — еще раз предупредил Клюев. — А Садовников пусть остается на месте. Мы скоро приедем. — Ясно, — сказал Званцев. Званцев, Садовников... Этих фамилий Володя никогда не слышал. У капитана оказалось в Заречье и на станции гораздо больше людей, чем можно было предполагать. Клюев прыгнул в кузов. Шофер прикрыл за ним дверцу. Машина тронулась. Ощущение движения, видимо, снова вселило в Булгакова страх. — Куда это меня? — хрипло спросил он. — Куда надо, — сухо сказал Володя. — Господи... — тоскливо пробормотал Булгаков. — За что такая кара? — За дело... — буркнул Клюев. — Да не виноватый я, — срывающимся голосом запричитал Булгаков. — Мокшин с Куницей — они душегубы! Они, проклятые! — А керн кто уничтожил? Куда вы его дели? — В прорубь сбросили... — Булгаков заплакал, часто, тяжко вздыхая в темноте. — Не сам ведь я. Наганом, ирод, угрожал... Властям грозился выдать. Вот мы с Куницей и сделали... — Что это за счеты у тебя с властями? — Э-э, да что говорить, товарищ начальник, — обреченно всхлипнул Булгаков. — Труса сыграл. Взяли меня в армию, еще винтовку не научился толком держать, а тут уже и немцы... На осьмой день мы, необученные, попали под танковую атаку... Не сдержался я. Сбежал... Страшно стало. Сто раз потом тот день и час проклял... Руку себе сдуру прострелил... Наши-то немцев отбили. Право слово отбили! Такие же салаги, как я... Меня в санбат. А после операции — прямехонько в трибунал. Может, и не решили бы, да бомбежка была — я и утек опять... С Куницей этим встретился... — Кто он такой? — Все расскажу, товарищ начальник. Все... — торопливо заговорил Булгаков, проглатывая, комкая слова. — Ничего не утаю! И не Куница вовсе он. Чужие документы с убитого у него. Он мне сам по пьянке говорил. Кулак он, белогвардеец, вредителем был, да перед войной попался. Арестовали его в Минске... А тут война... Немцы в Минск пришли. Он и продался. Меня-то он в поезде подцепил. С какой-то дамочкой ехал. Эвакуировались вроде бы из Ленинграда... — А ты куда ехал? — Сам не знал, — тяжело вздохнул Булгаков. — Куда глаза глядят. В армию назад нельзя было. Рука... Сами понимаете. Родные места под немцем. Вот он и ущучил меня. Дамочка мне руку в дороге долечила. Красивая такая, беленькая. А в душе-то, видать, тоже гадюка хорошая. Привезли в Сосногорск, где-то документы раздобыли, а потом в подручные к этому ироду определили... — Какому ироду? — Да к Мокшину, чтоб его громом пришибло... Все сбежать хотел или повиниться... Все думал: скоплю деньжонок на дорогу да рвану куда-нибудь от них подальше... Будь что будет! А то и заявлю. Да душонка слабая... — Кто еще сотрудничает с Мокшиным? — спросил Клюев. — А никого больше. Я да Куница. — Булгаков всхлипнул. — Знаю, сволочь я... Так ведь дети у меня, жена, тятя еще живой... Небось думают, что воюет Иван, а я... Немцев с наших мест сгонят — узнают все. Позор ведь. Детишкам-то позор какой! Клейменые будут. На всю жизнь... — Что опять задумал Мокшин? — после недолгого молчания, уже мягче спросил Клюев. — Не знаю. Богом клянуся — не знаю! — с надеждой воскликнул Булгаков. — Велел только к пяти утра за ним заехать. Вот и все. В партии говорили, что боксит ждут: может, из-за этого... — К пяти утра, говоришь? — К пяти, к пяти! — заторопился Булгаков. — Честное мое слово, к пяти! Все расскажу! Я все знаю, товарищ начальник. Куница мне все рассказывал. Он, гад, тайком от Мокшина самогонку гонит да торгует. Жадюга! А пьяный хвастаться любит. Он мне все рассказывал. Ей-богу! — В голосе Булгакова звучало такое искреннее отчаяние, что не верить ему было невозможно. — И как Николашина они убили, знаю. Мокшин его к Кунице заманил. Куница Николашина прямо в сенях — топором! — Булгаков передернулся. — Ей-крест! Сам он рассказывал... Вдвоем они его. Топором да лопатой. Мокшин в деревню быстрехонько вернулся и приказал мне тайком к Кунице ехать. Заставил напоить конюха пьяным да взять колхозную лошадь. Вроде бы за самогонкой. Я чуял, что не чистое дело, а откуда мог знать... Куница меня всю дорогу до оврага под наганом держал. Свалили в снег беднягу Трофима Степаныча. Голехонького... Вспомню, сердце кровью обливается. Я покажу где. Я все знаю. Честное слово, товарищ начальник! — Булгаков со всхлипываниями застучал клешней по впалой груди. — Трус я, но не фашист. Сделайте вы мне снисхождение! — Это уж как вести себя будешь! — сурово сказал Клюев. — Да я... Да я их собственными руками, гадов! Володе было и противно, и жаль несчастного коновозчика. Клюев, очевидно, чувствовал то же самое. Он долго молчал, а потом не выдержал: — Перестань хныкать! Не маленький. Хочешь дела свои поправить — будь честным. — Да я... — Булгаков поперхнулся от избытка благодарности.
14. КРУГ СМЫКАЕТСЯ
В пятницу Новгородский несколько раз ходил в шифровальное бюро и каждый раз бесполезно. Дешифровщики не могли подобрать ключ к сообщению Мокшина. Капитан и волновался, и сердился. К этому времени Клюев сообщил, что Огнищев в вещах Мокшина ничего существенного не обнаружил, но установил, что письмо тот отправил с коновозчиком на станцию. Потом позвонил Сажин. Он рассказал, что следователь Задорина, вопреки его запрету, несколько раз побывала на станции Хребет и нашла свидетелей, которые видели человека в зеленом плаще, с чемоданом и рюкзаком. Он под вечер входил в дом Куницы. Этого человека привел туда какой-то геолог — он был одет в черный полушубок, какие носят только инженерно-технические работники геологической партии. Впоследствии человека в зеленом плаще никто не встречал, а геолога видели уходящим со станции в сторону Заречья. Сажин сказал также, что Задорина обнаружила в навозе около конного двора пучки сена, на которых настыли сгустки крови. Анализы показали, что кровь человеческая. Показания колхозного конюха Сидора Хомякова, данные Задориной, подтверждают, что Булгаков действительно брал лошадь второго декабря вечером. — Понимаете, — расстроенно гудел голос Сажина в телефонной трубке, — Задорина утверждает, что состав преступления установлен, требует немедленного ареста Булгакова и Куницы. — Пусть подождет немного. Денек-другой, — сказал Новгородский. — В ближайшее время все решится. — И еще. Задорина требует ареста Мокшина, — добавил Сажин. — Она точно установила время его отъезда с участка и время появления в селе. Он отсутствовал где-то, помимо дороги, около двух часов и был одет точно так же, как геолог, который привел Николашина к Кунице. Задорина свозила одного из свидетелей в Заречье, и тот сразу узнал в Мокшине того самого геолога. Вот таковы дела. Задорина собрала убедительные доказательства причастности этих трех лиц к убийству Николашина. Мне трудно спорить с ней. Ведь против фактов не попрешь. Трудное положение. — Да, трудное, — согласился Новгородский. — Задорина возмущена моей бездеятельностью и прямо заявила, что я умышленно торможу ход следствия, — невесело говорил Сажин. — Главное — крыть нечем. Ведь она права. — Да, она права, — опять согласился Новгородский. — Но надо как-то убедить ее подождать с арестом. Максимум на недельку. — Трудно, — признался Сажин. — Понимаю. Но надо как-то убедить ее. — Попытаюсь, — без всякого энтузиазма пообещал Сажин. — Могу приказать в конце концов, но... Удивляюсь, как она до сих пор не написала на меня жалобу областному начальству. — Не сомневайтесь. Напишет! — расхохотался Новгородский. — Не сомневаюсь, — убежденно сказал Сажин. Разговор с Сажиным встревожил Новгородского. Энергичная девушка могла вспугнуть преступников, насторожить их. Капитан уже жалел, что не оказал ей такого же доверия, как Сажину, Огнищеву и Стародубцеву. Факты, собранные Задориной, безусловно, были ценны для будущего судебного разбирательства, но сама ее деятельность могла сорвать весь начальный этап операции. «Надо поговорить с ней, — решил Новгородский. — Хотя бы частично ввести в курс дела. Это человек наш. Завтра буду в Медведёвке, обязательно поговорю». Решение капитана оказалось запоздалым. Говорить с Задориной было бесполезно. В субботу утром богатырь-дешифровщик положил перед Новгородским расшифрованный текст сообщения Мокшина. Пока капитан читал его, молодой человек протяжно зевал и тер кулачищами глаза. — Ну что, не опоздали мы? — спросил он, когда Новгородский откинулся на спинку стула. — Не знаю, — угрюмо откликнулся капитан, быстро прикидывая в уме план своих действий. — Не знаю. Все может быть. Молодой человек сочувственно посмотрел на расстроенного капитана и вышел. Только тогда Новгородский сообразил, что даже не поблагодарил дешифровщиков за напряженную работу. — Ах ты черт, нехорошо получилось, — с досадой сказал он сам себе и снова взял листок в руки. Текст гласил: «Следователь-чекист, очевидно, считает Вознякова непричастным. Оба следователя продолжают работу. Один из них ведет следствие на станции Хребет. По ходу расследования и привлеченным свидетелям предполагаю, что я, К. и Б. на подозрении. При подтверждении этого предположения буду вынужден срочно покинуть Заречье. К. и Б. придется убрать. Приготовьте дополнительные документы, явки. В случае провала встречайте в воскресенье. Время, место обычные. 07.01.42 79-й». Новгородский позвонил полковнику и попросил принять его. Костенко велел явиться через полчаса. Все эти полчаса Новгородский напряженно обдумывал план предстоящих действий и сердился на себя за допущенную оплошность. Даже сообщение экспертов о том, что документы Булгакова сфабрикованы, а на трудовой книжке Куницы переклеена фотокарточка, не улучшили капитану настроения. В конце концов, это теперь не имело существенного значения. Обдумав все в деталях, Новгородский дал предупредительную телеграмму Званцеву и Садовникову на станцию Хребет, сам отправился на прием к полковнику. Выслушав капитана, Костенко нахмурился. Закурил. — Так-с... Значит, проинструктировать Задорину вы опоздали. — Просчитался. — Новгородский виновато развел руками. — Кто мог знать, что ее инициатива перехлестнет за границы инструкций непосредственного начальника! — Вы должны были знать! У вас, кажется, уже есть опыт по этой части? — Да. Есть. Этот-то опыт и подвел... Прошлый раз вы были правы насчет Задориной, — признался капитан. — Тут я слишком перестраховался... — Вот именно! — Лицо полковника подобрело. — Выходит, образ пуганой вороны не столь чужд вам, как казалось когда-то... В конце концов, не доверив Задориной, вы просчитались, не только потеряв грамотного и инициативного работника, но и напортили самому себе. Надо больше доверять нашим людям. Полковник не сердился. Поэтому, вспомнив о майоре Савицком, капитан позволил себе чуть улыбнуться. Костенко это заметил. — Вам смешно? — Что вы, товарищ полковник. — Мне показалось? — Показалось. — А мне подумалось, что вы вспомнили о Савицком. Новгородский не выдержал и широко улыбнулся. — Ох и хитрец же вы, Новгородский! — Костенко привычно пустил под абажур настольной лампы синюю струю дыма и более доброжелательно сказал: — Выкладывайте свой план действий. — Мокшина и компанию надо брать сегодня же, — сказал Новгородский. — Тянуть дальше некуда. Мокшин в любой момент может получить подтверждение своим подозрениям. Если уже не получил. — Надо брать, — согласился полковник. — Но прежде нужно точно знать состав группы Мокшина. Нет ли там четвертого или пятого лица, оставшихся вне поля нашего зрения. — Резонно. Как вы думаете это сделать? — Арестовать сначала одного Булгакова. Он живет на окраине. Иногда выпивает. Его отсутствие вечером не вызовет подозрений. Через него, думаю, мы выясним состав группы. — А если он не в курсе дела? — Тогда будем брать Куницу. А уж после Мокшина. — Не возражаю. — Теперь об Осинцеве... — Новгородский огорченно развел руками. — Тянуть нам действительно нельзя. Зареченское гнездо надо ликвидировать, а я, по чести говоря, не придумаю, как с ним быть. — Вы полагаете, что придумаю я? — Полковник нахмурился, бросил карандаш на стол. — Я тоже не придумаю. Что вы о нем знаете? Ничего. Только непроверенное сообщение. Этого мало. — Да, мало. Но мы не можем сбрасывать со счета возможность его причастности к преступлению. Если брать Мокшина, то надо изолировать и Осинцева. Вдруг он в самом деле... — Н-да... — Полковник задумался. — Может быть, все же взять его? — неуверенно сказал Новгородский. — Не знаю. Не знаю, капитан! — Костенко с ожесточением потер блестящую, свежевыбритую голову. — Только в самом крайнем случае. Я думаю, что надо действовать согласно обстоятельствам. Допрос Булгакова и Куницы позволит принять на месте более правильное решение. К тому же Огнищев, возможно, уже имеет об Осинцеве более точные сведения. В общем, давайте будем надеяться на эти сведения. — Придется, — невесело согласился Новгородский. — Вот так... — Полковник вздохнул и сочувственно оглядел капитана усталыми глазами. — Решения вам придется принимать нелегкие, но я на вас надеюсь. Не перегнете? — Постараюсь не перегнуть. — Вот так и решим с Осинцевым, — еще раз вздохнул полковник. — На месте. — И еще одна деталь. — Новгородский выложил на стол полковника фотографию Анны Мигунец, переданную Савицкой, и письмо Мокшина, вложенное в точный дубликат испорченного конверта. — Я уезжаю. Задерживаться нельзя. Поэтому прошу дать распоряжение об отправке сего послания. Лебедевы получат его, и кто-то пойдет на встречу. Надо бы установить это место. — Хорошо, распоряжусь. И вот что... — Костенко встал, вышел из-за стола. — Я не даю строгих инструкций. Вам на месте будет виден план действий. Но главное условие операции — создать для населения видимость, что все трое преступников погибли. Идите на любую демонстрацию, распространите любые слухи. Очень важно, чтобы молва все это донесла до управления, а следовательно, и до Лебедева. Именно — молва. Рассказы очевидцев. Официальные сведения будут тому добавлением. — Я все время помню об этом, — сказал Новгородский. — Мы на месте продумаем такое мероприятие в деталях. — Ну, тогда в путь! — Полковник крепко пожал Новгородскому руку. — Как говорится: ни пуха ни пера! Оставшись один, Костенко откинулся на спинку стула, потянулся. Недавнее дурное расположение духа после беседы с Новгородским исчезло. Терентий Иванович давно заметил, что после встреч с капитаном настроение у него, как правило, круто улучшается. И знал почему. Новгородский очень напоминал сына. Внешнего сходства не было, сын Терентия Ивановича был долговяз, нескладен, некрасив, с горбатым носом, наследственной жиденькой шевелюрой, едва прикрывавшей темя, с серыми со свинцовым отливом материнскими глазами... Разумеется, Сергей Костенко не шел ни в какое сравнение с ладным красавчиком Новгородским. И все же что-то схожее было. Терентий Иванович в силу профессии человек наблюдательный, много раз пробовал найти это сходство, но, как ни приглядывался к капитану, как ни анализировал его поступки, все безрезультатно. И тем не менее всякий раз, побеседовав с Новгородским, выслушав его толковые суждения, поглядев на его уверенную манеру держаться (уж чего-чего, а уверенности капитану не занимать), полковник успокаивался, заряжался верой, что и его сын, военный разведчик лейтенант Костенко, будет жив и невредим, как этот счастливо выбирающийся из любых опасных передряг, внешне не похожий на сына капитан. Конечно, немецкий тыл — не Сосногорская область, но все же... Видя перед собой Новгородского живым и невредимым, обмякало отцовское сердце Терентия Ивановича. Овдовел Терентий Иванович давно. В 1933 году его жена погибла при железнодорожной катастрофе. Сам Костенко в ту пору служил в Средней Азии, боролся с басмачами. Естественно, что заниматься воспитанием сына и дочери было ему очень трудно. Пришлось отправить детей в Москву, к старшей сестре, у которой и воспитывались до выхода в самостоятельную жизнь. Так складывалась служба Терентия Ивановича, что всегда между ним и семьей непреодолимой стеной стояли неотложные дела, длительные командировки. Из Средней Азии военная судьба забросила пограничника Костенко в Закавказье, оттуда на Дальний Восток, потом в Монголию... И так из года в год. В Москве бывал по делам или в отпуске. Сейчас, оглядывая прошлое с высоты своей пятидесятилетней жизни, Терентий Иванович ясно видел, как мало дал детям. Где-то на Севере и Юге, на Востоке и Западе бескрайней Советской России, в малых и больших ее городах, на погранзаставах и в дымных служебных кабинетах остались незримые крупицы его нерозданного отцовского чувства. Конечно, это сыграло не последнюю роль в том, что его отношения с дочерью сложились не так, как надо. Была девочка как девочка, спокойная, ласковая, не избалованная. Окончила консерваторию, вышла замуж за агронома, уехала в один из небольших сибирских городков... Уехала — и как отрезала себя от отца с братом. Навестил как-то Терентий Иванович дочь с зятем и... и почувствовал себя чужим. Горьким было то открытие. Особенно горьким оттого, что не мог он понять, как это произошло. Нет, дочь с зятем не стали мещанами, хотя и жили своим домом, завели корову и кур (в сельской местности как без этого?), не был узким круг их интересов. Она преподавала в детской музыкальной школе, он руководил большим семеноводческим хозяйством — и все равно Терентий Иванович не мог найти ту общую точку соприкосновения, которая роднит, делает действительно близкими людей. Были молодожены внимательны к гостю, поговорить с ними было интересно, и все-таки Терентий Иванович остро чувствовал, что находится вне орбиты сокровенных помыслов и интересов дочери и зятя. Тяжко и больно ему стало. Погостив несколько дней, он затосковал, почувствовал себя лишним... Даже появление внуков не сблизило их с дочерью. Наоборот, с каждым годом дочь все дальше и дальше уходила от него в мир своих и понятных, и в то же время посторонних для него, Терентия Ивановича, забот и интересов. Знал он, случись с ним что-либо под старость, дочь не откажется от него, всегда предоставит приют. Но знал и другое — из чувства долга предоставит, не из дочернего чувства. Ибо не было его. Вот это-то и есть самое тяжкое. И попробуй разберись, найди, кто в этом виноват. За нагромождением прожитых лет трудно разглядеть свои, аособенно чужие ошибки... А вот с сыном у Терентия Ивановича сложились другие отношения. Рос мальчишка как мальчишка, жил рядом с сестрой, получал одинаковое воспитание, а стал совсем иным человеком. И ведь ничем не отличал его Терентий Иванович от дочери... Не читал моралей, не поучал (в редкие приезды не до того было), сколько помнит, почти никогда не разговаривали они с сыном на высокие темы, а вот поди же... Какой-то непостижимой детской мудростью парнишка понял и принял для себя тайные надежды, идеалы и жизненные принципы отца. Не может вспомнить Терентий Иванович, чтобы когда-то серьезно рассказывал сыну о сущности фашизма, о неизбежности вооруженного столкновения с ним в будущем, а молчун Сережка вдруг начал напирать на немецкий язык и достиг таких успехов, что, будучи в девятом классе, уже знал предмет не хуже своей школьной учительницы, урожденной немки. Никогда не говорил Терентий Иванович в семье о своих служебных делах, не произносил речей о пользе бдительности, не рассказывал о том, как важна для безопасности первого в мире социалистического государства рискованная работа разведчика, а сын избрал именно этот путь. Помнится, получив от сестры письмо с неясными намеками, Терентий Иванович встревожился, спешно прилетел в Москву. «Сережка сошел с ума! Поступает в какую-то сверхсекретную военную школу... Мне ничего не говорит!» — испуганно сообщила сестра. Терентий Иванович сразу понял, что это за школа. А поняв, и возгордился, и заволновался. Решил впервые строго и серьезно поговорить с сыном. Разговора не получилось. — Ты понимаешь, какой ответственный шаг делаешь? Понимаешь, на что идешь? — спросил он сына. Сергей не отвел взгляда. Лишь мелькнуло легкое удивление в серых глазах. — Ты что же, против, чтобы я пошел твоим путем? — в свою очередь спросил он. Этим было сказано все. В конце июля они виделись в последний раз. Сергей сказал, что приехал повидаться перед отъездом в длительную командировку. Терентию Ивановичу не надо было объяснять, что это за командировка. Они провели вечер за бутылкой коньяку и простились как мужчины, как товарищи по оружию. Сын ушел на войну. И, лишь проводив его, оставшись один-одинешенек на пустынном перроне ночного вокзала, вдруг впервые остро ощутил Терентий Иванович, что старость не за горами, что фактически он теперь одинок. Обострившееся чувство личного одиночества не исчезло. Оно прочно поселилось в полковнике, и стоило ему отвлечься от дел, как это чувство обдавало душу своим холодным дыханием. Особенно тогда, когда он думал о сыне, тревожился о нем... Поэтому Костенко не любил бывать дома, предпочитал ночевать в своем кабинете (за что обиженные сотрудники — уж Терентий-то Иванович знает — иногда зовут его работягой), спасался служебными заботами от щемящей отцовской тревоги и бобыльего одиночества. Сейчас, отпустив Новгородского, Костенко вновь укрепился в вере, что в конце концов все будет хорошо, что его Сережка вернется из опасной командировки живым и невредимым. «Черт возьми, чем все же они похожи? — в который раз спросил он себя. И вдруг родилась простая мысль: — Интересно, каково было бы Сергею, если б дать ему такую же взбучку?» Костенко даже вскочил со стула. Конечно же! Хотя он, Терентий Иванович, ни разу не видел, как ведет себя сын, когда начальство делает ему разнос, но догадаться не трудно. Его Сережка тоже не стал бы вилять, не стал сваливать вину на других, не стал искать объективные и субъективные причины в свое оправдание. В самом деле, именно этим похожи нескладный лейтенант Сергей Костенко и сметливый красавец Новгородский. Своей внутренней честностью и верностью долгу похожи эти по-разному близкие ему, полковнику Костенко, люди. Разумеется, получив подобный нагоняй, его Сережка расстроился бы точно так же, как только что искренне расстроился Новгородский. Терентий Иванович несколько раз прошелся по кабинету, очень довольный своей догадливостью. «Все будет хорошо, все будет как надо. Не волнуйся, Терентий! — весело сказал он себе. — Такие парни не пропадут. Такие парни горы своротят!»Новгородский приехал в Медведёвку в конце дня. Короткий зимний день угасал, и в мутных сумерках мрачнели, темнели устлавшие небо низкие облака. Клюев удивился столь раннему приезду своего начальника. Капитан имел привычку приезжать на объект позже. Увидев вместо «эмки» крытый грузовик-фургон, в котором обычно перевозили арестованных, лейтенант все понял и воспринял приказ о немедленном аресте Булгакова без всякого удивления. Обсудив с капитаном план действий, Клюев тотчас выехал в Заречье. Новгородский тем временем решил зайти к Сажину. В кабинете начальника райотдела милиции, видимо, происходил далеко не веселый разговор, так как появление капитана было встречено Сажиным с заметным облегчением. Задорина, наоборот, еще больше нахмурилась. Неожиданный гость, очевидно, помешал ей высказать своему начальнику заранее приготовленные гневные слова. — Вот, воюем все, Юрий Александрович, — пожаловался Сажин. — Прямо поедом ест меня Надежда Сергеевна из-за дела Николашина. Хоть в отставку подавай. — Зачем же в отставку, — улыбнулся капитан. — Можно и полюбовно дело уладить. Задорина с неприязнью покосилась на капитана, она, судя по всему, не собиралась кончать разговор с Сажиным. Ее упорство показалось Новгородскому забавным. Эта тоненькая, хорошенькая девочка-следователь слишком походила сейчас на его собственную жену в минуты семейных разладов. Та же упрямая складка губ, морщинки у переносицы, независимый наклон головы. Новгородский вздохнул. Жена жила в Сосногорске, рядом, работала врачом-окулистом в госпитале, а виделись они редко. Глядя на рассерженную девушку, Новгородский вдруг поймал себя на мысли, что очень соскучился по сыну, живущему у дедушки в Нижнем Тагиле, по жене, даже по забавным мелким ссорам с ней, которые всегда происходили по его инициативе. Он любил дразнить ее, любовался ею сердитой. «Выпрошу у Костенко выходной, — вдруг подумал Новгородский, — Зинку вытяну из ее госпиталя — и двинем куда-нибудь в лес. Наругаемся и нацелуемся досыта!» Эта идея ему так понравилась, что он опять улыбнулся. Задорина независимо поджала губы и демонстративно отвернулась. — Во! Видали, Юрий Александрович, какая она у нас! — воскликнул Сажин. — Попробуйте с такой повоюйте! — А в чем дело? — Требует немедленного ареста святой троицы. — Сажин ткнул толстым пальцем в объемистую папку, лежавшую на столе. — Припирает меня фактами, материалами следствия. — Ну что же, — миролюбиво сказал Новгородский, — раз факты убедительны, то надо брать под стражу. — Правильно! Давно пора! — оживилась Задорина, наградив капитана удивленным, обрадованным взглядом. — Я не понимаю вашей медлительности, Порфирий Николаевич. — Всему свое время, — рассудительно сказал Новгородский. — Вы хорошо поработали, Надежда Сергеевна. Собранные вами материалы убедительны. Вещественные доказательства обличают убийц с головой. Теперь настало время для ареста. — А вы откуда знаете? — поразилась Задорина. — Как же, — Новгородский давно обдумал свои слова, — товарищ Сажин информировал нас о ходе следствия и выполнял наши рекомендации. — Так вы информировали обо всем областное управление милиции? — Задорина удивленно воззрилась на Сажина. Новгородский был в штатском, она явно приняла его за кого-то из руководящих работников областного управления. — Как вам сказать... — Сажин был смущен ее неожиданным вопросом. — Какое это имеет значение, — дипломатично сказал Новгородский. — Разве дело в инстанциях? Дело в том, что вы хорошо поработали и преступники будут сегодня арестованы. Я специально заехал, чтобы поблагодарить вас за эту работу и принять материалы следствия. — Разве их будут судить не здесь? — Нет, не здесь. У этих людей есть и другие грехи. С ними пойдет разговор по большому счету. Задорина пристально посмотрела на Новгородского и вдруг что-то поняла. Даже хлопнула ладошками. — Подождите, товарищ... как вас... Юрий Александрович... А Стародубцева не вы ли послали к нам? — Ну, положим, мы. — Новгородский решил быть откровенным. — Ах вот как... И у вас есть дополнительные данные о преступниках? — Есть. — Я теперь все понимаю... Задорина нахмурилась, помолчала, потом усмехнулась чему-то и неожиданно призналась: — Собственно, я давно подозревала, что рамки дела гораздо шире, нежели их определил для меня Порфирий Николаевич. Сажин смущенно кашлянул в кулак. — Или это вы эти рамки определяли? — И я тоже, — весело признался Новгородский. — Глупо делали, — обиженно поджала губы Задорина. — Если б я не догадывалась кое о чем... могли произойти большие недоразумения. — Они и так чуть не произошли, — помедлив, произнес Новгородский. — И виновен в том я. Признаю. — Запоздалое признание. Мне так тяжело работалось! — Всем нам не так легко работается, как хотелось бы, — дружелюбнее продолжал Новгородский. — Надо же мириться с обстоятельствами. Порфирию Николаевичу было тоже нелегко. Нам тоже. Мы все помогали друг другу. К чему же ненужные обиды? — Ну ладно. Я не буду обижаться, — более спокойно произнесла Задорина. — Хотя обидно, когда тебе не доверяют. — Даю вам честное слово, — пообещал Новгородский, — больше это не повторится. — И прижал руки к груди. — Скажите, пожалуйста! — примиряясь, усмехнулась Задорина. — Какое запоздалое рыцарство! — Лучше позже, чем никогда, — с облегчением проворчал Сажин. — Материалы мои вам всерьез нужны? — Да. Они необходимы нам, — честно сказал Новгородский. — И я в самом деле уполномочен принять их у вас. — Ну, тогда можно помириться. — Задорина впервые улыбнулась. — Пойду готовиться к сдаче. — Завтра, завтра, Надежда Сергеевна, — ответно заулыбался Новгородский. — А сегодня отдыхайте. Вы честно заработали свой отдых. — Вот уж никогда не думала, что в вашей службе водятся такие мастера на комплименты! — засмеялась Задорина, но, вспомнив что-то, вновь нахмурилась. — Вот что, Юрий Александрович, коль вы сами приехали... — она замялась. — Что такое? — Новгородский насторожился. — Не знаю, пригодятся ли вам эти сведения... — Задорина колебалась. — Говорите. Увидим — пригодятся или нет. — Сведений, собственно, никаких нет. Есть только незначительный факт. Но мне он показался несколько странным. — Что за факт, он отражен в деле? — Нет. В том-то и суть. К делу его, как говорится, не пришьешь. — Рассказывайте. — Я столкнулась с одним весьма частым в нашей практике явлением. Два человека отгребали от ворот снег. Оба видели, как Николашин с Мокшиным вошли в дом Куницы. Только при беседе со мной один рассказал откровенно обо всем, что видел, а другой заявил, что ничего не замечал, ничего не помнит. — Кто те люди? — поинтересовался Новгородский. — Жительница станционного поселка Глазырина и ее квартирант, механик лесозавода Попов. Глазырина сказала правду, а механик — нет. — Ну и что? — Видите ли, — Задорина заволновалась, — старуха сказала, что она стояла спиной к куницынскому дому и ничего бы не увидела, если б не обратила внимания на квартиранта. Тот, как показала женщина, вдруг отчего-то забеспокоился, перестал отгребать снег, только скреб лопатой по расчищенному месту, а сам смотрел мимо нее. Глазырина оглянулась и увидела, как во двор бывшего савватеевского дома вошли двое мужчин: один в зеленом плаще, а другой в черном полушубке. — Эта Глазырина и опознала потом Мокшина? — спросил Новгородский. — Да. Старушка оказалась очень наблюдательной. — Обыкновенное явление, — добродушно ухмыльнулся Сажин. — Эти деревенские старухи — народ известный. Все видят, хоть днем, хоть ночью. Глазасты. А чего не видели, так фантазией дополнят. У них все и интересы, кроме хозяйства, в одном: знать, кто куда пошел, кто о ком что сказал. Они нам уже не одно дело запутали. Сначала врет, а потом и сама начинает верить в то, что наболтала. — Не упрощайте, Порфирий Николаевич! — Задориной не понравилась несерьезность Сажина. — Не превращайте Глазырину в заурядную сельскую сплетницу. Она хоть и стара, но действительно очень наблюдательна. Куница первое время квартировал у нее, и Глазырина почувствовала, что он странный человек, себе на уме. И после того как он купил дом, не переставала наблюдать за Куницей. Этот человек внушал ей страх. — И что из того? — Ее удивил любопытный факт. Когда Попов впервые приехал в Хребет, то встретился у вокзала не с кем иным, а с Куницей. Глазырина пришла к поезду, чтобы продать несколько литров молока, и сама видела, как они разговаривали за станционным зданием. — Ну и что? — А то, что впоследствии Попов с Куницей вели себя, как совершенно незнакомые люди. Даже не здоровались, встречаясь. Старуху это очень удивило. Притом Попов в тот же вечер пришел проситься на квартиру именно к ней. — И что, старуха утерпела — не спросила Попова ни о чем? — Сажин продолжал благодушно ухмыляться. — Спросила. — Задорина с вызовом вскинула голову. — Да, Попов сказал ей, что спрашивал какого-то толстяка, как пройти на лесозавод, объяснил, что попроситься на квартиру к ней посоветовали в конторе завода. — Тогда чему здесь удивляться? — И всё равно странно. Почему Попову встретился у вокзала именно Куница? Не Куница ли указал ему дом Глазыриной, где удобно снять квартиру? И главное, почему Попов при домохозяйке начисто отперся от всего, что они видели вечером второго декабря? — Вы считаете, что в юридической практике это такой редкий случай? Мало ли обывателей, которые не желают ввязываться ни в какие подсудные дела даже в качестве свидетелей... — проворчал Сажин. — Наша хата с краю — кредо большинства обывателей. Разве вы этого не знаете? — Знаю. Я и говорю, что явление довольно частое, но... — Откуда приехал сюда Попов? — Напряжение спало с Новгородского. Подозрения Задориной не заслуживали серьезного внимания. Были только догадки, фактов не было. В конце концов, этот Попов мог столкнуться у вокзала с кем угодно, хоть с той же Задориной, и спросить дорогу на завод. Поняв это, Новгородский сразу успокоился и спрашивал уже из вежливости, не желая обижать девушку. — Кто его сюда направил? — Не знаю. — Задорина пожала покатыми плечами. — Глазырина сказала, что командирован трестом, но я официально проверять не стала. — Почему? — Сама не знаю... — Девушка откинула наползающую на глаза прядку черных, жестких волос. — Мне почему-то подумалось, что этого пока делать не надо. Да и Глазырину предупредила, чтобы о наших беседах не проговорилась. Мало ли что... — Так-с... — Я в курсе дела, — снова вмешался Сажин. — В сентябре райком партии поддержал ходатайство руководства лесозавода об укреплении технической службы предприятия. Завод значительно расширялся, а специалистов не хватало. Тогда, помнится, трест «Сосногорсклес» командировал на завод несколько механизаторов. Попов, очевидно, из их числа. И наверно, пуганый, раз не хочет связываться со следственными органами, даже в роли свидетеля. Есть ведь и такие... «Да, есть, — мысленно согласился с ним Новгородский, вспомнив, как часто следственные работники жалуются на различных молчунов и путанников, старающихся отклониться от дачи показаний даже по самому пустяковому делу, а то и умалчивающих важные факты — личный покой выше всего! Принимая участие в дознаниях по проведенным им операциям, капитан сан не раз сталкивался с такими трусливыми перестраховщиками. И в деле не замешан, а туману напустит своими выкрутасами... — Да, есть. Конечно, Сажин прав. Ничего серьезного. Мещан и перестраховщиков еще дополна!» — И Новгородский сморщил лоб, соображая, как бы ответить девушке поудачнее, чтоб она — упаси боже! — не обиделась снова. Капитан улыбнулся и вежливо сказал Задориной: — Интересный факт, хоть и нередкий. Благодарю за информацию, Надежда Сергеевна. Мы поинтересуемся этим молчальником. — Ну, тогда разрешите откланяться, — повеселела Задорина. — Пойду готовиться к сдаче материалов. — Она забрала свою папку и покинула кабинет. — Кажется, не обиделась, — с облегчением передохнул Сажин. — Кажется, — согласился Новгородский и сразу приступил к делу. — Кроме той подводы, которую вы дали нашим людям на станции, завтра утром потребуются еще две. На время. Где мы сможем их взять? — Где угодно, — сказал Сажин. — Хотя бы в зареченском колхозе. — Они стали обсуждать план ночной операции.
После допроса Булгакова и беседы с Огнищевым Новгородский собрал короткое совещание. Капитан был в хорошем настроении. Показания арестованного его удовлетворили вполне, а рассказ Огнищева о похождениях Осинцева даже развеселил. У капитана камень свалился с души. Все стало на свои места, оставалось только дать конкретные указания непосредственным исполнителям. Вырвавшееся у Вознякова замечание о Николашине хоть и предупредило Мокшина, но это случилось слишком поздно для него. Теперь никакие ухищрения не могли избавить шпиона от заслуженного возмездия. Новгородский оглядел присутствующих и сдержанно улыбнулся. Ему было весело видеть, как удивлялись друг другу Стародубцев и Огнищев, особенно первый. Они сидели рядом, колено к колену, и чувствовали себя неловко, как два жениха, нежданно-негаданно пришедшие со сватами к одной невесте. «Ничего. Привыкнете», — мысленно подбодрил их Новгородский и спросил для пущей убедительности: — В какое время проходят пассажирские поезда через Хребет в сторону Сосногорска? — В три часа дня, одиннадцать часов вечера и в семь утра, — ответил Клюев. — Понятно, — сказал Новгородский. — Поскольку Возняков проговорился, Мокшин рассчитал свои действия верно. Выехать в пять утра из села, по дороге уничтожить Булгакова, затем разделаться с Куницей и сбежать с утренним поездом. Все верно. За маленьким исключением. Он не учел нас. — Именно с утренним, — согласился Клюев, встряхивая огненно-рыжей шевелюрой. — На этот поезд всегда есть билеты, но и народу едет много. Легче затеряться в случае чего. — Итак, выезжаем в двадцать три часа тридцать минут, — медленно, отчеканивая каждое слово, начал давать указания Новгородский. — Сначала будем брать Куницу. Садовников уже там. Ему в помощь Клюев и Стародубцев. Вперед пустить Булгакова. Своему Куница откроет безбоязненно. Брать без шума. Не стрелять ни в коем случае. Остальным быть у дома. Думаю, справимся. Званцева со станции снимать не будем. Мало ли что. — Справимся, — сказал Стародубцев и сжал кулаки. Над стиснутыми челюстями у него прыгали комковатые желваки. «Этот с самим чертом справится!» — с уважением подумал Новгородский и продолжал: — Затем самое главное — Мокшин. Во сколько он ложится спать? — Капитан посмотрел на Огнищева. — Когда как, — сказал Володя. — Но спит всегда крепко. — Не проснется, когда вы вернетесь домой? — Не знаю. Но поскольку собирается удрать — обязательно проснется. — Примем такой вариант. Во сколько он может ждать ваше возвращение? — К утру. Не раньше. Он знал, что лесовозы с двенадцати ночи до шести утра лес не вывозят, но не сказал мне об этом. Я узнал, что порядок подвозки леса изменили только здесь, в Медведёвке. — Как вы объясните свой ранний приезд? — Скажу, что с аварийной машиной добрался. — Сойдет, — одобрил Новгородский. — Тем более что рассуждать нам с ним долго нечего. Кто вам откроет? — Отец. Он не ляжет до моего приезда. — Очень хорошо. Он же вслед за вами впустит в дом Клюева и Стародубцева. Можно так сделать? — Можно. Я дам знать отцу. — Отлично. Выбрав удобный момент, вы прикажете Мокшину поднять руки вверх, и по этой команде остальные войдут в комнату. — Ясно, — сказал Володя. — Предупреждаю, шума не поднимать. Вещи не трогать. Обыск будем делать днем. Остальные указания будут даны после ареста. Вопросов нет? — Нет вопросов, — пробасил Стародубцев. Он был расстроен тем, что Булгакова арестовали без его участия, и горел желанием поскорей приступить к делу. — Возьмем фашистскую сволочь. Не пикнут. — Не сомневаюсь, — сказал Новгородский и посмотрел на часы. — Сейчас восемь вечера. Сбор в двадцать три ноль-ноль. Здесь же. Теперь отдыхать.
В районном Доме культуры давала концерт бригада Сосногорской филармонии. Концерт был нудным и, как всегда в таких случаях, очень длинным. Володя слушал бодрого толстячка, с тигриным рыком читавшего стихи о войне, и еле сдерживал зевоту. Видно, ни сам артист, ни автор стихов никогда не нюхивали пороху. Стихи были кричащими, шумными, полными пустого звона. Потом щуплый, вихлястый конферансье под аккомпанемент баяна пел пародии на военные темы, и эти пародии тоже были нудными, примитивными. Володя в который раз пожалел, что пошел в клуб, а не к Сажину на капустные пельмени. Порфирий Николаевич, кажется, здорово обиделся. Но не мог же Володя прямо сказать о причине своего отказа. А отказался он совершенно напрасно. Зайти к Наде на квартиру он так и не посмел. Потоптался с полчаса возле дома, на который ему указала одна из местных жительниц, и ни с чем отправился в Дом культуры. Там Нади не оказалось. Перед концертом в фойе вовсю шли танцы под радиолу, но Володю они теперь не привлекали. Он забился в угол, сел на стул и спрятал под него новенькие, вызывающе поблескивающие красной кожей мокшинские фетровые бурки. К великому Володиному облегчению знакомых среди танцующих не оказалось, так что не пришлось никому объяснять, зачем он сюда заявился столь пышно разодетым. Приглашение на танцы, сделанное Наде не однажды, казалось теперь Володе самым дурацким поступком, какой он допустил за всю свою жизнь. «Пижон пустоголовый! — издевался над собой Володя. — Танцор! А глупее предложения ты сделать не мог? Блеснул интеллектом и изящным вкусом. Пригласил на танцы! Не мог ничего другого придумать!» — Володя издевался над собой, и лицо у него горело от жаркого внутреннего стыда. Он в самом деле чувствовал себя отвратительно. Потом начался концерт, и Володе оставалось только терпеть да поглядывать на карманные отцовские часы, которые он предусмотрительно взял с собой. После вихлястого конферансье грузная балерина танцевала какое-то адажио, тяжело прыгая по сцене, по-футбольному взмахивая толстыми ногами. Потом молоденькая жеманная девица спела несколько душещипательных песенок, и концерт наконец закончился. Шумная молодежь расставила кресла вдоль стен, и посреди зала снова начались танцы. Володя остался не потому, что было интересно, а потому, что времени еще было пол-одиннадцатого и к месту сбора идти раньше времени не следовало. Он примостился возле сцены и стал смотреть на танцующих. И вдруг он увидел ее. Надя танцевала с каким-то военным. Вглядевшись, Володя узнал вежливого лейтенанта, того самого, который оформлял его документы в военкомате. Лейтенант галантно поддерживал партнершу и улыбался. Танцевал он легко и уверенно. «Подумаешь. Тыловая крыса, — с внезапным раздражением и завистью подумал Володя. — Экий рысак!» Он качнул все еще побаливавшей раненой ногой и с огорчением понял, что ни сейчас, ни раньше не умел танцевать так ловко и красиво. Приглашать Надю после такого партнера, ясное дело, не было смысла, и Володя запрятался подальше, чтобы она ненароком не заметила его. Стыд при мысли, что он показал себя перед Надей ограниченным лоботрясом, снова начал жечь Володе уши. Володя никогда не видел Надю такой веселой и красивой. То была совсем другая девушка. Трудно представить это изящное существо в мешковатом полушубке, мужской шапке и с милицейской планшеткой. Гибкая, невысокая девушка, обтянутая бордовым шерстяным платьем, была человеком из другого мира, и Володя даже с облегчением передохнул, вспомнив свою нерешительность. Володя никогда не был высокого мнения о своей внешности, но только теперь впервые огорчился этому по-настоящему. В сегодняшней красоте Нади было много нового, чужого, отпугивающего. Он посмотрел на свой костюм, бурки и почувствовал себя прескверно. Посмотрев на часы, Володя стал пробираться к выходу. Было немножко обидно за себя, за несбывшиеся надежды, но стрелки часов показывали без десяти одиннадцать. Накинув в гардеробной полушубок, на ходу натягивая шапку, Володя заспешил через пустынное фойе к выходной двери. Вдруг его окликнули. Он остановился. Часто стуча каблучками по широким сосновым половицам, к нему бежала Надя. Вслед за ней вышагивал лейтенант и еще издали здоровался вежливым наклоном головы. — Куда это ты? — удивленно спросила Надя. — А танцы? — Танцы? — Володя чувствовал, что улыбается глупо, и ничего не мог с собой поделать. — Какие танцы? — Но мы же договорились! Володя не знал, что ответить. Он понимал нелепость создавшегося положения, но никак не мог подобрать нужных слов. — Что же ты молчишь? — Надя перестала улыбаться. — Куда ты, домой? — Домой, — с облегчением сказал Володя. — Так рано? — Путь не близкий, — пробормотал Володя. — Пора. Время. — Никуда я тебя не отпущу, — вдруг просто сказала Надя и улыбнулась, повернувшись к лейтенанту. — Он богатым будет. Ведь я его не узнала. — И опять к Володе: — Это ты сидел в концерте на приставном стуле в третьем ряду? — Я, — подтвердил Володя и вдруг по-настоящему обиделся. «Видела. Не подошла. Не узнала вроде бы... Знаем. Не в первый раз. Улыбайся-ка ты своему лейтенанту, а мне пора». — Давай раздевайся! — весело приказала Надя. — Я тебя все равно не отпущу. Раз приехал — ты мой гость. — Да нет, пойду, пожалуй, — все еще пробуя растягивать в улыбке губы, сказал Володя. Он вспомнил о времени и сразу обрел себя. — Ты не останешься? — тихо спросила Надя и пристально посмотрела на Володю. — Нет. — Он выдержал этот взгляд. — Дела. — У тебя в самом деле срочная работа? — Да. Очень. Я рано должен быть на участке. — Тогда я провожу тебя! — вдруг решила Надя и хотела бежать в гардеробную, но Володя удержал ее. — Не надо, — сказал он. — Почему? — лицо Нади стало серьезным, строгим. — Не надо, — повторил он и пожал ей руку. — Прощайте. Идите, Надежда Сергеевна. Вас ждет кавалер. Надя беспомощно оглянулась на лейтенанта. Тот только удивленно развел руками. В это время хлопнула входная дверь. Володя ушел. Надя постояла, подумала о чем-то, а потом с пасмурным лицом пошла одеваться. — Я сама оденусь. До свидания, — сказала она лейтенанту.
Дорога до станции показалась Володе недолгой. Он сидел в темной тряском кузове между Сажиным и Булгаковым, думал о том, что произошло в клубе. Девушки никогда не баловали его вниманием, он давно к тому привык и никогда не относился серьезно к столь обидному обстоятельству. Кратковременные студенческие увлечения быстро проходили, и Володя потом весело рассказывал о своих сердечных неудачах. Приятели беззлобно хохотали, острили, называли тюленем. Володя не обижался. Его влюбчивые сокурсники далеко не все были удачливыми в любви, и эти неудачи воспринимались как нечто неизбежное, само собой разумеющееся. Другое дело Надя. Несмотря на очевидную ясность, что делать в Медведёвке ему больше нечего, Володе не хотелось мириться с этим. Наоборот, было обидно, что все кончилось так нелепо. Собственно, он понимал, что ничего и не начиналось. Володя ругал себя за дурацкие приставания с приглашениями на танцы, за тот нелепый вид, который придало ему щегольское мокшинское обмундирование, за глупейшее поведение в фойе. Но поправить было уже ничего нельзя, и он только вздыхал да ерзал на скамейке. — Что с тобой? — добродушно спросил Сажин. — Или заноза кой-куда попала? — С чего вы взяли? — Сидишь больно беспокойно. — Да просто так... — Не волнуйся. Все будет в порядке. Никуда Мокшин не денется. — А я и не волнуюсь. Володя в самом деле не волновался. Когда дом Куницы был оцеплен, а на крыльце затаились Садовников со Стародубцевым, он спокойно подтолкнул Булгакова пистолетом и приказал: — Давай. Булгаков втянул голову в плечи, сгорбился, потоптался на месте, а потом решительно махнул рукой и полез на высокую завалинку. Держа пистолет наготове, Володя внимательно следил за ним. У противоположного угла белел полушубок Сажина. Булгаков потянулся к крайнему окну, еще раз оглянулся, постучал. Володя прижался к воротам. Булгаков постучал еще раз. Володя ничего не слышал, но по тому, как вздрогнул Булгаков, понял, что к окну кто-то подошел. — Это я, Павло Тарасыч, открой, — тихо сказал коновозчик и спрыгнул с завалинки. Дальнейшее произошло в считанные секунды. Стукнула на крыльце открываемая дверь, кто-то ойкнул, что-то упало, и все стихло. Рядом на лесозаводе пели пилы, взахлеб переговаривались пилорамы, а в доме за высоким плотным забором — тишина. Володя спрятал пистолет в карман. За Булгакова он не беспокоился. Долговязый коновозчик боялся темноты и не думал убегать. Он жался к Володе, как пугливый жеребенок к матери. Клюев открыл со двора калитку и тихо сказал: — Порядок. Новгородский и Сажин вошли во двор, вслед за ними Володя ввел Булгакова. Поднялись по скрипучему крыльцу. В обширных темных сенях стало тесно. Новгородский закрыл дверь и включил маленький фонарик. Спросил Булгакова, освещая лежащего на полу связанного человека: — Он? — А кто еще! Он, гадюка! — Булгаков совсем освоился со своим новым положением, ткнул валенком в перекосившееся от злобы и отчаяния толстое, тонкогубое лицо Куницы. Тот промычал что-то заткнутым ртом и забился всем своим огромным телом на загудевших половицах. — Хорош битюг! — процедил сквозь зубы Стародубцев и вдруг изо всей силы ударил кулаком по груди предателя. Куница ёкнул и сразу затих. — Прекратить самоуправство, — запоздало сказал Новгородский и приказал: — Заносите! Куницу поднимать не стали: он был тяжел, не менее десяти пудов весом; его заволокли в избу и положили посреди кухни. Новгородский властным жестом указал Булгакову на дверь. Тот ни о чем спрашивать не стал: вошел, кряхтя, лег на брошенный возле печи полушубок. В доме остались Сажин и Садовников. Остальные вышли. Новгородский замкнул выходную дверь на замок и сунул ключ в карман. «Все очень просто, — почти весело подумал Володя, когда знакомая пароконная подвода понеслась в сторону Заречья. — Очень даже просто». И впервые за вечер вдруг почувствовал беспокойство за отца. Над землей царствовала все та же безлунная январская ночь, рядом в розвальнях сидели Новгородский, Стародубцев и Клюев, а вспыхнувшая тревога не угасала. Наоборот, чем ближе подбегали продрогшие лошади к Заречью, тем сильнее становилась эта тревога. Впервые в жизни Володя ясно ощутил, как дорог ему немногословный, суровый отец. «Ничего не случится. Бывалый старик!» — успокаивал себя Володя, а томительное чувство не проходило. На окраине села он не выдержал, встал на колени и стал напряженно всматриваться в темноту, в сторону родного дома. — Что, опять зачесалось? — усмехнулся Клюев. — А ну тебя! — огрызнулся Володя. — Кто там? — спросил отец. — Свои, — чувствуя, как сваливается с души тяжелый ком, откликнулся Володя. Тихон Пантелеевич открыл дверь. Володя ввалился в сени и, сам не зная, зачем это делает, потрогал отца за плечо. — Жив-здоров? — Кой леший со мной сделается... — Пропусти вслед за мной товарищей, — шепнул Володя. — А потом запрешь сени. — Кто такие? — Тихо. Узнаешь. Мокшин дома? — Спит. Володя пошел было в избу, но отец ухватил его за рукав. — Назарка у меня сидит. Это было неожиданностью. Володя приостановился, потом сообразил. — Все равно. Пропускай их в сени, а Назара потом выпроводим. По кухне медленно плыли многослойные облака махорочного дыма. Назар Осинцев, по-домашнему подобрав под себя босые ноги, сидел на лавке и лениво тасовал карты. — Ха! Явился, — обрадовался он Володе. — Я думал, тебя теперь до утра ждать нечего. — Куда я денусь, — проворчал Володя, скидывая полушубок. — Экий франт! — восхитился Назар, оглядывая Володю. — Ради кого ты так вырядился? — Для себя... — Вспомнив о Наде, Володя помрачнел. — Ишь ты, надулся сразу! — добродушно хмыкнул Назар. — Ладно, не надувайся. Ни о чем не спрашиваю. Подключайся-ка лучше к компании. В дурака срежемся. А то вдвоем скучно. — Который час? — намекнул Володя. — А черт его знает... Мы тут с Пантелеичем дали дрозда! — Валенки-то хоть подшили? — Подшили. Вошел Тихон Пантелеевич, незаметно подмигнул сыну. — Ну что, втроем срежемся? — весело спросил Назар. — Да не знаю... Как у нас со временем-то? — Вот те на! — обиделся Назар. — А сам только что грозился отыграться. — Ну, вы как хотите, а я спать. Завтра рано вставать, — сказал Володя. — Ничего себе хозяин! — еще больше обиделся Назар. — Друг называется. Единственный раз к нему в гости пришел, а он рожу воротит. — Голова болит, Назарка, — натянуто улыбнулся Володя. — Веришь? — Гость обязан всему верить, — проворчал Назар, взял с печи портянки и стал обуваться. — Друг называется. А я его, как путного, почти всю ночь жду. Отца развлекаю... — Ну не сердись, Назарка! — Володя встревожился, поняв, что если Мокшин не спит и слышит Осинцева, то обязательно насторожится. — Ладно. Бывай здоров! — сердито сказал Назар. Тихон Пантелеевич вышел проводить гостя. Володя проверил пистолет и направился в свою комнату. Его предположение оказалось верным. Мокшин действительно не спал, был чем-то обеспокоен. Больше того. Он был в брюках, валенках и свитере. — А-а... кавалер... — через силу улыбнулся Мокшин. — Так рано? — Куда это ты? — спросил Володя. — До ветру... Володя мгновенным взглядом окинул комнату. Постель квартиранта была взъерошена, на стуле лежал рюкзак, на столе старый отцовский дробовик, патронташ... — А ты что-то рано сегодня. Я тебя позже ждал, — незнакомым, чужим голосом сказал Мокшин, нахлобучивая шапку. Неестественность его голоса заставила Володю вздрогнуть. В то же время в сенях упало и с громким звоном покатилось пустое ведро. Володя невольно оглянулся и тотчас инстинктивно откачнулся к двери. Мокшин стоял бледный, с перекошенным лицом, он держал в руке пистолет. — Ни с места! — зловеще прошипел он. — Ни с места, щенок! Одно движение и получишь пулю в лоб! — Свободной рукой он нащупал лежащий на стуле рюкзак, другой продолжал целиться в Володину грудь. Все это произошло настолько быстро, что Володя опешил. Именно опешил, не испугался. — Стоять на месте! — продолжал шипеть Мокшин и начал пятиться к окну. «Уйдет! — понял Володя. — Через окно...» В то же мгновение он бросился к Мокшину. Тот размахнулся пистолетом, но Володя уклонился в сторону и рукоять просвистела мимо головы. В тот же миг жгучая боль пронзила все Володино тело, у него потемнело в глазах, подкосились ноги. Но он уже обхватил колени Мокшина и, падая, с яростью рванул их на себя. Шпион плашмя ухнулся на пол, забился в жилистых Володиных руках, стараясь дотянуться до отлетевшего в сторону пистолета. Превозмогая режущую боль в пояснице, Володя мертвой хваткой стиснул дергающиеся ноги. Он не видел, как вбежал в комнату Клюев и схватил мокшинский пистолет, как вслед за ним ворвался Стародубцев и с ходу обрушил на оскалившееся лицо Мокшина удар своего литого кулака. Когда Володя вновь обрел способность мыслить, все было кончено. Мокшин был связан по рукам и ногам, ему заткнули рот его же собственной рукавицей. Шпион лежал на полу с полузакрытыми глазами, и его бледное лицо было усеяно крупными каплями пота. — Что, серьезно он тебя? — участливо спросил Володю Клюев. Володя отвел взгляд от лица Мокшина, огляделся. Удивился, что лежит на сундуке. Рядом стояли Новгородский, Клюев и Стародубцев. У изголовья сидел отец. Володя постарался улыбнуться, стал ощупывать себя. Попробовал сесть. Утихшая было боль усилилась. Володя все понял. — Прямо по ране... рукояткой... — тихо сказал он. — Но серьезного, кажется, ничего нет. — Ложитесь. Надо осмотреть рану, — сказал Новгородский. — Ерунда. Зачем ложиться, — возразил Володя. — Стоя удобнее. — В госпитале ему было гораздо легче стоять и даже ходить, нежели сидеть. — Стоя так стоя, — согласился Новгородский. — Снимайте брюки. Володя подчинился. Все по очереди оглядели его рану. Вокруг розового рубца расползся большой желто-багровый синяк. Шов в нескольких местах лопнул, и из ранок мелкими каплями сочилась кровь. — Надо в госпиталь, — огорченно заключил Новгородский. — Да, — согласился Стародубцев. — Ерунда, — сказал Володя. — Это такая рана. Она у меня в госпитале тоже несколько раз плакать принималась. Йодом смазать, перевязать — больше ничего не надо. К утру все утихнет. — Ой ли? — усомнился Новгородский. — Точно! — бодро сказал Володя. — Все будет в порядке. — Он подумал о том, как в деревне расценят совпадение его неожиданной болезни с разоблачением Мокшина, и совсем весело заверил: — Не сомневайтесь, Юрий Александрович. — Ну, коль так... — неуверенно сказал Новгородский. Капитану очень хотелось поверить Огнищеву. — Тогда давай перевяжемся — и к делу, — решительно сказал Стародубцев, он не любил медлить. Володе обработали рану, туго перебинтовали. Потом занялись Мокшиным. Обыскали карманы, ощупали одежду, спеленали овчинным одеялом. Мокшин почти не реагировал на все эти манипуляции. По-прежнему лежал с полузакрытыми глазами, и только при прикосновениях Стародубцева слегка вздрагивал. На Володю он посмотрел всего раз, и в том взгляде ничего не было, кроме недоумения, подспудного страха и покорности судьбе. Когда овчинный куль понесли на подводу, Володя не выдержал, усмехнулся и легонько щелкнул по торчащему из-под нахлобученной шапки носу Мокшина. — Привет невесте! Мокшин дернул головой и собрал в прощальный взгляд всю злобу, на какую был еще способен. — Ишь ты, сволота! Клыки показывает, — усмехнулся Тихон Пантелеевич, наблюдавший за этой секундной сценкой. — На последнем-то порохе... Из вещей Мокшина Новгородский забрал только рюкзак и полушубок. Подумав, прихватил и ружье с патронташем. — А это снаряжение мое! — всполошился Тихон Пантелеевич. — Мое ружьишко. — Вам вернут его. Не беспокойтесь, — вежливо сказал Новгородский. — Так ружьишко-то при чем? — Тихону Пантелеевичу было жалко свой старый разболтанный дробовик. — С издетства оно у меня. Никуда без ведома хозяина из дому не уходило. — Так надо! — вмешался Володя. Старик непонимающе пожал плечами. Его любимое старое ружье хотели куда-то унести, и он не мог понять, кому и зачем это нужно. — Вы скажете, что квартирант ушел рано утром с вашим ружьем на охоту, — пояснил Новгородский. — Ах вот что! — Тихон Пантелеевич сразу все понял. — Тогда конечно. — Сын вам все объяснит, — улыбнулся Новгородский и попрощался. Тихон Пантелеевич проводил его. — А где мама? — спросил Володя, когда отец вернулся. — Отправил я ее, — сказал Тихон Пантелеевич. — Как учуял вечером, что дело керосином пахнет, так и спровадил до утра к Настасье. Баба болеет, Савелий на лесозаготовках, за ребятёшками приглядеть некому. — Это ты хорошо сделал, — одобрил Володя. — Догадливый ты у меня. Тихон Пантелеевич ничего не ответил. Стал наводить в комнате порядок. Володя лег вниз лицом на свой сундук и стал наблюдать за его неторопливыми движениями.
Утром в конторе Возняков спросил Володю: — А где Мокшин? — Бог его знает, — сонно ответил Володя. — Взял отцовское ружьишко и ушел раным-ранехонько. Я спал, не видел. Володе в самом деле хотелось спать. Короткий беспокойный сон не освежил его. Боль в пояснице немного утихла, но ходить, и особенно сидеть, было трудно. Сейчас он тайком приседал на больную ногу, стараясь определить, сможет ли дойти до участка пешком: на санях сильно трясет. В конторе было шумно. Толкались буровики первой смены, мастера, коновозчики. Шла утренняя раскомандировка. Вознякова обступили со всех сторон, и он сердитым голосом отдавал команды: кому и куда везти нефть, ящики, трубы, буровые коронки. Прибежала уборщица конторы тетя Даша — бойкая старушонка, — она же посыльная, она же заведующая складом горючего. — Нету Булгакова! — крикнула она Вознякову еще с порога. — С вечера не бывал. Как ушел, так и не был. — Самогонку на станции трескает! Где ему еще быть, — хохотнул кто-то из рабочих. Володя вышел на улицу. Было полвосьмого утра, а все еще стояла темень. Откуда-то сверху, из невидимых отяжелевших облаков, плавно кружась, падали на головы и спины людей крупные, мохнатые снежинки. Это темное утро после напряженной, тревожной ночи показалось Володе неправдоподобно мирным и тихим, несмотря на кипящую вокруг людскую суету. Он зевнул, блаженно потянулся, улыбнулся подошедшему Назару Осинцеву. — Все еще сердишься? — Еще чего! — хмыкнул тот. — Буду я обращать внимание на всяких обормотов. — И правильно делаешь, — сказал Володя. — Ты машиной или пешком? — спросил Назар. — Пешком. — Володя с сожалением посмотрел на полуторку, в кузов которой с веселым гамом садились буровики первой смены. В дорожной тряске могли еще раз случайно ударить по ране. — А то поедем со мной, — предложил Назар. — Я на булгаковской лошадке коронки да керновые ящики повезу. Могу прихватить. — Поедем. Вдруг шум во дворе смолк. Все разом перестали разговаривать, повернулись в сторону станции. Оттуда, со стороны невидимого леса, неслись необычные, заставлявшие поеживаться звуки. Будто хлопал кто-то огромным хлыстом в пустом, населенном заснеженными, сонными деревьями лесу. — Стреляют... — прошептал Назар и зачем-то начал считать: — Раз... два... три... четыре... пять... Стрельба смолкла. Потом на короткое время опять вспыхнула частая гулкая пальба, и все стихло. Люди постояли еще несколько минут в молчании, ожидая возобновления перестрелки, но в лесу было тихо, только с надрывом посвистывал на станции маневровый паровозик. Шофер крутнул заводную рукоятку, и полуторка зафыркала, захлюпала, разгоняя тревожную тишину. Толпа во дворе пришла в движение. — Что бы это значило? — Назар повернул к Володе курносое, круглое лицо и озадаченно почесал затылок. — А кто его знает. — Володя постарался не выдать внезапно охватившего его волнения. — Может, тренировка, может, воров ловят. — Тренировка... — Назар саркастически хмыкнул.— Хороша тренировка в такую темень! — Поживем — увидим, — неопределенно сказал Володя. Весь путь до участка он ломал голову: какую демонстрацию мог придумать Новгородский. Возникшая в предрассветной мгле перестрелка была частью запланированной акции — Володя в том не сомневался. Он смотрел на зачинающийся рассвет и гадал, что делают сейчас его товарищи в пробудившемся станционном поселке, от которого все дальше и дальше увозил его заезженный, хромоногий мерин. А в станционном поселке в это время действительно царил переполох. Свободные от работы жители сбежались к окраине селения и с тревогой наблюдали за необычным для глухой таежной станции шествием. Из лесу выкатили три подводы, их сопровождали люди в военных полушубках. В мутной синеве мерклого зимнего рассвета лица разглядеть было трудно, но двух из этих людей старожилы узнали. То были начальник районного отделения милиции Сажин и недавно появившийся в районе человек с хмурым волевым лицом — следователь уголовного розыска, фамилию которого никто в поселке не знал. Встревоженные недавней пальбой, люди напряженно вглядывались в мрачный кортеж, опасливо жались к заборам, к воротам домов. На санях, закинутые мешковиной, лежали неподвижные человеческие тела. Кто-то заметил торчащий из-под мешковины валенок, кто-то полу черного полушубка, а на последней пароконной подводе, совсем не прикрытой, валялась кожаная каракулевая шапка. Многие сразу узнали ее. Такую шапку носил один человек в поселке — путевой рабочий, а потом весовщик станции, человек слоновьей комплекции со странной фамилией — Куница. С улицы в улицу, со двора во двор пополз пущенный кем-то слух: «Чекисты трех шпионов застукали!» Многим не верилось: «На кой леший сдалась шпионам наша глушь?» Но новые слухи наползали один на другой. «Геолога убили. Работу партии хотели сорвать». Люди верили и не верили, мрачно шутили, но всем было ясно: произошло что-то серьезное, внесенное в жизнь тревожным военным временем. А невеселая процессия тем временем продолжала свой путь. Подводы свернули к лесозаводу и одна за другой скрылись за воротами обширной куницынской усадьбы. К высокому дощатому забору никого из любопытных не допустили. Подводы пробыли во дворе недолго. Вскоре лошади, таща разгруженные сани, снова вынеслись на улицу. Две из них люди в военных полушубках передали конюхам из зареченского колхоза, а на третьей милицейской подводе спешно уехал к вокзалу Сажин. На окраине поселка осталось уже совсем немного людей — рабочие лесозавода приступили к работе, — когда из района пришел темно-зеленый грузовик-фургон. Он рыча вполз в куницынский двор. Молчаливые военные люди опечатали все окна, двери зловещей усадьбы, сели в грузовик и умчались в сторону Медведёвки. Судача всякий на свой лад, жители разошлись по домам. В кабинете начальника станции Хребет произошел любопытный разговор. Сажин зашел сюда, чтобы позвонить в Медведёвку. Начальник станции Нестор Прохорович Нестягин, кум Тихона Огнищева и старинный приятель самого Сажина, нетерпеливо ерзал на стуле, ожидая, когда начальник милиции кончит говорить. Наконец тот положил телефонную трубку. Нестягин, худой, темнолицый, сутуловатый старичок, сразу вынырнул из-за своего стола и взял Сажина под руку. — Скажи, Порфирий, — косясь на дверь, зашептал он. — Что там произошло? Что за пальба? — А тебе что? — Да так... Но все-таки... Ведь все слышали! — Что, здорово слышно было? — удивился Сажин. — Ха! Весь поселок на ноги подняли. — М-да... — Сажин озадаченно почесал вислый, подмороженный нос. — Ведь все слышали, — продолжал шептать Нестягин. — И видели... Думаешь, я не знаю, кто эти — в полушубках... Чекисты! — Хм... — Кого это вы? — Я тут ни при чем. — Ну, они! — Нестягин даже переступил от нетерпения. — А тебе что за дело до этого? — спросил Сажин. — Как что! Ведь у нас это произошло! Куница-то мой работник! — Работник... — Сажин устало усмехнулся. — Ротозей ты хороший. — Ничего подобного! Я давно чувствовал, что Куница не чистый человек. — Конечно! Недаром ты его из путевых рабочих в весовщики произвел. Нестягин смутился, но быстро нашелся: — Ничего ты не понимаешь. Весовщик — что? Ерунда. А путевое хозяйство — дело ответственное. Тут глаз да глаз нужен. Потому что движение. Грузы транзитом на фронт идут! — Пожалуй, — неохотно согласился Сажин. — Слушай, Порфирий, — Нестягин приподнялся на цыпочках, стараясь говорить прямо в ухо приятелю. — Скажи, что там стряслось? Сажин промолчал. — Ага! Боишься, что разболтаю, да? — А что, ты можешь. — Эх ты! А еще друг, — обиделся Нестягин. — Еще вместе в гражданскую воевали... — Ох и прилипчивый ты, Нестор, — вздохнул Сажин. — Ну скажи, Порфирий. По-дружески прошу. Сколько их взяли? — Ни одного. — Так как же так! — изумился Нестягин. — А на подводах-то... — Ихний главный двоих своих помощничков прихлопнул. Следы хотел замести... — Ну? — А как сам в кольцо попал, то и себе пулю в лоб пустил. — Вот сволочь! Как же это они допустили! — огорчился Нестягин. — Так уж вышло, — снова вздохнул Сажин. — Человек предполагает, а бог располагает. — И что же... Нашли у них что-нибудь? — Чего нашли? — Ну, документы там... радиостанцию или взрывчатку... — Какую там взрывчатку, — усмехнулся Сажин. — Все уничтожили. Все бумажки сжечь успели, гады... — Скажи, пожалуйста! — опять огорчился Нестягин. — Ты только того, Нестор. Не особенно... — предупредил Сажин. — Конечно, хотя многие все видели и слышали... но не особенно распространяйся. — Что ты, Порфирий! Я ж не маленький! — Ну-ну... — Сажин простился и заспешил из кабинета. Он в точности выполнил просьбу Новгородского. Нестор Нестягин был своим человеком — Сажин это знал. Но знал и другое. Нестор и в молодости был любителем пустить пыль в глаза, а под старость язык у простодушного работяги-железнодорожника совсем подхудился. Любил Нестор хвастануть. Порфирий Николаевич не сомневался, что через день-два его приятель не выдержит и под «большим секретом» похвалится перед кем-нибудь своей осведомленностью. Скорей всего перед женой. Супруга Нестора Прохоровича — баба въедливая. Уж кто-кто, а она вывернет муженька наизнанку, если почувствует, что тот что-то знает. А в том Сажин был уверен. Почувствует, учует. Осведомленность будет распирать Нестора. Тем более что о происшедших событиях знают и будут говорить все. К тому же он, Сажин, не настаивал на строжайшем соблюдении тайны. Нестор воспользуется этой лазейкой.
15. БОКСИТ!
Вечером Володя перетащил несколько ящиков с керном, и боль сразу усилилась. С трудом сдерживаясь, чтобы не стонать, он внимательно следил за действиями буровой бригады. Только что был сделан подъем, из мокрой колонковой трубы, на конец которой была навернута ощетинившаяся резцами буровая коронка, рабочие выбили длинные цилиндрические столбики выбуренной породы — керна. В самом нижнем столбце, поднятом с забоя, Володя увидел то, ради чего сидел здесь весь день, превозмогая нарастающую боль. В светло-сером плотном известняке тут и там краснели желваки темно-вишневого диаспорового боксита. — Брекчия! — обрадованно зашумел Осинцев. — Брекчия! Как и в той скважине. Через двадцать — тридцать сантиметров пойдет чистый боксит! Да, это была брекчия — сцементированная временем и давлением смесь двух различных пород, когда-то раздробленных подвижками земной коры. Будто в гигантской ступе, крепчайшие породы были разбиты на мелкие и крупные куски, перемешаны, а потом спрессованы под сверхмощным прессом. Буровая коронка выпилила изящный столбик этой пестроцветной смеси, он вошел в трубу, был оторван от забоя и поднят наверх. Володя с волнением осмотрел образец: — Да. Это брекчия. Теперь будем бурить всухую. Буровики заботливо уложили поднятый керн в ящики, отключили насос и стали производить новый спуск. Бурить по руде всухую приказал Возняков. Он боялся, что в боксите могут оказаться мягкие прослойки, которые размоет промывочная жидкость. Володя был согласен с ним. Получить достоверное представление о структуре и составе рудного тела было крайне необходимо. Рабочие же не знали этого. Но они верили Вознякову и потому без возражений подчинились приказу. Без воды, закачиваемой в скважину через пустотелый снаряд, бурить гораздо труднее. Шлам — мука разрушенной при бурении породы — не вымывался из-под коронки и потому буровикам приходилось то и дело прокачивать снаряд рычагом. Уже стало смеркаться, когда сделали очередной подъем. Осинцев и Володя с волнением следили, как медленно, столб за столбом, выползал из узкого горла скважины буровой снаряд. Вот наконец показалась толстая колонковая труба. Как только наверх вынырнула лоснящаяся, полустершаяся коронка, Назар ловко закрыл скважину специальным фланцем. Рабочие оттянули колонковую трубу от станка и, поддерживая тросом на весу, стали бить по ее блестящим бокам деревянными молотками. «Дон-дон-дон... — гремело и перекатывалось по вышке. — Дон-дон». Володя смотрел, как из трубы по съеденным зубьям коронки капля за каплей стекали красноватые струйки воды, и для него уже не существовало ничего на свете. Все выключилось. Не было ни грохота движка, ни отрывистых команд Осинцева, ни боли. Были только торжественные «дон-дон», струйки воды и изъеденная пасть коронки. И вот случилось. При очередном ударе из трубы выпал сначала небольшой кусок, а вслед за ним выскользнул и уперся в пол тяжелый темно-вишневый столбик породы, при виде которого у Володи сразу отчего-то пересохло во рту. — Боксит! — хрипло сказал он, а потом сердито крикнул: — Ящики! В такой команде нужды не было. Предусмотрительный Назар уже давно распорядился об этом. Буровики один за другим подбирали выползающие из колонковой трубы длинные, похожие на снаряды цилиндрики боксита, обмывали их теплой водой и в строгом порядке выкладывали змейкой на полу вышки. Когда выполз последний кусок, тридцатисантиметровый пропласток пестрой брекчии, Володя на всякий случай заглянул в колонковую и постучал по ней. Она отозвалась нежным пустым звоном. То же самое сделал Осинцев. Убедившись, что в трубе не осталось ни одного кусочка породы, буровики стали менять коронку. Володя забыл о боли. Он описал поднятый керн, бережно уложил его в ящики. Делал это неторопливо, тщательно, так, как его учил с детства делать любое дело отец. Буровики успели за это время сменить коронку, совершили очередной спуск и снова начали бурить. В полночь на вышку приехал Возняков. Он был утомлен, грязен, но в то же время очень весел. — Ну, как тут у вас? — перекрывая грохот двигателя и станка, зычно заорал он, едва успев ввалиться в тепляк. — Есть боксит? — Есть! — поддаваясь настроению начальника, без всякой на то нужды закричал Володя. — Почти десять метров диаспорового да полметра серого. — Подстилающие известняки вскрыли? — Чуть-чуть. Еще раз спустились, чтобы вскрыть основательнее. — Правильно, — одобрил Возняков. — Бурить до утра. Первые скважины должны дать нам полное представление о подстилающих породах. А с утра контрольный замер, демонтаж и перевозка. — Он повернулся к Осинцеву: — Ясно? — Ясно, — сказал Назар. — Ну, а у Ушакова как? — нетерпеливо спросил Володя. — У Ушакова? У Ушакова, батенька мой, еще чище. Четырнадцать с половиной метров! — Возняков затряс над головой масластыми кулаками. — Четырнадцать с половиной! Диаспорового! И это в двух километрах отсюда. Вы представляете, какое месторождение мы вскрыли?! Назар только быстро передвинул шапку на голове, а Володя свистнул. — Во-во! Свистите! Общеголяли мы вас с Ушаковым! — захохотал Возняков. Он был безгранично счастлив и не умел того скрыть. — Теперь вашему участку тягаться да тягаться за ним. — Везет Мокшину, — завистливо вздохнул Назар. — Опять скажет, что где он — там удача. Возняков передернулся, будто ему плеснули кипятку за ворот, и вышел из тепляка. Володя с Назаром переглянулись, последовали за ним. — Вот что, Осинцев, — срывающимся от внутренней злобы голосом сказал начальник. — Ты при мне впредь имени этого негодяя не называй. Понял? А то я не знаю, что могу сделать... — Да что вы, Олег Александрович! — опешил Назар. — Вот так. Запомни. Этого фашистского гада и его сподручных сегодня утром ликвидировали чекисты. Жаль живьем не взяли... Я б ему... за все... за Николашина... Володя в который уже раз удивлялся начальнику. Он никогда не подозревал, что этот простодушный, вспыльчивый добряк способен на такую лютую, всепоглощающую ненависть. Назар настолько оторопел, что вопреки своим правилам ничего не произнес. — А вам обоим завтра ехать в Сосногорск, — все еще продолжая волноваться, сказал Возняков. — Утром отберем пробы, погрузим на полуторку — и с ходу в химлабораторию управления. Ни часа тянуть не будем. — Так у меня же завтра демонтаж и перевозка, — напомнил Назар. — Ерунда. Я сам прослежу за перевозкой, — отмахнулся Возняков. — А вам в город! За пробы головой отвечаете! Нигде никаких остановок. Образцы завтра же должны быть в лаборатории. Понятно? — Понятно. — Вот так. В управлении получите по доверенности кое-какие материалы — и сразу назад. Машина в партии нужна позарез.Утром у Володи открылось сильное кровотечение. Незадолго до этого он неловко поскользнулся и ударился бедром о ящики с образцами. Пришлось обратиться за помощью к отцу. Тихон Пантелеевич туго перевязал рану и, поглядывая в окно на стоящую у ворот полуторку, незнакомым, неуверенным голосом спросил: — Доедешь ли, сынок? — Доеду, тятя. — Володю тронуло волнение, которого отец не смог скрыть, и неожиданно для себя он назвал отца, как в детстве, тятей. — Смотри, Вовка, — вздохнул Тихон Пантелеевич. Сдается мне, что не на машине тебе сейчас трястись, а в постель ложиться надо. — Нельзя мне в постель. Сам знаешь... Ничего, до Сосногорска дотяну, а там в госпитале покажусь, — пообещал Володя. Он лежал лицом вниз на сундуке и даже прикрыл глаза от боли, раздирающей все тело. — Покажись! Обязательно покажись. А то знаешь... — Знаю, — сказал Володя. — Все знаю. Ружьишко-то вернули? — Вернули. Как обыск вчера приехали делать, так и привезли. — Все у него забрали? — Володе не хотелось называть имени квартиранта. — Все. Сволочь. За кроватью под половицей тайник держал. — И что там было? — А бог его знает. По-моему, он заранее все в рюкзак сложил. Сажин сказывал только, что в какой-то банке цельная химлаборатория была. Я не видел. На работе был. — В деревне что говорят? — Всякое. Что надо, то и бают. Говорят, что наш квартирант своих прихлебателей хлопнул, а потом и сам себя решил. Даже свидетели объявились. Как же на деревне без этого! — Тихон Пантелеевич нервно хохотнул, с тревогой покосился на лежавшего сына. — Что-то на сердце у меня неспокойно. Не нравится мне твоя болячка. Впрямь доедешь? — Доеду, — уверил Володя. В дом вошли Возняков и Осинцев. Оба веселые, громогласные. Как ни больно было Володе, пришлось вставать и тащиться на кухню. На этот раз он не смог скрыть хромоту, и Возняков спросил: — Ты что это еле шевелишься? — Пустяки, — махнул рукой Володя. — Вчера ящички потаскал да ушибся сегодня, вот и побаливает с непривычки. Поездка как раз кстати. Покажусь на всякий случай в госпитале. — Обязательно покажись, — согласился Возняков. — И садись в кабину. — Ладно. — Ну, на дорогу надо выпить! — объявил Возняков и выставил на стол бутылку с уже знакомой Володе жидкостью. — Путь неблизкий, а мороз на улице. Да и за наш успех. За будущий рудник! Как, стоит? — Стоит, — охотно поддакнул Назар. — Чур, мне побольше. Как верховому. Все же в кузове ехать. Возняков стал разливать спирт по стаканам. От радостного волнения у него подрагивали руки, и бутылка дробно постукивала горлышком по стаканам. — Э-э... так и разлить добро недолго, — пожадничал Тихон Пантелеевич и потянулся к бутылке. Возняков охотно отдал ее. — Не могу, — счастливо улыбаясь, признался он. — Не могу. Волнуюсь. Пробы отправляем. Да сразу с двух участков. Здорово! Да? — Здорово, — согласился Тихон Пантелеевич. — Теперь все ясно, — продолжал блаженно улыбаться Возняков. — Теперь месторождение у нас в руках. Одного только до сих пор не понимаю — как диаспоровый боксит попал в реку. — Это красный-то? — спросил Тихон Пантелеевич. — Ну да. — А чего тут неясного, — хмыкнул старик, — с обвалом. — Каким обвалом? — Скалы у реки, что возле ручья, видели? — Видал. Даже осматривал. — Так вот, те скалы раньше аж над самой рекой нависали. Их Волчьими клыками называли. Высоченные, крутые. Не то что ныне, с гулькин нос... — Ну и что? — нетерпеливо спросил Возняков. — Как что... — Тихон Пантелеевич степенно, с достоинством погладил тяжелый подбородок. — Когда мы Колчака из Заречья гнали, так каппелевцы на тех скалах пулеметы поставили. Ну, никак к селу не подойдешь. Хоть слева, хоть справа. Мы за рекой были... — Но что случилось со скалами? — опять перебил Возняков. — Что-что... — рассердился Тихон Пантелеевич. Он любил рассказывать о гражданской войне подробно, неторопливо. — Надоели нам эти пулеметы, мы и шарахнули по Волчьим клыкам из шестидюймовок. Цельная батарея беглым огнем. — Ну? — Вот и все. Через десяток минут эти самые клыки и обрушились в реку, вместе с колчаковцами. Село, стало быть, к вечеру освободили. — Ну а скалы? — Скалы... — Тихон Пантелеевич вспомнил о начале разговора. — Скалы чудные оказались. Особо средний клык. Широкий такой утес был. Я в бинокль как раз смотрел и, помню, сам удивился. Камень кругом серый, а пыль при обвале оказалась краснехонькой. Потом разглядел хорошенько, когда дома очутился. Поперек того места, откуда утес отвалился, красного камня пласт ну шириной метра в три был... — Мы ведь там все оползали! — удивился Возняков. — И никакого красного пласта в обнажениях не обнаружили. — Так как его увидишь, — усмехнулся Тихон Пантелеевич. — Завалило его. В тот же год. Вся щебенка, что наверху была, а то и целые глыбы потом тоже вниз сползли. Дожди, помнится, сильные были. Я по ранению в селе задержался. Так, почитай, каждый день на этих Волчьих клыках грохотало. Все оползни да обвалы были. Бабы ребятишек туда не пускали. Боялись. — А где же завал в реке? — спросил Возняков. — Разобрали. Сразу после гражданской. Всю щебенку и глыбы разобрали. Хороший бутовый камень был. Я тоже для кузницы материал там брал. Помню, красные камни попадались. Мы их не брали, выбрасывали. Потому порода незнакомая, ненадежная... — И не могли вы обо всем этом раньше рассказать, — протяжно вздохнул Возняков. — Мы бы... — А меня никто не спрашивал, — насупился Тихон Пантелеевич. — Вы ведь ученые. У вас свои дела. Вы с нами о них не говорите... — Вот чертовщина! Действительно, надо было получше опросить всех старожилов... — огорчился Возняков. — А мы побеседовали с несколькими стариками — и все. Сказали, что красного камня нигде не видели, мы и махнули рукой... — В гражданскую войну мужиков в селе, почитай, совсем не было. Все в лесу. А тех, что оставались, беляки порешили, — сердито сказал Тихон Пантелеевич. — Батю моего тоже... Да и вообще народу в селе мало было. Партизанское гнездо. Семьи у многих по соседним деревням хоронились. Уж после двадцатого года возвращаться стали... — М-да... Все равно, прозевали мы тут, — махнул рукой Возняков. — Да и я, дуралей, додумался поручить повторный сбор сведений у населения Мокшину... — Он помолчал, потом сказал Володе: — Теперь я все понимаю. Все! — Возняков схватил широкий кухонный нож, постучал ногтем по лезвию. — Вот. Видели? То рудное тело. Представьте себе, что линия разлома пришлась как раз на кончик ножа. Маленький осколочек месторождения попал за зону сброса и дал о себе знать обломками в реке. Все просто. А мы тыкались вокруг этого осколочка и, естественно, никак не могли его нащупать. Летом мы обязательно обследуем выход пласта. Вы покажете нам, Тихон Пантелеевич, то место? — Не трудно. — Пора ехать, — напомнил Назар Осинцев. — Да-да, — спохватился Возняков. — Пора, давайте выпьем. Счастливой дороги. Счастливых анализов! Все чокнулись, выпили. Похрустывая ядреным соленым огурцом, Володя рассеянно глядел в окно. И вдруг вздрогнул от неожиданности. По противоположной стороне улицы шла Надя. Она была, как всегда, в полушубке, розовощекая. Надя несколько раз оглянулась на стоявшую у ворот полуторку, замедлила шаги. — Чего это ты там узрел? — заметил Володино оцепенение Назар. — Да так. Назар глянул в окно. — А! Мокшина нет, а следователи все еще что-то ищут, — сказал он Вознякову. — Уж не вас ли? — Нет, — беззаботно отмахнулся тот. — Нас они теперь оставили в покое. Занимаются своими прямыми обязанностями. Кто-то с лесозавода пиломатериалы ворует, так опрашивают в селе всех застройщиков. Выявляют, у кого покупали доски. — А я думал, что-нибудь этакое... — Назар покрутил пятерней перед носом. — На Володьку посмотреть, так он вроде бы жар-птицу увидел. Володя поспешил отвернуться от окна. — Ну, пора в путь! — скомандовал Возняков. — Удачи вам. Зайдешь, Осинцев, к моим, скажешь, что я скоро приеду. — Когда? — Скажи, что скоро, — вздохнул Возняков. — Может быть, в этом месяце... — Ладно. Совру. Но это в последний раз. — Ну что ты, Назар! Ей-богу же, поеду... Выйдя из ворот, Володя опять увидел Надю. Она стояла возле одного из домов и внимательно разглядывала новую тесовую крышу. Володе показалось, что делает это она без всякого интереса, просто так, а на самом деле ждет, когда он подойдет к ней. Расстояние было невелико, но Володя сразу понял, что проковылять эти двести — триста метров заснеженной дороги ему сейчас не по силам. Перетянутая тугой повязкой рана горела и ныла, от нее растекалась по всему позвоночнику и правой ноге острая, рвущая боль. Придерживаясь за борт грузовика, он помахал Наде. Она не ответила, только склонила голову, издали разглядывая Володю. «Подумаешь, царевна Несмеяна... — обиделся Володя. — Их величество не желают здороваться!» Он сердито рванул дверцу и, стиснув зубы, чтобы не застонать, неуклюже полез в кабину. Когда полуторка тронулась, Володя не удержался, снова помахал Наде. На этот раз девушка вскинула руку над головой. Володя вымученно улыбнулся ей сквозь автомобильное стекло и крикнул: — Мы в Сосногорск! Надя ничего не услышала. Она посмотрела на Володю сердитым, недоумевающим взглядом и исчезла из поля зрения. Шофер дал газ, грузовик лихо рванулся вперед, оставил где-то позади стоявшую на краю дороги девушку. Кабину сильно затрясло, и у Володи потемнело в глазах. Путь до Сосногорска показался ему бесконечно долгим. За время пути он несколько раз терял сознание и, обретая его вновь, каждый раз удивлялся, что не вышиб головой лобовое стекло. В отяжелевшем сознании все перемешалось: и действительное, и прошлое. То он начинал опасливо коситься на хмурое небо, ожидая очередного налета немецких самолетов, а то вдруг начинало казаться, что все происшедшее с ним в последнее время: Новгородский, Надя, Мокшин, вскрытие пласта боксита — это не реальность, а события и люди из долгого, беспокойного сна, что ничего и никого фактически не было — продолжается та самая бесконечная осенняя дорога от Ливен до Ельца, по которой везет раненого лейтенанта Огнищева тряская армейская «санитарка». Шофер полуторки в конце концов заметил состояние Володи и с сожалением сбавил скорость. — Болит? Поедем потише... — Не надо тише. Жми, — глухо сказал Володя. — Теперь все равно. — Ему было действительно все равно. Любой толчок, хоть слабый, хоть сильный, причинял одинаковую боль. Шофер внимательно посмотрел на побелевшее, усыпанное росинками пота лицо Володи и изо всей силы нажал педаль акселератора. Разгружать пробы в лаборатории Володя уже не смог. С этим делом Назар управился один. Поглядев на Володю, он сразу все понял и без обычных словоизлияний полез в кузов за ящиками с образцами. Шофер помог ему. В лаборатории Назар пробыл недолго. Через четверть часа он уже вынырнул из-за широкой застекленной двери и крикнул шоферу: — В госпиталь! — Отставить, — тихо сказал Володя. — Нам же надо в управление... — Какое к черту управление! — взорвался Назар. — Ты на себя посмотри. На тебе же лица нет! — Теперь все равно... — Володя попытался улыбнуться. — Теперь все равно. Часом позже, часом раньше — один ответ... Растрясло меня. А ты успеешь в техснабе все материалы выписать. Значит, завтрашний день выгадаете. Погрузитесь с утра — и домой. Чуешь? — Ты что, ошалел, что ли? — поразился Назар. — Погляди-ка... У тебя штанина от крови промокла, а ты... — Поехали в управление! — сердито скомандовал Володя и с треском захлопнул дверцу. Шофер только покачал головой. Но в управление они все же не успели. Рабочий день кончился. Из парадных дверей пятиэтажного, полукруглого здания группками и в одиночку выходили люди. Назар суетливо пометался у входа и огорченно махнул рукой. — Говорил же... — плачущим голосом сказал он Володе. — Впустую гнали через весь город. В это время Назара кто-то узнал. Тотчас к ним подошли еще несколько человек. Все они по-приятельски здоровались с Осинцевым, и Володя невольно позавидовал своему шумливому товарищу. Оказывается, в управлении Осинцева знали многие. Вскоре, однако, вокруг Назара собралась такая большая толпа, что Володя стал недоумевать. Что-то не похоже было, чтобы все эти жадно слушающие говорливого буровика люди были его приятелями. Володя прислушался и все понял. Узнав, что маленький курносый паренек только что приехал из зареченской партии, сотрудники управления хотели убедиться в достоверности слухов о событиях, происшедших там. «Эге! Кажется, здесь уже все знают», — отметил про себя Володя и не стал торопить польщенного вниманием толпы Назара. — Точно! — вдохновенно говорил Назар. — Сам видел. Всех троих мертвыми везли. Весь поселок видел. Этот подлюга Мокшин своих холуев прикокал, а как сам в капкан попал, то и себе пулю в лоб пустил. Самым удивительным было то, что никто не усомнился в словах Осинцева. Люди были серьезны, ни на одном из лиц Володя не увидел и тени недоверия. Володя обратил внимание на высокого, полного мужчину, одетого в поношенное кожаное пальто. Тот стоял в стороне, спиной к рассказчику, будто ему не было до него дела, но смуглое крупное лицо его тоже было полно напряженного внимания. «Ишь ты! — подумал Володя. — Любопытный, а солидности терять не хочет. Вроде бы его и не касается». Володя хотел окликнуть Назара, но в это время мужчина в кожаном пальто подошел к машине. — Скажите, — вежливо спросил он шофера, — а сам Возняков цел? — Что ему сделается! — удивился тот. — Да ведь такие страсти рассказывают... — приятно улыбнулся незнакомец. — Прямо не верится. Говорят, чуть ли не канонада настоящая была... — Никакой канонады не было, — сухо сказал шофер. — Просто стрельнули несколько раз — и все дела. — А товарищ ваш вон рассказывает такое, что дух захватывает. — Слушайте вы его больше! — буркнул шофер. — Что, преувеличивает? Я так и думал, — снова улыбнулся незнакомец и снисходительно посмотрел на разглагольствующего Назара. — Молодость! Ничего не попишешь... Ей только подай что-нибудь необычное... Хотя все мы такими были. — Как раз необычного ничего и нет. Война! — неохотно откликнулся шофер, человек в кожаном пальто ему явно не нравился. — Там больше гибнет. — Да-да, — поспешно согласился незнакомец. — Конечно. Но то там, а то здесь. Что, и вправду троих убили? — Правда. — И за что? — А бог их знает. Шпионы, говорят. — Что, у них радиостанция была, оружие? — Откуда я знаю, — рассердился шофер. — Ничего, говорят, у них не нашли. Все, гады, успели уничтожить. И вообще... Здесь не справочное бюро. Пойдите куда следует и узнайте, что вам требуется... В свете электрических фонарей красивое лицо незнакомца удивленно вытянулось, он сразу отошел от машины. — Ходят тут всякие, — проворчал шофер, — сплетни собирают. Тыловые крысы! — И заорал, встав на подножку: — Эй, Осинцев, поехали! Назар, как подстегнутый, вылетел из толпы. Полуторка тронулась. Ее затрясло на разбитой булыжной мостовой, и у Володи снова потемнело в глазах. Когда он увидел освещенные окна большого знакомого здания госпиталя, силы окончательно оставили его. Он не сдержался и застонал. Впервые за всю дорогу.
16. СНОВА БУДНИ
В госпитале Володя пролежал более двух месяцев. Именно пролежал, так как после повторной операции его снова загипсовали и надолго уложили в постель. В поврежденной осколком тазовой кости оказалась большая трещина. Снова очутиться на узкой, жесткой госпитальной койке было неприятно, но делать было нечего — пришлось смириться. Правда, скучать не приходилось. То и дело кто-нибудь навещал. Два дня подряд приходил Новгородский, но серьезного, делового разговора так и не получилось. Все время кто-нибудь мешал. Здание было до отказа набито людьми. Не было ни одного свободного уголка, где бы не стояли белые госпитальные койки, не суетились утомленные женщины в измятых халатах. Но Новгородский, казалось, и не искал встречи с глазу на глаз. Он привычно улыбался, справлялся о здоровье и ничего не говорил о деле. По веселым репликам капитана Володя догадывался, что операция завершена удачно. В последний раз, прощаясь с Новгородским, он сказал: — Ну, пожелаю вам удачи, Юрий Александрович. Если в чем напортачил, то не сердитесь. На фронте постараюсь исправиться. — Вы уверены, что вас признают годным к строевой? — А как же! — Володя бодро потряс правой ногой. — Профессор вчера сказал, что из меня получится не только добрый солдат, но даже классный футболист. — Вот как! Это хорошо, — широко заулыбался Новгородский. — Думаю, что не обойдете нас после выписки, — сказал он, прощаясь. — Зайдете поговорить? — Не знаю. — Володя пожал плечами. — Смотря как сложатся обстоятельства. Могут сразу отправить в запасной полк, а то еще куда-нибудь. Лучше всего, если попаду в команду, отправляющуюся в действующую армию. Терпеть не могу тыловой канители. — В свой полк уже потеряли надежду вернуться? — Да нет. Написал ребятам, — признался Володя. — Да только ответа что-то нет. Из-под Тулы последний раз писали. Сами понимаете. — Понимаю, — сказал Новгородский.Улыбающееся лицо Новгородского обмануло Володю. На самом деле настроение у капитана было скверное. Утром его вызвал к себе полковник Костенко и сказал столько неприятных слов, что Новгородскому стало не по себе. Главная неприятность заключалась в том, что полковник действительно оказался прав, и оправдываться капитану было нечем. А все из-за Задориной. Новгородский в самом деле счел ее сообщение о Попове не заслуживающим внимания. Почему так случилось — капитан сам толком не понимал. Наверное, потому, что мысли его тогда были заняты предстоящей операцией. На оперативном совещании у полковника, где была проанализирована успешно проведенная первая часть задания, Новгородский все же доложил о подозрениях Задориной. Доложил не потому, что разделял их, а потому что было положено докладывать обо всем. Участники совещания разделили точку зрения капитана — отнеслись к предположениям молодого следователя довольно скептически. Даже сам Костенко нашел доводы девушки легковесными. Тем не менее полковник почему-то насторожился и приказал Новгородскому собрать о Попове все необходимые сведения в тресте «Сосногорсклес», откуда механик был командирован на Хребетский лесозавод. Капитан в ближайшие дни выполнил это приказание. В личном деле Попова ничего внушающего подозрение не оказалось. Закончил машиностроительный техникум по специальности механика. С 1932 по 1940 год работал механиком, а потом главным механиком леспромхоза в Витебской области. После освобождения Красной Армией западных районов Белоруссии был направлен на работу в Белостокский леспромхоз. Вот и весь послужной список. К началу войны находился в командировке в Сосногорске. Приезжал принимать пилорамы для своего леспромхоза. В Белосток, поскольку город оказался захваченным немцами в первые же дни войны, вернуться не пришлось. Остался работать в тресте «Сосногорсклес». О семье, проживавшей в Белостоке, сведений не имеет. Новгородский выяснил, что центральные органы лесной промышленности действительно направляли специалистов в освобожденные районы Белоруссии, и на том ограничился. Представил собранные сведения и фотографию Попова полковнику. — И это все? — спросил тогда полковник. — Да, — сказал Новгородский, он подготовил план завершающего этапа операции и потому желал скорее начать доклад по основному вопросу. — Ничего криминального в биографии Попова не вижу. Зачем же растрачивать время на пустяки? У нас под носом сидят Лебедевы — вот главная задача. — Хм... — Костенко сердито полистал документы, долго смотрел на фотографию. — Что-то не нравится мне ваша спешка с заключениями, капитан. Вам не кажется странным совпадение: Куница появляется к вам из Минска, Попов из Белостока... Как? — Чего же тут общего, товарищ полковник? Куница отъявленный враг. Кулак, белогвардеец, террорист и, в конце концов, фашистский агент... Человек, как говорится, с личным делом... Подонок. А тут... Я собрал все, что можно собрать. — Что-то уж слишком вы молитесь на эти бумажки. — Костенко продолжал хмуриться. — Не нравится мне ваше отношение к этому делу. — Что ж, если считаете необходимым, я могу собрать дополнительные сведения. — Новгородский покраснел от досады. — Только не хочется морочить себе и людям голову, как из-за того же Осинцева... Полковник помолчал, поглаживая бритую шишковатую голову. Потом что-то решил, сунул документы и фотографию Попова под цоколь настольной лампы. — Ладно. Раз вы так настроены, то дополнительные сведения о Попове придется собрать кому-нибудь другому. — Товарищ полковник! Я... — Все! — Костенко решительно прихлопнул кулаком по столу. — Вы пока от этого дела отстраняетесь. Ваши предубеждения могут только повредить. Решено. Докладывайте о втором этапе операции. Его резкий, хрипловатый голос разом остудил Новгородского. Прошло более двух недель. Новгородский был занят текущими делами. Первый этап операции был проведен успешно, Лебедева не вспугнули. Поэтому капитан пребывал в хорошем расположении духа. Все складывалось как нельзя лучше. Но сегодня утром полковник вдруг возобновил неприятный разговор. — Так что вы все же думаете о Попове? — спросил он, выслушав очередной доклад капитана. Новгородский недоуменно пожал плечами. — Плохо! — Костенко вышел из-за стола, сел на диван. Пригласил капитана. Новгородский напрягся. Полковник всегда делал так — приглашал побеседовать «рядышком», если собирался высказать собеседнику особенно жесткие слова. — Ну, так что вы скажете о Попове, капитан? — повторил вопрос Костенко, когда Новгородский сел рядом. — Я уже говорил вам... — неуверенно произнес Новгородский, понимая, что полковник сейчас сообщит нечто очень важное. — Так-с... — Костенко сердито прищурил цыгановатые глаза, поджал блеклые губы. — Значит, на старых позициях... А напрасно. Новгородский промолчал. — Выходит, рано я уверовал в ваши способности, — вздохнул полковник. — Рано... Попов-то ведь того... Крупной птичкой оказался. — Как так? — А так, молодой человек! — Лицо Костенко стало злым. Он резко пристукнул ладонью по худому колену. В Москве нашлась другая фотография этого субчика. В картотеке Главного управления он числится как крупный агент немецко-фашистской разведки. Новгородский нервно двинулся на диване. — Так-то, Юрий Александрович. Этот Попов, а ранее Бормат, а еще ранее Шинкаренко, уже дважды сумел ускользнуть от возмездия. Первый раз в тридцать седьмом году, когда орудовал в одном из авиационных конструкторских бюро, а второй раз перед самой войной, когда вел разведывательную работу в Белорусском Особом военном округе. Ловок. Умеет вовремя прятать концы. — Полковник сделал скупой жест кистью руки. — Из Москвы просили передать, что благодарят вас за выявление столь опасного преступника. Новгородскому стало не по себе. Столько горькой иронии было в этом жесте и словах полковника. — Чего молчите? — повысил голос Костенко. — Или вам нечего сказать? — Нечего, товарищ полковник. — Знаю, что нечего. — Полковник дал волю кипевшему в нем раздражению. — Черт знает что... Не ожидал от вас такой легковесности, капитан! Молодой растущий работник! Мы радуемся, старые дураки, а вы... Какой к черту вы контрразведчик! А если бы Попов во время захвата группы Мокшина находился дома, в Хребте? Ведь был бы полнейший провал! Не может быть, чтобы столь опытный агент не усмотрел в вашем маскараде на станции что-нибудь неестественное, показное. Непосвященные жители не заметили, а он усмотрел бы, увидел. — Полковник рубанул ладонью воздух. — И тогда все полетело бы в тартарары. Ищи-свищи и Лебедевых, и Попова этого же... — Так его не было на станции в тот день? — чувствуя облегчение, спросил Новгородский, успевший мгновенно оценить всю сомнительность «успешно» проведенной операции. — Ваше счастье, что не было. Попов три дня пробыл на совещании в тресте. — Слава богу... — невольно вырвалось у Новгородского. — Вот именно! — усмехнулся полковник. — Есть кого благодарить ротозеям и верхоглядам! — Виноват, товарищ полковник, — искренне сказал Новгородский. Поняв, что его ошибка не привела к провалу операции, он был готов к любому наказанию. — А я и без признаний ваших знаю, что виноваты, — сердито произнес Костенко. — Сейчас не признания нужны, а действия... — Он помолчал, потом пристально посмотрел Новгородскому в глаза: — Стоит ли теперь доверять вам столь серьезные дела? — Не знаю. — Новгородский поежился при мысли, что его отстранят от руководства операцией. — Наказание я, конечно, заслужил... — Заслужил, заслужил... — по-стариковски проворчал полковник и вздохнул. — Эх, капитан, капитан... — Он встал и отошел к столу. Новгородскому стало немного легче. Он понял, что самая тяжелая часть разговора миновала. — Вот что, капитан, — уже из-за стола своим обычным отрывистым, деловым голосом продолжал полковник, — от руководства операцией решил вас не отстранять. Думаю, из оплошности своей выводы сделаете. — Сделаю, товарищ полковник! — Новгородский встал. — Теперь по существу. — В ритм своим рубленым фразам полковник стал пристукивать по столу костяшками пальцев. — После провала в Белоруссии Попов прячется. Несомненно, что в Хребет его запрятал Лебедев. Выясните эту версию через Куницу и Мокшина. — Будет сделано. — Второе. После провала Мокшина Попов нервничает. Званцев и Садовников контролируют его. Передаю их вновь к вам в подчинение. Учтите. Один неверный шаг — и Попов исчезнет. Враг опытный. Документы, конечно, заготовил впрок. На бога больше не надейтесь. Пока что Попов никакой переписки с Лебедевым или с кем-либо еще не ведет. Ни с кем не общается. Отсиживается. Но то до поры до времени. Поскольку у Лебедева агентов в Заречье нет, полагаю, что Попов будет оставаться на месте. Наверняка он скоро получит приказ активизироваться. Думаю, руководителям немецкой разведки придется дать такое приказание... — Полковник чуть улыбнулся. — Да, придется, — согласился Новгородский. — Заречье — не такой объект, чтобы фашисты позволили себе оставить его без контроля. Пожертвуют этим Борматом-Поповым. — Пожертвуют, — кивнул Костенко. — Итак, обстановка вам ясна. Можете действовать. И без этих самых... — Костенко сделал изящный жест руками и опять чуть улыбнулся. — Есть, без этих самых! — Сейчас к Огнищеву? — спросил Костенко уже без всякой строгости, глядя на расстроенного капитана. — Да, товарищ полковник. — Освежитесь, — посоветовал Костенко. — Приведите себя в порядок. Перед больным надо выглядеть молодцом.
Володю позвали к телефону в ординаторскую. Звонил Сажин. Он долго передавал приветы от родных и знакомых, рассказывал о районных новостях, а потом спросил: — Ты что-то долго болеешь. Когда тебя домой ждать? — Не скоро, — улыбнулся Володя в телефонную трубку. — У меня есть кое-где дела поважнее. — Так ты что, опять на фронт? — А куда еще... — Вот оно что... — Сажин помолчал, оттуда, издалека, слабо отдавалось в трубке его шумное дыхание. — А я полагал, что ты вернешься. Ведь у нас в Заречье такие дела завариваются... Сам знаешь. — Могу только предполагать. — Странно, — продолжал Сажин, — а Возняков утверждает, что ты обязательно вернешься. Не можешь не вернуться. Вспомнив энтузиаста-геолога, Володя опять улыбнулся. Конечно, тот не мог говорить иначе. Для начальника партии более важного дела, нежели скорейшая разведка месторождения, не существовало на всем белом свете. Ясное дело, по его глубокому убеждению и другие не могли думать иначе. — Ну что ж, раз Олег Александрович говорит, значит, так тому и быть, — шутливо сказал Володя. — А ты не смейся! — рассердился Сажин. — Тут дело решается не менее важное, чем на фронте. — А я и не смеюсь. Сажин помедлил, потом неожиданно сказал: — С тобой тут хотят поговорить. — Кто? — Володя переступил с ноги на ногу. — Не догадываешься? Не юли. Не верю. Передаю трубку. Володя заволновался, плотнее прижал телефонную трубку к уху, покосился на врачей, о чем-то тихо разговаривавших. — Володя, ты? — далекий Надин голос был слабым, неестественным. — Здравствуй, Володя! — Здравствуй, Надя. — Как ты себя чувствуешь? Как твоя рана? — Ничего. Хорошо. — Было очень больно? Володя улыбнулся наивности вопроса, ответил: — Не очень. — Так... — Надя помолчала. — Все собиралась... собиралась позвонить тебе, да откладывала, думала, удастся в Сосногорск съездить. Володе показалось, что в голосе Нади зазвучала растерянность. Она, очевидно, не знала, о чем говорить. — А как у тебя дела? — спросил он. — У меня все хорошо. Работаю. Ты скоро выписываешься? Володя не успел ответить. Междугородняя станция в это время прервала разговор. «О чем ей со мной говорить... — думал он, покидая ординаторскую. — Обыкновенная вежливость. Что да как... Непатриотично оставить без внимания раненоговоина! Да и сам я болван порядочный. Понес какую-то ахинею! Тьфу!» — Володя расстроился, рассердился на себя за нерешительность, неумение сказать Наде то, что нужно. Пусть ничего у них не было, пусть Володя все сам придумал... Что из того? Сказать Наде все равно надо. По крайней мере — будет ясность. Неопределенность в их отношениях беспокоила его все больше и больше. Ему вспомнилась Надя. Такой, какой она была в медведёвском Доме культуры при их последнем разговоре в фойе. Тоненькая, разрумянившаяся, сердито разглядывающая его из-под нахмуренных бровей, такая близкая-близкая... Володя вдруг остановился. Будто лучом прожектора осветило внезапно затянутый паутиной времени закоулок памяти. «Что за наваждение... Не может быть!» — У него вспотела шея. Он вдруг ясно вспомнил один из студенческих вечеров, тоненькую, худенькую девушку в голубом с белым горошком платье... Кажется, он по своей неуклюжести наступил ей на ногу, сгородил какую-то глупость... Конечно, та так же сердито глядела на него большими карими глазами, хмурила темные брови, а потом пошла танцевать с другим... Помнится, студентка та очень понравилась ему, он часто думал о ней, мечтал встретиться... А потом забыл. Она! Ошибки быть не могло. Ведь тогда была встреча со студентами из юридического... Ошеломленный, Володя отер вспотевшую шею рукавом халата. Вот почему Надя так странно смотрела на него. Смотрела, будто чего-то ждала. Несомненно, она узнала его. А он... Хорош же он был! — Кретин! — Володя с отчаянием грохнул себя кулаком по голове. — Как же я теперь покажусь ей на глаза?
Вечером Володю неожиданно посетил начальник геологического управления Локтиков. Большой, шумный, он сразу заполнил своим могучим телом добрую половину маленькой двухместной палаты и сразу безапелляционно ткнул пальцем в сторону Володи. — Вы — Огнищев! — Так точно. — Правильно. Я вас сразу узнал. В декабре на работу оформлялись. А я Локтиков. Помните? — Так точно. — Бросьте вы такать, — сморщился начальник управления. — Не люблю. Солдафонщиной пахнет. Ничего солдатского. — Локтиков огляделся, выискивая, куда бы присесть. В маленькой палате, бывшей кладовке, кроме двух коек и тумбочки, ничего из мебели не имелось. Сосед Володи, танкист с ампутированными ногами, гостеприимно хлопнул по пустой половине своей койки. — Садитесь. Здесь у нас кресло для гостей. Локтиков посмотрел на короткое, обрубленное тело танкиста, потом на свои ноги и виновато заморгал. Ему стало неловко перед искалеченными людьми. — Садитесь, — радушно повторил танкист. — Места хватит. — Да нет... Я постою. Вы уж не беспокойтесь. — Он помолчал, а потом с участием спросил: — Где это вас? — Под Москвой. — Н-да... А меня не берут... В июне подал заявление в военкомат, хотел добровольцем. На смех подняли... А в обкоме встрепку дали. Вот ерундистика какая получается. Сижу теперь в чиновниках... — Война войной, а производство не остановишь, — наставительно сказал танкист. — Без геологии войны не выиграть. Понимать надо. — Да понимаю. — Локтиков отнесся к этой наивной тираде вполне серьезно. — Только все равно не по себе как-то. Как увижу инвалида, так сразу вспоминаю, что я тоже когда-то моряком был. Торпедистом. А теперь вот... На мое место какого-нибудь бы старикашку... Ведь вон я какой! — Локтиков снова посмотрел на свои могучие руки и ноги. Володя с танкистом не выдержали, расхохотались. Их смех пробудил в Локтикове обычное жизнелюбие. — Откуда вы родом-то? — спросил он танкиста. — Из Смоленска. — Родные в тылу где-нибудь есть? — Нет. Все под немцами остались. — И куда же вы после госпиталя? — Видно будет, — сказал танкист. — А специальность у вас какая? — До войны был механиком автобазы. — Ха! Это же здорово! — привычно зашумел Локтиков. — Устроим. Нам как раз позарез нужны специалисты в отдел главного механика. Поставим вас командовать транспортом. Кабинет механиков на первом этаже, так что до работы будет добираться сподручно. Общежитие дадим. Все будет в порядке. Согласны? — Надо подумать. Придется согласиться, — весело сказал танкист. — Правильно. Думать всегда надо. Думайте — и давайте к нам. Звоните прямо мне. Локтикову. Начальнику управления. Запишите. — А я и так не забуду. — Ну, а с вами, Огнищев, все решено, — круто повернулся Локтиков к Володе. — Не вздумайте куда-нибудь удрать. — Именно? — Мы вас забронировали. Будете работать в экспедиции Вознякова. — В партии... — Нет, молодой человек, отстаете от жизни. Зареченская партия развернута в экспедицию. В ней теперь несколько партий. — Ну и что? — Как что! — громогласно забасил Локтиков. — Работа архиважнейшая. Специалистов не хватает. Притом Возняков просил за вас особо. Мы не можем вас отпустить. — Простите, но... — Никаких «но»! — взмахнул крупными руками Локтиков. — Вы наш и никуда не денетесь. Я специально приехал предупредить, чтобы вы не вздумали выделывать какие-нибудь фокусы. — Я не фокусник, — улыбнулся Володя. — Знаем. Не вы первый. У нас уже сотни таких невинных овечек удрали добровольцами на фронт. А вы, я слышал, имеете в планах нечто подобное. — Имею, — просто признался Володя. — Вот видите! — Локтиков рассердился. — Все патриоты! Все считают важным только фронт. А обеспечение войны — дело третьестепенное! Это дело сделают такие трусливые тыловые крысы, как Локтиков, Возняков и им подобные! Так, что ли? — Я так не считаю. — Тогда и разговаривать не о чем. Никаких фокусов. Будьте добры подчиниться приказу. В общем, я забираю все ваши документы и после выписки вы явитесь ко мне лично. Понятно? — Понятно, — уступил Володя его энергичному натиску. — Хороший мужик, — сказал танкист после ухода Локтикова. — Большой совести человек. — Хороший, — согласился Володя. — А ведь найдутся после войны люди, которые упрекнут его тем, что на фронте не был. — И такие найдутся, — тоже согласился танкист. — Так пойдешь к нам работать? — спросил Володя. — Нет. Ты же знаешь, куда я поеду. — Ну да, — сказал Володя. Он знал, что к танкисту уже несколько раз приезжала невеста. Девушка была эвакуирована и работала в одном из пригородных совхозов. Неведомыми путями она разыскала жениха, и между ними все было решено в первый же час первого свидания. — Но зачем же ты дал согласие Локтикову? — спросил Володя. — Бог его знает, — танкист почесал затылок, — не хотелось огорчать доброго человека. Уж больно неловко он себя чувствовал. Да ничего. Этот не из обидчивых. Подберет вместо меня другого. Менее счастливого, — И то верно, — согласился Володя.
17. ОПЕРАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В кабинет ввели Мокшина. Новгородский молча указал ему на стул и продолжал читать протокол только что закончившегося допроса Куницы. Предатель остался верен себе. Он был лютым, непримиримым врагом советского строя и не желал этого скрывать. На вопросы отвечать отказался. Капитан испробовал много способов, чтобы заставить его заговорить, но успеха не добился. Куница знал, что его ждет, и, несмотря на это, не сделал ни малейшей попытки облегчить свою участь. Массивный, крутоплечий, он упрямо согнул бычью шею и, изредка бросая на капитана ненавидящий взгляд маленьких голубых глаз, цедил сквозь желтые широкие зубы: «да», «нет», «не помню», «не знаю», а большинство вопросов вообще оставил без ответа. Новгородский понимал, что о своих новых хозяевах Куница знает мало, что это рядовой исполнитель черновой работы, но все равно непримиримая враждебность человека с крестьянской внешностью вывела капитана из равновесия. Он рассчитывал получить от Куницы хоть какие-то сведения о Попове. Сейчас, листая протокол допроса, Новгородский тянул, чтобы успокоиться. К тому же его молчание угнетающе действовало на Мокшина. Капитан это ясно видел. Бывший геолог беспокойно ерзал на стуле, и с его осунувшегося побледневшего лица не сходило выражение угодливости и испуга. «Посиди. Понервничай... Настройся на откровенность», — сердито подумал Новгородский, сознавая, что теперь все зависит только от Мокшина. А Мокшин в самом деле нервничал. Его терзал страх. Он глядел на красивого капитана, читавшего какие-то бумаги, и старался угадать, что таит для него предстоящая беседа. Мокшин был готов рассказать все. Все, о чем ни спросят. Он перебирал в памяти прожитые годы и пытался вспомнить все до мелочей, чтобы сидящий напротив капитан не заподозрил его в неискренности, в желании что-то утаить... Он знал — эта искренность может погубить отца, но что из того... Какой он к черту отец! Родитель сам толкнул его, единственного сына, в пропасть, из которой, в конце концов, надо как-то выбираться... Мокшин плохо помнил детство. Его отец, полковник царской армии Маслянский, после гражданской войны сбежал в Германию. То были трудные годы. Маленькая комнатка в старом обветшалом доме на окраине немецкого города Гамбурга, проходной двор и узкая немощеная улица — вот мир, в котором началась сознательная жизнь маленького Васи. И нужда. Вечное ожидание завтрака, обеда, ужина, кое-как залатанные штанишки, вечная мечта о красивых игрушках, которых было много в витринах магазинов. Отец долгое время был без работы, пока не устроился наконец мелким служащим в одну из пароходных компаний. Это мало что изменило в жизни семьи Маслянских. Они продолжали жить в той же маленькой каморке на окраине города и едва сводили концы с концами. Отец с матерью все так же продолжали клясть судьбу, а всего чаще каких-то таинственных большевиков. Вася с детства усвоил, что это жестокие полудикари, которые убили маминого брата, выгнали семью из России... — Эх, Василек! — плакал, бывало, пьяный отец. — Не будь той проклятой революции, ходил бы ты у меня сейчас пан-паном, как положено быть полковничьему сыну. Нанял бы я тебе частных учителей, выделил кабинет и спальню, игрушек накупил... Каждый бы день паровую осетрину ел... Хочешь осетрины? — Хочу, — неизменно отвечал Вася, сглатывая обильную слюну. Отец также неизменно взмахивал толстыми руками и начинал пьяно ругаться: — Голодранцы! Варвары! Все... все забрали... Ненавижу! Всех ненавижу! Своими бы руками придушил! Подавились бы они моим добром! Вася знал, что где-то в далекой России у отца отняли более трех тысяч гектаров лесных угодий, лесопильный завод и большую усадьбу с особняком, фонтаном и конюшней породистых лошадей. Злые большевики лишили отца всего, а его, Васю, частных учителей, отдельных комнат, осетрины и красивых игрушек. С детства он впитывал в себя ненависть к разорителям, лишившим его богатой, сытой жизни. Вася играл с немецкими и эмигрантскими ребятишками в войну, «стрелял» во «французов», «англичан», а чаще всего в «дикарей-большевиков». А потом в жизни произошел крутой поворот. Это случилось в 1933 году, когда Василию исполнилось восемнадцать лет. Отец вдруг оставил работу в судоходной компании, и семья переселилась в маленький городок близ Берлина. Теперь они жили в небольшой, богато обставленной вилле, всего стало вдосталь. Отец ничего не говорил о своей новой службе, об источнике неожиданного достатка, да Василий и не спрашивал. Не до того было. Он увлекся спортом, начал волочиться за женщинами... Где-то в Берлине и сейчас живет их бывшая кухарка Гертруда — воспитывает дочь Василия... 1933 год Василий вспоминать не любит. Именно тогда ему пришлось бросить учебу в частном коммерческом училище, именно тогда мать выгнала из дому Гертруду, осмелившуюся просить о помощи. Проклятый год! Именно тогда отец потребовал от Василия клятвы, что он пойдет по пути старших, будет до победы бороться с ненавистными большевиками. Василий такую клятву дал. Почему было не дать? Он верил — нет в мире у него более злейших врагов, нежели русские коммунисты. Тогда все и решилось. При посредничестве отца, ставшего к тому времени, как узнал после Василий, сотрудником русского отдела фашистской военной разведки, его направили в специальную шпионскую школу. Сначала Василию это не понравилось, но потом он смирился. Были деньги, свободное время, возможность удовлетворять все свои желания. Что еще нужно здоровому молодому парню! И притом большевики... Он их действительно ненавидел. Два года Василий усердно изучал советскую литературу, учил математику, физику и другие науки по советским учебникам, учился маскироваться, убивать и ничуть не боялся своей будущей работы. Он был молод, и ему все было нипочем. Отец хвалил, щедро давал деньги на карманные расходы, и Василий считал, что живет правильной, настоящей жизнью. Так жили все молодые парни, в обществе которых он вращался. То были лучшие годы. Он с упоением прожигал их, совершенно не заботясь о будущем. «Подумаешь, Россия... — бывало, думал Василий. — Ничего страшного. Освоюсь, буду делать свое дело. Большевикам недолго осталось властвовать. Часы бьют уже не их время... А пока — живи полной жизнью». Василий и вправду верил, что дни Советов сочтены. Но наступил день, когда пришел первый страх. Перед отправкой в Россию Василий прошел окончательную проверку. Группа выпускников школы вместе с отрядом эсэсовцев приняла участие в расстреле политических заключенных из берлинской тюрьмы Маобит. Это было страшно. Василию долго снился высокий седой человек в арестантской пижаме, которому он выстрелил в сердце. И страшно было не за седого, нет! Страшно стало за себя. Вдруг там, в этой загадочной проклятой России, с ним, Василием, сделают то же самое... Ведь большевики тоже умеют убивать! — Надеюсь на тебя! — высокопарно говорил отец при последнем прощании. — Не посрами. Священные интересы нации несовместимы с большевизмом. Идешь на святое дело! — А потом, после нескольких рюмок коньяку, прослезился, сделался жалким, испуганно заозирался. — Учти, Вася, если сплохуешь... Мне того... Конец. Сам понимаешь. Василий понимал. Ему было наплевать и на отцовскую судьбу, и на безнадежно больную истеричку мать, и на все «священные интересы». Василий слишком хорошо знал, что для родителей священны только их утерянное достояние и они сами. Поселившийся в душе страх не покидал Василия ни на минуту. Он перешел советско-финскую границу и с документами выпускника средней школы Василия Мокшина прибыл в Ленинград. Предстоял длительный период «акклиматизации». Фашистская разведка глядела далеко вперед и строила на таких «акклиматизировавшихся» агентах свои долгосрочные планы. Став студентом горного института, Василий так и не избавился от страха. Во время учебы ему не дали ни одного задания, он совершенно не работал, но все равно противное морозящее чувство то и дело обжигало его, даже во сне. Здесь, на родине, он впервые всерьез задумался над тем, что воспринималось раньше как само собой разумеющееся. Большевики вовсе не были дикарями и разорителями. У них были своя философия, своя наука, они много созидали, много строили. Хотя еще в шпионской школе, сидя над советскими учебниками и газетами, Василий понял наивность отцовских проклятий, все равно многое в новой жизни было неожиданным. Его соотечественники оказались энергичными, дружелюбными людьми. Они много знали, многое умели, они верили в идеалы, которыми жили, и дружно воплощали эти идеалы в практическую жизнь. Многое в их стремлениях оказалось настолько человечным и неоспоримым, что Мокшину пришлось признаться себе, что, несмотря на хорошую специальную подготовку, он плохо знал страну, которая была его родиной. Тут знали добро и любовь, могли радоваться и быть счастливыми, умели дружить и быть верными этой дружбе. «Странно, — часто думал Мокшин. — Здесь своя разновидность цивилизации, здесь свой прогресс... Почему я раньше никогда об этом не думал? Это не слепые фанатики. Они похожи на фанатиков, но в их идеологии есть что-то рациональное. Почему я не могу понять и принять эту идеологию?» Мокшин думал так и сам не сознавал, что невозможно понять чужую идеологию, если смотришь на нее с позиции обворованного человека. Он желал, но не умел понять. Да и многое другое было непонятно, тягостно в новой среде. Мокшин скучал по прежней жизни. И тем не менее после окончания института, когда получил первое задание, стало не по себе. Василий долго колебался, тянул, не давал сведений о результатах работ геологических партий и мощностях новых рудников в Приднепровье. В конце концов резидент, его начальник, поставил вопрос ребром: или выполнение приказа, или... Мокшин понял: смерть! Только тогда он с ужасом осознал, что нет прежнего бесшабашного Василия Маслянского, сына белогвардейского полковника, есть другой человек — Василий Мокшин, колеблющийся, неуверенный в себе, не знающий, чего хочет найти в будущем. Этот человек метался меж двух непримиримых сил и знал, что обе они несут ему уничтожение. Мокшин струсил: передал сведения. В конце концов, на стороне старой жизни был его отец, все его, Василия, личные обиды, отобранные богатства. Он стал кадровым агентом. Сейчас Мокшин сидел перед красивым, чем-то очень занятым человеком и со страхом думал, что вот она, эта другая сила, которая в решении его личной судьбы взяла верх, и со страхом ждал вопросов. Было жутко, нехорошо. Мокшин взвешивал в уме все свои провинности перед соплеменниками, которых представлял в эту минуту ладный капитан, и старался понять, что может бросить на другую чашу весов. Днепропетровский резидент... Где он сейчас — Мокшин не знает. Но фамилию и все прочие данные о нем сообщить может. Адрес шпионской школы, все сведения о ней — пожалуйста. О своих соучениках выложит все, что знает. Мокшин нервничал. Он знал, что этого мало. Ой как мало! Расстрелянный человек из Маобита, передача сведений о Приднепровье, и главное — Николашин! Как много дал бы сейчас Мокшин, чтобы он был жив. Но Николашина нет. Приказ Лебедева был выполнен. Лебедев... Мокшин смотрит на капитана и старается угадать, известно ли тому что-нибудь о резиденте. Если неизвестно, то надо обязательно рассказать о нем и его фиктивной жене, а фактически сестре — Анне Мигунец. Но пожалуй, об этой паре капитану все известно. Этот простодушный хитрец Огнищев, разумеется, навел на их след. Кто бы мог подумать... Такой простецкий малый — и на тебе! — чекист. Вот тебе и русские полудикари... Нет, и Лебедевых мало... Разве Попов... Мокшин оживляется, с нетерпением смотрит на читающего капитана. Конечно, о нем ничего не знают. Правда и он, Мокшин, знает мало, но все же... Он вспоминает... В сентябре? Нет, в октябре при личной встрече Лебедев вдруг приказал найти на станции квартиру для своего человека. Мокшин поинтересовался, кто, откуда, но Лебедев ничего объяснять не стал. — Найдите надежную квартиру, подальше от людских глаз, и все, — отрубил резидент. — Поместите, и дело с концом. Больше ни он вас, ни вы его не знаете. Поручите Кунице. Самому вам с Поповым встречаться не следует. Так и сделали. По приметам, рассказанным Мокшиным, Куница встретил Попова на станции и указал дом Глазыриной, где до того жил сам. Мокшин Попова ни разу не видел, но знает, что это важная птица. Проговорилась Мигунец при последней встрече на вокзале. Анна сказала, что Попов провалился в Белоруссии и работал после того в тресте «Сосногорсклес». В областном городе ему оставаться было опасно, и Лебедев посоветовал Попову на время спрятаться где-нибудь в районе. Трест в то время направлял специалистов на Хребетский лесозавод, и такой случай упустить было нельзя. Попов выразил желание «помочь коллективу». Уехал. И еще Мигунец сказала, что Лебедев боится этого человека, ибо его могут сделать руководителем агентуры в Сосногорской области. Анна сказала, что Попов агент, известный лично Канарису и Гиммлеру. Вот и все о Попове... Кто он, что он? Мокшин больше ничего не знает. Зато ему известны основные явки, пароли... Мокшин с тоской смотрит на капитана. Неужели и этого мало? И чувствует всем существом — мало! Новгородский отодвинул бумаги и посмотрел на Мокшина беззлобным, внимательным взглядом. — Сколько вам в действительности лет? Негромкий голос его будто обжег Мокшина. — Двадцать шесть. Скоро будет двадцать семь... — быстро ответил он. — Пожалуй... — согласился Новгородский, пристально посмотрев в лицо шпиона. — Неужели вам хочется умереть? В серых глазах капитана ни злобы, ни хитрости — они смотрят спокойно, изучающе. Мокшин вскочил, прижал руки к сердцу. — Не хочется! Поверьте мне... Честное слово! Я хочу жить! — Верю. Почему бы и не хотеть... Николашин тоже хотел, — грустно говорит Новгородский и кивает стенографистке: — Записывайте. — Я все понимаю, — срывающимся голосом почти кричит Мокшин. — Я знаю, что тяжко виноват перед вами всеми, перед моей страной... Как вам это выразить... Поверьте мне: я готов к искренности. Я готов любым путем искупить свою вину! Я все скажу, я готов выполнить любое распоряжение! Скажите, чем я могу быть полезен? — Кадык судорожно дергается на шее Мокшина, весь он подался в сторону стола. — Приказывайте, капитан! Все же я русский человек. Скажите, что я могу сделать для вас полезного? — Это мы сейчас узнаем, — спокойно говорит Новгородский. — Вы готовы на любые признания? — Да! От прихлынувшей к сердцу надежды у Мокшина слабеют ноги. Он опускается на стул.В день выписки Володю поджидала неожиданность. Вместо геологического управления пришлось ехать сначала по другому адресу. У ворот госпиталя стояла черная потрепанная «эмка». Опершись на ее радиатор, весело скалился в улыбке рыжий, сухопарый Клюев. Они поздоровались. — Садись, — сказал Клюев. — Добрый час жду тебя. — Это куда же? — Маленький. Не понимаешь, — ухмыльнулся Клюев и дружески подтолкнул Володю в машину. — Садись, Новгородский велел представить живого или мертвого. Володя подчинился. По дороге он несколько раз пробовал заговорить с рыжим лейтенантом, но Клюев только многозначительно улыбался маленькими зелеными глазками и делал вид, что очень занят управлением автомобиля. — Чего ты в прятки играешь! — рассердился в конце концов Володя. — Зачем везешь? Клюев долго молчал и, только затормозив у знакомого желтого здания, простецки сказал: — Не задавай дурацких вопросов. Иди. Пропуск заказан. В коридоре управления Володю подстерегала еще одна встреча. Он лицом к лицу столкнулся со Стародубцевым. Тот был гладко выбрит, причесан, одет в форму капитана внутренних войск и на весь коридор благоухал одеколоном. Лицо недавнего следователя было весело, лишено обычной угрюмости. Он улыбался во весь щербатый рот. Володя очень удивился переменам, происшедшим со Стародубцевым. — Чего глядишь как баран на новые ворота? — обрадованно забасил артиллерист. — Или не узнал? — Узнал. Только ты того... — Изменился? Точно. Спешу, Володенька, на аэродром. В Омск лечу. — Зачем? — Не спрашивай. Семья моя нашлась. Из Одессы эвакуировали в Севастополь, оттуда в Новороссийск, а сейчас объявилась в Омске. — Поздравляю. — Спасибо, друг. Не сердись. Спешу. Поговорим потом. Не отпускают меня в артиллерию. Вместе работать будем! — Он пожал Володе руку и быстро пошел, почти побежал к лестничной площадке. Оттуда уже крикнул: — Поторапливайся домой. Там тебя очень ждут! Володя зачем-то помахал рукой ему вслед и только потом удивился лукавству его голоса. И вот он опять в знакомом кабинете. Все тот же улыбчивый капитан Новгородский сидит за широким письменным столом и дает Володе очередные указания. Только в глазах Новгородского нет уже былой настороженности, он уже не изучает, не проверяет Володю, а ведет обычный дедовой разговор. — Принято правительственное решение о скорейшем развитии Зареченского рудника. Уже сейчас станционный поселок Хребет переименован в город Северостудянск. Там полным ходом идет жилищное и промышленное строительство. Будущий город подчинен непосредственно областным организациям. Вы понимаете, что это значит? — Вполне. — Отлично. Как только будут подсчитаны запасы по первым разведанным шахтным полям — так сразу начнется строительство шахт. Этого мы ждем со дня на день. К проходке стволов все готово. И люди, и техника. Впрочем, обо всем этом вам расскажут на месте Возняков и академик Беломорцев. — Беломорцев? — Да. Он наделен большими полномочиями и будет специально заниматься вопросами скорейшей разработки месторождения. Вчера он выехал к вам в Заречье. — Вот как... — В общем, события разворачиваются в должном темпе. — Какова же моя роль в этих событиях? — Прежняя. Будущее Зареченское рудоуправление — важнейший поставщик стратегического сырья. Немцы, надо полагать, уже знают о том и предпримут действия, чтобы сорвать или задержать развитие рудника. Быть бдительным — наша главная задача. Помимо работы по специальности вас, Огнищев, просим помогать нам. Согласен? — Не знаю. — Володя в самом деле почувствовал себя весьма неуверенно. — Соглашайтесь! — Новгородский тряхнул каштановым чубом. — Не прибедняйтесь, милый Володя. Справитесь. — Каким, конкретно, будет задание? — Вот это другое дело! — обрадовался капитан. Он, очевидно, ожидал от Володи большего упрямства. — Четкие инструкции вам передаст Стародубцев. Мы их еще не разработали до конца. — Стародубцев? — Да, он, между прочим, будет отвечать за безопасность академика Беломорцева. На сего ученого мужа уже пробовали покушаться, и мы имеем предположения, что попытки эти будут повторены. Академик много знает и много умеет. — Да, крупный ученый и практик, — согласился Володя. — Теперь вот что. — Новгородский протянул Володе две фотокарточки, — Эти лица в любой момент могут появиться в ваших местах. В случае их появления, вы не должны спускать с них глаз. Володя взял фотографии и привстал от удивления. Красивую улыбавшуюся женщину он узнал сразу. — Это же невеста Мокшина! — Совершенно точно. Фиктивная невеста. Володя всмотрелся в другую фотокарточку. Крупное лицо пожилого большеглазого мужчины ему тоже показалось знакомым. — Неужели и этого где-нибудь видели? — удивился Новгородский, заметив Володино волнение. — Представьте себе! — убедившись, что не ошибается, сказал Володя. — Я имел удовольствие однажды видеть и слышать сего гусака. — Где же? — живо спросил капитан. Володя рассказал о разговоре шофера полуторки с человеком в кожаном пальто. — Да, тогда вы не ошиблись, — согласился Новгородский. — Кто же он? — Старший инженер проектно-сметной группы геологического управления Лебедев. Фиктивный муж этой дамы. А фактически ее старший брат. Оба они агенты фашистской разведки. — Так они что... Того? — Да, того, — многозначительно усмехнулся Новгородский. — А-а, понимаю! — сообразил Володя. — Ниточка? — Ниточка. Мы полагаем, коль им в ближайшее время не удастся забросить в Заречье своего человека, то кто-то из Лебедевых наведается туда для выяснения обстановки и масштабов проводимых работ. — Мы встретим их как надо. — Не сомневаюсь, — капитан был, видимо, доволен разговором. — Мы заблаговременно сообщим вам об их визите. Они здесь у нас под контролем. Связь остается прежней. Плюс к тому в Северостудянском горотделе НКВД будет работать Стародубцев. — Все понятно, — сказал Володя. — И вот еще... — Новгородский достал фотографию Попова, стал неторопливо рассказывать о запрятавшемся агенте. Володя посмотрел на фотокарточку. Он ко многому привык за последнее время, но все равно удивился. Обыкновенное, ничем не примечательное лицо. Большие, безбоязненно глядящие глаза, толстые добряцкие губы на круглом веселом лице. Трудно было поверить, что это враг. Враг опытный, коварный, непримиримый... — Попов пока вне игры, — продолжал устало рассказывать Новгородский, — но в любой момент может приступить к активным действиям. Вы должны быть постоянно готовы к этому. Правда, он находится под контролем, но... — Капитан пригладил встрепанные волосы. — Сами понимаете... Все возможно. Главное для фашистской агентуры — Заречье, будущий рудник. Попов наверняка получит соответствующий приказ... — Понимаю. — Ну, тогда будем закругляться. — Новгородский встал. — Думаю, вам понятно, что операция далеко не кончена. Операция продолжается. — Да, понимаю, — повторил Володя. — Операция продолжается.
Свою небольшую, тихую станцию Володя узнал с трудом. Старые, потемневшие строения станционного поселка затерялись между лесами новостроек, как сгорбленные, древние старушки в толпе молодых девчат. Почти все железнодорожные пути были забиты эшелонами. От вокзала вправо и влево длинной шеренгой, как грибы после дождя, выросли пузатые, желтеющие свежим тесом товарные пакгаузы. Везде штабеля грузов и великое множество работающих людей. Володя ступил на знакомый дощатый перрон. Отовсюду несся визг пил, стук топоров, рев моторов. В конце перрона Володя остановился. Его внимание привлекли платформы, груженные буровыми штангами и обсадными трубами. Платформ было много, целый состав. Маневровый паровозик натужно толкал их куда-то в конец станции, очевидно в новый тупик. «Это нам», — подумал Володя и хотел пойти по путям вслед за платформами, но кто-то в это время тронул его за локоть: — Здравствуй, Володя! Рядом стояла Надя. — Здравствуй, Надя! — Володя сжал ее узкую холодную ладонь. Он обрадовался девушке, сразу забыл о своих прежних размышлениях и неожиданно для самого себя выпалил: — Я очень тебе рад! — Да? — Надя не знала: не то хмуриться, не то улыбаться. — Честное слово! Надя улыбнулась. Она была в полушубке, шапка-ушанка сбита на затылок, но никогда Володя не видел ее такой красивой, как сейчас, даже на танцах, в зале медведёвского Дома культуры. — Почему ты так смотришь? — спросила Надя. — Да так... Надя ласково тронула его за руку: — Пойдем. Нам по пути. — Да? — обрадовался Володя. — Да, — сказала Надя. — Я теперь работаю здесь. А живу пока в Заречье. В поселке с жильем плохо. — Здесь что, свое отделение милиции? — поинтересовался Володя. — Конечно. Строят город. Уже более пяти тысяч жителей. Через месяц будет десять. — Ого! И кем же ты здесь? — Пока в милиции. Но скоро, видимо, переведут в городскую прокуратуру. В общем, ясности еще нет. Организационный период. — Понятно. — Володя почувствовал себя смелее. — А все же здорово, что я тебя здесь встретил. — Это я тебя встретила, — поправила Надя. — Ты меня? — Конечно. — Кто тебе сказал, что я сегодня приеду? — Какое это имеет значение... — Надя склонила голову набок, выражение лица у нее стало решительным. — Разве я не имею права тебя встретить? Или тебе это неприятно? Володя посмотрел в большие, темные, подернутые влажной поволокой Надины глаза и вдруг все понял. Он остановился, взял ее руки и спросил с волнением: — Скажи, Надюша, ты на меня сердишься? — За что? — Она не смогла скрыть ласковой улыбки. — Ну, за то... эти дурацкие танцы... за забывчивость... За все. Я дурак, правда? — Ты большой ребенок, — с прежней улыбкой сказала Надя. — Правильно, дурак! — убежденно повторил Володя. — Я сильно скучал по тебе, и мне... — Не надо. Потом поговорим. — Надя отняла у него свои руки. — Потом. А сейчас... Нам все равно помешают. Нам ведь всегда мешали, правда? — Она посмотрела куда-то мимо Володи. — Правда, — согласился он и оглянулся. Вдоль пакгаузов к перрону бежал Возняков. Он очень торопился, размахивал длинными руками, шапка сползла на ухо. — Видишь, — тихо сказала Надя. — Как всегда. Если мы не удерем куда-нибудь, то нам никогда не дадут поговорить. — Огнищев, Володя, привет! — еще издали закричал Возняков. — Жив-здоров? Володя приветственно помахал ему рукой. Возняков взбежал по крутой деревянной лестнице на перрон и сказал, поздоровавшись: — Вот растреклятая рассеянность! Специально ехал тебя встречать — и на тебе... Чуть не прозевал. Закрутился на разгрузочной площадке. — Что, много грузов прибыло? — Ха! Много... Масса! — Возняков снял рукавицы, засунул их в карман полушубка и стал перечислять, загибая тощие пальцы: — По десять вагонов в среднем ежесуточно получаем. Станки буровые поступают — раз, трубы обсадные — два, буровое оборудование и инструмент — три, двигатели — четыре, полевое снаряжение — пять, машины и тракторы — шесть, лошади и фураж — семь, строительные материалы — восемь, лабораторное оборудование — девять, инвентарь, спецодежда, продукты — десять. Пальцев не хватает! Со всех концов страны грузы идут. Отовсюду. Мы уже тридцать два станка развернули! Все в работе. И еще больше развернем. — Тридцать два? — поразился Володя. — Тридцать два! — радуясь его изумлению, Возняков привычно замахал руками. — Контору новую построили, склад горючего, материальный склад. Теперь жилые дома строим! — И это все за два месяца? — За два. Теперь у нас и машин, и лошадей хватает. Вот что значит добрые анализы! — Получили? — Получили. Боксит что надо. Сырье экстра-класса! Анализы все и решили. Уже через неделю к нам поступили директивные документы. Все решилось разом. — Вот здорово! — восхитился Володя. — Еще как здорово! — восторженно продолжал Возняков. — Я знал, что так будет. Буровики и специалисты едут со всех концов страны. В общем, давай приступай к делу. Дадим тебе транспорт, закрепим участок поближе — веди дело, учи молодежь! Я тебя вот как ждал! — Возняков провел пальцами по выпирающему кадыку. — А сейчас пошли на разгрузочную площадку. Посмотришь, сколько нам добра навалили. Голова от радости кругом идет. — А может, потом? — неуверенно сказал Володя и посмотрел на Надю. — Да ты что! — изумился Возняков. — Когда потом? — Ну, завтра, что ли... Возняков недоуменно уставился на Володю и даже перестал махать руками. — Может, завтра, Олег Александрович? Возняков поправил сползшую на ухо шапку, поглядел на Надю, потом опять на Володю и вдруг заулыбался во весь рот: — Старый, а дурак! Володя смущенно покосился на Надю: не обиделась ли? Нет, она смело и независимо смотрела на улыбающегося геолога. Чувствуя прилив небывалого счастья, Володя взял Надю под руку и сказал начальнику экспедиции: — Имею я право хоть час использовать для личных дел? — Пожалуйста! — восторженно взмахнул тот нескладными руками. — Я что, чурбан? Думаете, Возняков ничего, кроме работы, не понимает? Сейчас все устроим. Я сейчас пришлю лошадь. Она на площадке. Езжайте. А я машиной доберусь. Володя с Надей переглянулись. — Не надо, — сказал Володя. — Мы пойдем пешком. — Пешком? — Возняков опять удивился. Смысл такого нерационального расхода сил и времени был ему непонятен. — Да. Пешком. — Ах да... — Возняков что-то сообразил, растроганно улыбнулся. — Конечно. Действительно. Идите пешком... Не обращайте на меня внимания. Я, кажется, того... Володя с Надей засмеялись и побежали с перрона. Возняков еще долго глядел им вслед, чему-то улыбался и рассеянно мял в руках мокрые рукавицы. Он, очевидно, вспомнил что-то свое, светлое, далекое-далекое... Выбравшись на окраину поселка, Володя с Надей взялись за руки и тихонько побрели по дороге, идущей в Заречье. — Вот здесь будет горком партии, — указала Надя на широкую просеку, ощетинившуюся заснеженными лбами многочисленных пней. — А там — абразивный завод. Там — водокачка. — А здесь? Надя ничего не сказала. Володя посмотрел в сторону, куда махнул рукой, и тоже многозначительно замолчал, сделался серьезным. Перед ними лежала дорога, убегавшая в лес, к невидимому за соснами, но близкому Заречью. Дорога, по которой им предстояло идти вместе.
МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ "ПРИВИДЕНИЯ" ДРЕВНЕГО ЗАМКА Приключенческая повесть

ОТ АВТОРА
Обычно литераторы не любят рассказывать о священном процессе создания книг. На вопросы любознательных читателей они отвечают туманно и многозначительно: — Знаете ли, все это очень сложно. Трудно, знаете ли, вот так, сразу, в нескольких словах... Да простят мне соратники по ремеслу, но я с большой охотой расскажу о том, как писал приключенческую повесть — первую в своей жизни и, к счастью для читателей, кажется, последнюю... Было это в мае 1945 года. Война кончилась, и наша дивизия находилась какое-то время на рубеже, занятом ею 9 мая. Солдаты отдыхали. Отдыхали и мы, сотрудники газеты. На третий день после войны меня вызвал к себе редактор и объявил: — Войска на отдыхе. Ваша задача? Он сказал это таким тоном, каким обычно командиры дают вводные на важных тактических учениях. Обескураженный, я молчал. Впрочем, редактор и не нуждался в моем немедленном ответе, потому что тотчас же сам поставил передо мной боевое задание: — Срочно требуется читабельный материал. Нужна приключенческая повесть, с продолжением на десять номеров, по три колонки в каждом номере. Немедленно приступайте к работе. И чтобы через два часа первый кусок был у меня на столе. Ясно? — Ясно, товарищ майор! Но... — Никаких «но»! Однако, видя мою растерянность, редактор счел необходимым сделать некоторые предварительные указания: — Я знаю, вы любите всякие там пейзажи. Так вот: в приключенческой повести они ни к чему. Динамика, динамика и еще раз динамика! — А как же с характерами? — Характер проявится в действии. Ясно? Теперь, после столь исчерпывающих указаний, конечно же все было ясно. На какую тему должна быть повесть, редактор не говорил. Но это и так было понятно: немецкий шпион, с одной стороны, наш разведчик — с другой. Вот главные действующие лица моего будущего произведения. Над заголовком тоже не пришлось долго ломать голову. Сами собой возникли слова: «По следам... волка». Теперь нужно было только придумать: какого волка? Может, «фашистского»? Не годится — штамп. «Гитлеровского»? Банально! Нет, надо идти от самого героя — от шпиона, от его клички, ведь должен же шпион иметь свою кличку? И вот окончательное название повести: «По следам Меченого волка». Помнится, что все шпионы из известных мне детективов имели какую-нибудь отметину на своем челе. Почему же моему шпиону не иметь такой отметины? Короче говоря, не малая часть дела сделана, и можно было приступить к первой главе. В самую последнюю минуту я, однако, вспомнил, что ни одна приличная приключенческая повесть не выходит без пролога. Но еще раньше требовалось все-таки дать имена положительному и отрицательному героям. «Аниканов!» — вспыхнуло в мозгу, когда я подумал о нашем разведчике, которому суждено изловить вражеского лазутчика. «Аника-воин...» Великолепная ассоциация! Меченого же волка я прямо-таки пригвоздил к позорному столбу, дав ему фамилию Гроссшвайн — большая свинья! Итак, сержант Аниканов и барон фон Гроссшвайн заняли свои позиции, чтобы вступить в единоборство. А через час был готов уже и пролог. Привожу его полностью.«ПРОЛОГ
Аниканов был удивлен. Здесь, в немецком блиндаже, разведчик, естественно, ожидал встретить немецких солдат. А перед ним стоял довольно уже пожилой человек в штатском, с глубоким шрамом на левой щеке. Незнакомец тоже был ошеломлен неожиданным появлением советского разведчика. Их взгляды встретились. Руки человека в штатском потянулись было к лежащему на столе маузеру. Но в тот же миг он увидел наставленный на него автомат Аниканова. Разведчик сделал шаг к человеку со шрамом, но чьи-то руки схватили его сзади. Аниканов упал, успев нажать на спусковой крючок автомата. За дверью послышался топот ног. Аниканов сделал усилие, повернул голову к выходу и увидел спешивших к нему на помощь разведчиков. В ту же минуту человек со шрамом резким движением руки сбросил на землю стоявшую на столе свечу. Борьба в темноте закончилась быстро. Аниканов почувствовал, как руки, державшие его, разжались. Он вскочил на ноги и, вынув из кармана электрический фонарик, осветил блиндаж. Разведчики связывали руки немецкому унтер-офицеру, во рту которого торчал кляп. Однако не это сейчас интересовало Аниканова. Луч его фонарика заскользил по углам. Но в блиндаже, кроме товарищей Аниканова и связанного немца, никого не было. Человек со шрамом исчез.» Перечитав раз и два написанное, я вновь отправился к редактору. — Хорошо. Оставьте, я посмотрю. А сейчас вам придется пойти в часть. Я покинул редакцию в полной уверенности, что мое сочинение будет забраковано уже у самых его истоков, и, признаться, очень хотел этого, потому что решительно не знал, что делать дальше со своими героями. Но на другой день в полк, куда я был послан, пришла газета, и на второй ее полосе под крупным клишированным заголовком стояла моя фамилия. И после слов «Человек со шрамом исчез» значилось: «Продолжение следует». Не успел я прочесть свой пролог, как из редакции позвонили и приказали мне немедленно возвращаться. Очевидно, редактор вовремя сообразил, что никакого продолжения повести не последует, если автора ее не вызвать в срочном порядке и не усадить за письменный стол. С того дня меня поставили на особый режим. Я сидел в своей комнатенке денно и нощно. И писал, писал, писал... Еду приносили мне из столовой прямо в комнату. Машинистка сама прибегала за оригиналом, выхватывала из-под моего пера страницу за страницей. Корректуры я не брал, копии не оставлял — не до того! «Динамика, динамика и еще раз динамика!» — лозунг этот, выдвинутый редактором, подхлестывал не только моих героев, но и меня. Человек со шрамом исчез. Следовательно, его надо найти и обезвредить, найти во что бы то ни стало. Ведь редактор не случайно внес поправку в первоначальный заголовок повести. Теперь она называлась «Конец Меченого волка». А вот конца-то как раз и не было видно. Сначала я направил стопы своего главного положительного героя сержанта Аниканова к домику лесника. Но там сидел древний старикашка, вовсе не похожий на барона фон Гроссшвайна. И тем не менее я сумел-таки заронить в сердце читателя подозрение к этому бородачу: ведь шпион может принять любую личину. Но Аниканов не мог арестовать старичка «за отсутствием явных улик». И разведчик долго еще блуждал со своими помощниками по ложным следам. Не сидел сложа руки и Меченый волк, он же барон фон Гроссшвайн, он же старый лесник. Оказывается, знаменитый гитлеровский разведчик имел задание проникнуть в наше расположение и уничтожить такого же знаменитого разведчика, только советского, а именно — сержанта Аниканова. Обостряя и усложняя сюжет, я в конце концов так запутался, что ужетолком не знал, кто кого ловит, — как говорится, «все смешалось в доме Облонских...». Конца по-прежнему я не видел. И наверное, появилось бы еще с полдюжины трехколонников с интригующей припиской «продолжение следует», если б не выручил один солдат — читатель газеты. Похоже, он давно уже приметил, что зря автор так долго мучается сам и мучает своего героя, и поэтому дал добрый, но, к сожалению, несколько запоздалый совет: «Да возьмите вы двух-трех автоматчиков, окружите злополучный домик лесника, и шпион будет в ваших руках. Только и делов!» Я так и сделал. Но тут же понял, что мог это сделать уже в первой главе.Глава первая
СЛУЧАЙНАЯ ФРАЗА
Лес как лес. И деревья, и глухие тропки, устланные прошлогодним листом. Но как он не похож на сибирскую тайгу! Там деревья могучие, кряжистые, и веет от них какой-то былинной силой. А тут деревца хилые, и кажется, что растут они как-то нехотя, не могут подняться от этой глинистой земли вверх, к солнцу. «Нет, лучше моей сибирской тайги не сыскать на всем белом свете!» — так мысленно рассуждал сержант Аниканов, возвращаясь лесной дорогой из штаба корпуса, куда он отводил пленного унтер-офицера, очередного «языка», захваченного в последнем поиске. Аниканов вспомнил этот вчерашний поиск, и опять — в который уж раз! — в его сознании возник вопрос: «Кто же такой человек со шрамом?» Может быть, гитлеровский шпион, которого готовились перебросить в расположение наших войск? Едва ли. Опытный разведчик, Саша Аниканов, разумеется, понимал: человек, на лице которого такая отметина, не годится для шпионской работы. Но все-таки кто же он? Сколько ни пытались в штабе узнать об этом у пленного немецкого унтера, тот отвечал: — Я не знаю. Аниканов вытащил из кармана кисет, на котором бисером было вышито: «Помни Анфису», как всегда, глянул на него, улыбнулся и привычно, по-солдатски, на ходу начал свертывать самокрутку. Однако закурить не пришлось — в карманах не оказалось спичек. Слева от дороги, на небольшой поляне, стоял домик лесника, над трубой которого вился легкий дымок. Аниканов направился к жилищу. В передней комнате у небольшой железной печурки сидел старик и подбрасывал в огонь поленья. Из полуоткрытой двери, ведущей во вторую комнату, слышалась русская речь. Аниканов вытащил из печки горящее поленце, прикурил. Его внимание привлекла случайная фраза, произнесенная в другой комнате: — ...Это, брат, след из-под Белгорода. Видал, морду попортило — жинка не узнает... Сержант прислушался. «Из-под Белгорода?.. Ведь и я там воевал, может, из нашей части человек», — подумал он и вошел в соседнюю комнату, в которой за большим столом над раскрытой банкой консервов сидели два солдата. Один из них, молодой, светловолосый паренек, с орденом Славы, сидел лицом к двери. — Присаживайся к нам, браток, хлебнем малость! — постукал пальцем по фляге второй боец, сидевший спиной к двери, и повернул голову к Аниканову. Сержант увидел на его левой щеке глубокий шрам... «Он!.. Вчерашний!» — мелькнуло в голове Аниканова. На лице человека со шрамом мгновенно исчезла улыбка. Шрам из красного стал лиловым. Холодные, злые глаза в упор смотрели на разведчика. Но это продолжалось один миг. Человек со шрамом первым пришел в себя и сильным ударом головы сшиб Аниканова с ног, выхватил из-под шинели маузер, выстрелил в разведчика. Затем схватил вещевой мешок, метнулся к окну, вышиб раму и исчез в лесу. Все это случилось так быстро, что молодой солдат, сидевший за столом, не успел даже сообразить, что же произошло на его глазах. И лишь, когда человек со шрамом скрылся, он подбежал к Аниканову и приподнял его. Лицо сержанта было залито кровью.Глава вторая
ВЕЩЕВОЙ МЕШОК
Сознание медленно возвращалось к разведчику. Он попытался открыть глаза, но они были залиты кровью, которая склеила ресницы. Аниканов сделал большое усилие и открыл глаза. Первое, что он увидел, это был молодой солдат с орденом Славы, вытаскивающий из вещевого мешка ракетницу. Память быстро воскресила все случившееся в последние минуты: вскочив на ноги, Аниканов схватил лежавший рядом автомат и наставил на солдата. Тот испуганно и удивленно смотрел на разведчика, лицо которого в эту минуту было страшным. Ракетница выпала из рук бойца. Аниканов связал оторопевшего солдата и стал рассматривать содержимое вещевого мешка, обыкновенного, простого вещевого мешка, который есть у каждого советского бойца. Однако предметы, вынутые Аникановым из мешка, никак не могли считаться принадлежностью солдатского обихода. Ракетница с запасом ракет, немецкая карта, какие-то порошки в стеклянных ампулах, серый штатский костюм — для чего бы все это нашему бойцу?! — Хорош же у тебя набор! — проговорил Аниканов, с усмешкой глядя на связанного. Затем он принялся выворачивать карманы серого костюма. Но в них ничего не оказалось, если не считать дешевой открытки с лубочным рисунком, изображавшим сидящую на ветке птицу с длинным клювом. На обратной стороне открытки четкими готическими буквами было выведено несколько слов. — Лирический ты, видать, фриц. От Гретхен, что ли, на память получил? — обратился к своему вынужденному собеседнику Аниканов. — Да это не... — начал было солдат, но его перебил разведчик: — Ну ладно, не от Гретхен, так от Берты. Не все ли равно!.. Пошли. Майору расскажешь, как зовут твою кралю. Они двинулись к выходу: впереди — молодой солдат, а за ним — Аниканов с вещевым мешком, в который он снова уложил все найденные вещи. У самой двери разведчик остановил задержанного и начал внимательно разглядывать дырку, проделанную пулей. Старик сидел в прежней позе у своей печки, словно в доме ничего и не случилось. Но когда Аниканов и задержанный им солдат скрылись за дверью, старик с быстротой, которой никак нельзя было ожидать в его возрасте, выскочил в сени, подставил лестницу к закрытому люку, приподнял крышку головой и исчез в полумраке чердака. Аниканов тем временем вышел с арестованным на тропинку, с которой он недавно свернул к домику лесника, и направился в сторону своего штаба. А в это время через слуховое окно чердака за ними внимательно наблюдали две пары глаз.Глава третья
«КРАСНЫЙ. СИНИЙ. КРАСНЫЙ»
— Мы действуем на два часа позже, в 5.00. В 3.00 начинает наш левый «сосед». Там будет главный удар. Начальник разведки майор Орлов внимательно выслушал полковника. — Так вот почему ушли от нас сегодня танки налево. Значит, тут никого нет! — сказал Орлов, указывая пальцем на окаймленное рощицей озеро, обозначенное на карте. — Да, никого. Ну, все понятно? — спросил полковник, встав из-за стола. — Так точно! — ответил майор, провожая начальника штаба. Они вышли на улицу. Дул легкий весенний ветерок. Солнце только что скрылось за гребнем гор. Майор взглянул вслед удаляющемуся полковнику и увидел Аниканова. Впереди разведчика шел солдат со связанными руками. — Кто это? — спросил Орлов Аниканова, указывая на бойца. — Сейчас доложу все по порядку, товарищ майор! — ответил сержант и рассказал начальнику, что произошло за последние часы. Орлов приказал своему ординарцу отвести задержанного к коменданту, а сам, войдя в блиндаж, вместе с Аникановым стал рассматривать содержимое вещевого мешка, принесенного разведчиком. — Это все, что было у задержанного? — спросил начальник разведки. — Все, — ответил сержант. А потом, что-то вспомнив, сунул руку в карман и вытащил оттуда открытку с изображением птицы. — Вот, карточка еще... Орлов посмотрел на птицу с длинным и острым клювом, затем перевернул открытку обратной стороной и стал читать написанное там. — Да... Любопытно, — задумчиво произнес майор и начал переводить текст, записывая его на бумагу. Аниканов взглянул через плечо на переведенную майором надпись и удивился бессвязным фразам:Глава четвертая
В ДВУХ ШТАБАХ
Полковник Ланге был в великолепном настроении. Обычно осторожный и сдержанный в выражении своих чувств, сейчас он ни на минуту не сомневался в успехе предпринятой им операции, а потому и пребывал в добром расположении духа. — Через пять минут русские получат хороший подарок! — проговорил он, взглянув на фосфоресцирующий циферблат часов. — О да! Для них это будет большим сюрпризом. Тридцать «юнкерсов»! Давно уж над их головами не появлялось такое количество наших самолетов одновременно, да еще ночью! Глаза майора Шредера за стеклами роговых очков сощурились. — Так сколько, господин майор, в районе «Птичьего глаза» русских танков? — спросил Ланге. — По последним сведениям разведки, девяносто, господин полковник! — Очень хорошо! Пойдемте полюбуемся на иллюминацию... Офицеры вышли на улицу и прислушались. Где-то далеко, сзади, послышался нарастающий гул «юнкерсов». — Смотрите туда! — указал полковник в сторону переднего края. — Отсюда до «Птичьего глаза» семь километров, и мы с вами сейчас увидим ракеты Меченого волка. Он там. И будто в подтверждение его слов в воздух взвилась красная ракета... Но не там, куда указывал полковник, а справа от них, всего лишь в нескольких сотнях метров. Догоняя ее, в небо полетела синяя ракета, а за ней — снова красная... К этому времени «юнкерсы» были уже над головами полковника и майора, и воздух наполнился свистом летящих бомб. Немцы поспешно нырнули в бункер. Земля содрогалась от сильных взрывов. По улицам села, в котором располагался штаб немецкого корпуса, в красном зареве пылающих домов метались немецкие солдаты и офицеры. Бомбежка уже давно закончилась, но полковник и майор продолжали сидеть в бункере. — Неужели Меченый волк попался? — проговорил пришедший наконец в себя полковник. — Я прошу вас, господин майор, немедленно связаться по радио с «Тринадцатой», и передайте мой приказ — найти след Меченого волка. Главное задание он должен выполнить. Однако тишина, наступившая после бомбежки, длилась недолго. С переднего края послышался сплошной гул разрывов. Изредка тяжелые снаряды, выпущенные из дальнобойных орудий, долетали и сюда, сотрясая своими взрывами убежище.* * *
— Ну, началось! — с радостным возбуждением воскликнул начальник разведки майор Орлов. Несколько минут он и командир разведроты старший лейтенант Закиров прислушивались к гулу артподготовки. — Да, вы мне так и недосказали, почему немцы бомбили свой штаб? — обратился Закиров к начальнику, продолжая прерванный разговор. — Ну вот... Когда Аниканов показал мне открытку с птицей, я сначала не обратил внимания на надпись. Но потом странный смысл этой надписи заинтересовал меня. И, расшифровывая ее, мы поняли, что цифры один, два, три означали: один час ночи второго числа, а цифра три — март. Немцы собирались в это время бомбить наши танки в районе озера. Этот немецкий разведчик должен был дать сигнал своим самолетам. Я устроил немцам сюрприз: Аниканов пробрался к штабу немецкого корпуса и там, услышав гул самолетов, выпустил в воздух красную, синюю и еще красную ракеты. Все как полагается... — Здорово! — не мог сдержать радостного удивления Закиров. — А не угодно ли вам полюбоваться на немца, которого задержал Аниканов? — Еще бы? Конечно, товарищ майор! Начальник разведки приказал привести задержанного. Каково же было его удивление, когда командир роты е радостным криком бросился обнимать приведенного солдата: — Петров! Дружище! Вылечился!.. Да мы с ним вместе воевали два года, товарищ майор! — обернулся старший лейтенант к начальнику. Но вдруг улыбка исчезла с лица Закирова. — А это откуда у тебя? — холодно спросил он бойца, указывая на предметы, вынутые из его вещевого мешка. — Это не мой мешок! — ответил спокойно боец. — Когда тот гад со шрамом удирал в окно, в спешке он схватил мой мешок, а свой оставил... И Петров рассказал, как он зашел отдохнуть в домик лесника и встретил там человека со шрамом, который якобы тоже возвращался из госпиталя в свою часть. — Ну, это для вас наука на всю жизнь. Впредь будете поосторожней! — сказал майор, строго посмотрев на разведчика. — Спасибо скажите Аниканову: парень выдержанный. А другой мог бы и прикончить вгорячах... Начальник разведки замолчал и стал прислушиваться к канонаде. Потом взглянул на время и сказал старшему лейтенанту: — Мне пора. Скоро и мы начинаем. Когда возвратится Аниканов, прикажите ему отправиться по следу человека со шрамом и найти его. И уже у самой двери добавил: — Дело это, разумеется, нелегкое. Поэтому и вы, товарищ Петров, отправляйтесь вместе с сержантом Аникановым. По старой дружбе, он рад будет увидеть вас, — улыбнулся майор.Глава пятая
ДВЕ ДОРОГИ
В третий раз Аниканов шел по этому пути. Он снова возвращался к домику лесника. «Зачем приходил сюда человек со шрамом? И куда он исчез?» — рассуждал сержант. И чем больше он думал об этом, тем сложнее казалось ему его задание. Ведь до сих пор он был простым разведчиком, правда, говорят, неплохим, но все же обыкновенным дивизионным разведчиком — приводил вражеских «языков», разведывал силы и расположение неприятеля, устраивал засады, совершал дерзкие налеты на немецкие гарнизоны. Все это было для разведчиков привычным делом. Теперь же он должен стать следопытом... Аниканов обернулся к Петрову, с которым, как это часто бывает с людьми, устранившими существовавшее между ними недоразумение, они уже успели крепко сдружиться. — А никого еще не было с тем человеком, когда ты вошел в домик? — спросил сержант бойца. — Нет... Впрочем, были — тот старик, что сидел у печки, и девушка. Но они быстро вышли из комнаты, когда я появился... «Девушка?» Аниканов ее не видел. Разведчики снова пошли молча. Каждый думал о своем. Вернее, об одном и том же, но только по-своему. Теперь им было ясно, что человек со шрамом — опасный и хитрый враг, замышляющий какое-то коварное дело, и что действует он не один — у него есть сообщники. Чутьем разведчика Аниканов понимал, что старик и девушка могли играть какую-то определенную роль в этом деле. Немецкий шпион появился в домике лесника не случайно. Это могло быть, конечно, так. А могло быть и не так. Стало быть, нужно выяснить, уточнить, чтобы гипотеза стала фактом... Как бы там ни было, а размышления Аниканова все более и более утверждали его в мысли: отсюда, от этого ничем не примечательного домика, расположенного на лесной полянке и забытого, кажется, самим богом, шла нить, по которой следует искать немецкого разведчика-диверсанта. Так, в глубоком раздумье, незаметно дошли до лесниковой усадьбы. Аниканов постучал в дверь, но ему никто не ответил. Он постучал еще раз более настойчиво, затем подергал дверь — она была заперта. Разведчики обошли вокруг дома и остановились у окна, выбитого человеком со шрамом. Аниканов и Петров, держа автоматы наготове, влезли в окно. На столе по-прежнему стояла открытая банка консервов и недопитые стопки с ромом. Аниканов и Петров прошли в переднюю комнату. У самой двери сержант остановился и стал внимательно осматривать место, где он лежал, сбитый с ног немцем. Потом указал на отверстие от пули и, улыбаясь, проговорил: — Плохо стреляет гад — в лежачего не попал... Однако головой дерется крепко, — и Аниканов пощупал синяк под правым глазом и распухший нос. Передняя комната также была пуста. Разведчики поднялись на чердак. Но и там никого не обнаружили. Аниканов и Петров снова вышли на улицу. От домика лесника в глубь леса, разветвляясь, уходили две дороги. «По какой из них мог уйти немец? — думали одновременно разведчики. — И почему он должен обязательно идти по дороге?» Однако забираться в чащу — это все равно что искать иголку в стоге сена. — Придется пойти по обеим дорогам. Ты — вправо, я пойду прямо, — сказал Аниканов. Он вынул карту и показал место, где они встретятся на следующий день. Попрощавшись со своим новым товарищем, Петров ушел. Аниканов двинулся своим путем. Но через некоторое время он вновь возвратился к домику. Интуиция разведчика подсказывала ему, что домик долго не будет оставаться пустым, что в нем кто-то должен появиться. Сержант отошел в кустарник и, замаскировавшись там, стал наблюдать за жилищем. Его предположения оправдались. Вскоре на лесной тропинке показался «знакомый» старик, которого Аниканов видел сидящим у печки. За спиной у него была квадратная ивовая корзина, наполненная доверху сухими сучьями. Старик вошел в сарай, оставил там свою ношу и, открыв дверь большим ключом, скрылся в домике. Аниканов быстро перебежал полянку, забрался в сарай. Там он под соломой нашел корзину, снял лежавшие наверху ветки и увидел аккуратно сложенные толовые шашки. Он опять забросал корзину ветками и соломой. Затем снова вернулся к месту своей засады. Вскоре старик вышел из дома, взял из сарая корзину с толом и направился по дороге, по которой должен был двигаться сержант. Аниканов последовал за ним.Глава шестая
НЕОЖИДАННЫЕ ВСТРЕЧИ
Около трех часов шел Петров по своей дороге. А лесу не было конца. Разведчик уже подумывал, не вернуться ли назад. Но что-то подсказывало ему, что он идет по верному пути, и Петров продолжал двигаться вперед, чутко прислушиваясь к лесным шорохам. Но вот наконец лес стал редеть и вскоре совсем кончился. Петров вышел на его опушку и увидел впереди себя большое село. Подумав немного, разведчик решил войти в него. Через несколько минут он был уже в центре села. Тут внимание разведчика привлекли местные жители, столпившиеся возле церкви. Оттуда слышались их взволнованные голоса. «Кажется, что-то случилось», — подумал Петров и направился к толпе. Его моментально обступили люди и на ломаном русском языке, перебивая друг друга, стали рассказывать о случившемся. Они рассказали о том, что какой-то русский солдат во время богослужения ворвался в церковь и стал бить иконы. А когда его пытались задержать, он поднял стрельбу и скрылся. Это произошло не далее как полчаса назад. Разведчик задумался. — А какой он из себя, этот русский солдат? — спросил он после некоторой паузы. — Уже пожилой, среднего роста... — Со шрамом на лице? — перебил рассказчика Петров. — Да, на его левой щеке, кажется, был шрам, — после минутного раздумья подтвердил рассказывающий. Спустя минуту, взволнованный и потрясенный случившимся, Петров уже шагал по одной из улиц села, где, по словам жителей, скрылся человек со шрамом. Теперь разведчику было ясно, что они имеют дело не просто с немецким шпионом и диверсантом, но и с матерым провокатором. И немец находился сейчас в селе — в этом не могло быть никакого сомнения. «Но куда идти?» — этот вопрос возник в голове Петрова, как только он отошел несколько метров от церкви. Разведчик остановился и стал размышлять. Потом он увидел, как дверь одного дома, расположенного недалеко от него, раскрылась и на крыльце появилась девушка в военной форме. Утомленный дорогой, Петров решил зайти в этот дом и несколько минут отдохнуть. Девушка оказалась медицинской сестрой из медсанбата. — Не землячка ли будете? Может, из Орла? — спросил Петров, когда они вошли в комнату. — Нет, я из Сибири, — ответила медсестра. Они разговорились. Девушка оказалась словоохотливой. Из ее рассказов Петров понял, что она окончила курсы медсестер и только недавно приехала на фронт. Незаметно разговор зашел о старшине, который жил напротив и который, по ее словам, очень легкомысленно ведет себя: ухаживает за какой-то молодой, красивой местной женщиной и похваляется этим всюду. — А вот как раз он и сам сюда идет, — сказала девушка, взглянув в окно. Вошел старшина. Одет он был в щегольский трофейный мундир, с многочисленными карманами и без погон. Брюки также были трофейные. — Кто это, товарищ старшина, к вам пошел? — все еще не отрываясь от окна и не глядя на вошедшего, спросила сестра, указывая на старика с корзиной, медленно идущего по улице. — А, это отец моей Маргариты. Он часто к ней приходит, — ответил старшина. — Должно быть, дрова опять несет. Петров чуть не вскрикнул: в человеке с корзиной он узнал старого лесника из того домика, где он встретил человека со шрамом. Разведчик хотел было выскочить на улицу, но вдруг увидел Сашу Аниканова, который шел следом за стариком, примерно в двухстах метрах от него. «Значит, все в порядке», — успокоился Петров и, дождавшись, когда старик скрылся во дворе, вышел на крыльцо и позвал сержанта. Когда Аниканов подходил к Петрову, на крыльцо вышла и медсестра. Аниканов взглянул на нее и оцепенел. — Анфиса! — Саша! Сержант и девушка бросились друг к другу. Петров с растерянно-удивленным видом стоял рядом. Он еще никак не мог понять, что присутствует при встрече своего нового товарища с любимой девушкой.Глава седьмая
УЗЕЛ РАЗВЯЗЫВАЕТСЯ...
Обрадованные столь неожиданной, но все же возможной на войне встречей, Саша Аниканов и Анфиса наперебой рассказывали друг другу о том, что произошло с ними за эти четыре года. И неизвестно, сколько времени тянулся бы этот их разговор, если б Петров не напомнил им о себе. — Ты что же это, друг, и не познакомишь меня со своей невестой, — обратился он к сержанту. — Прости, дружок, я на радостях забыл все на свете... Знакомьтесь. Это — Анфиса Ковалева, вместе в школу ходили на Алдане. А потом и работали на золотых приисках. Моя невеста... — Вот и прекрасно! — подхватил старшина, о котором как-то все забыли. — Отпразднуем встречу двух любящих сердец!.. Прошу ко мне! «Горючее» есть и приложение к нему найдется!.. При других обстоятельствах Аниканов уклонился бы от этого предложения — старшина не вызывал у него особой симпатии. Но сейчас оно было очень кстати — это был повод попасть в дом, куда вошел старик с корзиной тола. И все трое направились на квартиру старшины. У самых ворот Аниканов вдруг задержался в начал внимательно рассматривать надписи на белой стене дома. Это были обычные знаки — указатели наступавших частей. Чего там только не было: стрелки, треугольники с буквами в середине, квадраты, изображение зверей и просто фамилии. Но не они задержали внимание разведчика: среди множества этих знаков он увидел на стене рисунок с изображением птицы с длинным клювом, опущенным вниз, точно такой же, какой он видел на открытке, найденной в вещевом мешке человека со шрамом. Теперь Аниканов окончательно убедился, что след шпиона найден. Сержант быстро подбежал к Петрову, шедшему впереди старшины, и шепнул ему на ухо: «Приготовься!» Тот понимающе кивнул. Разведчики ускорили шаг, чтобы первыми войти в дом. Аниканов с силой толкнул дверь и, сжимая в кармане рукоятку пистолета, быстро вошел в комнату. Но в ней никого не оказалось. Также пуста была и вторая комната. Аниканов и Петров разочарованно переглянулись. «Зачем же я задержался возле Анфисы? Что я наделал?.. Это ж преступление!» — обожгла сержанта мысль. Старшина был удивлен не меньше разведчиков. — Куда же это Маргарита сбежала? — недоумевал он. — Обычно она уходила в восемь, а сейчас... — Куда уходила? — быстро спросил Аниканов. — А кто ее знает. Я не спрашивал... Старшина накрыл стол. Однако разведчики, а вслед за ними и Анфиса отказались от угощения. Они посидели немного и собрались уходить. — Почему так быстро? — обиделся старшина. — Дела, брат, — ответил за всех Аниканов и направился к выходу. До самых сумерек разведчики наблюдали через окно из комнаты Анфисы за домом, где жил старшина. В течение этого времени никто в него не входил, а также и не выходил. Когда стенные часы пробили восемь, разведчики и Анфиса, которую друзья посвятили уже в суть дела, вышли на улицу и осторожно направились к дому старшины. Аниканов подошел к окну и стал прислушиваться. Но в доме было тихо. Оставив Петрова во дворе, Аниканов и Анфиса вошли в комнату. То, что они там увидели, заставило их содрогнуться. На полу, возле стола, раскинув руки, неподвижно лежал старшина. Анфиса бросилась к нему, пощупала пульс. — Он только что умер!.. Девушка приподняла голову старшины к свету и, разглядев пену в уголках его губ, добавила: — Его отравили. Аниканов посмотрел на стол, возле которого лежал старшина. На нем стояли три стакана. Разведчики поняли, что кроме старшины в комнате недавно были еще два человека. Аниканов стал быстро обыскивать квартиру. На кухне, возле бутылки с вином, он увидел две стеклянные ампулы. Одна из них была пуста... Аниканов и Анфиса начали рассматривать яд, которым был отравлен старшина. Петров, оставшийся во дворе, не терял напрасно времени. Он внимательно разглядывал постройки. Вдруг в щели одной из дверей блеснул тонкий луч света. Петров подобрался к ней и стал прислушиваться. Откуда-то снизу до него доходили глухие голоса. Он решительно толкнул дверь, но в то же мгновение раздался выстрел. Разведчик схватился за грудь и упал. Теряя сознание, он увидел, как мимо него из подвала пробежали три человека. На выстрел во двор выбежали Аниканов и Анфиса. Увидев залитого кровью Петрова, они поспешили к нему на помощь. Девушка стала перевязывать солдата, а сержант быстро спустился в подвал. Но там уже никого не было. Только из наушников включенной радиостанции, нарушая тишину, слышался тонкий писк морзянки. Аниканов взял наушники и приложил к уху. Вслушавшись, он разобрал только одно слово: «Тринадцатая... Тринадцатая...» Аниканов бросил наушники и стал рассматривать лежащую на столе немецкую карту. На ней был обозначен населенный пункт, в котором они находились сейчас, и мост через широкую реку в конце этого села, перечеркнутый красным карандашом. Вспомнив про старика и про тол, принесенный им в корзине, Аниканов сразу же понял замысел диверсантов: они побежали к мосту, чтобы взорвать его.Глава восьмая
КОНЕЦ МЕЧЕНОГО ВОЛКА
Медлить было нельзя: мост, единственный на всем участке нашего фронта, в любую минуту мог взлететь на воздух. Это если не сорвет, то, во всяком случае, замедлит начавшееся наше наступление. Оставив Анфису возле раненого Петрова, Аниканов побежал к мосту. Ноги вязли в липкой весенней грязи. В темноте сержант то и дело проваливался в канавы, наполненные водой, несколько раз падал. У самого моста его окликнул часовой. Задыхаясь после тяжелого бега и от волнения, разведчик спросил его: — Не проходил никто по мосту? — Только сейчас прошли трое гражданских: мужчина в шляпе, девушка и старик с корзиной... Но Аниканов недослушал часового. Каждая секунда промедления могла быть роковой. — Это диверсанты! Доложи караульному начальнику! — уже на бегу крикнул он часовому. Часовой выстрелил в воздух и бросился вслед за разведчиком. Аниканов добежал до середины моста. Здесь были главные устои, поддерживающие сооружение, — самое удобное место для взрыва. Он осветил перила, настил и увидел пустую корзину, ту самую, в которой старик нес тол, — значит, тол был уже заложен. Сержант перегнулся через перила и стал прислушиваться. В это время внизу вспыхнуло маленькое пламя зажженной спички. Аниканов перелез через перила и по балкам устоев начал быстро и бесшумно спускаться вниз. Почти у самой воды он зажег электрический фонарик. Яркий луч осветил человека, который уже готовился взобраться наверх. В руке он держал конец только что зажженного бикфордова шнура. Разведчик направил свет в лицо человеку и сразу узнал его: на потном, разгоряченном лице был глубокий шрам... Аниканов бросился на ослепленного светом и оторопевшего от неожиданной встречи врага. Правой рукой сержант схватил его за горло, а левой — нащупал шнур и с силой оборвал его. Человек со шрамом, держась одной рукой за балку, чтобы не упасть в воду, другой старался высвободить шею от руки разведчика. Но сержант все сильнее и сильнее сжимал его горло. Задыхающийся диверсант рухнул в воду. Вместе с ним упал и Аниканов. Эта схватка длилась не более минуты. Теперь она продолжалась в воде. Услышав всплеск, часовой, стоявший наверху, поспешил на помощь Аниканову. Вдвоем они быстро справились с немцем. Аниканов вытащил человека со шрамом на берег. И тут же вспомнил, что диверсант был не один. — А где же остальные двое?.. И, как бы отвечая на его вопрос, из темноты показалась группа солдат, которые вели старика и девушку.* * *
— Поздравляю вас с успешным выполнением задания и правительственной наградой, — сказал генерал, прикрепляя на груди Аниканова рядом с двумя орденами Славы орден Красного Знамени. — И вас также, — обратился генерал к перевязанному Петрову, стоявшему рядом с сержантом. — А теперь прошу отужинать со мною, — сказал комдив, указывая на накрытый стол, и подошел к телефону. Генерал назвал номер и сказал кому-то в трубку: — Прошу зайти ко мне. Они здесь... Через несколько минут в комнату вошел высокий, уже немолодой полковник с энергичным и умным лицом. Он взглянул на разведчиков спокойными глазами. — Вот вы какие, — улыбаясь, сказал он, пожимая руку Аниканову и Петрову, и сел рядом с ними. — Давайте выпьем за большой успех наших разведчиков, — предложил генерал. Завязалась оживленная беседа. Разведчики возбужденно рассказывали, как они выслеживали шпионов и в конце концов поймали их. — А известно ли вам, кого вы поймали? — обратился полковник к Аниканову и Петрову. — Шпиона просто, и все... — Нет, не просто шпиона, — начал свой рассказ полковник. — Мы следим за этим человеком давно и хорошо знаем его биографию. Альфред фон Штиммер еще в 1910 году окончил школу разведчиков в Баварии. И в первую мировую войну он считался у немцев одним из самых талантливых шпионов и диверсантов. Фон Штиммер был тогда известен под кличкой Волк. Этот Волк исколесил полмира. Он был мастером на все руки. Шпионаж, диверсии, провокации — вот диапазон его работы. В 1915 году он работал в Америке под руководством известного немецкого дипломата — шпиона фон Папена. Фон Штиммер подкладывал на пароходы, отправлявшиеся с военным грузом в Англию, немецкие «сигары». В пути эти «сигары» взрывались, и пароход загорался. В ту же войну Волк работал на Ближнем Востоке вместе с знаменитым немецким шпионом Васмусом. Они путем провокаций восстанавливали арабские племена против англичан... Впрочем, англичане не оставались в долгу и делали то же самое в отношении немцев. В те годы, оставаясь неуловимым для контрразведки союзников, Волк был частым «гостем» в их тылу и даже проникал в штабы союзников, добывая ценные для немцев сведения. В начале июня 1941 года Альфред фон Штиммер появился на нашей земле. Это было в те дни, когда гитлеровцы лихорадочно готовились к нападению на Советский Союз. Волк должен был узнать расположение наших войск на большом участке. Но тут впервые за всю блестящую карьеру фон Штиммера ожидал провал. С первого же часа его появления на нашей земле мы преследовали Волка по пятам. Но он несколько раз ускользал из наших рук. Однажды два советских пограничника ранили его при попытке проникнуть к важному объекту. Пуля задела левую щеку. Хотя фон Штиммеру тогда и удалось вернуться в свой штаб, но своего задания он не выполнил. Мы не дали ему поработать. С той поры в немецкой разведке за глубокий шрам на левой щеке его окрестили Меченым волком. Разведчик с приметой не мог быть шпионом. Поэтому фон Штиммер долгое время работал в одной из разведывательных школ Вермахта. Нам удалось выловить несколько его учеников. Почему же все-таки Меченый волк вновь появился у нас? На этот вопрос ответить трудно. Может быть, просто потому, что немецкая разведка за многие годы войны понесла большие потери и теперь стала привлекать старые кадры, по тем или иным причинам отстраненные от непосредственных операций. Возможно, и другое. Известно, что немцы, желая во что бы то ни стало сдержать это решительное наступление войск нашего фронта, пытались взорвать большой мост на одной из наших важнейших коммуникаций. С такой задачей, естественно, мог быстрее и лучше справиться многоопытный, старый шпион и диверсант. А таких у немцев к концу войны действительно осталось немного. В этих условиях гитлеровцы могли рискнуть и пренебречь физическим недостатком одного из опытнейших своих разведчиков, и эта операция была поручена Меченому волку. Вы уже знаете, что попутно он должен был выполнить второстепенные поручения, а именно: сигнализировать немецким самолетам, при помощи провокации восстанавливать против нас местное население и т. д. Но, как видите, у нас с ним повторилась та же история, что и в 1941 году... Только в худшем варианте. Второе появление Альфреда фон Штиммера за линией нашего фронта оказалось для него, при вашем участии, товарищи разведчики, роковым. Это — поистине конец Меченого волка. Что же касается известных вам старика и девушки, это были его помощники, завербованные еще задолго до этого из местного населения.Глава девятая
НАКАНУНЕ
Это было начало конца. Напрасно майор Шредер метался от радиостанции к телефонным аппаратам, угрожал пистолетом телеграфисту — связи с частями не было. И не могло быть. Как страшный ураган, русское наступление разметало весь немецкий корпус. С жалким растерянным видом Шредер вбежал в блиндаж к начальнику штаба. Но полковник Ланге встретил его спокойным, почти неподвижным взглядом своих светлых холодных глаз. — Мне не нужен ваш доклад, майор Шредер. Случилось более страшное, чем вы думаете, — и Ланге указал на шифровку, лежащую перед ним. — Восьмое мая... Запомните эту дату, господин майор. Игра, которую мы начали в 1941 году, закончена. Мы ставили ва-банк и проиграли... У нас больше нет армии. Третья империя погибла. Но, повторяю, запомните эту дату — восьмое мая... С этого дня мы вновь начинаем борьбу за великую германскую империю... Союзники? Полагаю, найдутся и союзники — не все же радуются нашему крушению... Но сейчас речь не о них, а о нас с вами. Мы уходим в подполье. Мы становимся оборотнями. Пусть вас не пугает это слово, господин фон Шредер. Думаю, наше подполье не будет слишком продолжительным. А пока что вам придется стать оборотнями, тайной силой, невидимой и неуловимой. Если хотите, мы будем привидением, — Ланге говорил часто, все более воодушевляясь. Майор испуганно глядел на его лицо, которое в эту минуту было страшным. — Да, привидением. Что может быть грознее этой тайной силы?! А когда настанет час, мы выйдем из подполья. Вновь по Европе загрохочут немецкие танки. Самолеты с черными крестами закроют солнце. Борьба продолжается! В этой борьбе мы будем еще более жестокими и беспощадными. На своем щите мы напишем девиз великих инквизиторов: «Цель оправдывает средства!» Мы не остановимся ни перед какими средствами, чтобы весь мир лежал у наших ног!.. Полковник взглянул на майора и увидел его бледное испуганное лицо и растерянно мигающие глаза за стеклами роговых очков. — Вы боитесь, вам страшно, вы удивлены, господин майор, — вновь заговорил Ланге, в упор глядя на своего собеседника. — Вы думаете, я сошел с ума. Уверяю вас, я абсолютно здоров. Пощупайте, у меня даже пульс нормальный. Все, о чем я здесь говорю вам, продумано нами еще задолго до этого рокового дня. Два года знали мы об этом и готовились. У нас в тайных местах есть оружие. Скажу больше — там, на Западе, нам не особенно мешали, чтобы мы заблаговременно прибрали все, что нам нужно... Есть сотни, даже тысячи людей, верных фюреру и его идеям. Эти тысячи стоят десятков тысяч солдат... Итак, борьба продолжается. Сейчас мы с вами отправимся в наш новый штаб. Оттуда на сотни километров расползутся страшные, невидимые щупальца. Придет время, и они смертельной петлей захлестнут горло врага. Фон Шредер плохо верил в слова своего начальника. Честно говоря, ему хотелось бежать от этого человека, который тащил его в новую пропасть. Майор не прочь был бы сейчас же выскочить на дорогу и вместе с тысячами своих солдат, так же как и они, подняв руки, сдаться русским. Но, как бы угадав его мысли, вновь заговорил Ланге: — Я посвятил вас, господин фон Шредер, в нашу большую тайну, — жестким голосом сказал он. — Не пытайтесь бежать. Я найду вас всюду и буду так же суров и беспощаден, как мой великий предок Ульрих Ланге! При упоминании этого имени майор весь съежился и стал быстро собирать вещи. — Они нам больше не нужны, — обратился к нему полковник. — Мы пойдем трое — я, вы, господин майор, и мой денщик. — Франц! — окликнул полковник. Услышав грозный оклик своего офицера, денщик, прослуживший у Ланге десять лет, быстро вбежал в комнату. ...Они шли по глухой лесной тропе. Впереди полковник Ланге, за ним — фон Шредер и позади денщик с небольшим чемоданом. Недалеко от полянки они остановились. — Франц, пройдите вперед, нет ли кого на поляне, — приказал полковник денщику. Высокий худощавый Франц пошел вперед, но тут же был остановлен голосом начальника: — Возьмите оружие. Ланге вытащил из кобуры свой пистолет, и, когда денщик подходил к нему, полковник в упор выстрелил ему в лицо. Разрывная пуля обезобразила лицо солдата. Полковник раскрыл чемодан и вынул оттуда два штатских костюма. Он и фон Шредер быстро переоделись в потертую одежду. Затем они, сняв обмундирование с только что убитого денщика, натянули на его еще не остывшее тело мундир и брюки полковника. Ланге вынул из кармана своего мундира, надетого на солдата, документы, посмотрел на них и снова вложил. Затем, глядя на кресты на мундире, взволнованно произнес: — Полковника Ланге больше нет. Запомните и это, господин Шредер!..Глава десятая
НОВЫЙ «МЕЛЬНИК»
Всему виной был злосчастный шатун, сломавшийся в дороге. Вот уже несколько дней из-за него шофер Ваня Большинин стоял со своей полуторкой во дворе старой водяной мельницы и, скучая, ожидал, когда приедут и возьмут его машину на буксир. Каждое утро он подходил к своему старенькому «газику», сокрушенно качал головой, выходил на улицу и смотрел на дорогу. За эти дни общительный Ваня успел узнать почти обо всем, что творилось в этом маленьком горном селении, расположенном вдали от больших дорог. Постоянным его собеседником был старый австриец — одноногий сторож, побывавший в русском плену в первую мировую войну. Он поведал бойцу все были и небылицы, слышанные им от дедов. В это утро старик, чем-то особенно взволнованный, подошел к Большинину, присел рядом с ним на старом жернове в, помолчав немного, сказал; — Не добре будет, Иоганн... — Что с тобой, старина? Не заболел ли? — Нет. Я вчера видел проклятого Ульриха... — Что это еще за Ульрих такой? — смеясь, спросил шофер. Старик указал на юг. В полутора километрах от мельницы виднелась гора. Рядом с нею пониже, как бы прилепившись к скале, возвышались мрачные развалины древнего замка. Столетия и бури разрушили гранит. Только одна зубчатая башня устояла в борьбе с силами природы и временем. — Там жил проклятый Ульрих. С тех пор прошло четыре века. Но и теперь нас пугает его имя. Этот немец пришел сюда со своими ландскнехтами и сделал наших предков невольниками. Он захватил всю землю вокруг. Ужас и отчаяние воцарились тогда здесь... Ульрих сжигал села, непокорные ему. Он уводил людей в этот замок, и они никогда больше не возвращались... Старик раскурил трубку, вновь посмотрел на угрюмые развалины замка и продолжал: — Тридцать семь лет мучил наших предков Ульрих. Но в одну ночь закончилось его страшное царство. Крестьяне с топорами, вилами и косами пошли на приступ замка. Перебили всех его обитателей, а самого Ульриха Лангера сбросили в этот водопад с башни. Лишь одному его сыну удалось скрыться. Место это так и осталось проклятым. Наши деды рассказывали, что тени Ульриха в его сподвижников очень долгое время бродили по замку и появлялись они всегда перед бедой... Старик и Большинин настолько увлеклись беседой, что даже не заметили подошедшего к ним старшину. — ...А вчера, когда я пошел в лес за хворостом, — продолжал сторож, — снова появился этот призрак. Это было вечером, светила луна. Призрак появился на стене башни и мгновенно исчез, как бы провалился сквозь землю. Не к добру это, Иоганн. Сегодня к нам на мельницу приезжает новый хозяин, и к его приезду это плохое предзнаменование. — А где же старый хозяин? — вдруг спросил присевший позади них старшина. Сторож и шофер быстро оглянулись и только сейчас увидели своего нового собеседника. Это был высокий молодой парень. На его широких плечах красовались новенькие погоны старшины. Но больше всего привлекало его загорелое лицо. Уверенно и внимательно смотрели его спокойные глаза, в которых лишь изредка вспыхивала легкая усмешка. Резко очерченные губы говорили о твердом характере этого человека, а крепко сложенное тело — о большой энергии и силе. — Уже год, как старый Гейнц продал эту мельницу. А нового «мельника» мы еще до сих пор не видели. Он через поверенного купил ее, и этот поверенный весь год правил его делами. И вот только вчера получили известие, что едет новый хозяин... Не докончив фразы, старик замолчал и внимательно посмотрел на дорогу, по которой к мельнице приближался всадник. Он осадил коня возле мельницы и легко соскочил на землю. Старшина окинул его быстрым взглядом. Это был уже немолодой, высокий человек в штатском. Ни с кем не разговаривая, он, привязав коня, четкойпоходкой вошел во двор. Сторож шепнул Большинину и старшине: — Это, наверное, хозяин... И старик заковылял на своей деревяшке вслед за приезжим. Вскоре со двора раздался громкий голос нового хозяина. — Видал, выправка? — обратился старшина к Большинину, через ворота разглядывая нового «мельника». — А ты кто будешь? — спросил шофер старшину. — Как видишь, старшина. А по фамилии — Аниканов. Понятно?.. Шофер с удивлением посмотрел на старшину. Так вот он какой, этот знаменитый разведчик, слава о котором гремела по всему фронту!.. — Сегодня ты уедешь. Приготовься, — не обращая внимания на удивление шофера, добавил Аниканов.Глава одиннадцатая
В ГОСТИНИЦЕ «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ»
Капитан Закиров встал из-за стола, еще раз посмотрел на документы, лежавшие в папке, и подошел к двери. В коридоре раздались легкие торопливые шаги. Затем кто-то осторожно постучал. — Разрешите, — послышался девичий голос. Капитан улыбнулся и открыл дверь. В комнату вошла молодая девушка. Она посмотрела на капитана ласковыми глазами, улыбнулась ему в ответ и подошла к окну, выходящему во двор. Вслед за ней туда подошел Закиров. Он слегка наклонился к девушке и спросил: — Как Эльфи провела вчерашний вечер? Девушка, мешая русский и немецкий языки, начала рассказывать о том, как она с подругами танцевала в варьете. — Но мне не было весело, — сказала Эльфи и, смущенно улыбаясь, прильнула к груди капитана. — Ведь вас вчера там не было. Капитан стесняется танцевать с австрийкой... Закиров не ответил. В эту минуту он внимательно смотрел во двор. Там стоял его ординарец Петров и о чем-то оживленно беседовал с молодым австрийцем. Капитан знал этого австрийца — электромонтера и слесаря при гостинице «Золотая цепь», где он снимал номер. Слесарь чинил замки, исправлял водопровод, следил за исправностью электроосвещения. — Капитан не желает говорить со мной, — обиделась девушка и, отойдя от Закирова, начала протирать тряпкой другое окно. — Не буду тебе мешать, — рассеянно проговорил Закиров и вышел из комнаты. Как только девушка осталась одна, лицо ее сразу стало напряженно серьезным. Она побежала к столу и, волнуясь, начала перелистывать документы и карты, лежавшие в папке Закирова. Затем она выглянула в окно и кивнула слесарю, который пристально глядел на нее. Через некоторое время он торопливо вошел в номер. Поставив у двери ящик с инструментами, австриец вытащил из кармана узкопленочный фотоаппарат. Девушка подошла к двери, повернула ключ. Слесарь, вынимая из папки документы один за другим, раскладывал их на полу, освещенном утренним солнцем, и фотографировал. Когда Закиров возвратился в свою комнату, Эльфи была уже одна. Девушка, как и прежде, старательно вытирала пыль со стола, начищала кран умывальника, расставляла по местам стулья. Окончив уборку, девушка собрала тряпки и пошла к выходу. — Эльфи, — окликнул ее капитан и, взяв за руку, нежно посмотрел в лицо. — Не сердись. Сегодня мы будем вместе. — До вечера, мрачный капитан! — весело сказала Эльфи и вышла. Закиров что-то написал на четвертушке бумаги, вложил записку в папку с бумагами и позвал Петрова. — Отнесите документы, — приказал он, когда ординарец вошел в комнату.Глава двенадцатая
АНИКАНОВ ИДЕТ ПО СЛЕДУ
Новый «мельник» и одноногий сторож ходили по двору. Старик рассказывал приехавшему хозяину о делах, показывал постройки. Пока они ходили, словоохотливый сторож успел сообщить «мельнику» о появившемся вчера привидении. Тот бросил быстрый взгляд на старика. — Не болтай чепухи! Вижу, ты уже из ума выжил! — грубо оборвал он его и вошел в дом. Сторож подошел к полуторке, возле которой уже хлопотал Ваня Большинин. — Ну, старик, сейчас уезжаю. Как-нибудь доберусь на трех цилиндрах... Через час Большинин на полном газу гнал свою машину на восток, в сторону Венгрии. Мотор «газика» ворчал ровно, без всяких перебоев и хлопков. Километрах в пяти от мельницы, на глухой лесной дороге, Большинин остановился и дал протяжный гудок. Через несколько минут из чащи леса появился Саша Аниканов и подошел к шоферу. — Давай связь! — приказал старшина Большинину, взглянув на часы. Шофер вышел из кабины, снял сиденье, под которым оказалась портативная радиостанция. Когда Большинин натягивал антенну, Аниканов приготовил рацию к передаче. — «Ястреб»! «Ястреб»! «Ястреб»! — начал передавать Аниканов. — Я «Орел», я «Орел»! Отвечайте! — и старшина перешел на прием. В наушниках раздался голос капитана Закирова: — Где вы? — У «осиного гнезда»... Полный порядок. — Проверьте время. Завтра к 15.00, на линии, точка «78». Как поняли? — Вас понял: завтра в 15.00, на линии, точка «78», — Аниканов выключил рацию, вынул из полевой сумки карту и разложил ее перед Большининым. Он показал ему на проходившую неподалеку от их стоянки австро-венгерскую границу, обозначенную на карте. — Здесь 78-й пограничный столб на дороге. Отсюда до него шесть километров. Поезжай и жди меня там до завтра. Наблюдай за движением на дороге. — И, попрощавшись, Аниканов пошел назад, в сторону замка. В сумерки Аниканов через густые заросли вышел на опушку леса. Отсюда хорошо были видны мрачные развалины древнего замка. Это была груда камней, среди которых возвышалась уцелевшая башня. Она стояла у гранитной скалы, справа башню омывала горная речушка, которая низвергалась со скалы широким водопадом. От подножия скалы по каменистому руслу она катилась вниз, к старой водяной мельнице. На восток от замка находилась высокая гора, по вершине которой проходила тропка от мельницы к древним развалинам. Аниканов зашел в кусты и, разместившись там поудобнее, сквозь ветви стал наблюдать за замком. Быстро спускалась южная ночь. Мрак воцарился над землей. Вокруг было тихо. Только глухой шум водопада нарушал эту тишину. Аниканов вынул из кармана кисет и закурил. Он анализировал все виденное за сегодняшний день и вспоминал дорогу и события, которые привели его сюда. На память пришел майский день, последний день войны. Отправившись на выполнение очередного задания, далеко за позициями противника старшина обнаружил штаб разбитого немецкого корпуса. Под вечер из одного уцелевшего от бомбежки блиндажа показались трое немцев: полковник, майор и солдат. Крадучись, они углубились в лес. Все это было понятно: в эти дни разбегалась вся гитлеровская армия. Удивило разведчика одно обстоятельство: когда он незаметно следил за немцами, около одной поляны увидел, как полковник застрелил солдата, а потом он и майор переоделись в штатское платье. Свой мундир полковник надел на убитого солдата. А когда гитлеровцы пошли дальше, старшина подобрался к убитому и вытащил из кармана мундира документы, принадлежавшие полковнику Ланге... С того дня Аниканов по пятам преследовал двух фашистов. Он прошел за ними через Чехословакию сюда, к границе Австрии и Венгрии. В дороге Аниканову удалось связаться с начальником разведки майором Орловым и обо всем сообщить ему. От майора пришло приказание — идти по следам гитлеровцев. Почти у самой цели он получил еще одну записку от Орлова, в которой было лаконично написано: «На старой мельнице в Н. Вас ожидает помощник — шофер Большинин». ...За воспоминаниями время прошло быстро. Постепенно мрак стал рассеиваться. Где-то за горой, слева, поднималась невидимая разведчику луна. Она осветила башню, водопад, который заискрился в лунном свете. Высунувшись из кустов, Аниканов еще напряженнее стал следить за развалинами. Вдруг на стене башни, как бы вырастая из земли, появилась тень. Она призрачно колебалась. В первую минуту разведчик оторопел. Но потом, быстро сообразив, в чем тут дело, выскочил вперед и, прячась за камнями, посмотрел на гору, возвышавшуюся против башни. Там, на вершине, он увидел силуэт человека. Восходящая луна освещала его, и огромная тень человека падала на стену башни. «Так вот оно, привидение!» — мелькнуло в голове разведчика. Человек сошел с горы и приблизился к водопаду. Разведчик находился от него настолько близко, что без особого труда узнал в этой долговязой фигуре нового «мельника» — полковника Ланге... Небольшая тучка закрыла диск луны, и несколько мгновений было совершенно темно. Тучка проплыла дальше. Луна вновь осветила водопад. Изумленный разведчик протер глаза, как бы не веря себе. — Что за чертовщина? — прошептал он. В самом деле, произошло что-то непонятное. Ланге, только что стоявший у водопада, исчез, будто провалился сквозь землю...Глава тринадцатая
У ПОГРАНИЧНОГО СТОЛБА
Всю ночь, притаившись, просидел Аниканов у замка. Луна давно уже скрылась за горами, время близилось к рассвету. Разведчик напряженно всматривался в темноту, прислушивался к каждому малейшему шороху. Ланге не появлялся. Новый «мельник» исчез, будто привидение. На рассвете Аниканов решил было спуститься вниз и осмотреть мельницу: может быть, немец возвратился туда другим путем. Старшина еще раз поглядел на замок, водопад — и чуть не вскрикнул от изумления: из-за водопада показалась голова в капюшоне. Борясь с падающим водяным потоком, появилась человеческая фигура. Это был полковник Ланге. Разведчик выхватил пистолет и хотел броситься на гитлеровца, но в это время из-за водяной завесы появился второй человек в прорезиненном плаще. Откинув капюшоны, полковник и его спутник пошли по направлению к разведчику, притаившемуся за кустами. Стиснув рукоятку пистолета, Аниканов ждал. Сердце отчаянно заколотилось в его груди. В нескольких шагах от Аниканова немцы остановились и стали продолжать, очевидно, давно начатый разговор. — Он придет на закате, — вполголоса говорил Ланге. — Его пароль: «Привет от Эльзы». Пленку, которую принесет этот «слесарь» из «Золотой цепи», немедленно обработайте... Оба немца, свернув в сторону и продолжая тихо разговаривать, пошли к мельнице. ...Ночь, проведенная без сна, и пережитые волнения давали себя знать. Аниканов старался идти быстрее, но уставшие ноги плохо слушались его. Приходилось часто останавливаться и отдыхать. Было уже почти три часа дня. Вдруг где-то совсем недалеко от границы раздалось несколько выстрелов. Послышались крики, топот ног. Кто-то бежал в сторону Аниканова. Через минуту замелькал человек с пистолетом в руке. — Стой! — крикнул Аниканов. Увидев разведчика, незнакомец мгновенно выстрелил, Пуля прожужжала над самым ухом Аниканова. Ответный выстрел старшины был точным: незнакомец упал. Разведчик подбежал к убитому. Если бы Аниканову случалось бывать в маленьком городке, где размещался штаб Н-ской гвардейской части, то он узнал бы в убитом слесаря из гостиницы «Золотая цепь»... В карманах убитого ничего не оказалось, кроме небольшой герметически закупоренной коробочки. Старшина осторожно раскрыл ее и вынул оттуда проявленную фотопленку. Он посмотрел кадры на свет. Там были снимки каких-то документов и схем с надписями на русском языке. Торопливо сунув пленку в свой карман, Аниканов побежал туда, откуда вначале были слышны выстрелы. Почти у самой дороги, где стоял пограничный столб «78», раскинув руки, лежал Большинин. Из пробитого пулей виска стекала струйка крови. Аниканов наклонился над товарищем и приложил ухо к его сердцу. Шофер был мертв. Разведчик посмотрел вокруг и увидел замаскированную в кустах автомашину Большинина. ...Закиров быстро откликнулся на позывные Аниканова. Видно, у штабной радиостанции давно ждали, когда голос разведчика появится в эфире. После того как старшина доложил обо всем случившемся за эти сутки, он спросил у капитана: — Как вам доставить пленку? — Доставьте ее не нам, а новому «мельнику», — приказал Закиров, немало удивив и озадачив этим разведчика. — Сегодня к «осиному гнезду» выезжает Петров со своими.Глава четырнадцатая
«ПРИВЕТ ОТ ЭЛЬЗЫ»
В сумерки к водопаду у замка подошел человек в штатском костюме, явно стеснявшем его движения. Оглянувшись по сторонам, он снял шляпу, нагнулся, решительно нырнул за водяную завесу и очутился в темном сыром гроте. Почти у самой воды он нащупал ногой ступеньки, уходящие вверх. Осторожно передвигаясь, человек стал подниматься по мокрой каменной лестнице. Вдруг яркий пучок света заскользил по сырым стенам и своду узкой пещеры и остановился на нем. Теперь человек увидел, где он находится. Это был вход в подземелье. От водопада к каменной площадке, на которой он сейчас стоял, шло пять ступенек. Эта площадка была как бы плотиной, ограждавшей от потока уходящее вниз подземелье. Свет погас, и из темноты раздался голос. — Что принесли? — спросил кто-то по-немецки. — Привет от Эльзы! — быстро ответил пришедший. Чья-то рука взяла его за мокрый рукав пиджака, и они стали по ступенькам спускаться вниз. Проводник долго водил своего спутника по сложным лабиринтам многочисленных подземных коридоров. Вход в подземелье остался где-то далеко. Уже не слышно было шума водопада. Кругом царила могильная тишина. Наконец проводник остановился и постучал. Послышался скрип отодвигаемых засовов, и тяжелая, кованная железом дверь медленно открылась перед пришедшими. Проводник остался на месте, а его спутник вошел в ярко освещенное помещение. Это была роскошно обставленная комната. Его встретил невысокий человек в роговых очках. Некоторое время они внимательными взглядами изучали друг друга. И один из них узнал другого. Он видел его далеко отсюда, в последний день войны, и позже, когда этот человек вместе с высоким полковником пробирался сюда. Если бы человек в очках и видел тогда вошедшего, то он сейчас все равно не узнал бы его: костюм, снятый с убитого днем шпиона, совершенно преобразил Аниканова... — Как дела у Эльзы? — обратился немец к разведчику. — Все в порядке. Аниканов вынул коробочку с фотопленкой и передал ее майору Шредеру. Тот достал из жилетного кармана лупу и стал рассматривать негативы. — Это то, что нам нужно. Вы с Эльзой отлично поработали! — проговорил довольный Шредер. — Сейчас отправляйтесь и переоденьтесь в сухую одежду. Опять пришлось долго идти. Наконец Аниканова привели еще в одно подземное помещение. Оно уже не отличалось такой роскошью убранства, как комната Шредера. В полутьме за столом сидели несколько человек, азартно метавших карты. Они обернулись, чтобы посмотреть на вошедшего, и скова принялись за игру. Переодевшись в сухую одежду, Аниканов подсел к столу и стал разглядывать игроков. Откуда они собрались сюда? Здесь сидел старик, которого в другой обстановке можно было принять за добродушного дедушку; его партнером по игре была молодая девушка, которая могла сойти за продавщицу галантерейного магазина или секретаршу какого-нибудь учреждения. Были здесь и аккуратно одетый юноша в зеленом тирольском костюмчике и бродяга в лохмотьях. Внешне эти люди ничем не отличались от обыкновенных мирных жителей, которых встречал Аниканов. ...Несколько дней разведчик жил в подземелье. За это время он успел хорошо познакомиться с обитателями комнаты. Но их имен Аниканов не знал, как не знали и они его имени. Тут никто никого ни о чем расспрашивать не мог. Видно было, что все эти люди собраны сюда из разных мест для какого-то дела. Для какого же?.. Об этом Аниканов узнал лишь на третий день, когда дверь подземной комнаты распахнулась и вошел новый «мельник» в сопровождении двух человек. С его появлением все быстро поднялись со своих мест. — Мы начинаем действовать, господа! — обратился Ланге на немецком языке к присутствующим. — Это будет наш первый удар. Новый «мельник» вынул карту и указал на помеченное на ней красным карандашом место. — Здесь склад русских. Сегодня ночью вы отправитесь туда. Тол, бикфордовы шнуры и все остальное получите перед уходом. Вас проводит Альберт, — и Ланге указал на Аниканова. «Значит, я продырявил какого-то Альберта», — подумал разведчик, и вслух произнес: — Слушаюсь! — Пойдемте со мной! — приказал ему полковник. При свете электрического фонарика они стали пробираться по подземным коридорам. Ланге привел Аниканова в какое-то помещение, похожее на штаб. Там стояло несколько столов, заваленных бумагами и картами. Слева была дверь, ведущая в следующую комнату. Ланге прошел туда, оставив разведчика в первой комнате. Через открытую дверь Аниканов услышал женский голос и голос полковника. Потом Ланге сказал: — Вас ждет приятная встреча! — и он вместе с девушкой появился в дверях. Это была Эльфи из гостиницы «Золотая цепь». — Вот и ваш партнер, — указал на Аниканова полковник. На лице девушки улыбку сменило недоумение. Она побледнела. — Что с вами, Эльза? — испуганно спросил Ланге. — Это не Альберт! — ответила девушка, в упор разглядывая Аниканова.Глава пятнадцатая
ПРОСЧЕТ ПОЛКОВНИКА ЛАНГЕ
Несколько мгновений в подземной комнате царила напряженная тишина. Полковник Ланге понял все. Перед ним был враг, разгадавший все его планы. Ненавидящими глазами смотрели они друг на друга. Девушка стояла в стороне. Растерянность и испуг так и застыли на ее лице. Рука Ланге медленно потянулась к кобуре пистолета. Но он не успел вынуть оружия. Дверь с шумом распахнулась, и в комнату вбежал запыхавшийся человек. — У водопада русские! — крикнул он. Полковник рванулся к вбежавшему и схватил его за грудь. — Что ты сказал?! — тормошил он перепуганного человека. — Русские!.. Ланге, не дослушав, с силой отшвырнул от себя вбежавшего и метнулся во вторую комнату, совершенно забыв о разведчике. Но Аниканов все время следил за ним. Через открытую дверь он видел, как полковник подбежал к стене и включил какой-то рубильник. Страшный взрыв потряс подземелье. Свет погас. Полковник Ланге с фонариком в одной руке и с пистолетом в другой выскочил в первую комнату. Он осветил все углы. Но разведчик исчез, — Вход в подземелье завален! — крикнул Ланге трясущейся Эльзе и выскочил в коридор. И здесь он понял, что просчитался. Где-то позади слышались крики людей, топот ног. Но не это ошеломило полковника: до него донесся рокот приближающегося водяного потока. Взрыв не завалил вход в подземелье, на что рассчитывал Ланге, а лишь разрушил площадку, служившую преградой водопаду. И теперь вода устремилась в подземные коридоры, затопляя их. Был, однако, выход, о котором знал только один Ланге. Он хорошо изучил этот замок, построенный его предками более четырех столетий назад. Вода уже плескалась у ног полковника. Ее уровень быстро поднимался. Ланге побежал в глубь подземелья, по запутанным коридорам, освещая себе путь фонариком. Но бежал он туда не один. Прижимаясь к стенам, за ним осторожно крался Аниканов. Фонарик полковника служил разведчику маяком. Аниканов понимал, что Ланге пробирается куда-то не случайно. Но вот след фонарика пропал. Аниканов побежал быстрее и в темноте чуть не наткнулся на полковника, стоявшего в глубокой нише. Немец отодвигал ржавые засовы какой-то двери. Ему с трудом удалось это. Озираясь, Ланге побежал вверх по узкой лестнице. Когда он уже поднялся на десяток метров, Аниканов бесшумно последовал за ним. Полковник снова остановился, опять послышался скрип засовов. Распахнулась еще одна дверь, и яркий дневной свет ударил в глаза разведчику. Аниканов ускорил шаги и выскочил на каменную площадку. Он стоял где-то высоко. Внизу простирался лес. По следам Ланге Аниканов вышел на башню древнего замка. Разведчик увидел немца. Тот сквозь зубцы башни смотрел вниз. Но и внизу, видать, наблюдали за башней. Раздалось несколько автоматных очередей, и пули засвистели над башней. Полковник обернулся и хотел было снова броситься в подземелье. Но, не сделав и шага, застыл на месте от неожиданности: советский разведчик, которого Ланге считал погребенным заживо в подземелье вместе с остальными, стоял перед ним с пистолетом в руке, Ланге покорно поднял руки. Через несколько минут по разрушенной стене на башню взобрался Петров со своими автоматчиками. Они хотели вместе с Аникановым снова сойти в подземелье. Но вода уже совершенно залила все подземные ходы. Там, внизу, многочисленные коридоры и комнаты стали могилой для помощников Ланге.* * *
— Теперь вы поняли, полковник Ланге, что такое наступательный характер советской разведки? — спросил немца полковник Ефремов. — Ваш план мы разгадали с самого начала. Наши люди шли за вами по пятам от линии фронта до замка... Да, кстати, у вас в кармане мы нашли фотокопии со многих наших документов, которые сделала Эльза, она же Эльфи, она же Эржебет... Но ведь это была всего лишь приманка, на которую попались ваши агенты в гостинице «Золотая цепь»!.. Вошли Аниканов и Петров. Полковник Ефремов приказал отвести гитлеровца и, после того как Ланге в сопровождении конвоира скрылся за дверью, он приветливо поздоровался с разведчиками и пригласил их сесть. — Поздравляю вас, товарищи, еще с одной большой победой. Командующий просил поздравить вас также с высокой наградой. А завтра... — полковник улыбнулся, долго глядя в лица разведчиков, — а завтра, друзья, вы получите новое задание. Сами знаете — служба!1945 г., Балатон-Фюред (Венгрия).
НИКОЛАЙ ГРИБАЧЕВ ОГНИ В ТУМАНЕ Повесть

Известный поэт, лауреат Ленинской и Государственной премий Николай Грибачев в годы Великой Отечественной войны командовал отдельным саперным батальоном, затем некоторое время работал во фронтовой печати. Тогда и была написана им и опубликована в армейской газете эта приключенческая повесть «Огни в тумане».
Глава первая
ИДЕЯ ГЕНЕРАЛА МЮЛЛЕРА
Человек, сидевший в потертом коричневом кресле, по габаритам напоминавшем полуторную кровать, был похож на императора Вильгельма усами, на Гинденбурга седым ежиком и на Германа Геринга одутловатостью и мясистым угреватым носом. Казалось, природа лепила это лицо сразу по различным образцам, не решаясь ни одному отдать предпочтение, и завершила свой труд маленькими серыми глазками, мутноватыми от старости и бессонницы. Вероятно, в час победы генерал Мюллер мог бы выглядеть импозантно, на военном параде — внушительно: «Старый боевой конь». Но пора, когда он мог выглядеть браво и в полевых условиях, для него давно минула. Время как бы начинало лепить его заново, но делало это спустя рукава, злоупотребляя тусклыми красками и то снимая лишний материал, в результате чего образовывались морщины на лбу и у рта, то нашлепывая его без нужды в виде складок на подбородке и отечных мешков у глаз. Но еще хуже, что та же самая работа делалась и изнутри — обратный путь от Волги до Вислы, с глазами на затылке, перебалтывал все его представления не только о военном искусстве, но и о мире, в котором он жил. Он был достаточно ограничен, чтобы не сомневаться в правильности целей, поставленных Гитлером, — «жизненное пространство» на Востоке было историческим психозом немецкой политики, и фюрер, на его взгляд, стал лишь наиболее ярким выразителем подлинно немецкого духа. Но при всем том он был достаточно опытен и по-своему честен в оценке военного положения — высшая точка успеха пройдена, прошлого не вернуть, и осталось только делать все возможное для почетного выхода из игры. Он был стар, измотан, растерян и брюзглив — под стать тому предосеннему вечеру, который брел поверх землянки, пропитывая знобящей сыростью дороги и тропинки, обрывая листья садов и рощ за Вислой, между Сандомиром и Жешувом. — Зачем вы ко мне его привели? — выговаривал он штабному обер-лейтенанту. — Что здесь, маскарад, пивнушка? Видя недоумение, как бы застывшее во всей фигуре обер-лейтенанта, он раздражался еще больше. И было от чего. Генерал Мюллер считал, что ему вообще не везло в этой войне, что солдат ему присылают никуда не годных, участки выделяют самые трудные и опасные, а обеспечивающих средств дают меньше, чем другим. Что ему не везло и в первой войне, он уже позабыл. А что положение на других участках фронта ничуть не лучше, просто не мог представить. К тому же положение в его дивизии в последнее время ухудшилось без видимых к тому причин. Среди солдат упорно ходили слухи, что русские готовят крупное наступление, что у них появились новые «катюши», которые одним залпом сметают целую роту и даже батальон, что замечены новые танки величиной чуть не с дом. Солдат же, который боится противника, — плохой материал для боя, он уже, фигурально выражаясь, ранен в спину. А из штаба между тем шли успокоительные сообщения, смысл которых сводился к тому, что резервы русских истощены в последнем наступлении и в крупных операциях наступила длительная пауза. Ее предписывалось использовать для совершенствования обороны и усиленной разведки. С обороной все обстояло нормально. Дивизия копала землю так, что запах солдатского пота был вполне ощутим даже в армейских тылах. А с разведкой получалось плохо. Русские намертво закрыли свой передний край, и все попытки взять «языка» или хотя бы проникнуть в их расположение кончались крахом. Даром ели хлеб и наблюдатели — днем всякое движение по ту сторону фронта прекращалось, и в стереотрубах блестела лоснившаяся на ветру предосенняя трава да изредка маячил одинокий солдат. Правда, оперативники дивизии, хотя и с понятной осторожностью, разбавляли сухие сводки водичкой собственной фантазии, однако это не избавляло генерала Мюллера от упреков со стороны высшего начальства. В конце концов и оно, высшее начальство, стало осознавать серьезность положения и решило принять особые меры — в дивизию прислали специально тренированного для работы в неприятельском тылу разведчика и радиста в сопровождении капитана абвера Касселя. Весьма вероятно, что разведчик, который называл себя баронетом Дессеном, готовился на более крупные роли с дальним прицелом. Но сейчас, когда судьба немецкой армии висела на волоске и от русских можно было ожидать нового сокрушительного удара, было важно знать, что происходит в их дивизионных и армейских тылах. От заброски разведчика по воздуху пришлось отказаться: мало того что самолет неизбежно попадет под огонь зениток, приземление с парашютом в расположении войск противника ничего, кроме провала, сулить не может. Поэтому решено было перебросить его при подходящем случае прямо через передний край. Но такого подходящего случая не выпадало вот уже целую неделю. Сам баронет Дессен, впечатления героической личности отнюдь не производивший — за ним уже числились загулы и деликатные похождения во втором эшелоне, — при разговоре с генералом в присутствии капитана Касселя говорил: — Меня готовили для работы в глубоких тылах, а вы хотите бросить меня прямо на окопы русских. Я ведь не танк! Генерал Мюллер понимал, что разведчик в известной степени прав: много ли толку, если он сразу же сложит свою голову? Вот если бы заварилась какая-нибудь каша... И вдруг этот глупый маскарад! Час назад генералу Мюллеру позвонили из полка и сообщили, что захвачен русский разведчик. Он даже разволновался — такая удача! — и приказал немедленно доставить его в штаб. И вдруг к нему приводят баронета Дессена! На нем русская форма, вплоть до шапки со звездой, правая щека залита подсыхающей кровью, перепачкана в грязи, но... но высокое искусство грима известно уже на протяжении веков. Допустим, ему тоже интересно посмотреть на таланты этого титулованного шпиона, но штаб дивизии — не место для постановки глупой комедии с переодеванием. — Вы, обер-лейтенант, — брюзжит Мюллер, — понесете заслуженное наказание. А вам, баронет, следовало бы заняться более достойным вашей миссии делом. — Прошу прощения, господин генерал, — растерянно твердит обер-лейтенант, — это русский пленный... — Значит, вас тоже одурачили. Как вы оказались в полку, Дессен? Для чего? — Он не понимает, господин генерал... Это была русская разведка, они убили у нас четырех солдат и утащили унтера Фогеля. — Что-о? — переспрашивает генерал, впиваясь кабаньими глазками в лицо обер-лейтенанта. — Этого еще не хватало! — Так точно, господин генерал. — Но как вы могли его захватить, если группа ушла? — Он отбился от своих, был контужен и лежал без памяти... Мюллер размышляет. С одной стороны, он готов поклясться, что перед ним баронет Дессен, но, с другой стороны, как же пропавший унтер? Да, впрочем, и черт с ним, с унтером. Если только это не маскарад, а правда, он согласен каждый день производить такой обмен, тем более что в штабе армии удача несомненно будет отмечена... Мюллер берет со стола лампу и подносит ее к лицу пленного. Да, теперь ясно — полусвет у порога ввел его в заблуждение, это конечно же не Дессен. Плотнее фигура, свежее лицо, пристальнее взгляд. И тем не менее несомненное сходство в каких-то неуловимых чертах лица, росте, цвете волос. — Хорошо, — с облегчением вздыхает Мюллер. — Очень хорошо. Мюллер снова садится в кресло, и думы, одна другой грустнее, проносятся в голове, мешая сосредоточиться. Давно ли он влюбленными глазами встречал императора в Тиргартене и мечтал о парадах, победах, славе? И вот в громах пушек проходит его молодость. Он возвращается с фронта под траурными заголовками газет, возвещающими поражение, и революционная волна сметает в небытие императора... Давно ли в пивной Мюнстера на Вильгельм-штрассе он вместе с друзьями избивал социалистов и коммунистов и орал «Германия превыше всего»? И вот армии, прибойная волна которых докатилась до Москвы и. Волги, отползают назад... Были парады, но нет закрепленных побед, были ордена, но нет славы. Военная удача отвернулась от германской армии. Боже мой, боже мой! И от каких случайностей иногда зависит удача... Вот если бы этот пленный рассказал все, что знает о русских, может быть... Но станет ли он говорить? А он в самом деле сильно похож на этого баронета... Черт возьми, а почему бы не использовать это сходство, не послать одного вместо другого? — Документы пленного? — спрашивает он у обер-лейтенанта. — Не обнаружено. — Фамилия? — обращается он к пленному. Мюллер немного знает русский язык еще с прошлой войны и не прочь щегольнуть этим при случае. — Не помню... В голове шумит. — Где документы? — Документы в части остаются... Всякому военному известно. — Из какой части? — Запамятовал... На числа у меня память тугая, еще учительница в школе говорила. Стихи могу почитать, это помню, а цифры забыл. — А может, вспомнишь? — Нет уж, чего не помню, того не помню. Пальцы у генерала Мюллера сжимаются в кулак и разжимаются. Подумать, совсем молодой, молокосос, еще жить, наверное, хочется до умопомрачения, а бравирует. Конечно, многого он не знает, птица не велика, но мала капля, да из капель море рождается. — Обыскать! — приказывает Мюллер. — Уже обыскали. — Повторить! Пленный стоит спокойно. Выворачиваются один за другим карманы, на пол сыплются табачные крошки, пакетик папиросной бумаги и — ничего больше. И вдруг пленный вздрагивает: солдат обнаруживает нечто за подкладкой ватника, быстрым движением рвет материю и достает треугольник письма. Пленный бросается за ним, но получает удар по затылку и валится на руки солдата. Когда он приходит в себя, генерал Мюллер стоит напротив, держит письмо и смотрит пленному прямо в глаза: — Быков Павел Севастьянович? — Я? — Именно. — А кто это сказал? — Вот письмо. — От девушки? Так это она одному моему товарищу пишет, а я забыл передать. Он в госпитале... — Э, полно! — усмехается генерал. — Как это называется — любимый девушка подводил? Хе-хе... Любимый девушка подводит и солдат, и королей! — Отдайте письмо, там ничего нет для вас. — Как сказать! — улыбается генерал. — Любимый девушка не будет оплакивать любимый человек, мы ей пошлем вместо тебя другого, очень похожий... Любовь слепа, не разберет! Наступает пауза. Пленный в упор смотрит на генерала, словно решает надолго запомнить его облик. Генерал Мюллер обдумывает психологическую комбинацию. — Любовь — великое, прекрасное чувство, — говорит он. — Это больше, чем отечество, жизнь, — все. Ради любимой женщины рыцари древности умирали на поединках, короли отрекались от корон... Так вот, я сохраню вам жизнь, а вы ответите на мои вопросы. После войны вы вернетесь к любимой девушке... Или вы будете молчать, и тогда погибнете сами и погубите вашу девушку, понятно? — Непонятно. — Мы прикажем ее убрать. — Руки не коротки? — Почему же? Адрес у нас есть, а разведка умеет работать. Отдается приказание прямо по радио, и ваша девушка исчезает. — Отдавайте такое приказание поскорее, времени у вас мало. — Наступать собираетесь, что ли? — Да нет... вообще. — Если «вообще», то, пожалуй, сейчас и отдадим... Зачем откладывать? Вы увидите, что мы, немцы, — люди действия... Касселя и Дессена ко мне! Быкову разрешают сесть на стул у двери, и он, опершись головой на руку, думает свою невеселую думу. Обер-лейтенант по знаку генерала уходит в соседнюю комнату и через некоторое время возвращается вместе с высоким сухопарым капитаном и Дессеном. Он тоже в кирзовых сапогах, ватнике и ушанке — приготовился. Быков и Дессен с удивлением смотрят друг на друга, словно каждый видит собственное отражение в мутном потрескавшемся зеркале. Чувство беспомощной злобы душит Быкова. Переводя взгляд с генерала на шпиона, он все больше начинает понимать, в какую скверную историю его затянуло. — Видите? — говорит генерал Мюллер. — Сказано — сделано. Понимаете теперь, что это значит? Будете говорить? — Да нечего мне... — Хорошо... Убрать. — За письмом... вернусь! — обещает с порога Быков. Обещает, сам в это не веря, в запальчивости и на всякий случай. Из чувства победоносности, превосходства, которое все глубже пронизывало нашу армию на пути от Волги до Вислы. Так весенняя трава, даже когда на нее обрушивается крутой заморозок, продолжает сверкать зеленью, и если погибает, то и погибает сразу, без перевоплощений цвета... Оставались вдвоем с Касселем, генерал спрашивает: — Ну, и что же? — Поскольку ничего иного нет, и это идея. — Полагаете, что есть шанс? — Некоторый... Мы все равно собирались посылать этого баронета, только под видом поляка. Но это лучше. С вашего позволения, я снесусь со своим начальством... Когда Кассель уходит, генерал Мюллер некоторое время продолжает сидеть в той же самой позе, барабаня пальцами по краю стола — верный признак недовольства собой. Идея с переодеванием, которая поначалу казалась ему находкой, теперь потускнела, и если внутренне он еще не отказался от нее, так лишь потому, что надо же действовать так или иначе! Гораздо хуже то, что он, генерал и командир дивизии, слишком увлекся всем этим. Ну, он мог, да и то при особых обстоятельствах, присутствовать при допросе пленного, — вообще-то для того есть специалисты, — мог задавать вопросы, но сочинять при этом всякие истории детективного пошиба, да еще с угрозами в отношении какой-то там девчонки... Нервы, нервы! Но что делать?Глава вторая
ШАГ ВО ТЬМУ
Утром генерал Мюллер приглашает на конфиденциальный завтрак капитана Касселя и баронета Дессена. Операция, собственно, уже разрешена и в основных чертах согласована, к тому же она вся целиком на ответственности капитана Касселя. Но генералу, поскольку он считает себя ее автором, хочется еще разок потолковать о деталях. Кассель посмеивается про себя: «Кудахчет, как курица, которая снесла яйцо. А цыпленка выводить мне». У баронета настроение клюквенно-розоватое извне и кислое изнутри. — Ваш отец, насколько мне известно, немецкий барон, состоявший в прошлую войну на русской службе? — спрашивает его генерал. — Да... Но мой отец оказал значительные услуги отечеству... фатерлянду, — уточняет Дессен. Ему не нравится такое вступление. Все и всегда тычут ему в лицо русским прошлым, но разве он отвечает за отца, который пытался выслужиться и перед русским императором, и перед кайзером Вильгельмом? — Это даже лучше, — снисходительно замечает генерал. — Учитывая наши задачи... Кстати, у вашего отца было где-то в России имение? — В Смоленской губернии. Мюллер смотрит на треугольник письма. Там, внизу, стоит понятное даже в русской транскрипции слово «Смоленск». «Да они к тому же земляки! — думает Мюллер о Быкове и Дессене. — Возможно, в жилах этого барончика течет гораздо больше славянской крови, чем он того хотел бы... может быть, вот этой самой, быковской!» Игривые мысли вызывают у генерала как бы беспричинную улыбку, но он гасит ее и словно вскользь замечает: — Наши занимали эти места. — Да. И я там был некоторое время. — Восстанавливали имение? — Нет, просто приехал посмотреть... Какое там имение в этой неразберихе! — Отступление? — Да. Ведь там сражались и вы, генерал? — Гм... Немного... Собственно, я попал туда к тому времени, когда мы уже выравнивали линию фронта... Мюллеру не нравятся намеки баронета на его ретирады, но он не его подчиненный, оборвать его нельзя, и генерал переводит разговор на особенности предстоящего задания: — Этот Быков для нас — в некотором роде находка. Вы, баронет, наверняка отлично сыграете его роль. — Вы уверены? — Совершенно... Такое родство типажа! — Для той цели, которая ставится, вполне достаточно. Конечно, не двойники — они бывают только в романах и кинофильмах, — но чудес ожидать нечего и... некогда. Русские эмоциональны, падки на дешевую романтику, а тут ее более чем достаточно: вы были в трудной переделке, лежали контуженным в воронке, голодный бродили по лесам и оврагам, наблюдали наши зверства в отношении поляков, видели подход танков... Можете говорить что угодно, нас от этого не убудет!.. Следовательно, выглядите вы несколько иначе, чем обычно. Или еще лучше — вы ранены, устраиваетесь в госпиталь. Работать там удобно: раненые попадают с различных участков фронта, знают многое, госпитальная обстановка располагает к откровенности... Знаете, я сам в прошлую войну дважды лежал там, так чего мы только не болтали! — Но, господин генерал, я не ранен! — Да, да, жаль... То есть я хотел сказать, что это самый замечательный и безопасный план, но что делать, если так... Во всяком случае, мы все должны действовать, действовать! Положение Германии обязывает к жертвам. — Знаю, но... — Что «но»? Риск? Так мы все и всегда рискуем на фронте. Кто не обладает достаточной волей и не способен на риск, тот годен лишь на роль раба. В этой войне компромиссов не будет — мы или они, они или мы. — Конечно, господин генерал. — Представьте себе только, — не унимается Мюллер, воображение которого опять все более разыгрывается, — представьте, что мы проиграли... хотя, конечно, это чистая фантастика... и вы под началом колхозников возите навоз в своем бывшем поместье. А? Но нет и нет, сталь немецкого характера не иступилась, и меч возмездия высоко занесен рукой фюрера... Генерал курит, не затягиваясь, и говорит, говорит. «Болтливый попугай», — думает о нем Дессен. — Документов у пленного так и не нашли? — спрашивает он. — Только письмо. Но это уже много — имя, отчество, фамилия, номер полевой почты. — С такими данными задержат на первом же контрольном пункте. А что дал дополнительный допрос? — Ничего, — кратко отвечает Кассель. — Ничего, — Кто допрашивал? — Лейтенант Гартман. — Это, говорят, мастер своего дела, — замечает генерал. — Но русские такие фанатики... К тому же мы не можем переходить известной грани, пленного затребовали в штаб армии. Можно полагать, что из него кое-что выжмут, но ждать нам некогда... И вы там, баронет, не увлекайтесь второстепенными деталями, вроде складов, баз. Наша авиация экономит мощь для будущих ударов, сейчас бомбить не станет, я думаю... Главное для нас — количество войск, местонахождение, передислокация, концентрация техники... — Баронет уже имеет инструкции, — сухо прерывает генерала капитан Кассель. — Вы получите необходимые сведения, генерал. Генерала коробит тон капитана, но он по долгому опыту знает, что с такими людьми связываться не стоит, ничего, кроме неприятностей, на этом не наживешь. Поэтому он принимает добродушный, «отеческий» вид и чокается рюмкой вина с Касселем и Дессеном: — Удачи вам, господа, удачи! Мои войска сделают все, чтобы ее обеспечить... Ночь, сырая, мглистая ночь. Ничего не видно и не слышно, будто земля совершенно опустошена и последние жители забрались в пещеры. А наверху остались только темнота, ветер и дождь да за каждым кустом какое-нибудь стальное дуло, высматривающее жертву. Группа идет молча. Впереди два солдата, затем Дессен и Кассель. Наконец солдаты останавливаются. — Мы у переднего края, — говорит Кассель. — Отсюда пойдете одни... Точнее, поползете. Держите прямо на северо-восток. Как я уже говорил, отыщите Яна, сообщите ему пароль и прикажите доставить донесение. Он местный, я с ним работал всего двадцать дней назад. Можете у него укрыться, но без крайней нужды не рекомендую... Тьма, тьма, тьма. Только свист колючей проволоки и мертвый свет ракеты вдалеке справа. Так вот она, линия огня, передний край, о котором пишут все газеты мира, как о вулкане, где день и ночь ворочается лава, льется кровь, слышны стоны раненых и яростные крики сражавшихся!.. Ничего — ни огня, ни света, ни криков и стонов, только ветер, дождь и тьма, как внезапно расступившаяся чернильная вода горного провала. У Дессена бегут по спине мурашки, словно ему и впрямь предстоит шагнуть в пропасть. Ему кажется, что было бы легче, если бы был огонь и свет. Преодолевая мутную волну страха, он делает шаг, второй... И вдруг действительно, словно вызванный его горячечным воображением, мелькает свет, поблизости рвутся русские снаряды, и кажется, над самым ухом гремит выстрел. Резкая боль толкает его в плечо, и он летит вперед, во тьму, беспомощно простирая руки...Глава третья
КОГДА ПАДАЮТ БОМБЫ
С трудом сдерживая стон, Быков ощупал себя и несколько успокоился — переломов не было... Однако все тело ныло и, казалось, распухло до таких невероятных размеров, что было чудом, как оно могло помещаться в тесном земляном закутке. Мучительно хотелось пить, но, пошарив в темноте вокруг, он ничего не нашел. Тогда он прислушался и впервые за год с лишним не ощутил того короткого и глухого вздрагивания земли, которое всегда напоминает солдату, спит он или бодрствует, о близостипередовой. Редкое затишье? Или его уже перевезли в глубокий тыл? Но тогда почему землянка? Он словно поднимался, полузадохнувшийся, из омута, и все окружающее смутно колыхалось сквозь тонкий пласт воды. — Здорово, подлец, бьет, — пробормотал Быков вслух, разговаривая сам с собой. — Хорошую практику, видно, прошел... Он даже внутренне содрогнулся, вспомнив коренастую фигуру Гартмана и особенно его голубоватые навыкате глаза. В них не было ничего, кроме деловой сосредоточенности, — ни особого интереса, ни заметного озлобления. Но от этого становилось еще больше не по себе. Быкову действительно очень хотелось жить. И, однако, смерти он не боялся. Во-первых, к смерти вообще на фронте привыкают, как к явлению каждодневному, во-вторых, когда смерть становится неизбежностью, то и чувство страха притупляется само по себе. Сколько раз приходится видеть ее солдату! Было нечто более страшное, что не давало ему ни минуты покоя, — сознание, что письмо Жени попало в чужие руки и из-за этого его фамилия стала пропуском для шпиона. Там, в штабе, он сначала недоумевал, слушая старческую болтовню Мюллера, но, увидев Дессена, понял, что могло это означать. Когда Гартман ударил его впервые, все в нем возмутилось и он так хотел заехать кулаком в противную рожу, чтобы у того надолго пропала охота к допросам. Но воспоминание о письме и шпионе охладило его пыл. У него прямо мороз пробегал по коже, когда он представлял, что шпион попадется и его осудят за измену родине как Павла Севастьяновича Быкова. И об этом узнают родные. Мать, мягкая сердцем, тихая женщина, будет только плакать, но отец, старик осанистый и гордый, до конца жизни не упомянет имени сына. А Женя?.. Господи, лучше уж и не думать! Сказал же командир, что в разведку никаких документов не брать, не послушался — и вот связан по рукам и ногам, даже помереть свободно не волен. И еще этот старый боров насмехался: «Любовь подводила королей и солдат». Оставалось только терпеть и ждать своего часа. А осенняя ночь длится без конца. Кажется, утро никогда и не наступит. Только слышно, как всхлипывает дождь да за бревнами наката в соломе скребутся и пищат крысы. Наконец в крошечное оконце пробился мутный свет и в молочном тумане расплывчато обозначилась фигура часового. Быков вздохнул и внутренне словно окаменел. Уверенный, что сейчас вызовут для последнего допроса, он только пожалел, что и утро выдалось никудышное... Но его на допрос не вызвали, а повезли под конвоем... Куда? Он удивился, что Гартман так и не показался больше. Не в привычке таких людей бросать свои дела на полпути! Но еще более удивился, когда его усадили в грузовик под охраной двух пожилых солдат и лейтенанта. Впрочем, грузовик вскоре забуксовал в грязи, а потом, несколько раз чихнув, замолк вовсе. Лейтенант высыпал на голову шофера несколько очередей забористой ругани, а затем решил двигаться пешком. Вскоре разговор конвойных многое разъяснил Быкову... Тут пора заметить, что генерал ошибся, предположив, будто Быков не понимает по-немецки. Он учился в средней школе, а кроме того, был в партизанском отряде и не раз допрашивал пленных немцев. Не очень умело, правда, но все же... Однако он понимал, что в подобных обстоятельствах лучше помалкивать о своих познаниях в немецком языке, а теперь оказалось — он мог извлечь пользу из этой предосторожности. И действительно, разговор конвойных оказался небезынтересным. — Пленный важный, а приличной машины не дали, — сказал один из конвоиров, которому было лет под пятьдесят, и зябко запахнул полы шинели. — У меня ревматизм. — Машины заняты! — строго сказал лейтенант. — Фюрер приказал не гонять их по пустякам. Солдаты смолкли и согласно, словно по команде, кивнули. Но когда лейтенант зашел в дом напиться, солдат-ревматик сказал: — Хорошо, если есть что гонять... — Тише ты, с нами пленный, — шикнул другой. — А черт с ним... подумаешь — пленный! Расстрелять его ко всем чертям при попытке к бегству, вот и вся канитель. Еще возиться с ним, когда у меня ревматизм! — Что ты, Эрих, это важный пленный. — Да, Ганс, вот и в прошлый раз тоже так было перед тем, как всему кончиться, — на бензине экономили, на угле экономили, на картофельной шелухе экономили... — Слушай, Эрих, полно тебе, — сказал Ганс. — Воевать будем столько, сколько прикажут. — Будем, конечно... Но тогда тоже приказывали-приказывали, а в одно прекрасное утро проснулись — и приказывать некому. — Ну-ну, — опасливо оглянулся Ганс, — хватит уж! — Нет, ты мне объясни, почему у нас, у немцев, так получается? Дед мой воевал, отец воевал, я на второй войне... — Лейтенант идет!.. Эрих смолк, так и не успев выяснить своего сложного вопроса. Солдаты снова зашлепали по жидкой грязи. Этот разговор несколько развлек и утешил Быкова. Не то чтоб его надежды и шансы заметно увеличились или он раньше не знал, что немцы будут разбиты, но ему просто было приятно видеть усталость и растерянность врага. «Мы-то повыносливее были, — подумал он. — Вон куда нас оттеснили — на Волгу и Кубань, а голов мы не вешали и слюней не распускали. А теперь уж стукнем, эх и стукнем, только перья полетят!» И ему стало грустно, что сам он уже не будет «стукать», дышать пьянящим воздухом наступления и двигаться с каждым днем все дальше, может быть до самого Берлина... Дорога шла холмистыми полями, потом свернула в лес. Когда проходили хуторами, Быков видел голодные глаза польских ребятишек и печальные взгляды истомленных женщин. Наконец пришли на станцию. Собственно, станции не было. Остались лишь обломки стен да несколько стрелок, но, очевидно, движение поездов окончательно не прекратилось. Вот и сейчас на путях попыхивали два состава с опломбированными вагонами. Сели на покосившуюся скамейку. Быков посредине, конвоиры по бокам. Лейтенант ушел что-то выяснять. Быков продрог и устал, его клонило ко сну. Вдруг он вздрогнул, услышав звук моторов. Шли самолеты. Гул нарастал, и вот прямо из низких облаков вывалилась шестерка штурмовиков со звездами на крыльях. Вид их был так привычно успокоителен для Быкова, что ему и в голову не пришло опасаться — свои ведь! Все дальнейшее произошло в считанные секунды. Его дернули за руки и потащили к каменной багажной пристройке. На путях взметнулись столбы дыма и пламени. Лейтенант, выскочивший при появлении самолетов из здания станции, лег между рельсов, затем вскочил и хотел добежать до стены, но резанула пулеметная очередь, запрыгали камешки, и лейтенант завалился на бок. Быков почувствовал, что настал миг, когда нужно действовать. Он еще не успел осознать своего решения, как ноги уже вынесли его на привокзальную площадь. А позади снова визжали бомбы и грохали взрывы. После очередного захода самолетов Быков оглянулся. Конвоиры лежали, уткнув лица в песок и закрыв руками головы. Улицы были пустынны. Он взял направление на пустырь, пролез под колючей проволокой, перемахнул через ров и уже добежал до кустов, когда земля под ногами закачалась, небо потемнело, вскинулся черный смерч, в котором мелькали скрученные рельсы, обломки шпал и щепки вагонов. Смерч постоял мгновение отвесно, затем, подрезанный ветром, покачнулся и рухнул на станцию, на площадь, на пустырь, на запрокинувшегося Быкова. Сквозь серую пелену до его слуха дошли частые взрывы снарядов на путях и ровный рокот удаляющихся «илов». Потом он потерял сознание...Глава четвертая
КАЖДЫЙ ДЕЛАЕТ ЧТО МОЖЕТ
В старых стоптанных туфлях, в застиранном платьице с нехитрой вышивкой, с двумя темными косичками, девушка на фоне осенней рощи была похожа на Аленушку с картины Васнецова, тоскующую о братце. Потихоньку напевая, она собирала в вязанку сушняк и, забываясь, подолгу смотрела в сторону станции. Оттуда после вчерашней бомбежки несло запахом гари. Это напоминало ей другие годы и другие места — быструю, звучную реку, неоглядную панораму левобережья и город Лисичанск, где вот так же утром полз по береговым обрывам сладковатый запах угля и над терриконами, похожими на египетские пирамиды, вились голубые струйки. И хотя песня была грустная и говорилось в ней о чужбине и неволе, настроение у девушки было хорошим: вчера она впервые за долгие годы увидела так близко свои самолеты. Это было похоже на доброе знамение. Даже хозяйка, неразговорчивая полька, сегодня утром посмотрела на нее как-то особенно значительно и сказала, словно ни к кому не обращаясь: — Видно, наступление будет... Она не прибавила, чье будет наступление, но это было понятно и без слов. Девушка собирала хворост и напевала, думая о том, что, наверное, на Родине теперь много новых песен и что хорошо бы спеть их, когда придут свои. И вдруг она вздрогнула и замерла с хворостинкой в руке: раздвинув кусты, прямо на нее вышел человек без шапки, в рваном ватнике и весь в грязи. Один глаз у него заплыл синяком, другой смотрел пристально, в упор. — Здравствуйте, — сказал он по-немецки. По двум причинам по-немецки: потому, что польского языка совсем не знал, и потому, что казаться немцем было выгоднее — меньше расспросов. — Здравствуйте. — Куда ведет эта дорога? — показал он рукой на извилистую проселочную колею. — А вам куда надо? — Спрашиваю я. — А я плохо понимаю по-немецки, — улыбнулась девушка. — Так, мало-мало. Тут подучилась. На другом не можете? — На каком? — На русском, например, — все с той же непонятной улыбкой предложила девушка. Разговор начинал смущать Быкова — а это был он. По какому праву и для чего эта пигалица выпытывает у него ответы, которые могут дорого ему обойтись? Но девушка сама разрешила сомнения: — У вас гимнастерка русская и погоны малость видны. — А если это маскировка? — Под русского среди поляков? Голову надо потерять? А я и сама украинка. — Иди сюда, — сказал Быков. Раздвинув кусты, он пропустил девушку. — Здесь я ночевал, — показал он на свежевырытый блиндаж. — Похоже, немцы оборону строят, а? — Строят... Здесь речка, небольшая правда, но болотистая, станцию прикрывает. — Хо-хо, стратег! — улыбнулся Быков. — Значит, на тот «вал», где они теперь, не надеются? Ну и шустрый немец пошел, да надо бы им могилы копать, а не дзоты... А ты тут, собственно, что делаешь? — Видите, хворост собираю. — Хворост? Гм... А что, на Украине топить нечем? — Ах вот вы про что! — И девушка, перескакивая с пятого на десятое, рассказала, как ее забрали на работу в Германию, как поезд по пути потерпел крушение и свои ребята помогли ей бежать, как она долгое время скиталась по лесам, пока одна женщина не приютила у себя в качестве работницы. — Мечтала о консерватории, а попала в батрачки... Мне бы только своих дождаться. Но иногда такая тоска нападает, такая тоска... — Потерпи, — сказал Быков. — Потерпи еще немного. — А сколько? — Ну, это дело не моего ума. А что, много вас здесь таких? — Есть. Разные. А тебя что интересует? Ты из Красной Армии или из плена бежал? — Я? Как тебе сказать... — Скажи, как есть. Быков рассмеялся. «На Женю не похожа, а характер такой же. Ну да Женя постарше», — подумал он. Вслух же сказал: — В бою вот оплошал... Поймали, били, везли куда-то, когда началась бомбежка, убежал... Теперь надо к своим пробираться, да уж не знаю как — сил маловато, выбили, подлецы, и ничего не ел со вчерашнего дня. — Батюшки! — всплеснула руками девушка. — А я тут с ним растабариваю! Что же мне с тобой делать? — хозяйским тоном спросила она. — Сюда поесть принести? — Не знаю, милая, наверное, сюда, если достанешь. В таком деле, чем меньше людей замешано, тем оно и вернее, А про мой побег не слышно? — Не слыхала... Там много немцев побило, когда вагоны стали взрываться. Ну ты тут посиди, а я потолкую с хозяйкой... — Ну вот и пошла глупости говорить. Ты — хозяйке, она — соседу, а сосед — всему свету... — Не беспокойся, — уверенно сказала девушка, — не ты первый... Много наших людей бежит из лагерей, из тюрем, с заводов, где хуже, чем в тюрьмах. Помогаем чем можем. Кто ж еще выручит на чужбине? А ты вот что скажи: если тебе их эта самая оборона нужна, так я нарисую, я вокруг станции все знаю. — Ничего рисовать не надо, мне от этого никакого толку... Ну что ж, стратег, поступаю под твою команду... Кстати, как зовут тебя? — Оля. «А хороших же мы девчат вырастили», — радостно подумал Быков, когда девушка ушла. Подумал так, будто это он и вырастил, а не принадлежал и сам к этому поколению советской молодежи. Девушка пришла в сумерках, запыхавшаяся и возбужденная. — Я уже наполовину помер, — сказал Быков. — Так нельзя же было раньше, немцы мельтешили... А теперь пойдем, да быстрее... Хозяева, к которым привела девушка Быкова, приняли его молча. Накормив, стали обсуждать, где устроить его. В дом могли войти чужие, на чердаке — холодно. — Придется в подполье, — сказал хозяин. — Там вещи кое-какие и продукты прячем... Тепло будет, перинку дадим, а что темно, так с этим ничего не поделаешь. — Ладно, — согласился Быков. Это подполье очень смахивало на ловушку. Если предадут, так уж не вырвешься. Но все тело так болело и ныло, что он с трудом сидел. «А-а, где бы ни ночевать — риск один, здесь же есть хоть свой человек», — подумал он. — Сними белье, постираю, — сказала девушка, когда он уже спустился в подполье. Быков пролежал здесь больше суток. Кормили его хорошо, к обеду хозяин даже вина принес. Быков расспросил девушку о житье-бытье, о немецких гарнизонах, о дорогах. Слушал и удивлялся: Оля для ее лет знала много. На другой день он почувствовал, что может идти, и сказал об этом девушке. С той вдруг слетела вся деловитость. — Я... я тоже с... с тобой, — всхлипывала она. — Не надо дождя, — сказал Быков, — дорога размокнет. — Он привлек девушку к себе и погладил по голове. — Нельзя со мной, Оля, ты пойми. Дело у меня серьезное и срочное, одному и то трудно пробраться... Ты вот, если партизаны есть поблизости, с ними свяжись да помогай своим... Каждый должен делать то, что может. — Зачем ты учишь меня? — обиженно сказала девушка. — Я это сама знаю. Но я хоть одним глазком хочу посмотреть на родную землю, а теперь упасть бы, прижаться к ней, как к матери. Да где это понять тем, кто не был на чужбине? — Поймем, зяблик. Ты лучше скажи, какому жениху привет передать? — До свидания, — сказала девушка, и голос ее дрогнул, в нем снова послышались слезы. — Если, случаем, встретишь Никиту Васильченко, скажи, что его сестра Оля целует его и ждет. Вы скорее только приходите, скорее! — Скоро придем, — серьезно и твердо сказал Быков. — Спасибо тебе, родная, и до скорого свидания!Глава пятая
ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ
В то время как Быков прощался с девушкой, собираясь в обратный путь, километрах в двенадцати к востоку, в лесу, возле костра, сидели его конвоиры — Эрих и Ганс. Они и сами не смогли бы объяснить, что заставило их третьи сутки кружить по оврагам и лесам. Бомбежка, взрывы снарядов, смерть офицера, бегство пленного, страх перед начальством совершенно ошеломили их. Сейчас они были заняты усердными, но совершенно бесполезными препирательствами. — Зачем ты сказал «наши самолеты»? — в десятый раз начинал Ганс. — Если бы ты не сказал, что это наши самолеты, мы могли бы укрыться, принять меры... — Это дело воздушных наблюдателей — предупреждать... Да и не такие годы мои, чтобы бегать, как мальчишка. У меня ревматизм. — Теперь тебя сразу вылечат. Расстрел, он и не такие болезни лечит. — Почему расстрел? За все это дело отвечал офицер, а он убит. — Да, офицер убит, это верно, — согласился Ганс. — Это, конечно, обстоятельство... — Вот я и говорю, убит. Мало того что очередью прострочило, так еще и череп осколком снесло. — А пленный все-таки убежал. Упустить такого важного пленного — это не шутка... Это никак не меньше штрафной роты. — В штрафной роте тоже наверняка убьют. Пушечное мясо... — А тут партизаны убьют... Слово «партизаны» вырвалось так неожиданно, что Эрих побледнел и стал быстро затаптывать костер, а Ганс покрепче сжал винтовку. Посидев еще некоторое время в темноте и ничего подозрительного не услышав, конвоиры улеглись спать. Впрочем, это был не сон, а кошмар: скрипело под ветром дерево, среди ночи стала кричать какая-то шальная птица. И солдаты лежали затаив дыхание, пугаясь даже стука собственных сердец. Перед утром пошел дождь, они перемокли. Думая, что Ганс спит, Эрих вытащил кусок хлеба и, давясь, стал поспешно есть, а Ганс лежал и думал: «Экая скотина, сам жрет, нет чтобы с товарищем поделиться». Впрочем, есть он не очень хотел, потому что незадолго перед тем съел большую булку, прихваченную на базаре у торговки при выходе из местечка. Перед утром, когда стало всходить солнце, они действительно уснули. И Эриху почему-то, как уже не раз за последнее время, во всех подробностях приснилось отступление у Буга. Во второй половине дня, когда после утреннего боя отступление превратилось в бегство, хлынул обложной дождь — шипел и хлюпал водой лес, чавкало, как болото, сжатое поле, и то тут, то там бомбы и снаряды выкидывали фонтаны грязи. Потом — ночь, паника. Офицеры удрали, саперы тоже. Пехота бежит к реке, но никто не знает, где лодки. На реке стоит стон, вой, крики, проклятия, каждый старается только за себя. За плечо Эриха ухватился раненый, просит помочь, обещает все свои трофеи... Пришлось дать ему в морду и отправить к рыбам: нашел, дурак, время прельщать трофеями, когда сам идешь ко дну! Выплыв, Эрих увидел, что чуть повыше река имеет перекат и там люди переходят вброд. В это время перекат накрыли минометным огнем. Там стоял такой крик, что он заткнул уши и в ужасе побежал от реки куда глаза глядят. Потом он увидел себя и Ганса на двуколке, которую трясло и подбрасывало на лесной дороге. От этих толчков он и проснулся, открыл глаза и в ужасе снова закрыл их, словно увидев привидение... Светило солнце, и перед ним, закинув за спину винтовку Ганса и небрежно перекинув на колене автомат, сидел их пленный. — Гитлер капут! — подобострастно забормотал Эрих, поднимая руки. — Геринг капут, Геббельс капут! — добавил равнодушной скороговоркой Ганс. — Помалкивать, вы, тотальники! — оборвал Быков. — Это наше дело решать, кому капут, а кого по Европе в железной клетке возить на поучение... Ну ты, — ткнул Быков Эриха, — снимай шинель, пилотку, сапоги, да побыстрей... шнель! Эриха трясло как в ознобе. Раздевшись, он сидел в поношенном мундире и босой, посиневший от страха, щуплый и жалкий. Войлочного цвета жидкие вихры смешно торчали над длинными ушами и морщинистым лбом... Быков натянул шинель прямо на ватник, так что она затрещала по всем швам. — А теперь что с вами делать? — сказал Быков. — Собственно, вопрос сравнительно ясен — прикончить, и все тут... Будете знать, как расстреливать пленных «при попытке к бегству». — Это Ганс говорил, это не я, — сказал Эрих. — Я не говорил, — сказал Ганс. — Он сам слышал, кто сказал. — Кончать дискуссию! У вас в запасе вечность, там договоритесь, а мне некогда. Конференция окончена. Быков поднялся. И в это время, врываясь в разноголосицу лесных шумов и стуков, прогремел властный и резкий голос: — Хенде хох! Не прошло и тридцати секунд, как Быков был обезоружен, обыскан и зажат между двумя плоскими штыками. Ганс и Эрих, увидев группу солдат в длинных военных плащах, вскочили и, выпучив глаза, бормотали фантастический рапорт. Старший группы посмотрел на жалкую фигуру Эриха, на его вихры, на торчавшие из продранных носков кривые пальцы и чугунно-сизые пятки и расхохотался. Потом он подал команду, и вся группа гуськом двинулась по тропинке в горы. После часа пути лес стал редеть, открылась небольшая долинка, а за нею — старые потрескавшиеся стены, решетчатые ворота и красная черепица на крыше монастыря. Ворота открыл монах с длинными, подстриженными в кружок волосами, в коричневой хламиде, подпоясанной какой-то веревкой. Поднялись на низенькое крыльцо. На ступеньках — глубокие желоба от тысяч и тысяч ног, которые прошли здесь. В узком мрачном коридоре, в стене слева — глубокие выемки с окнами. Сквозь них виден четырехугольник двора, глубокий, как колодец. Солнце никогда не заглядывало сюда. Два чахлых вишневых деревца и несколько немощных растений на клумбах выглядят как пожизненно заключенные. На стене справа — темные картины старинного письма, мистерия распятия, погребения и воскресения Христа. Живопись грубая, натуралистическая: из темных ран сочится трупная сукровица. Всюду сырость, плесень... Конвоиры открыли дверь с латинской надписью «О. Викарий» и втолкнули Быкова, Эриха и Ганса в келью. Келья убогая. Стертые, как и везде, половицы, стол, похожий на пюпитр, узкая жесткая кровать. Быков решил, что сейчас начнется допрос, но конвоиры откинули потайной люк в полу и, посвечивая фонариком, повели всех дальше. Коридор шел вниз. В самом его конце Быков на мгновение увидел сводчатый подвал со струйками воды на заплесневелых каменных стенах, кучу соломы в углу и около десятка заключенных в немецких мундирах. «Вот теперь, кажется, конец», — подумал он, когда фонарь исчез и со всех сторон на него ринулся мрак.Глава шестая
ФИЛОСОФИЯ ПОД ВИСЕЛИЦЕЙ
— Кто такие? Табак есть? — спросил хриплый голос, когда люк захлопнулся и наверху все стихло. — Нет, — робко отозвался Эрих. — Дураки, — презрительно произнес голос. — Разве подданные Салаши перестали давать аванс под Трансильванию? Дураки. — Мы некурящие. — Еще раз то же самое... Боже мой, и это называется немецкой армией! Разве вы не солдаты фюрера и мир принадлежит не вам? Вы, прекрасные белокурые львы, великолепные потомки Арминия, ринувшиеся в громовых раскатах маршей утверждать расу господ! Или вы не читали книги «Моя борьба», вы, мокрые курицы, или не вам, олухи, говорил фюрер, что решительностью и беспощадностью мы оправдаем свое великое предназначение? Вам дали в руки земной шар, крутите его и гоняйте как вздумается. А вы не можете обеспечить себе щепотку табаку. За одно это вы достойны виселицы! — Брось их запугивать, Фридрих, — произнес другой голос. — Разве ты не видишь, в каком они состоянии? — Вижу, — сказал Фридрих. — Они в том состоянии, когда сыплется песок от старости и начинаются колики в животе от страха. Вы как сюда попали: стянули у ротного продовольственный паек или выражали сомнение в победе Германии? — Нет, мы не крали и ни в чем не сомневались, — вздохнул Ганс. — Обо всем известно только господину начальнику, который там, наверху. — А кто он? — Этого мы не ведаем... — Они знают не больше нашего, — послышался голос из угла. — Да, — сказал Фридрих, — я бы дорого дал, чтобы узнать, кто наложил на меня лапу и в чем я обвиняюсь. Меня подняли среди ночи с постели и так подгоняли, что я не успел даже штаны застегнуть, так и поддерживал их всю дорогу. Шестнадцать часов назад меня втиснули в эту дыру. С тех пор прибавилось соседей, но ничего не стало яснее. — Я слышал, что на фюрера было покушение и теперь раскрывается огромная шайка заговорщиков, — прозвучал неуверенный голос. — Может быть, в связи с этим? — Ну, я в такие дела не вмешиваюсь, — сказал Фридрих. — Странно, однако, что все это в лесу... — И в монастыре. — И в монастыре. Не грехи же нам замаливать! — Может быть, для сохранения тайны? — Может быть, — согласился Фридрих. — Когда поведут вешать, не забуду выяснить этот первостепенный вопрос. — Не фиглярствуй. — Что же еще делать? Я мыслю, — значит, живу, иначе начинает казаться, что надо мной крышка гроба. Вот эти старички не станут философствовать, они знают, что везде есть начальник. Вы там, черт вас побери, что вы знаете, к примеру, о «вещи в себе»? — Мы тыловики, — сказал Эрих. — Вещи остались в полку, — уточнил Ганс. — Видите? — злорадно спросил Фридрих. — В смысле исторического развития они движутся на два сантиметра впереди бразильского попугая, и это расстояние катастрофически сокращается. А я окончил философский факультет в Берлине! Должен же я, как мыслящая единица, подвести итоги своей жизни и карьеры? — Подводи, если это не очень скучно, — согласился голос. — Паясничай. — Человек рождается глупцом, живет плутом и умирает шутом. Кажется, я близок к последнему, а когда приходит этот срок, человек солидный пишет завещание на недвижимость и капиталы в банке. Это — глупо, наследники все промотают да еще выругают покойника, что мало нажил. Я не сделаю этой ошибки, я завещаю наследникам только мой жизненный опыт — он достаточно богат, чтобы они могли поломать над ним голову... Детство не имеет значения, юность любопытна зубрежкой, пивом и ловлей социалистов. Жизнь начинается позже. Двадцать второго июня сорок первого года я перешел границу у Бреста. Это был великолепный старт с захватывающей перспективой! К сожалению, мне не повезло, проклятые партизаны всадили мне в шею осколок мины. Лето ушло на ремонт, а в декабре я в роте пропаганды отбыл под Москву подогревать замерзающих солдат пылкими речами. Двенадцатого декабря от роты и пропаганды осталась собака Берта и я с отмороженными конечностями и осколком в левой половине зада. Я лежал в лесу и размышлял, кто кого из нас раньше съест — Берта меня или я ее? Она сбежала из-под дула пистолета, а меня случайно подобрали солдаты. Два месяца я ел и пил, лежа на животе, и узнавал санитарок по ногам. Одна была весьма недурна, и я решил, получив поместье на Дону, впоследствии пить пиво и писать научную работу «Голенобедренные признаки чистокровной арийки». Это была бы верная ученая степень, но, к сожалению, вино пахло лучше, чем чернила, и я не успел даже набросать конспектов. Летом я наступал с танковой армией Гудериана в качестве военного корреспондента. Какие там гуси и сметана! Однако в районе Оскола русская фугаска выбросила меня из машины, и в ушах полтора месяца звонили колокола всех звонниц Кельнского собора. Контуженный, я не мог двигаться за армией и организовал себе особняк в Харькове, где, ничего не слыша, писал великолепные корреспонденции о победах нашего оружия. Позже меня по ведомству доктора Геббельса послали под Сталинград поднимать дух сопротивления. Там, в окружении, я помогал доедать румынскую кавалерию. А когда от нее остались копыта и хвосты, вывернул из своих карманов все благоприобретенное, отдал пилоту и помахал сверху героям Паулюса. Над нашей территорией нас сбил русский истребитель. Я отделался сломанным ребром и синяками. После госпиталя получил отпуск домой. Но вместо дома была груда битого кирпича, по которой вместе и порознь бродили тетя Эмма и ободранная кошка. Одна откапывала пожитки, другая охотилась на мышей... При выравнивании фронта на Буге я сулил какому-то подлецу все свои трофеи, которых, кстати, у меня уже не было, чтобы он помог мне выбраться на берег. Но это был умный парень, он дал мне в морду. Потом меня произвели в интенданты. И только я стал входить во вкус новой работы, как очутился здесь... Все. Я свое получил. Что же касается грядущих поколений немцев, то будут ли они делать пушки вместо масла, платить репарации или дуть шнапс — в моей судьбе это ничего не изменит. — Но в чем же суть твоего завещания? — Дуть шнапс. Если они при этом будут делать пушки — тоже неплохо. Но главное — шнапс. — Он, бедняга, сошел с ума, — шепнул Эрих. — Молчи, дурак, — так же тихо ответил Ганс. — Это провокатор. Открылся люк, два монаха внесли суп и дали по куску хлеба каждому из сидящих в подвале. — Послушайте, святые отцы, — обратился Фридрих, — не можете ли вы сказать, какой святой отвел нам в своих владениях этот кусочек рая? Монахи ушли, ничего не ответив. — Не партизаны ли? — сделал предположение кто-то. — Мы не в России, а в Польше, — отозвался Фридрих. — Да и на кой черт партизанам с нами возиться? Мы с ними не церемонились! Нет, я полагаю, что мне не следовало связываться с интендантством, надо было учесть опыт предшественников — их или судят за растраты, или ловят в тылах партизаны, как перепелов на дудочку... В это время между двумя солдатами началась ссора из-за того, что они не поделили кусок хлеба. — Обратите внимание, господа, — потешался Фридрих, — типичный случай передела жизненного пространства путем применения силы. Перед вами, таким образом, в предельно сконцентрированном виде принцип цивилизации и наглядный пример того, чем кончит человечество. Машины, институты, образование — все это промежуточная дребедень, на последней странице истории будут кусок хлеба и два оскаливших зубы индивидуума в звериных шкурах. Занавес, господа, занавес! Аплодисментов не надо, комедию играли вы сами. «Юмор висельника, — подумал Быков, — помесь философа с бешеной собакой». Все время он внимательно слушал, надеясь что-либо узнать о своем местопребывании, но, обманувшись и ничего не определив, стал дремать. И тут услышал над ухом жаркое дыхание, — Рус, слушай... Хороший план! — Что? — Не говори, что мы конвоиры. — Допустим. А дальше? — Мы не скажем, что ты пленный. — Зачем это? — О, допрос будет, нам капут. — И по заслугам. А я при чем? — Мы есть в гестапо... О, Ганс знает гестапо! Фридрих — не сумасшедший, Фридрих — провокатор...Глава седьмая
ЧЕЛОВЕК РОЖДАЕТСЯ ГОЛЫМ
Неизвестно, какие открытия еще сделал бы Эрих, но сверху загрохали шаги, дверь открылась, и ослепленного светом Быкова вызвали, точнее, вытащили на допрос. Привели его в угловую келью, через окно которой были видны кусок дороги, бурое осеннее поле и сосновый лес. Сначала Быков зажмурил глаза — больно ударил солнечный свет, потом почувствовал тоску по свободе, по своей землянке, по товарищам. «Ох, Пашка Быков, много ты наделал ошибок: взял в разведку письмо, занялся болтовней с фрицами... Теперь хоть не зевай, может, еще и не все потеряно», — думал он. — Фамилия, имя, отчество, часть? — спросил по-немецки тот, что вчера был начальником группы, захватившей врасплох Быкова. Теперь на нем хорошо сидел костюм из серой шерсти, а глаза смотрели из-под насупленных бровей холодно и испытующе. — А вы кто такой? — в свою очередь спросил Быков. — Вчера вы были военным, сегодня стали штатским. — Ах вот оно что!.. Ну, это пустяки, мимикрия — и не больше. Вы находитесь в штабе интернационального антифашистского отряда, и я попрошу отвечать на мои вопросы. — Я не фашист и, значит, за них не ответчик. — Оставим болтовню. Вот ваши документы. Ганс Эрман, рядовой, призван из запаса по округу Луккенвальде. — Документы не мои, точно так же как и шинель, из которой вы их извлекли. Я русский. — Вот как? Это совсем интересно... Иуда, продавший отечество, даже не за реальные тридцать сребреников, а за немецкие посулы? Ну что ж, будем судить сразу за два преступления. Быков был совершенно озадачен. — Я русский, — сказал он, — и ничего общего не имею с теми мерзавцами, о которых вы говорите. — И надел немецкую шинель для форса? И разгуливаешь по лесам в компании немцев ради поправки здоровья? — Повторяю: я русский, но подробностей сообщить не могу. Допрашивающий пожал плечами. — Немцу не было бы надобности доказывать что-либо, но русскому я сделаю уступку. Михаил Васильевич, крикнул он в соседнюю келью, — зайди сюда! Из соседней комнаты вышел среднего роста, плотный мужчина лет тридцати пяти, судя но выправке, фронтовик. Левая рука его безжизненно висела вдоль тела. — Вы русский? — спросил Быков. — Русский... А вы, русский, ради чего напялили на себя это барахло? — Вот этот тоже был вчера... — Тебя это не касается. В беседе с начальником штаба отряда — а им и был Михаил Васильевич — Быков рассказал о своих злоключениях. — Может быть, и так, — произнес начальник штаба. — Но чем все это докажешь? Человек рождается голым, а потом натягивает на себя то, что ему нравится, что может или что выгодно. Если говорить о нас, то мы в составе польского партизанского отряда действуем здесь недавно, охотимся за немцами, чтобы вскрывать все их формирования и планы, и малейший промах может кончиться для нас провалом... Война разбросала наших людей по многим странам, и такие встречи, как у нас с вами, — не редкость. В подобных случаях важно другое: сразу верно оценить человека. В семье не без урода, среди нас, русских, есть отщепенцы, которые пытаются свести старые счеты с Советским государством. Кроме того, на пространство Европы спущены, как цепные псы, выкормыши гитлеровских шпионских школ... Как разобраться, через какое сито нужно сеять? Ведь что ни промах — то и кровь... Голос его звучал глухо и горько. Видно было, что человек этот много познал и пережил, истосковался по родной земле, по родным людям и любит их той любовью, которая действительно сильнее смерти. — Я сам потерял руку потому, что доверился... Я бежал из партии пленных под Славутой и, встретив в лесу крестьянина, разговорился с ним, поверил его сочувствию и остановился на ночлег. Он оказался выкормышем Бандеры и в тот же вечер выдал меня. Теперь вы хотите, чтобы я на слово поверил вам... Ну а если я ошибусь? — Понимаю, — тяжело вздохнул Быков и вдруг как-то сразу обмяк. Он мог бороться за свою жизнь с Гартманом, он мог негодовать и изворачиваться на допросах у врагов, но здесь сидел свой человек, он поставил вопрос так, что выбора не было, и это Быков понял. — Понимаю, — повторил Быков. — А жаль... — Это первое свидетельство в твою пользу, — оживился начальник штаба. — Но всего одно против сотни! — Дело не в этом, — сказал Быков, — я мог бы все оставить, как есть, но у меня срочное и важное дело. Я уже говорил, насколько все это запутано. — Это можно поправить. Скажите номер части, назовите фамилию командира полка и пока посидите здесь — мы все выясним. — Именно того же хотел от меня немецкий штаб — номер части, фамилии командиров... Вы говорите, что каждая наша ошибка влечет за собой кровь наших людей. Я уже допустил несколько ошибок и повторять их не хочу и не могу. Номер части — не моя тайна, она принадлежит государству и не может сообщаться даже родным. — Тогда придется посидеть... — Жаль, у меня срочное дело. Начальник штаба пожал плечами — разговор становился бессмысленным. Быков подумал, что может сослаться на Олю. А вдруг эти люди не те, за кого себя выдают? Да и кто поверит девочке? Он уже встал, чтобы идти, но вдруг вспомнил о своих конвоирах, как о последней возможности внести ясность в запутанный вопрос. — Позвольте, у меня же есть свидетели... — Немцы, — подхватил его фразу начальник штаба. — Знаю, конечно. Но ведь, если немцы и подтвердят большую часть вашей истории, то в наших глазах она едва ли станет достоверной... Кто поручится, что это не фокусы немецкой контрразведки? Впрочем, попробовать можно, сейчас мы их вытащим. В ожидании, пока приведут конвоиров, Быкову дали закурить, и он почти опьянел от папиросы. Первым привели Эриха — он так и ходил в рваных носках с торчащими наружу пятками и пальцами. Монах фыркнул и зажал рот рукой, чтобы не расхохотаться. Эрих жмурился от света и переступал с ноги на ногу. — Знаешь этого человека? — указал начальник штаба на Быкова. — Знаю, знаю, — закивал Эрих. — Кто он? — Русский, поступил на немецкую службу. Разве мы иначе стали бы с ним разговаривать? — Выходит, в лесу у вас мирная беседа была? А почему у него твои документы? — Документы я передал случайно с папиросной бумагой, когда закуривали, — с готовностью разъяснил Эрих. — В лесу мы повздорили малость... — А какого пленного вы конвоировали на станцию? — Пленного? — побледнел Эрих. — Нашего пленного разбомбило. День искали, два искали — и никаких следов. — А этот не похож на вашего? Эрих энергично замахал головой. Начальник штаба поморщился и коротко приказал: — Увести. Вошел Ганс. На лице — рыжая щетина, в ней — соломинки и крошки. Ганс в точности повторил то же самое, что сказал Эрих. — Разбомбило нашего пленного, начисто разбомбило, — сокрушенно, словно о близком родственнике, закончил Ганс, — такой был хороший, важный пленный, и вот — разбомбило... Начальник штаба молча ходил по комнате, монах что-то рисовал. Быков сидел окончательно подавленный. — Вот видишь, — обернулся к нему начальник штаба, — эти немцы настолько перепуганы, что от них никакого толку не добьешься. Ладно, потом разберемся, а сейчас хватит... Снова четыре ступеньки, кромешная тьма и стук капель, падающих с потолка, как монотонный ритм вечности. — Разве виселицы еще не готовы? — окликнул Быкова Фридрих. Быков не ответил и молча повалился на солому...Глава восьмая
ЧТО МОЖНО УЗНАТЬ В ГОСПИТАЛЕ
Дессен лежал, закрыв глаза и впервые за эти несколько дней наслаждаясь чувством полного покоя. Его только что принесли из перевязочной. Санитары ушли, а возле него хлопотала сестра Аня Маленькая — действительно очень миниатюрная девушка, с милыми правильными чертами лица и живыми карими глазами. Маленькой ее прозвали потому, что в соседней палате работала Аня Большая, высокая, красивая блондинка. Аню Маленькую пожилые солдаты называли дочкой, молодые поверяли ей свои нехитрые тайны, а влюблялись в Аню Большую. Аня Маленькая аккуратна и хлопотлива на редкость, такой чистоты, как у нее, нигде не найдешь. Но у нее есть одна странность — она до смерти боится всяких ревизий и обследований, и, когда они происходят, Аня ходит словно потерянная и часто вспоминает маму, которая живет где-то в Пензе, а иногда и всплакнет короткими и быстрыми, как весенний дождик, слезами. Поправив у раненого подушку и натянув до подбородка одеяло, хотя надобности в этом не было, потому что в палате тепло, Аня Маленькая ушла. Пока она находилась здесь, в палате стояла полная тишина, казалось, все спят глубоким сном, но едва затихли за дверью ее легкие шаги, как на соседних койках одеяла приподнялись, на подушках появились стриженые головы и несколько пар глаз принялись изучать нового раненого. На языке у каждого вертелось добрых десятка два вопросов: кто, из какой части, где и при каких обстоятельствах ранен, не слыхал ли про «наших», что делает «он», то есть немец? Но раненый лежал тихо, и вопросы поневоле приходилось отложить. — Ох, не то у меня температура, не то я его знаю, — сказал пехотинец Семен Кругляков соседу. Его открытое курносое лицо с веселыми и вечно любопытствующими глазами выражало такую уверенность в себе и такую жажду деятельности, что, очевидно, койка, на которой приходилось лежать, представлялась ему орудием изощренной пытки. — Ты вглядись внимательно, может, тоже признаешь? — обратился Семен к соседу. — Нет, не знаю, — ответил тот. — Сразу видно минометчика, — вознегодовал Семен. — Где уж вам знать героев нашего фронта! Ходите около своих самоваров и воображаете, будто только вы и воюете. — Да нет, мы что ж, — замялся сосед. — Лицо в самом деле будто знакомое. — Знакомое! — уже совсем возмутился Семен. — Ну откуда оно тебе будет знакомое, если вы все время во рвах торчите на закрытых позициях? Вы даже и немцев никогда не видите, палите минами в белый свет. А куда мины попадают, только мы, пехота, и видим... А раненый этот — разведчик Быков, командир роты у них капитан Омельченко с орденом Александра Невского. Ох и боевые ребята!.. Только похудел он очень, Быков-то. — Похудеешь, — сочувственно отозвался сосед. — Погода чертова, а работка у них горячая. Семен ранен в руку. Похожая в бинтах на белую куклу, она лежала поверх одеяла. Но очевидно, рана мало беспокоила его, потому что он ни минуты не мог оставаться неподвижным. Именно он больше всех доставлял хлопот Ане Маленькой. В палате его любили и всегда за него заступались, поэтому Семен чувствовал себя как на хорошо укрепленной позиции. Он мастер поговорить: то разведет дискуссию, как снимать немецкую противотанковую мину, то поднимет шум из-за того, что опоздала газета. «Ох, подведет он меня под ревизию!» — со страхом думала о нем Аня. — Это уж точно, — подхватил Семен мысль соседа. — Работа нынче горячая, удар готовится такой, что придется немцам без штанов бежать до самого фатерлянда. Да и там дадим ли остановиться — это еще вопрос, покрытый неизвестным мраком. — Тебе кто, сам командарм докладывал? — ехидно спросил раненный в ногу артиллерист сержант Попов. — Немцы так только в кинокартинах бегают, а на войне дерутся, подлые, возни с ними еще не оберешься. А Берлин, он пока за тридевять земель. — Эх ты, тюря-тетеря! — обернулся к нему Семен, искренне считавший пехоту заглавным родом войск и никогда не упускавший случая поддержать ее честь в любом споре. — Поглядишь на тебя — солдат, а послушаешь — чисто наш колхозный сторож, дед Ефим. Вот, братцы, до чего же неприспособленный старик, прямо удивление! День, скажем, стоит первоклассный, в стереотрубу ни одной тучки не сыщешь в любом секторе наблюдения... Говоришь ему: погода, дескать, хорошая, дед. А он и начнет рассуждать, что, мол, на данном отрезке времени действительно ничего, но опять-таки еще неизвестно, что происходит в атмосфере, и, может, через один момент такой дождь с градом ахнет, что не приведи господи... И все оттого, что барометр в избе-лаборатории, балбесы, разбили в прошлом году. А барометр, надо сказать, всегда врал, и разбили его не мы, а кот, которого он сам туда посадил, чтобы мыши не заводились. Или гонишь коней по прогону, изгородь кругом — таракан не пролезет, а дед и начнет зудить, что, дескать, нечего зевать и ворон ловить, так и клевера недолго потравить... А клевера те, между прочим, за пять километров... И, скажи ты, по всем статьям подходящий дед — работящий, ребятам всегда рад смастерить удочку или вертушку на ручей. Один недостаток имел — сомневаться и разговаривать любил немыслимо... — Ну, поехал, дед Ефим! — усмехнулся Попов. — Ты про наступление начал, так и выкладывай свои соображения, доказывай. — Доказывать тут глухому или, к примеру, слепому надо. Вот, скажем, дней шесть назад танки шли мимо всю ночь, спать не давали, а утром на окошках пыли на сантиметр... Для парада, наверное, а? Или артиллерийская бригада к нам подошла... салют давать по случаю выздоровления одного сержанта... А про деда Ефима ты брось, он в партизанах был, геройский старик! В это время дверь тихонько открылась, и на пороге появилась Аня Маленькая. Обычно в таких случаях Семен натягивал на голову одеяло и притворялся спящим, но сейчас было поздно. — Ранбольные, опять вы клуб устроили! — сердито сказала Аня, но в глазах ее не было ни капельки строгости и обиды, потому что она не могла, просто не в состоянии была обижаться на этих людей, каждый из которых был ей по-своему близок и дорог, людей, героическим подвигам которых она страстнозавидовала. — Новому больному отдых нужен, а вы все тары-растабары. — Это вы про Быкова? — спросил Семен. — Про Быкова... А вы разве его знаете? — Эх, вот отсталость тыловая! Ну кто же в нашей армии не знает разведчика Быкова? Он же на армейском совещании выступал, и еще один геройский ефрейтор Куприяненко из левофланговой дивизии, которая к нам месяц назад пришла. В армейской газете фотографии их были. — Вон что! — удовлетворенно сказала Аня. — А мы не знали, из какой он части, прибыл без направления из медсанбата, в себя не мог прийти после дороги, только фамилию кое-как и записали... Пойду скажу, чтобы в часть сообщили, а вы, товарищи ранбольные, потише, очень прошу вас. — Тогда давайте нам книжки, — сказал Семен. — Без книжек я все равно не могу молчать. Вон у нас на передовой... Семен хотел пуститься в воспоминания о том, как на передовой к ним попала книга Шолохова «Тихий Дон» и как они ее читали посменно, даже поссорились крепко из-за героев, но его перебил Попов: — А меня скоро выпишут, сестра? — Как доктор прикажет — так и выпишем, — Я уже здоров! — Это доктору видней. — Бюрократизм у вас тут... Наступление скоро, а они задерживают. — А без вас там не обойдутся? — То есть как так «обойдутся»? — обиделся Попов. — Не понимаете, товарищ сестра, солдатской натуры. Я на Дону в наступлении участвовал, на Донце участвовал, на Буге участвовал. Ни одного наступления принципиально не пропустил, вот как! Хоть на средний, хоть на капитальный ремонт в госпиталь ставили, а к наступлению я тут как тут. Конечно, кто и прохлаждаться по госпиталям любит, а мне без моих ребят скучно. Я тут от скуки килограммы свои теряю. И харч у вас не тот, жидкий харч, и горючее не положено. Мне это по характеру не подходит. Однажды вот тоже бюрократы попались, так я взял и самосильно убежал домой. — Как это так «домой»? — Да очень просто. Достал вещички — и прямо к своим в блиндаж... Аня рассмеялась: чудные эти ранбольные. И лечат их, и ухаживают за ними, а они все канючат, а некоторые и убежать норовят. И называют это смешно — «домой». Хорош дом — холодно, дымно, пушки бьют день и ночь... К нам вот тоже однажды попало в соседний дом два снаряда, так это ж ужас как грохает! — Ну ладно, пойду книжки добывать...Глава девятая
НА ФРОНТОВОЙ ДОРОГЕ
Когда Дессен очнулся, была все та же тьма и, казалось, та же самая одинокая ракета висела справа. Солдат кончил перевязку, и к нему нагнулся Кассель. — Печальный случай, — сказал он. — И обстрел, и дурак-солдат растерялся: зацепил винтовкой за ветку. Эти винтовки стреляют иногда совсем некстати. Надеюсь, вы сможете продолжать путь. Работе рана не помешает, она совершенно безопасная. Постарайтесь избежать медсанбата и направляйтесь прямо в госпиталь. «Все врет, — подумал Дессен, — сам, собака, может быть, и стрелял. Дать бы в морду... Да черт с ним, все равно ничему уже не поможешь». На одну минуту у него мелькнула мысль: поскольку так произошло, вернуться назад, но тут же подумал, что пристрелят. Он хорошо знал основы немецкой дисциплины! И пополз под колючую проволоку, обдирая руки... Путь был страшный, особенно он боялся мин. Правда, Кассель сказал, что на этом участке их нет, но он мог в лучшем случае поручиться за свои. А русские? Кто их знает... И ему вдруг представилось, как во тьме он натыкается на бугорок земли, под которым спрятана гремящая смерть в деревянной коробке, как земля под руками разверзается огнем... Некоторое время Дессен лежал неподвижно. Потом он постарался припомнить все, что преподавали у них в школе по подрывному делу, и, несколько успокоившись, пополз еще осторожнее, ощупывая землю дрожащими от страха и напряжения руками. Он не знал, сколько прошло времени, и был выведен из состояния полузабытья окриком на русском языке. Он выбросил компас и отозвался. К счастью, на этом участке работала вчера группа разведчиков, знавших об исчезновении Быкова и рассказавших об этом пехотинцам. И теперь те, порадовавшись, что ему удалось благополучно возвратиться, отпустили его без особых расспросов. Уже в тылу он догнал группу легкораненых и вместе с ними вошел в город. На первом перекрестке, на горе, у старинных каменных ворот, группа разбилась на две части. Одна пошла направо, в госпиталь, расположенный в самом городе, другая двинулась дальше. С этими последними пошел и Дессен. Он попытался завязать разговор и спросил, не слыхать ли у них чего нового, но солдат, раненный в руку и с разбитыми губами — его взрывом швырнуло на вишневые деревья, — посмотрел на него с укоризной: — Как тебе, братец, сказать... Толкуют, что готовится что-то, а где оно и чего будет дальше, узнаем потом. На дорогах об этом не распространяются. Беззлобно отчитав Дессена, он снова стал шутить — по всему было видно, что это редкостный весельчак и бывалый во всяких переделках воин. Говорить ему было трудно, он шепелявил, но старался приободрить своих попутчиков. — Вот, жначит, как штукнуло меня, так я шражу и подумал: «Эх, Иван Пахомович, вше это пуштяки, а вот человатча ж девками тебе и невожможно теперь... Ражве што доктора шпашут твою крашоту!» Прошли город, высоко вознесший над рекой черепичные крыши и серую громаду тюрьмы. КПП находился на окраине, у моста. Веснушчатая загорелая девушка-регулировщица проверила документы и направления у двух раненых, третьим был Дессен. Он побледнел и, сделав вид, что ему плохо, прислонился спиной к стене старой полосатой будки, в которой раньше был полицейский пост. — Документы! — словно издалека донесся до него голос девушки. — Да брошь ты, не видишь — швой брат-шолдат! — сказал пожилой раненый. — Человеку дурно, а она шо твоим бюрократижмом... — Нам приказано... А то многим надо в город в госпиталь идти, а они не знают и путаются, только ноги зря бьют. — Жнаем, жнаем, — сказал солдат и загородил собой Дессена. Девушка, поспорив для порядка, отошла. Дессен услышал в будке разговор начальника поста со сменившимся регулировщиком. — Этой ночью артиллерия шла, а в следующую, кажется, танки надо ожидать. Вы смотрите, чтобы порядочек и маскировочка! — Как часы... — Раненые, на посадку! — крикнула девушка. — Вот же въедливые девчата, — сказал пожилой раненый, когда машина тронулась. — Их бы у райских ворот ставить для проверки документов, ни один по блату не проскочил бы... Это вот когда меня ранило в первый раз, еще под Калачом, беру я ноги в руки — и в медсанбат, ловлю за полу врача. Так и так, говорю, прибыл, кладите меня на стол, на который следует, и тащите осколок, а то мне самому, как мине, выть хочется. А он говорит: «Сейчас, вот только анкету заполним». И пошел: как зовут, где рос, сколько учился, кто была бабушка?.. «Доктор, — говорю, — а для чего покойница? В великую французскую революцию она верила, богу молилась умеренно, предсказывала, что быть мне по всем статьям купцом и жениться на бубновой даме. А я вот завещания не выполнил, дернул меня черт на трефовую масть... Не надо бабушки, доктор!» А он: «Ранбольной, не отвлекайтесь посторонними мыслями, скажите, сколько часов назад вас ранило?..» А я что, будильник с собой таскаю? И так мне захотелось запустить в этого милого человека осколком, который под лопаткой сидел, да жаль — вытащить не мог... — Врешь ты все, — сказал молодой боец, — не бывает так. — Разве? — удивился раненый. — Стало быть, перехватил. Вот всегда так, начнешь по-хорошему, а потом что получается? В машине становилось совсем весело, и, если бы не белые повязки, можно было подумать, что солдаты едут в отпуск и радуются предстоящим свиданиям. В госпитале разговорчивый солдат снова выручил Дессена, когда речь зашла о направлении и документах. Сам раненный, он обо всех заботился, всем помогал и вообще выглядел заботливым папашей или напористым старшиной. — Ну иди, — сказал он Дессену, когда все было кончено, — лечись, главное — хирургов уважай, это самое основное в нашей жизни... Дессен до тошноты боялся операции, тем более что считал русскую медицину весьма примитивной. Но все оказалось как нельзя лучше. И удивился: извлекли из плеча не пулю, а всего-то осколок. «Не такой уж он и подлец, этот Кассель, — подумалось ему. — А я думал: специально устроили...» В палате он нарочно прикинулся спящим, чтобы осмотреться и освоиться в новой обстановке, — и как здорово получилось! Теперь он знал «свою» часть, фамилию командира, а кроме того, уже получил и некоторые сведения, ради которых прибыл. Семен со своей страстью поговорить оказался сущим кладом для него, и он решил попозже специально заняться им — узнать номера частей, откуда люди приходят. Таким сведениям цены нет! После обеда у него завязался с Семеном разговор. Он рассказал, как был контужен, захвачен в плен, как его мучили. Семен, польщенный вниманием известного разведчика, сочувственно вздохнул, сжал здоровый кулак: — Ну ничего, Быков, скоро мы им дадим прикурить от фитилька!.. Техника у нас подошла что надо. — И с увлечением начал рассказывать о самолетах, пушках, танках, нарисовав такую картину, что у Дессена стали закрадываться подозрения, что это — всезнайка или фантазер. Бывают такие оптимисты, что из одного танка делают четыре, а из самолета — десять. — А какие части? — Части? — словно споткнулся Семен. — Об этом мне не докладывали... Разные части, кто их сочтет... Да и зачем мне их номера? Главное — техника была бы. Рана Дессена оказалась несерьезной, и ему скоро разрешили ходить. Правда, Аня Маленькая поставила условие — в пределах госпиталя. Но при госпитале, размещенном в бывшем помещичьем имении, был сад, и, следовательно, можно было, не нарушая порядка, и доверительно потолковать с выздоравливающими, и посидеть в тишине, поразмышлять. Лишь сейчас начал он в полной мере осознавать, в какой спешке и как нелепо сунули его в эту авантюру — без надежных документов, без запасных явок. Правда, был Ян в качестве пункта связи, но если сам Ян, находясь здесь, не мог обеспечить необходимых сведений, значит, руки у него были связаны. У Дессена не было опыта разведчика, его все время по неизвестным причинам — чему он, кстати, и был рад — держали в резерве, но кое-что он начал понимать: им просто заткнули первую попавшую щель — подменили обычную войсковую разведку, которая не могла пробиться в русские тылы, — следовательно, им не очень дорожили и ему не слишком доверяли. Он был «одноразовым», как консервная банка в окопном рационе. Это было обидно, но имело и свои преимущества: собрав сведения о концентрации русских частей на данном участке и передав их Яну, он мог возвращаться. Как? Там будет видно! Теперь главное — сделать дело, что, судя по разговорчивости тех, с кем он встречался, особого труда не представляет. У него даже мелькнула мысль, что, поскольку с ним так поступили, он и вообще мог бы остаться здесь, смешавшись с местным населением, до конца войны — неизвестно теперь, чем она и кончится, а оправдания нашлись бы! — но он боялся быть разоблаченным: живьем шкуру сдерут большевики! Успокоенный до некоторой степени такими размышлениями под ровный шумок начинающегося листопада, он уже возвращался в госпиталь и у самого входа встретил Семена. — Быков, где тебя черти носят?! — закричал тот. — Иди скорее, там тебя один сержант дожидается... Ну, не сержант, а... — Кто именно? — Ладно, ладно, не ломайся... Сто их штук у тебя, что ли? Таких по сто штук не бывает, таких, может, на всю нашу армию одна... Счастливый!..Глава десятая
НЕВЕСТА БЫКОВА ПРИЕХАЛА В ГОСПИТАЛЬ
Женя Велиховская познакомилась с Быковым и полюбила его, когда они вместе учились на курсах агротехники в Вязьме. Началась война, Павел ушел в армию, а Жене на призывном пункте сказали, что девушек-добровольцев пока не требуется. Когда пришли немцы, Женя санитаркой ушла в партизанский отряд. В могучем лесу, среди столетних сосен и дубов, поджидая возвращения очередной группы с операции, надеялась что-то узнать о Быкове. Мир словно разломился пополам, раскололся огненной пропастью фронта. На одной половине, затерянной в глубине лесов, была она, а на другой, там, где на тысячи километров от моря до моря гудел и ворочался фронт, там — Быков. Не было ни весточки, ни письма, только тайная надежда и неясные девичьи мечты в тихие вечера, когда на траве гасли один за другим блики, постепенно стихали песни птиц и только над головой серым столбиком вилась мошкара, обещая хорошую погоду... Несколько раз далекий гул медленно сдвигался с места и начинал катиться на запад. Тогда веселее ходили люди в лесу, радостнее светило солнце, мальчишки забирались на высокие деревья высматривать, не идут ли наши. Но гул слабел, затихал, и все снова принимало будничный вид — наступление приостанавливалось. И вдруг словно сорвали плотину: фронт, находившийся до того за десятки километров, за двое суток обойдя партизанские леса, стал удаляться на запад. И снова партизаны оказались в тылу, но теперь уже у своих. В лагере в эти дни почти никого не было, кроме «подсобной силы» — поварих, хозяйственных дедов, часовых. Женя не могла уйти с партизанами на операции, она болела. Немногие раненые, возвращавшиеся из боя, рассказывали, что немцы бегут как угорелые, что партизаны берут их в плен сотнями, захватывают машины, обозы, танки. А когда начинали говорить о Красной Армии, не хватало слов, чтобы выразить удивление и восхищение ее мощью. — Господи, откуда что взялось? Что самолетов, что орудий... Прямо как в сказке! — Ну кому, может, и удивление, а кому и очень даже понятно, — степенно и важно говорили старики. — Накопили... Женя Велиховская вернулась в свой районный городок, и туда от Быкова пришло письмо. Сообщал, что у него все в порядке, был ранен, но выздоровел, два раза награжден. Женя решилась отыскать его. Нелегко это было, он находился на одном из украинских фронтов, но тут помог ее твердый характер. Правда, в одной части с Быковым ей служить не довелось. Но ее назначили в госпиталь. Теперь они находились почти рядом и частенько виделись. Неделю с лишним назад Быков, до этого стоявший вместе с частью на отдыхе, снова ушел на передовую. А вчера в комнату Жени влетела подружка Тоська, суетливая и беспокойная, как весенний воробей. — Ой, Женечка, — затараторила Тоська, — ой, миленькая, что я узнала! Ты только, ради бога, не пугайся, это, наверное, не так уж серьезно. — Что, Тося? — Ох, Женечка, прямо уж и не знаю, как тебе сказать... Нет, правда, ты не подумай, что это что-нибудь такое, это со всяким случиться может. — Да что именно? — Он... он... — Кто «он»? Быков? — Ну да... Какая ты догадливая, Женька! — Ну что он, убили? — Ой, ты с ума сошла, Женя! Разве я сказала, что убили? Ничего подобного, не такая я дурочка, чтобы сочинять невесть что. — А что же? — Убили... придумает же! Вот что значит любовь... Я сама как Павлика полюбила, так, веришь ли, ну, натурально ночи спать не могу: все боюсь, все боюсь, все мне чего-то такое кажется... А с Быковым даже совсем наоборот! — Да скажешь ли ты вразумительно? Ну что, наградили, откомандировали, дисциплинарное взыскание наложили? Что ты трещишь попусту?! — Подумаешь, тоже интеллигентные нервы какие! — обиделась Тося. — Знаю, что вы про меня говорите: «Тоська тараторка, Тоська болтушка...» Ну ладно, я могу молчать, не мой жених, мне что... — Ну, Тосенька, — взмолилась Женя, — ну-ну, не обижайся, скажи, что с ним? — Вот так бы ты разумно и начинала... Ранен он, твой Быков, в госпитале у Василевича лежит, это совсем почти рядом. — А как ранен? Сильно? — Как? И не знаю даже... Голова у меня беспокойная. Как сказали, что ранен, ох, думаю, надо поскорее Женечке сообщить. Торопилась и дальше спросить позабыла. — А кто тебе сказал? — Тут один знакомый приезжал, — смутилась Тося. — Но он уже уехал. Больше Женя не расспрашивала, наскоро собравшись, побежала к начальнику. — Раз такое дело, поезжайте, — сказал начальник. — Можно и к нам перевезти на лечение, если окажется возможным... Знаю, знаю, любовь не картошка, верно? У меня в госпитале награжденных тридцать процентов, а влюбленных девяносто девять... Так Женя очутилась в госпитале. Однако с первых же шагов ее ожидали и радость, и разочарование. Аня Маленькая сказала, что ранен Быков легко, но что видеть его нельзя, ушел на прогулку. Аня решительно всех своих больных ревновала к посторонним для госпиталя девушкам и приятелям. Сказав, что подождет, Женя вышла в парк и пошла вокруг флигеля, где гуляли раненые, но Быкова среди них не было. — Посидите в аптеке, вы мне волнуете ранбольных, — посоветовала ей Аня, когда она вернулась. — Явится ваш Быков... Обо всей этой истории Семен неведомо какими путями пронюхал, успел рассказать товарищам и специально поджидал Быкова, чтобы первым сообщить новость и полюбоваться на его смущение. Даже намеревался помучить, поинтриговать. Но когда Быков появился, он забыл все свои планы и залпом выпалил приготовленную новость. Дессен замедлил шаги, стараясь обдумать, чтобы мог означать приезд этой девушки-сержанта? И откуда она? Вдруг из роты? Как ему себя вести? Он даже хотел снова повернуть в лес, но тут его увидела Аня. — Да поторопитесь вы, Быков, вас невеста ожидает!.. Повлюбляются тут, а нам лишние хлопоты... Дессен отшатнулся от неожиданности. Он мог ожидать чего угодно, но не этого, ибо знал, что кого-кого, а любимую девушку никаким внешним сходством не проведешь... И бежать поздно и некуда... «И сколько же невест у этого проклятого Быкова?» — злобно думал он, шагая по коридору за Аней и решив играть роль, как подскажут обстоятельства. Аня открыла дверь в аптеку и крикнула: — Женя, Быков пришел! Стоявшая у окна девушка стремительно повернулась, светлые ее локоны заискрились, в синих, широко открытых глазах попеременно промелькнули радость, удивление, испуг. — Женя, дорогая, — залепетал Дессен, стараясь как можно убедительнее играть роль влюбленного и думая при этом, что сцена получается дурацкая, ужасная, потому что он же ничего не знает об отношениях этих двух людей. — Женя, дорогая, — только и мог бормотать Дессен, приближаясь к девушке с вытянутой правой рукой. И вдруг он остановился: девушка подняла руки словно для защиты, отодвинулась в угол. — Это не он! — крикнула она. — Это другой! Руки у Дессена опустились. — Дорогая, неужели я так изменился, похудел! — вяло жевал он фразы. — Мне очень тяжело пришлось... — Бросьте ломаться, не ищите дурочек! — отчеканила девушка. — Кто вы такой и почему назвались Быковым? Дессен почувствовал, как на лбу выступает холодный пот...Глава одиннадцатая
ЗЕМЛЯНКА
Тихо потрескивают дрова в самодельной печке, качается язычок пламени из снарядной гильзы. Пахнет дымком, сырой глиной, ружейным маслом и другими запахами, неразлучными с солдатской землянкой. Глухо, как подземные толчки, отдаются взрывы снарядов и выстрелы орудий наверху. Здоровый, богатырского сложения, пожилой солдат Кочкарев протирает автомат, безучастно слушает разговоры своих более молодых товарищей. — Нет, вы как хотите, а Быков еще найдется, — говорит Терешкин, специалист по захвату «языков». — Вот хоть отрубите мне голову, если совру... — Велика корысть в пустом сосуде! — язвит злой на язык задира Половодов. — Ты сначала объясни, куда он девался, а потом мы и без тебя остальное предусмотрим. — Ну мало ли чего могло случиться. — То-то и оно, что в детстве на всех таких маловато березовой каши извели, а следовало бы побольше — учись мыслить диалектически... Огонь немцы из орудий и минометов вели? — Ну, вели. — Поменьше нукай, подальше уедешь... Огонь был, значит? Так вот, могло Быкова ранить, и он где-нибудь пересиживает... — Ну и врешь. — Это почему? — А потому... Когда мы обнаружили, что Быкова нет, по всему пути обратно проползли, да назавтра участок обшарили — и ничего. Человек же не иголка! — Да, темное дело... Такие споры не прекращались с той самой ночи, когда пропал Быков. Действительно, разведчики, обнаружив исчезновение товарища, несмотря на бешеный огонь немцев, обшарили весь участок... Забравшись в нейтральную зону, они ночами лежали возле колючей проволоки, прислушиваясь, не раздастся ли стон, не поднимется ли у немцев кутерьма. Иногда начинало казаться, что кто-то стонет, некоторые даже уверяли, что слышат слабый голос, зовущий на помощь. Все начинали прислушиваться еще внимательнее, затаив дыхание, но оказывалось, что это скрипит проволока, свистит ветер или гудит пустая консервная банка. И, возвращаясь утром в разведроту, они стеснялись смотреть в глаза командиру. А тот, догадываясь по их убитому виду о результатах, только хмурился и официальным тоном приказывал доложить подробности. Вся рота тяжело переживала потерю. Дело было не только в том, что исчез прекрасный товарищ, которого все любили за храбрость и открытый характер, а в том, что исчез бесследно, так что никто не был в состоянии вразумительно объяснить, что произошло. Товарищам, знавшим Быкова, трудно было предположить, что он допустил какую-нибудь ошибку, ушел далеко от своих, запутался в траншеях, где мог быть контужен и завален землей... Когда на войне человека ранят — все понятно, его лечат; когда убьют — его хоронят с воинскими почестями, над его могилой гремит боевой салют и воздвигается скромный памятник. Но когда человек исчезает неизвестно как — это происшествие для части и позор для разведчиков. Казалось, из всей разведроты меньше всех исчезновение Быкова переживает Кочкарев, и за это Половодов не уставал упрекать его в самых язвительных и обидных выражениях. Но Кочкарев молчал, не ощущая желания спорить с Половодовым, а когда ему слишком надоедали приставания, поднимался и молча уходил. Между тем Кочкарев усиленно обдумывал собственный план узнать о судьбе Быкова: захватить толкового «языка» на участке, где работала разведка, и как следует допросить о захвате разведчика — мертв он или жив, на передовой у немцев, думал он, должны знать. В обычной обороне это было трудно и рискованно, но сейчас, когда в преддверии наступления разведка работала особенно энергично, все можно было сделать «в комплексе». Выносив, вынянчив этот нехитрый план, Кочкарев доложил свои соображения капитану. Тот обещал подумать. Протирая сейчас автомат, Кочкарев тоже продолжал думать о своем плане. — Командир идет! — прокричал в дымоходную трубу часовой. Все вскочили, одергивая гимнастерки. Капитан поздоровался и разрешил сесть. — Есть серьезное дело, товарищи, — начал он. — Сегодня я получил приказ командира дивизии на разведку. Заодно осуществим и идею Кочкарева. Все обернулись к Кочкареву, недоумевая, какая идея могла быть у этого молчальника. Командир заметил общее смущение. — А что, он ничего не говорил вам? Как же это, Кочкарев? — Боялся, что не одобрят, товарищ капитан. А зря душу чего бередить? — Это, пожалуй, верно. Ну, так вот... И командир изложил задачу. Командованию стало известно о группе партизан, действующих в тылу у немцев. С ней установлена связь, и разведчикам предлагалось, скрытно перейдя передний край, войти с партизанами в контакт, чтобы к началу наступления совместно ударить по немецким штабам и дезорганизовать, по возможности, управление войсками. Командир предупредил, что задача сложная, что язык надо держать за зубами. На сборы давалось четыре часа... В час ночи на участках слева и справа от разведчиков поднялась бешеная пальба. Била артиллерия, били минометы. Пулеметчики, как соловьи, выводили длинные рулады. Над немецкими окопами повисли гроздья осветительных ракет, волны зыбкого света закачались над мертвым, испещренным воронками, густо начиненным осколками полем. Гигантские тени деревьев плясали на серой земле, шарахаясь в сторону, перекручиваясь, двоясь от возникавшего со всех сторон и вдруг исчезавшего света. Синие, красные, зеленые, белые неслись трассирующие пули в темноту веерами; в землянках и блиндажах с потолков сыпались комья земли. Когда грохот достиг наивысшего напряжения, группа разведчиков бесшумно скользнула за брустверы и затерялась в редком бурьяне... А утром капитан Омельченко получил сообщение, что Быков Павел Севастьянович, раненный в плечо, находится на излечении в госпитале. Когда командир подошел к землянке, там уже все горячо обсуждали новость, хотя было непонятно, как она туда дошла (а сообщил ее связной из штаба). Более того, новость не только обстоятельно обсудили, но, очевидно, и выработали решение, потому что после команды «Вольно» выступил вперед сержант Ельцов и попросил разрешения обратиться к командиру. — Говорите, — сказал командир. — Но имейте в виду, что к Быкову поедут мой заместитель и двое из вас, больше никого не пущу. — А как вы узнали, о чем мы хотим просить? — Главным образом потому, что это написано у вас на носах, — улыбнулся капитан. — Ведь вы хотите навестить товарища, так? Через час на шоссе с проселочной дороги лихо развернулась полуторка и взяла направление на госпиталь. Сапер-дорожник, чинивший выбоины, посмотрел ей вслед и покачал головой: — Верные кандидаты на место в кювете...Глава двенадцатая
СКОЛЬКО У НАС БЫКОВЫХ?
Накануне этого дня в монастыре случилось событие. В полдень, едва Быков успел съесть свою похлебку, в подземную тюрьму спустился монах и позвал его наверх. Ничего хорошего не ожидая от предстоящего разговора, Быков готовился к сложным дебатам, но начальник штаба с улыбкой пошел ему навстречу и подал руку: — Поздравляю, братец... Ты свободен и можешь идти. Если нужно, дадим провожатого. Только вот куда идти? — Что случилось? — спросил удивленный Быков, подозревая какой-то подвох. — Связались с Красной Армией? — Нет... Ты же не назвал номера части, и откуда мы знаем, кому сообщить? Но почему ты не сказал ничего о встрече с девушкой? — Какой девушкой? — Олей... — Я боялся ее выдать, да и опасался, что все равно не поверите. Так она вам сообщила? — Конечно... Ее обязанность — сообщать о всем новом. Добровольная, впрочем, обязанность... Ну, желаю счастливого пути, и передавайте там привет нашим, скажите: мы сделаем все, что нужно. Да зайдите в соседнюю комнату, там ждет Оля, хочет попрощаться... Поздно вечером монах вывел все еще одетого в немецкую шинель Быкова из леса, повторил советы относительно маршрута. Павел шел почти до рассвета, а следующий день пересидел в глубокой промоине на дне оврага, густо поросшего кустарником. Сырость пробирала до костей, но выбора не было. Во второй половине следующей ночи он достиг переднего края и без помех добрался до заграждений, пролез под колючую проволоку и, щупая ножом землю, пополз по минному полю. Он был уже у края его, когда началась перестрелка, позади вспыхнул свет, его подняло с земли и отшвырнуло в сторону. Падения он не слышал — над ним сомкнулась тьма... Открыв глаза, он снова закрыл их, пытаясь сообразить, где он и как сюда попал. Он помнил, что лежал на минном поле, что начался обстрел... Как же он попал в землянку? И к кому? Он повернул голову и в свете утра различил фигуру молоденького солдата в ватнике. Значит, он у своих. — Эй ты, приятель, — окликнул его Быков. — Где я? — Часовому не велено разговаривать... У, фриц! — Часовой... гм! Что же ты караулишь? — Помалкивай, фашист, тебя и караулю! Часовой, видно по всему, был новичок и, как всякий новичок, неумело важничал и смешно петушился. — Это откуда ж ты взял, что я фашист? — спросил Быков. — Может быть, у тебя в голове не все в порядке, а комиссия не доглядела и послала на войну? Я самый настоящий русский... — Молчать! — Ах ты чижик!.. Ну, тогда зови кого-либо из командиров. Часовой помялся, но, по-видимому, он не имел инструкций на случай пробуждения пленного и потому крикнул за дверь, чтобы позвали младшего лейтенанта. — Товарищ младший лейтенант, фашист опамятовался! — доложил он, когда пришел командир. — Товарищ младший лейтенант, — обратился Быков, — скажите этому юному герою, чтобы он не ругался. Я не немец, а русский. — Интересно, — сказал младший лейтенант, — интересно, прямо как в кино. — Что ж тут интересного? Моя фамилия — Быков. — Интересно, — ехидно продолжал младший лейтенант. — Что-то на этом участке мы все Быковых встречаем. Недавно вот тоже пришел один, в плечо ранен, Быков его фамилия. Ну хорошо, того мы знаем. А теперь вот еще один... Ганс Эрман. Чисто русская фамилия, ничего не скажешь! Тут только вспомнил Быков, что он не успел из-за контузии ни снять шинели, ни даже выбросить документов, которые ему на всякий случай отдали в монастыре. Было ясно, что все разговоры здесь напрасны. — Тогда ведите меня к вашему старшему командиру. — А ты не учи... Состояние у Быкова было прескверное, даже в родной роте его признали бы не сразу: так было изменено опухолью и синяками лицо. Кроме того, попав к своим, он с лихорадочной поспешностью старался поскорее выбраться на свободу, проявлял нетерпение, даже грозил, а это только наводило на лишние подозрения. Однако вскоре Быкова отправили в штаб. Майор контрразведки, не перебивая, выслушал повествование Быкова и сказал: — Что ж, иногда и более запутанные истории бывают... Предположим, я вам верю, но нужны факты. Личное мнение — это всего лишь личное мнение. Придется вам посидеть здесь, а я кое-что выясню. Три с лишним часа, которые Быков провел в штабе, показались ему вечностью. Он слышал, как сменились часовые у двери, слышал, как кто-то громко кричал, разговаривая по телефону. И вот вернулся майор. — Как вы думаете, сколько вас, Быковых, имеется на нашем участке? Не догадаетесь? Только в госпиталях восемь. — У нас половина деревни Быковых, — сказал разведчик, — а деревня на три версты. — Во всяком случае, в одном из госпиталей обнаружен Быков Павел Севастьянович, и мы едем туда... Очной ставки не боитесь? — Майор пристально посмотрел ему в глаза. — Мое дело верное, — ответил разведчик. — Тогда поехали. Возле госпиталя стояла полуторка, а у стены с нетерпеливым видом покуривали два солдата. Когда открылась дверца «эмки» и вслед за майором вышел Быков, солдаты переглянулись, отделились от стены и подошли поближе, пристально всматриваясь. — Пашка! — раздался их дружный вопль. — Узнали? — сказал майор. — Ну, нашего Быкова доктора могут наново перекроить и перешить, а мы все равно узнаем!.. Только мы думали, наш Пашка в госпитале лежит и скучает, а он, оказывается, как генерал, на легковой машине раскатывает... Крылов, беги скажи лейтенанту Елихову, что Быков тут, а то он его в госпитале ищет! — Отставить! — скомандовал майор. — Об этом я позабочусь сам, а вы пока тут потолкуйте. Уходя, он кивнул своему шоферу. Тот расстегнул шинель и поправил пистолет...— Да он только что был тут, в коридоре, — Говорила Аня Маленькая Елихову. — Девушка к нему приезжала, не знаю уж, что у них там было, вышла она такая сердитая — прямо ужас. И как это только можно злиться на ранбольных? Совершенно не понимаю таких людей!.. — Нету в коридоре, я сразу узнал бы. — Он же похудел, а потом этот халат. — Все равно узнал бы... И вы подавайте нам Быкова, а бюрократизмом не занимайтесь. — И что это за наказание такое, — вздохнула Аня. — Все ходят, все требуют, будто тут клуб, и все уговорились свидания назначать. Ладно, ладно уж, поищу. Но уйти Аня не успела. Вошел майор. — Здравствуйте. Доктор есть? Или начальник? — А зачем вам? — струхнула Аня. — Если вы проверять или по жалобе ранбольных, тогда я позову врача. — Ни то, ни другое, мне нужно видеть раненого Быкова. — Ах, Быкова! Странное дело, с самого утра к нему сегодня приезжают. Сначала девушка, потом вот этот товарищ, потом вы... Подождите минутку, сейчас поищу. — А вы кто? — спросил майор. — Из его роты, — ответил Елихов. — А, это весьма кстати. Вернулась Аня: — Оказывается, ваш Быков лежит в палате... С девушкой поссорился, теперь переживает, а нам лишние хлопоты. Ох уж эти мне влюбленные ранбольные! Я сказала, что вы все приехали. Он так разволновался, побледнел даже... Аня подошла к двери палаты: — Только я прошу лишнего шума не поднимать, поскольку это нервирует моих ранбольных... Она распахнула дверь в палату. Койка Быкова была пуста...
Глава тринадцатая
ПЯТЬ ПОТЕРЯННЫХ МИНУТ
— Кто вы такой? Почему назвались Быковым? — крикнула Женя, и Дессен сразу обмяк, внутренне осел, словно на него взвалили непосильную тяжесть. — Кто же я еще? — сказал он устало. — Я действительно Быков. — Из какой части? — Из дивизионной разведки. — А как вас зовут? — Вячеслав... Вячеслав Алексеевич Быков. — Тогда вы не тот Быков, который мне нужен. Очевидно, произошла ошибка, путаница, — сказала уже спокойно Женя. — Тоська эта никогда не разберется толком, ей бы только трещать... Ну, с ней разговор будет особый, а теперь бывайте здоровы. Мой Быков — Павел Севастьянович и совсем из другой части. Совпадение фамилий. А жениха зачем изображали? — Мне сказали, что пришла невеста, и красивая. Кто же откажется! — Ладно уж, выздоравливайте, — улыбнулась Женя. — Да чужих невест не ловите, свою заводите... — И уже в дверях: — А подыгрываться под других не рекомендую, актер из вас все равно никудышный, даже в самодеятельность не возьмут. Пока!.. Дессену страстно захотелось помолиться и возблагодарить бога за то, что все столь благополучно окончилось. Он уже начинал теряться среди этих неожиданностей и решил переждать еще день-два и бежать, бежать. «Черт их разберет, этих русских, — думал он, — сплошь какие-то родственники, однофамильцы, друзья... Хорошо раньше было разведчикам — возили на самолетах, устраивали надежно, да и фронт все время двигался на восток, можно было подождать своих. А теперь прозеваешь, начнется русское наступление — и пропадешь тут ни за что». Обессилевший, перенервничавший Дессен вернулся в палату и молча повалился на койку. Он хотел отдохнуть и собраться с мыслями, но его окликнул Семен: — Слышь, Быков, за такую дивчину пропасть не жалко... Хороша! А мне вот, знаешь, не везет на любовь... — Отстань. — Ты не злись, я понимаю — какое же это свидание? Только сердце растревожишь, поговорить толком некогда — здравствуйте-прощайте... Но, брат, ничего не поделаешь — война. Вот покончим, уж поблаженствуете, от зависти помереть можно, ей-богу! — Ну и помирай. — Да ты не злись, тут у меня и важные дела накопились. Понимаешь, вроде политическая история одна происходит. — А что? — Да вот сижу я после встречи с тобой на крылечке, размышляю: отчего это всем девушки встречаются красивые, а мне не везет в таком сугубо личном вопросе... Сижу, значит, и предаюсь мыслям, а ко мне подходят двое цивильных и докладывают... Как ты думаешь, о чем? — Да перестанешь ты тянуть? — Ни за что не догадаешься, брат! Хоть и разведчик... Говорят, пошли мы в рощу дрова собирать и увидели такую мину... а может, и не мину, а только что-то такое... — Ну? — Смехота, конечно, цивильная публика... Это они рацию за мину приняли. Остроумцы, а? Ну, я сказал старшине, тот мигом обернулся. Шустрый хлопец. — Принес? — Принес. — Ну и что? — А я вот соображаю: чего это она там валяется? Землянка там, знаешь ли, а около нее рация... — Исправная? — Проверял я, что ли? — обиделся Семен. — Главное — бдительности нам не хватает, землянка рядом с нами, радиостанция, а нам хоть бы хны... А вдруг там какой шпион работал? Тиу-тиу-тиу — и доложил все, что надо, куда следует... Сначала, взвинченный неожиданностями этого дня, Дессен растерялся, хотя рация никак не могла быть связана с ним. Подумал: «А не Ян ли?» — но тут же отбросил эту мысль: слишком это было бы примитивно и нелепо. И сказал по возможности спокойно: — Не наше дело... Наше дело лечиться, мы раненые. А там есть кому разобраться без нас. — Вот так загнул! — удивился Семен. — А еще знаменитый разведчик. Не иначе, при контузии тебя здорово стукнуло. — Ну, может быть, немцы бросили рацию, отступая. Может, она уже заржавела давно... Я спать хочу. — Прямо гляжу и удивляюсь, как ты можешь спокойно спать, когда кругом такие штуки творятся. Тем более что болтунов у нас хватает... — Вот именно! Ты — первый, — в раздражении от того, что его не оставляют в покое, не дают собраться с мыслями, шипит Дессен. — Самый первый!.. — Я? Ты с ума сошел! — искренне изумляется Семен. — Ты... Мелешь про все на свете и вот даже отдохнуть не даешь. — Так это же среди своих! — не успокаивается Семен. — Среди своих нельзя, что ли? Они и так сами все знают... А то наклепал черт те что! Умный, думал я, мужик этот Быков, и вот тебе — гляди... Неизвестно, как далеко зашел бы спор, но тут вошла Аня, и Семен, заслышав ее шаги, вовремя юркнул под одеяло. — Вы уже тут, Быков? — удивилась девушка. — Господи, наказание мне с вами... Опять приехали какие-то товарищи из разведроты и один майор, а у вас тут бумажки и мусор разный. Это все вы! — обернулась она к койке Семена, но оттуда слышалось только тихое дыхание. Аня обошла палату, поставила на место стакан на столике, передвинула графин с водой. В коридоре ее задержала дежурная. Прошло минут пять, пока она вернулась к майору. Когда Аня вышла, Дессен быстро сбросил одеяло, надел халат и вышел. — Хороший все-таки парень, — сказал, высовываясь из-под одеяла, Семен. — Ишь как переволновался за друзей, сам навстречу побежал. И про бдительность это он правильно, много у нас еще болтунов... Неизвестно, что сказал бы Семен, узнав, что рация была и в самом деле неисправная, брошенная при отступлении. Возвратилась Аня. — Вот он, ваш Быков, — сказала она, распахнув дверь и показывая на койку Быкова... И осеклась: койка была пуста. — Товарищ майор, — заговорила Аня, волнуясь, — честное слово, товарищ майор, только что был... Я не нарочно... Очень уж недисциплинированные ранбольные... Майор усмехнулся: — Я так и предполагал... Обычная история! — Это вы про меня, товарищ майор? — упавшим голосом спросила Аня. — Нет, это я вообще... Ну, сержант, пошли, здесь нам больше делать нечего... — Как же, товарищ майор, а Быков? — Быков там, возле машины...Глава четырнадцатая, и последняя
А ГДЕ МОЙ ГЕНЕРАЛ?
Генерал Мюллер с самого утра находился в хорошем расположении духа — ему доложили, что на рассвете был задержан в расположении войск и доставлен в штаб некий перебежчик «от Януша». Правда, сам генерал его не видел и с ним не разговаривал, так как перебежчиком целиком занялся Кассель, но он не сомневался, что дела пошли на лад. Поэтому, когда к нему зашел капитан Кассель, генерал встретил его как долгожданного гостя, тем более что за это время между ними установились довольно дружественные в пределах субординации отношения. — Поздравляю, капитан! — улыбался генерал. — Кажется, мы поймали сегодня птицу, на хвосте которой есть любопытные новости. — Да, новости есть. — Ну-ка, капитан, раскошеливайтесь... — Только в общих чертах, господин генерал, только в общих... Донесение я должен зашифровать и передать по инстанции. Этим как раз и занимается сейчас мой радист. А вам доверительно могу сказать, что вы можете спать относительно спокойно: с той стороны вас тревожить пока не собираются. Только пока... — Так и это удача, капитан! За это время мы здесь обрастем железобетоном и накопим резервы. Ради такой новости я прикажу сейчас открыть бутылку французского коньяка. Кажется, это последняя из специального запаса. — Это будет слишком крупным авансом, господин генерал. Я пока совсем не утверждаю, что сведения окончательны — их еще перепроверят, сравнят с другими. Не только мы с вами пытаемся узнать, что происходит по ту сторону... — Ладно, пусть так. И все же — за приятную новость!.. Капитан Кассель в делах питейных никогда не любил излишеств, но и никогда не отказывался от рюмки-другой, особенно если при этом можно было хорошо поесть. Но на этот раз он не выказал удовлетворения, и в его глазах, обычно бесстрастных, проступала озабоченность. — Не все у нас так гладко, господин генерал, как может показаться с первого взгляда. Дессену в силу различных обстоятельств пришлось бежать из госпиталя. Теперь ему придется туго. Утешительная сторона: сочтут, что сбежал он от страха перед особым отделом — кто побывал в плену, тому у них остается только одна дорога — под пулю или в Сибирь. Это значит, что Дессена расстреляют, как Быкова, а не как Дессена, если попадется. Огорчительная сторона: его будут разыскивать как дезертира и предателя, — значит, очень хорошо будут разыскивать. Шансов мало. Впрочем, он свою долю пользы уже принес. — Надеюсь все же, что он сумеет укрыться. — Возможно. — Пришел же этот Януш... от Януша... или как там на вашем языке? — Важно не то, как, а то, что... Это все равно что, испытывая жажду, ловить ртом дождевые капли. И наконец, весьма неприятно и тревожно исчезновение подлинного Быкова. Мое начальство полагает, что конвоирование было организовано недостаточно серьезно. — Ваше начальство, очевидно, считает, что для конвоирования одного безоружного человека я должен был отозвать роту с передовой? — обиделся генерал. — Всем известно, что на станции, когда там находился конвой, взорвалось не менее сорока авиабомб, а затем эшелон с боеприпасами. Так что от станции осталась только кирпичная крошка. Я, например, полагаю, что Быков и его конвоиры уже прибыли в пределы всевышнего и оттуда бесстрастно наблюдают за нашей суетой. — А если Быков бежал? И ушел к своим? — Невозможно. — В катавасии, именуемой войной, все возможно. — Это было бы плохо. — Это значило бы, что Дессену конец. И так далее... Французский коньяк так и не был откупорен. Настроение у генерала Мюллера, несмотря на успокоительные сообщения, пошло вниз. Но днем после совещания в армейском штабе оно снова двинулось на повышение. Там подтвердили, что крупных приготовлений к наступлению со стороны противника не замечается, что дивизии в то же время дадут свежее пополнение и, возможно, усилят ее боевые порядки двумя артиллерийскими полками. Об истории с конвоем и вовсе не было ничего сказано. Очевидно, и пленного, и сопровождающих списали на бомбежку. Генерал Мюллер был вполне удовлетворен и по пути в свой штаб наказывал адъютанту: — Там при комендатуре этот... ну, ночной перебежчик. Вероятно, он и сейчас еще отсыпается после своих похождений. Покормите его как следует, я думаю, капитан Кассель не будет возражать, постарайтесь разговориться идержите уши открытыми... Пообедал перебежчик с аппетитом, даже от шнапса не отказался, но от всех наводящих вопросов ловко увертывался, подсовывая вместо ответов анекдоты и веселые куплеты, чем окончательно расположил к себе генеральского повара. В заключение он попросил снабдить его пропуском до пристанционного поселка, чтобы повидать родственников. Пропуск с разрешения Касселя был выдан с поручением проследить, что там за родственники. Из штаба перебежчик вышел, пошатываясь и горланя песни. Солдаты посмеивались ему вслед, и притом не без зависти — повезло человеку, вон как насосался! Миновав несколько постов, он перестал пошатываться, походка его приобрела твердость и уверенность. Уже начинали спускаться ранние предосенние сумерки, когда показался разбитый станционный поселок и городок за ним — бесформенные холмы кирпича и темное скопище домов без единого огонька. Но перебежчик не умилился при виде цели, к которой стремился, не ускорил шага, а поступил совсем неожиданно: свернул через кустарник к лесу... Генерал Мюллер лег спать удовлетворенным. Он не слишком разбирался в политике, но военное дело на немецкий манер знал. Он был убежден: если в условиях бездействия противника шлют подкрепления и пополнения, то это хороший признак. Во всяком случае, это свидетельствовало, по крайней мере, о том, что, во-первых, его способностям доверяют и что, во-вторых, положение на фронте снова обретает устойчивость. Кроме того, за последние несколько дней хорошо поработала пропаганда, внушая каждому солдату, что в случае попытки сдаться в плен русским его ожидает виселица или пожизненная каторга, а при побеге в тыл — трибунал и расстрел за трусость. Таким образом, по мнению генерала, каждый солдат его дивизии превращался в крепость, которая погибнет, но не сдастся. И это ко всему тому, что за немецким солдатом вообще давным-давно утвердилась слава дисциплинированного и упорного бойца. Спальня генерала помещалась в каменном подвале дома — на случай внезапных ночных бомбежек русских «кукурузников», которые, используя темные ночи, летали по немецким тылам почти на бреющем полете. Большого ущерба они нанести не могли, бомбы у них маленькие, но жалили настойчиво, словно осы, часто лишая сна и отдыха чуть не всю дивизию. И ничего с ними не поделать. Зенитки при такой высоте бесполезны, сами самолетики на фоне темного неба не видны, а от стрельбы по звуку толку мало, но зато можно получить гостинец на голову... Шел третий час ночи. Сунув правую руку под подушку и натянув до подбородка одеяло — привычка едва не с детских лет, — генерал Мюллер тихонько посапывал. Шел пятый час, не шевельнувшись и не повернувшись с боку на бок, генерал продолжал спать глубоким сном, как хорошо поработавший человек. Шел шестой час, когда зазвонил телефон. Генерал почти автоматически протянул руку к телефонной трубке и тут же услышал гул артиллерийской пальбы, и сон сразу соскочил с него. Командир головного полка докладывал о начавшейся артподготовке русских: — Они мешают землю с небом. — Прошу без поэзии! — Внизу, в долине, еще туман, но мы видим огни, много огней... Их пехота начинает атаку. Не по летам быстро одевшись, генерал поднялся наверх, где уже находился начальник штаба. — Ну? — Пока трудно понять, что происходит. Помните, так же было дней двенадцать назад: артогонь, пулеметная трескотня — и никакой серьезной атаки. Шел седьмой час, начало рассветать. Телефоны трещали как бешеные: — Русские прорываются!.. И вдруг мембрана, еще теплая, только что наполненная голосами, шорохами и тресками, онемела. Генерал подул в нее, повертел в руках, проследил шнур до розетки — все на месте. — Что там на узле связи, заснули? — крикнул генерал Мюллер в раздражении, но ему не успели ответить: перед домом грохнули взрывы, послышался топот ног, истошные крики. По комнатам прошел ветер. В дверях стояли русские солдаты. Один из них, светловолосый и сероглазый, с царапиной на щеке — к подбородку уже сползали капли крови, — улыбнулся: — Гутен морген, генерал! Привет от Павла Быкова. Приготовьте его письмишко, он скоро пожалует в гости самолично... — А Дессен? — плохо соображая, спросил генерал. — Дессен? А черт его знает вашего Дессена... Он там, наверное, где ему положено быть... Впрочем, если бы генералу и рассказали о баронете, это его мало утешило бы: он узнал бы, что Дессен был пойман в парке госпиталя, что сначала он отпирался и нес околесицу, потом раскис и просил вспомнить заслуги его отца, воевавшего в прошлую войну на стороне русских; что затем под диктовку майора написал донесение, сообщил адрес Януша и пароль; что шпион Януш уже два дня назад был взят русской контрразведкой, а «от него» перешел фронт и принес «донесение» Мариам Ямпольский, разведчик из партизанской группы в монастыре: он сообщил советскому командованию позывные группы, а на обратном пути согласился выполнить «небольшое поручение». А партизанская группа вместе с разведчиками из роты капитана Омельченко и нанесла удар по штабу... Наверху послышался рев и гул, генерал поднял голову: — Что это? — Наши танки. — Ваши? — Несомненно. Можете считать, что у вас уже нет дивизии, генерал. — Какая ошибка! — пробормотал генерал. — Какая ужасная ошибка... Разведчик засмеялся: — Не переживайте, генерал, не вы один в таком положении. А ошибка сделана не сегодня и не вчера, вы сделали ее, начиная войну... Вот и придется нам топать в Берлин, учить вас не ошибаться... Туман редел, все больше светало, и мощные фары на танках, которые то включались на мгновение, слепя противника, то гасли, делая ночь еще чернее и порождая панику, были уже не нужны. И когда Павел Быков, находившийся в танковом десанте, спрыгнул около бывшего штаба немецкой дивизии, он нашел там только советских часовых, которые охраняли штабное имущество. — А где мой генерал? — засмеялся Быков. — Это который тут правил? За ним уже назад, в тыл надо... Да ты на Берлин жми, там их, фашистских генералов, и тебе и нам хватит. Давай-давай, а то к шапочному разбору попадешь. Давай!..1945-1946 гг.
Иван Стаднюк СЛЕДОПЫТЫ

СЕРЖАНТ ПЛАТОНОВ
Сержанту Ивану Платонову не повезло. Как ни добивался, а вернуться в родной полк после лечения в госпитале ему не удалось. И вот он в штабе незнакомого полка получил бумажку, в которой написано, что сержант Платонов назначается во взвод пешей разведки на должность командира отделения. По скользким ступенькам он вышел из землянки помощника начальника штаба, щеголеватого капитана, и оглянулся вокруг. Среди густого соснового леса возвышались замаскированные накаты блиндажей и землянок. «Обжитое местечко», — подумал Иван, примечая заржавелые трубы-дымоходы, жердевые дорожки, выстеленные по раскисшей земле, стопки свеженаколотых дров у зияющих темнотой дыр — входов в лесные жилища. Он прислушался. Дыхание переднего края отчетливо доносилось сюда. Где-то далеко грохали разрывы мин, приглушенно бухал крупнокалиберный пулемет, высоко в небе надрывно, с придыханием гудел немецкий самолет-разведчик. И вдруг среди этих грозных звуков Платонов совсем рядом услышал тоненькое и звонкое: «Тень-тень-тень!» «Пеночка! — догадался Иван и тут же разглядел на сосновой ветке желтовато-белесую грудку лесной пичужки. — Уже прилетела! Как у нас, в тайге...» Веселое, беззаботное теньканье пеночки точно встряхнуло Платонова. Кажется, он только сейчас заметил, что вокруг в полном разгаре весна. И его лицо, широкое, курносое, с острыми живыми глазами под рыжей взлохмаченной щетиной бровей, посветлело; распрямились чуть сутулые плечи. Сержант закинул за спину вещевой мешок с нехитрыми солдатскими пожитками и пошел искать землянку разведчиков. Она, как сказал ему помощник начальника штаба, находилась где-то по ту сторону дороги. На дороге, которая, огибая землянки, убегала в глубь леса, стояла легковая машина. Возле нее топтался шофер — высокий, худощавый парень в синем комбинезоне. Увидев Платонова, шофер окликнул его: — Дорогуша, дай-ка спичечку — прикурить нечем! Платонов подошел к машине. Не торопясь, засунул руку в карман, достал зажигалку, энергично крутнул большим пальцем колесико с насечкой и, поднося зажигалку шоферу, назидательно сказал: — Огонек у солдата всегда должен быть. Шофер прикуривал долго, старательно (видать, сырой табак завернул), потом сделал несколько глубоких затяжек и лишь после этого удостоил сержанта беглым, коротким взглядом: — Учитель выискался! Платонов спрятал зажигалку и укоризненно посмотрел шоферу в лицо — молодое, с нагловатыми и чуть навыкате глазами. — Учить-то тебя нужно. Да построже! Вот ты возишь своего начальника и, кроме баранки, ничего не хочешь знать. Хоть бы грязь от блиндажа отгреб. Нога небось больная у него?.. — А вы что же, бывали возле моей землянки? — услышал вдруг Платонов голос за своей спиной. Иван повернулся и увидел перед собой высокого, худощавого мужчину в коричневой кожанке до колен. Под кожанкой над голенищами сапог разглядел генеральский лампас. Это был командир дивизии Чернядьев. — И откуда вам, товарищ сержант, известно, что у меня нога болит? — В голосе генерала чувствовалось любопытство. Поборов минутное замешательство, Платонов выпрямился и ответил: — Я, товарищ генерал, сибиряк-охотник. — Ну и что же? — Умею немного читать написанное на земле. — Где же вы прочитали, что возле моей землянки еще не просохло? — А вот глина на подножке машины. След сапога тоже в глине. — Платонов указал на нерастаявший пласт почерневшего снега, куда ступал генерал, выйдя из «эмки». — А о ноге?.. — все больше заинтересовывался командир дивизии. — Это тоже по следам видать: шаг правой ноги широкий, след глубокий. А левой ступали осторожно — след мелкий, шаг узкий. Наверно, ранена левая нога. Генерал одобрительно усмехнулся: — Правильно. И логично... Как ваша фамилия? — Сержант Платонов, назначен командиром отделения во взвод полковой разведки. Генерал пристальным, опытным взглядом смотрел на Платонова. Простое, с хитринкой в глазах лицо сержанта, его крепкая фигура в сильно поношенной, но не мятой шинели, сапоги чистые, словно вокруг не ранняя весна, не грязь по колено, — все это понравилось командиру дивизии. Он видел перед собой человека дельного, что называется, военную косточку. — Желаю, товарищ Платонов, удачи на новом месте. Ваша практика следопыта ой как пригодится в разведке! Генерал пожал Платонову руку и сел в машину.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
Тесноватая, полумрачная землянка с обшитыми фанерой стенами. Тусклый свет пробивается внутрь сквозь два окошка, приплюснутые к земле. Глядишь в них — и видишь мшистые кочки между стволами сосен, замечаешь первые побеги молодой травы. Иногда в правом окошке видны сапоги солдата-автоматчика — часового. Генерал Чернядьев молча ходит по скрипучим половицам землянки и слышит, как под ними хлюпает вода. Ясное дело — весна! А весна на северо-западе, в приильменских лесах, — это значит вода в землянках, блиндажах, траншеях; дороги и тропы утопают в жидкой рыжеватой тине. Высокий, костистый, одетый в обыкновенную телогрейку, Чернядьев ничем не напоминал генерала, разве только красные лампасы на бриджах говорили об этом. Лицо его смуглое, чуть желтоватое, голова стриженая, глаза под низко опущенными бровями острые, строгие. Чернядьеву не по себе. Случилось чрезвычайное происшествие: в левофланговом полку пропал солдат Дмитрий Кедров. Вчера днем Чернядьев приказал, чтобы Кедрова прислали в штаб дивизии, и похоже, что по дороге его украли немецкие разведчики, забравшиеся в наш тыл. Приняты все меры, чтобы не позволить вражеским лазутчикам вернуться за линию фронта, прочесывается лес в районе тылов полка. Но результатов пока никаких. А время идет... Командир дивизии неспроста вызывал к себе солдата Кедрова. Дело в том, что в дивизию должен был приехать представитель делегации трудящихся Ивановской области, которая привезла фронтовикам подарки. И представитель этот, как сообщили генералу Чернядьеву по телефону, — родной отец этого солдата. Отец, разумеется, очень хочет повидаться с сыном и попросился именно в дивизию Чернядьева, затерянную в глуши приильменских лесов и болот. И вместо свидания с сыном его ждет такая весть... В землянку вошел адъютант — молоденький, стройный лейтенант. На машине генерала он ездил за гостем в соседнюю дивизию. — Товарищ генерал, ваше приказание выполнено, — доложил лейтенант. — Привез? — перебил его Чернядьев. — Приглашай ко мне. — И генерал глубоко вздохнул... В землянке появился среднего роста старичок лет за шестьдесят в новом полушубке, хотя на дворе весна, в рыжем картузе, с негустой бородкой, усами неопределенного цвета. Прищурив глаза, старик осмотрел землянку, остановил недоверчивый взгляд на телогрейке Чернядьева и, только заметив красные лампасы, снял фуражку и представился: — Лука Сильвестрович Кедров из колхоза «Заря коммунизма». Приехал, так сказать, по делу связи народа с армией. Ну еще, конечно, с сыном повидаться хочу. Есть слух, что он здесь у вас службу служит. Чернядьев подошел к Луке Сильвестровичу, поздоровался, взял его под руку и провел к столу. — Очень рады народным представителям. Садитесь, — пригласил генерал. — А сынок ваш действительно у нас воюет. Старый Лука удобно уселся в раскладное полукресло, пошатал ногой половицу и, услышав, как плещется там вода, укоризненно посмотрел на генерала. — Что, папаша? — спросил Чернядьев, улавливая знакомый с детства и такой приятный запах дегтя, который источали сапоги гостя. — Раз в генеральской хате под ногами булькает, так что уж говорить о солдатских. — Время сейчас такое. Потоп. Но солдаты у нас молодцы! — Вот это верно! — оживился Лука Сильвестрович, разглаживая обеими руками бородку. — Взять хотя бы моего Митяя. Так он до всего привычный. Старуха моя померла давно, когда Мите еще восемь годков было. И мы с ним, бывало, сами и стирали, и варили, и в доме белили. Да что я говорю! Вы же знаете Митяя! — воскликнул Лука Сильвестрович. — Или вы не знаете его? — Как же, в полку все знают Кедрова, хороший парень, — неопределенно ответил генерал. Он не хотел огорчать старика: с его Митяем Чернядьеву действительно не довелось познакомиться. — Вот именно, хороший парняга! — Старик тяжело вздохнул и высморкался в платок. Как бы для самого себя сказал: — Ушел Митя на фронт — и дом опустел. Теперь сам я с хозяйством управляюсь. По-стариковски живу, без радости. Только и утехи, что дела колхозные да думки о тех временах, когда Митяй домой вернется. На столе зазвенел телефон. Лука Сильвестрович, напуганный неожиданным звонком, вскочил с места и непонятно для чего надел фуражку. Генерал Чернядьев, отвернувшись к окошку, взял трубку. Командир левофлангового полка сообщал, что розыски рядового Кедрова пока безрезультатны. Генерал помолчал, потом вдруг оживленно заговорил: — А вы разведчиков привлеките. Особенно новенького, сержанта Платонова. Он следопыт. — Его и привлекли. Ищет. Чернядьев положил трубку и серьезным, задумчивым взглядом посмотрел на старика. Тот уже сидел на своем месте, позабыв снять фуражку. — Ну, продолжим наш разговор, — сказал генерал. — Продолжим, — согласился Лука Сильвестрович.СЛЕД НАЙДЕН
В лесу уже начинали цвести орешник, ольха, осина. Их большие пушистые сережки стряхивали с себя пыльцу и распространяли вокруг пряный запах. Иван Платонов вел группу разведчиков на задание. Под ногами шуршал мокрый прошлогодний лист, чмокали пропитанные водой кочки. Сквозь лапчатые кроны елей и сосен на землю падали косые лучи утреннего солнца. В лесу было светло и, несмотря на сырость, празднично. Следом за Платоновым шла цепочка солдат: приземистый коротышка Атаев — скуластый и желтолицый; Зубарев — с побитым оспой лицом, остроносый и сероглазый; чернобровый красавец Шевченко — высокий и стройный, как дубок; силач Савельев, который может так далеко забросить гранату, что она, не долетев до земли, взрывается. Цепочку замыкал Скиба — неразговорчивый солдат с большими черными глазами на продолговатом лице. Шли молча. Каждый думал об одном и том же: трудная задача выпала на долю разведчиков — что-нибудь разузнать об исчезнувшем вчера Дмитрии Кедрове, солдате из первой роты. Многие разведчики знали Кедрова. Однако, как выяснить, что стряслось с ним? Где найти его следы в этом без конца и края лесу? Правда, сержант Платонов уже имел кое-какие сведения. Было известно, что Кедров вчера в два часа дня, направляясь в штаб дивизии, ушел с командного пункта роты на КП батальона. Старшина приказал ему попутно захватить в батальон термос из-под пищи. На командном пункте батальона Кедрова не видели. Значит, исчез он, не дойдя до КП. Но кто мог указать след, оставленный где-либо ногой Кедрова? Никто. Конечно, не так уж много людей проходит между передним краем и КП батальона. Да и в первую роту ходят все только над ручьем, правый берег которого несколько подсох. Можно понаблюдать за следами, оставленными на этой тропе. Пошли мимо укрытых в густом подлеске блиндажей командного пункта батальона. До переднего края рукой подать. Слева лес просвечивается, меж стволов сосен виднеется приземистое мелколесье. Оттуда доносятся неторопливые выстрелы, с той же стороны изредка летят, воя над головой, мины. Они падают где-то в глубине леса, и эхо от разрывов хлестко бьет по ушам. Вот и изгиб лесного ручья. Вода в нем течет неторопливо. И поэтому левый, более низкий, берег заболочен. Правый — возвышенный, сухой, заросший кустами лещины и чернотала. Между кустами юлит тропинка. Платонов остановил разведчиков. — Ну что ж, начнем? — спросил он, поправляя на себе автомат, брезентовую сумку на ремне и сдвигая на бок кожаный чехол с биноклем. — Начнем, — отозвался словоохотливый Зубарев, и его лицо приняло деловитое выражение. Иван Платонов уже две недели командовал отделением. За это время он кое-чему научил своих солдат. Однако не все они еще верили в то, что следопытство может пригодится на войне. «Это вам не на зайца зимой ходить», — не раз говорил расчетливый и осторожный Петр Скиба. — Начнем с того, что найдем чей-нибудь след, оставленный вчера, — сказал Платонов. — Вчера погода была солнечная, небольшой ветер. Разведчики рассыпались вдоль тропы. Было похоже, что они что-то потеряли и теперь старательно ищут. Первым подал голос Шевченко: — Вот след, оставленный, пожалуй, вчера, когда солнце стояло еще высоко. Игнат Шевченко делал успехи в следопытстве. Платонов заметил сообразительность этого солдата на первых же занятиях. Однако не в меру торопливый и горячий, любивший быть первым среди товарищей, Игнат часто ошибался, не учитывал какой-либо мелочи. Платонов подошел к Шевченко и внимательно посмотрел на вмятину, оставленную чьей-то ногой в сыром грунте, пощупал ее пальцем. На этот раз Игнат не ошибся: дно следа было подсушенным, комочки грязи, выброшенные вперед носком сапога, затвердели. Значит, след не свежий. — А вот этот же след под кустом, — продолжал Игнат развивать свою мысль, — выглядит свеженьким, вроде его только сейчас отпечатали. Потому что в тени. А тень в этом месте была вчера во второй половине дня. Платонов удовлетворенно хмыкнул и сказал разведчикам: — Точно таким же должен выглядеть след, который мы ищем. На следы в тех местах, где вчера после обеда была тень, не обращать внимания. Теперь разведчикам предстояло сделать самое трудное: «привязаться к следу», который оставил где-то на этой тропе исчезнувший вчера Дмитрий Кедров, найти то место, где он свернул с тропы. Тихо шелестят листья на кустах чернотала и осины, мерно покачиваются под свежим весенним ветерком ветви стройных елей. Между ними видна голубизна апрельского неба, прозрачная и глубокая. Легко дышит грудь, в руках, в плечах, во всем теле чувствуется прилив сил. Но на душе неспокойно. Иван Платонов, шагая по тропе, хмурит рыжеватые брови, крепко сжимает правой рукой приклад автомата и смотрит себе под ноги. Ничто не ускользает от его зоркого взгляда. Он видит, что не так давно по тропе, в сторону переднего края, прошли двое людей. Вмятины, оставленные сапогами на непросохшей земле, глубокие, шаг — узкий. Ясно, что они несли на себе какой-то груз. А вот вчерашние следы: один отпечатан сапогами, у которых скошены каблуки, а на носках железные косячки; второй сделан человеком, сильно выворачивающим наружу носки. А здесь кто-то прошел в ботинках. На их подошвах — шесть шипов. Этот след наиболее приметный. «И угораздило его пропасть в такой день!» — вздыхает Платонов. Он слышал от начальника разведки, что Кедров шел на свидание со своим отцом и... не дошел даже до командного пункта батальона. Платонов пытается представить отца незнакомого ему Дмитрия Кедрова, но перед мысленным взором встает его — Ивана — отец. Платонов видит далекую, затерянную в тайге на берегу сибирской реки заснеженную деревеньку, видит отца. Вспомнилось, как когда-то зимой они с отцом (Иван тогда еще был подростком) убили в тайге медведя. Отец связал убитому зверю лапы, продел между ними толстый кол. Потом, окинув Ванюшку оценивающим взглядом, спросил: «Понесем или сбегаешь за дядькой Прохором?» «Понесем», — баском ответил Иван. И они взвалили медведя на плечи. Ой как длинен был путь в деревню! У Ивана ломило плечо под тяжестью. Но он, стиснув зубы, ступал нога в ногу с отцом. «Передохнем?» — спрашивал отец. «Нет, еще малость пройдем», — отвечал Иван и смотрел под ноги, боясь, как бы не споткнуться и не упасть. А перед глазами плыли темные круги. Наконец отец не выдержал, остановился. Медведя положили на дорогу. «Нельзя, Ванюшка, надрываться, — сказал батька, — силу нужно с умом расходовать». «А я с умом», — упрямо ответил Иван и украдкой бросил в рот горсть снега. Платонов представил себе, что это его старый отец приехал сейчас на фронт и дожидается своего Ивана где-то в штабной землянке. Но Ивана не могут найти, и отец начинает догадываться, что его нет в живых. Платонов снова вздыхает и старается сосредоточиться на следах. Посторонние мысли мешают. Перед глазами та же тропинка со знакомыми отпечатками обутых человеческих ног. И вдруг заметил, что следы ботинок с шестью шипами исчезли. Остановился, оглянулся назад. Подошли другие разведчики. Теперь все видели, что человек, обутый в ботинки с шипами, прошедший вчера по тропе, у непросохшей лужи потоптался на месте и свернул вправо к кустам. Ничего, конечно, в этом не было удивительного. Мало ли зачем нужно человеку свернуть в сторону. Но Платонова насторожило другое: на тропе, здесь же у лужи, он увидел новый, совершенно незнакомый след вчерашней давности, направленный носками навстречу разведчикам. Иван присел над отпечатком подошвы сапога, внимательно рассмотрел его. След ничем не примечательный. На обнаженном сыром грунте хорошо видна широкая вмятина от каблука с железным косячком. Косячки стертые, и шляпки гвоздей не отпечатались. В стороне от тропы вытоптана пожухлая прошлогодняя трава. Похоже, что в этом месте двое встретившихся людей долго стояли, переступая с ноги на ногу. — Смотрите, — вдруг шепотом произнес Игнат Шевченко. — Пуговица. Шевченко подал Платонову пуговицу, которую нашел в траве. Взглянув на находку, Платонов почувствовал, как у него быстро-быстро забилось сердце и к лицу прихлынула кровь. Эта обыкновенная шинельная пуговица говорила ему больше, чем все следы на тропе. По ниткам, которые остались в ушке пуговицы, и по клочкам сукна нетрудно догадаться, что пуговица оторвана с силой. Значит, в этом месте, у куста чернотала, была схватка. Платонов развел руками в стороны, дав разведчикам понять, чтобы они посторонились, а сам внимательно начал осматривать место, где была найдена пуговица. Он без труда обнаружил, что три пары следов (их отпечатали ботинки с шипами на подошвах, сапоги с железными косячками на каблуках и еще чьи-то незнакомые сапоги) вели в глубь леса. Шире, чем обычные шаги, неполные и нечеткие следы ног свидетельствовали о том, что люди здесь бежали. Зачем? От кого? Это требовалось разгадать. Следы привели к глубокой воронке среди кустов. Здесь, под грудой прелого листа и сушняка, обнаружили карабин и широкий металлический термос с откидными хомутиками, с винтами-барашками. Сомнений больше не было: след с оттиском железного стертого косячка на каблуке принадлежал Кедрову.ВСТРЕЧА НА ТРОПЕ
Когда Дмитрию Кедрову передали, что его вызывает в штаб дивизии сам генерал, он не поверил. В блиндаж, где отдыхали солдаты, зашел командир взвода и приказал Кедрову собираться. Дмитрий струхнул: — Зачем это я понадобился командиру дивизии?.. А товарищи, хотя тоже недоумевали по поводу столь необычайного события, все же подшучивали над Кедровым. Особенно донимал Дмитрия острый на язык пулеметчик Новоселов: — Чего тут непонятного? Ты же талант, Кедров, поговорить умеешь! Вот и назначит тебя генерал оратором дивизионного масштаба. — Отвяжись! — сварливо отвечал Дмитрий. — Может, меня парикмахером назначат, так я с твоего языка начну. Больно длинный. Дмитрий был недоволен тем, что ему приказали попутно занести на командный пункт батальона и передать старшине хозвзвода термос из-под каши: «Таскайся с этой посудиной. А там еще старшина мыть ее заставит». — Нет, ты все же талант, Кедров, — не унимался Новоселов. — Радио вполне можешь заменить. Узнал генерал, какой ты говорун, вот и решил послушать. Кедров махнул на него рукой, взвалил на спину термос, взял карабин и протиснулся в узкую щель, соединявшую блиндаж с траншеей. Дмитрий был убежден, что разговорчивость человека — не такое уж плохое качество. В самом деле, что это за человек, если он слова отпускает в час по чайной ложке? С таким помрешь от скуки. Другое дело он, Дмитрий Кедров. За словом к соседу не пойдет, но и пустомелей или каким-нибудь пустобрехом себя не считает. С понятием же он человек! Вот, скажем, приказал ему вчера командир отделения замолчать, когда из боевого охранения вернулись. А зря приказал. Затеял Кедров разговор о том, какими гвоздями лучше подметки подбивать — железными или деревянными. Кто толковее его рассказать об этом может? Никто. А Кедров расскажет, и как полагается. Он знает, что самые крепкие гвозди получаются из проскурины и ее нужно заготовлять для гвоздей зимой. А как сушить гвозди? Кедров тоже знает: вначале напилить из проскурины качалочек, потом их сушить — лучше на солнце, постепенно. Затем качалочки поколоть на плашечки такой толщины, какие требуются гвозди. Эти плашечки опять сушить. А когда из плашечек наколешь гвоздей, их можно досушивать уже в печке, перед пламенем. И гвозди получаются крепче железных! Но разве можно на этом заканчивать разговор о гвоздях? Никак нельзя! Сила гвоздя еще в другом: как забьешь его в подошву пли подметку, да как затем ножичком стешешь верхний кончик... Словом, о многом может с понятием говорить Дмитрий Кедров. Взять хотя бы вопрос о зверях в Африке или о выращивании саженцев на Севере. А о самоходном комбайне или о «катюше», которая на его глазах стреляла такими снарядами, как гробы, или о том, как быстрее выбрать брод через речку! Да мало ли о чем может говорить Кедров? Дмитрий никак не был согласен с мнением, что разговорчивость не украшает человека. Ведь разговаривать — значит мыслить, понимать, добиваться какой-то истины. Он терпеть не может людей-загадок. Бывает, сидит солдат в окопе и такое у него глубокомыслие на лице написано, вроде он обдумывает стратегическую операцию. На самом же деле про себя ругает повара, что кашу привез подгорелую и теперь у него изжога. Ругал бы лучше вслух! Молчать с умным лицом ни к чему. «Но зачем же вызывают меня в штаб дивизии?» — в который раз спрашивал себя Кедров. Ход сообщения вел к недалекому кустарнику, за которым можно было идти, не опасаясь обстрела. Под ногами чмокала грязь. Стенки были мокрыми и липкими. Зато над головой ярко светило солнце и там же, в поднебесье, весело пел жаворонок. Дмитрию хотелось скорее добраться до кустов, до леса, чтобы можно было шагать, выпрямившись в полный рост. И вдруг он остановился, пораженный внезапной догадкой: «Так вот для чего меня позвали!» Два дня назад над позицией роты низко проплыл в сторону Старой Руссы трехмоторный немецкий транспортный самолет. Он появился из-за леса так неожиданно, что по нему даже не успели открыть огонь. Только Кедров, наблюдавший в это время за противником, послал в самолет три пули. И был убежден, что не промахнулся. Ему показалось, что самолет задымил и пошел на снижение. Дмитрий даже закричал: — Сбил! Сбил транспортника. Из блиндажа выскочили солдаты. Нашлись охотники немедленно идти в лес разыскивать самолет. Но командир взвода позвонил на огневые позиции артиллеристов, которые стоят в тылу, и те сообщили, что самолет благополучно проплыл дальше. А Кедров не верил: был убежден, что самолет далеко не протянет. И теперь, наверное, выяснилось, что транспортник упал, вот и вызывают его, Дмитрия Кедрова, к генералу, чтоб награду вручить. Этой ошеломляющей новостью, которую узнал сам от себя, Дмитрий тут же поделился с солдатом-связистом, встретившимся ему на пути. Потом зашел на батарею к минометчикам и, наговорившись вволю о сбитом им самолете и ордене, который он идет получать, зашагал по тропинке на командный пункт батальона. Было обидно, что нет попутчиков и не с кем потолковать. Тропинка, бежавшая над ручьем, как назло, пустынна. Но вот, кажется, повезло Кедрову. Навстречу ему шел какой-то ефрейтор — высокий, худой. Шинель висела на нем кое-как, на ногах — ботинки с обмотками, через плечо — автомат. Хоть и незнакомый ефрейтор, но поговорить можно. И вдруг еще издали он крикнул Кедрову: — Связной?! — Никак нет, связным не являюсь, — ответил Дмитрий, собираясь уже начать разговор о том, почему служба связного для него не подходит. — Все равно, — сказал ефрейтор, подойдя вплотную к Кедрову. — Почему писем от солдат не захватил? В штаб же небось идешь? Теперь мне из-за тебя тащить черт знает куда! Дмитрий растерянно развел руками: — Не говорили мне о письмах. Вот термос приказали захватить... — Шляпа! Сам должен знать. Как бы хорошо было: ты принес бы оттуда письма, а я с тобой туда передал бы. Смотри, целая сумка накопилась! — Не могу я писем в роту взять, потому что в самый штаб дивизии иду. Орден за сбитый самолет получать, — ответил Кедров. Ефрейтор окинул Кедрова с ног до головы оценивающим взглядом, потом почему-то оглянулся назад и вправо — на кусты. — А мне, случайно там нет письмеца? — полюбопытствовал Дмитрий. — Как фамилия? — Дмитрий Кедров, из Ивановской области. — Кажется, есть. Отойдем в сторону, где посуше. Дмитрий обрадованно шагнул в сторону, отводя руками от лица упругие ветки чернотала. Из кустов дохнула свежесть, прохлада, в нос ударил горьковатый запах прелой листвы. Под ногами почмокивала пропитавшаяся вешними водами земля. Во всем чувствовалась весна, и поэтому еще радостнее было на душе. Вдруг шедший впереди Кедрова высокий, сухопарый ефрейтор резко повернулся и молниеносно выбросил вперед сжатую в кулак руку. Тупая боль перехватила дыхание и затуманила сознание Дмитрия Кедрова. Исчез лес, исчезли запахи весны... Когда Дмитрий пришел в себя, чьи-то крепкие руки волокли его в глубь леса. Он рванулся всем телом и тотчас оказался на земле. На него навалились трое. — Что вы делаете?! — закричал Кедров, не понимая, что происходит. — Где мой карабин? Дмитрий почувствовал, что ни карабина на плече, ни термоса за спиной нет. — Чего коленкой жмешь, дурак?! Больно же! — Дмитрий пытался стряхнуть с себя ефрейтора, худая, острая коленка которого давила его к земле. Ефрейтор убрал коленку, и Кедрова поставили на ноги, но рук не отпустили. Кедров оглянулся на двух державших его солдат с нахмуренными, настороженными глазами, на ефрейтора, который, сутулясь, отряхивал свою шинель, на стройного военного в офицерской шинели с двумя кубиками в голубых петлицах. — Товарищ лейтенант, — обратился Кедров к офицеру. — Что же это получается, почему безобразничают?! — Заткнись! — крикнул в ответ лейтенант, и Кедров успел рассмотреть его крепкие, большие, чуть желтоватые зубы. «Вот жеребец!» — некстати подумал Кедров, с недоумением глядя в продолговатое молодое лицо неизвестного офицера. И тут Дмитрий услышал, что офицер заговорил... по-немецки. Он что-то приказал двум державшим Кедрова солдатам, и те проворно скрутили назад его руки. Дмитрий Кедров почувствовал, как от груди его побежал холодок — вниз, к ногам, и ноги тотчас же одеревенели, и вверх, к голове, и глаза перестали ощущать пространство, шея точно задубела, а в ушах унывно запели колокольчики. «Так это же фашисты!» — пронеслась мысль, и Дмитрию показалось, что эта мысль возникла не в голове, а прилетела откуда-то извне и, физически ощутимая, ворвалась в душу, железными тисками схватила за сердце. Вдруг Дмитрий услышал, как четкой дробью ляскают его зубы. Словно издалека, донесся булькающий смех «ефрейтора». По-гусиному вытянув вперед голову на длинной шее, он хохотал над Кедровым. И страх неожиданно прошел. Смех переодетого фашиста точно отпустил тиски, сжимавшие сердце. Страх улетучился, несмотря на то что Дмитрий со всей отчетливостью понял безвыходность своего положения: он попал в руки проникших к нам в тыл переодетых немецких разведчиков. Бессильной злобой загорелись его глаза. Ему захотелось закричать сейчас на весь лес, закричать так, чтобы услышали в траншеях роты, на командном пункте. Но услышали не только о том, что он, Дмитрий Кедров, попал в беду, а и о том, что здесь находится враг, он рядом и его нужно уничтожить. Гитлеровец в форме советского летчика-лейтенанта догадался о намерении Кедрова. С угрожающим видом он поднес к его лицу кинжал, а солдаты проворно завязали рот полотенцем.ЛУЧШЕ СМЕРТЬ
Целый час пробиралась группа фашистских разведчиков сквозь густые лесные заросли, вброд переправлялась через заболоченные ручьи, ведя с собой связанного Дмитрия Кедрова. Остановились на небольшой возвышенности, где земля немного просохла. Кедрова тотчас же уложили под сосну, связали ему куском бечевки ноги и словно забыли о нем. Дмитрий повернулся на бок, поджал под себя коленки и притих. Все происходившее казалось ему кошмарным сном. Он слышал, как гитлеровцы о чем-то переговаривались, видел, как «летчик-лейтенант» вытащил из солдатского вещмешка два небольших зеленых ящичка, установил их на земле на двух поленьях, надел наушники. Над одним из ящичков взметнулась вверх короткая металлическая тросточка-антенна. «Рация», — догадался Дмитрий. Рядом запылал небольшой костер. Над ним на перекладинке, установленной на две воткнутые в землю рогульки, повесили котелок с водой, принесенной из недалекого ручья. Рация, которую развернул «лейтенант», шипела, попискивала. «Лейтенант» поднес ко рту круглый, черный, похожий на наушник микрофон и вполголоса начал передавать цифры: «Двенадцать — восемнадцать, сорок восемь — пятьдесят шесть, тридцать — ноль девять...» «По-русски дует, гад, — подумал Дмитрий, — под наших работает, чтоб не засекли». В это время другие лазутчики молча лежали на куче еловых веток, отдыхали. «Лейтенант» на минуту затих, что-то торопливо записывая в блокноте. Потом, обратившись к долговязому, что-то сказал ему. «Ефрейтор» торопливо вскочил на ноги, поежился и подошел к Кедрову. Расстегнул его шинель на груди и начал выгребать из карманов гимнастерки документы. Вот в его руках оказалась солдатская книжка Кедрова, письмо от отца, вырезка из газеты, в которой рассказывалось о знакомом Дмитрию снайпере. И наконец, последнее — бережно завернутый в прозрачный целлофан комсомольский билет. Увидев в руках врага серую книжечку, Дмитрий вскинулся всем телом, пытаясь освободить от веревок руки и ноги. «Ефрейтор» с силой ударил Кедрова ногой в живот. Боль на мгновение заслонила все другие чувства. Но лишь на мгновение. Сейчас, когда у него отняли комсомольский билет, солдатскую книжку, Дмитрий взаправду поверил, что все это не кошмарный сон, каждой клеткой своего тела ощутил нестерпимую душевную боль. Нет больше Дмитрия Кедрова — солдата Советской Армии, члена ленинского комсомола. Есть пленный Кедров, оторванный от Родины, комсомола, армии. Дмитрию вспомнилось, как совсем недавно — полгода назад, — в разгар битвы за Москву, ему вручили комсомольский билет. Это было перед атакой. Помощник начальника политотдела по комсомолу, всем известный в дивизии капитан Иволгин, передавая Дмитрию эту заветную книжечку в серой обложке, сказал: — Теперь вы комсомолец. Никогда не забывайте об этом. «Нет, никогда не забуду! — подумал Дмитрий, глядя, как «лейтенант», перелистывая его документы, заглядывает в блокнот и подносит к губам микрофон. — Не забуду! И никакой я не пленный, пока на нашей земле. А к себе не уведут, не дамся...» «Лейтенант» что-то крикнул «ефрейтору». Тот снова подошел к Кедрову и спросил: — Отвечай коротко: из какого полка, дивизии, покажи, где находится штаб дивизии. — И долговязый сунул к глазам Кедрова развернутую топографическую карту. — Иди к черту! — крикнул Дмитрий и в бессильной злобе плюнул на карту. «Ефрейтор» невозмутимо вытер плевок о шинель Кедрова и снова с размаху ударил связанного солдата ногой в живот. Потом, обращаясь к «лейтенанту», что-то спросил по-немецки. «Лейтенант» махнул в ответ рукой и начал складывать в вещмешок рацию. Время передачи истекло.В лесу стало темно и сыро. Дмитрий Кедров все лежал на том же месте. Наблюдая за приготовлениями гитлеровцев, он понял, что этой ночью они собираются возвращаться за линию фронта. Только «лейтенант», казалось, устраивается на ночлег. В его вещмешок были переложены оставшиеся у разведчиков продукты: консервы, галеты, шоколад. «Остается с радиостанцией здесь. Шпионить будет», — догадался Дмитрий. И ему стало очень обидно за себя, за товарищей. Сколько раз проходили они по лесу, встречали незнакомых людей, и ни у кого не возникало мысли, что среди них может быть враг. Конечно, бдительность соблюдали на марше, в боевом охранении, да и вообще на переднем крае глядели в оба. Но чтобы остерегаться у себя в тылу — такое Кедрову раньше и в голову не приходило. И вот результат: его обманули, как мальчишку, обезоружили и теперь собираются вести в плен. «Нет, лучше смерть, чем такой позор», — скрипнул зубами Дмитрий. Ему распутали ноги, помогли встать. Потом завязали полотенцем рот. — Хайль Гитлер! — приглушенно крикнули «ефрейтор» и два его помощника «лейтенанту». — Хайль Гитлер! — ответил тот и, загородив костер плащ-палаткой, улегся на кучу еловых веток, Кедрова повели по ночному лесу. В весеннюю пору 1942 года, когда вешние воды заполнили лесные просторы, вытеснили на возвышенности из низин, оврагов солдат обеих воюющих сторон, перейти линию фронта было делом не очень рискованным. И это беспокоило Кедрова. Он боялся, что его поведут по болоту, которое раскинулось между левым флангом первой роты и ручьем, носившим причудливое название Чимишмуха. Там — широкий, не занятый войсками участок. Правда, есть мины, фугасы развешаны на кустах, но их не трудно обойти. Так и случилось. Видно, гитлеровцы неплохо знали расположение нашей обороны. «Ефрейтор», вслед за которым вели связанного Кедрова, лишь на несколько минут остановился у дороги, по которой проезжала повозка. Переждал и решительно двинулся вперед, забирая влево. Началось болото, поросшее негустым кустарником. Даже не болото, а затопленный луг. Ноги хорошо ощущали под водой скользкую прошлогоднюю траву, а в одном месте наткнулись на неубранное сено. Дмитрий зорко оглядывался по сторонам. Надеялся, что заметит где-либо подвешенный фугас. «В этом спасение», — думал он. Но, как на беду, минное поле не попадалось на пути. И на переднем крае было тихо. Даже гитлеровцы не бросали, как обычно, ракет. Наверное, знали, что здесь действует их разведка. Вышли на какой-то голый островок. Вода уже не хлюпала под ногами. Впереди, совсем недалеко, виднелась темная, угрюмая стена леса. Там — передний край вражеской обороны. Вдруг справа ударил пулемет. «Наши бьют», — обрадовался Кедров. Очередь просвистела совсем недалеко, качнув ветки одинокого куста. В тот же миг в небо взлетело несколько ракет. Разведчики упали, повалив упиравшегося Кедрова. Вокруг стало так светло, что Дмитрий разглядел расщепленную снарядом сосну на участке своей роты, который находился совсем недалеко. Один из лазутчиков крепко обнимал Кедрова правой рукой, прижимая его к земле. «Ефрейтор» лежал несколько правее. Очередная ракета горела особенно долго, медленно плывя по ночному небу. И Дмитрий неожиданно увидел перед самым своим носом тонкий проводок. Обыкновенный медный проводок! Он уходил куда-то в сторону, под обнимавшего его немца. «Не потерять бы, — мелькнула беспокойная мысль. — Нельзя медлить ни секунды». Каждая струнка в теле Кедрова была напряжена до предела. Он хотел схватить зубами проводок, но рот был плотно завязан полотенцем. Руки тоже скручены. Тогда Дмитрий как мог вытянул вперед шею и зацепил проводок подбородком. Начал медленно втягивать в себя голову, подаваться назад. Боялся, что лежащий рядом фашист помешает. Но тот, уткнув лицо в рукав, не двигался. Наконец ракета погасла и рука гитлеровца на спине Дмитрия ослабла. Кедров почувствовал, что проводок натянулся до отказа. Еще чуть-чуть подался назад и сделал рывок подбородком. В тот же миг послышался щелчок и вслед — оглушающей силы взрыв. Дмитрий почувствовал, как под ним качнулась земля, как плотная стена горячего воздуха пахнула в лицо. Вспышка ослепила глаза, но он успел заметить, как взметнулось долговязое тело «ефрейтора»...
Ганс Финке, который в форме советского летчика-лейтенанта остался в глубине леса коротать ночь, на рассвете услышал, как кто-то продирается сквозь кустарник в направлении его стоянки. Финке схватился за автомат. На поляну вышел со связанными за спиной руками Дмитрий Кедров. Его подталкивали сзади Вормути Шинкер — переодетые в форму советских солдат немецкие разведчики. Финке был взбешен. Сегодня он, маршрутный агент, должен был идти по тылам советских войск, а теперь новая забота. Финке посмотрел на часы и нехотя развернул радиостанцию. Передал в эфир о гибели «ефрейтора» и о том, что перевести пленного через линию фронта не удалось. Тут же получил ответ: «Переместитесь в квадрат 51-52, в охотничью избу. Выполняйте задание. Во второй половине ночи встречайте самолет, жгите три костра. Герлиц».
ПО СЛЕДУ
По лесным массивам, испещренным дорогами, тропами, руслами рек, плешинами полей и порубленного леса, непрерывно перекатывалось разноголосое эхо войны. Где-то стрекотали автоматы, простуженно, не торопясь, стучали крупнокалиберные пулеметы, такали тяжелые разрывы мин. Солнце заливало обильным светом поляны и просеки, косыми лучами пробивалось сквозь кроны ветвей к напоенной вешними водами земле. От могучих стволов сосен, ноздреватых пней, мохнатых кочек поднимался еле заметный пар, наполняя лес пряными запахами. Все глубже пробиралась в непроходимую лесную чащу горсточка советских разведчиков. Следы, по которым вел Иван Платонов своих солдат, то исчезали, то появлялись вновь. Примятый мох, сдвинутые прошлогодние листья, раздавленные сучья указывали путь. Широкое, курносое лицо Платонова было возбужденным. Чуть раскосые острые глаза настороженно скользили по земле, вглядывались вперед. Даже уши Ивана, казалось, стали больше обычного. Красные, узловатые, они прочно подпирали пепельного цвета шапку-ушанку и ловили каждый лесной шорох. Чутьем охотника Иван Платонов угадывал, что зверь уже где-то недалеко, хотя идут они по следам вчерашней давности. Им овладел азарт, знакомый каждому, кто ходил по звериной тропе. Внимание, зрение, слух, каждый мускул тела — все было крайне напряжено, готово замечать, воспринимать. Даже разноголосый говор лесных птиц, который Иван с наслаждением мог слушать часами, сейчас не отвлекал. Только раз Платонов вскинул голову вверх и на лице его промелькнула добрая улыбка, когда среди еловых веток раздалась полная и сильная песня щегла. Иван поглядел на красивую юркую птицу с красным и черным кольцом вокруг клюва, помахал ей рукой и пошел дальше. Так же сосредоточенны и собранны были другие разведчики. Развернувшись в цепочку, они шли следом за Платоновым. Справа — Шевченко. Высокий, он часто кланялся свисавшим над землей ветвям и жмурил черные глаза. Рядом с ним шагал Савельев. Сильный и грузный, он, точно слон, давил ногами сушняк и поэтому старался ступать осторожно, осмотрительно. Коротконогий Атаев часто семенил между Савельевым и остроносым, рябым Зубаревым. На лице Атаева застыло выражение глубокомыслия. Он часто бросал почтительные взгляды на Платонова и старался держаться поближе к нему. Справа развернутую цепочку замыкал всегда молчаливый долголицый Скиба. Следы привели к топкому ручью. Платонов с первого же взгляда заметил на противоположном его берегу знакомые отпечатки ног и шагнул в воду. — Товарищ сержант! — неожиданно позвал Игнат Шевченко. — Посмотрите, что здесь. Платонов вернулся назад и подошел к Игнату. На сером илистом грунте, намытом спавшей водой, Иван увидел четкие отпечатки сапог. И среди них — след сапога со стертыми косячками на каблуке. Это, несомненно, след Кедрова. «Что за чертовщина?» — подумал Платонов. Пощупав пальцем дно следа, потрогав комочки земли, выброшенные носками, он убедился, что эти отпечатки более свежие, чем те, по которым шли до сих пор разведчики. И ведут следы в том же направлении, в глубь леса. Если бы Платонов догадался пройти вверх по течению ручья, он опять обнаружил бы знакомые отпечатки ног, оставленные гитлеровцами и Дмитрием Кедровым, когда они с вечера направлялись к переднему краю. Тогда бы разведчикам было ясно, откуда взялись вмятины, обнаруженные Шевченко. Но нужно было спешить. И Платонов повел своих солдат по новым следам. Вскоре они наткнулись на место, где была стоянка фашистских разведчиков. Платонов научил своих солдат правилу: если один «читает след», все остальные не должны мешать ему, чтобы случайно не затоптать находку. Вот и сейчас Шевченко, Савельев, Зубарев, Атаев и Скиба наблюдали, как сержант бродил по полянке, глядел в землю, точно колдовал. Ничто не ускользнуло от наметанного глаза Платонова. Иван уже знал, что кроме Дмитрия Кедрова здесь было еще четыре человека. Видел вмятину в куче еловых веток — здесь спал один. Заметил два полена, лежавших параллельно друг другу. По дырке в грунте — заземлению — догадался, что на поленьях стояла рация. Обратил внимание и на колышки, которыми были закреплены концы плащ-палатки, маскировавшей костер, и на выплеснутый кофе, и на выброшенный сухарь со следами зубов. Еще когда шли по следу, Платонов заметил, что один из гитлеровцев чуть-чуть хромал. Левой ногой он делал шаг короче, чем правой. По отпечаткам сапог было видно, что у него изношена середина подошвы. Значит, сапоги велики. У хорошо подогнанной обуви стираются в первую очередь каблук и носок. Здесь, на поляне, рядом с кучей еловых веток Платонов заметил клочок бинта в сукровице и нитки от портянки. «Натер левую ногу. Переобувался», — подумал Иван. Наскоро показав разведчикам все, что заслуживало внимания, Платонов достал из своей брезентовой сумки топографическую карту, отыскал в ней ручей, через который только что переправлялись, и примерно определил место, где они сейчас находились. — Впереди и справа — болото. За болотом и слева — большая дорога. Им далеко не уйти, — сказал Платонов, окидывая солдат возбужденным взглядом. — Не зевать. Платонов выразительно хлопнул рукой по шейке приклада автомата, поправил на боку чехол с биноклем. — За каждый сучок, который треснет под ногой, наряд вне очереди. — И сержант остановил свой взгляд на широкоплечем Савельеве. — Я и Шевченко идем в головном дозоре. Только без горячки, Игнат. Скиба и Зубарев — в боковых. Атаев и Савельев — в ядре. Зрительной связи не терять, переговариваться знаками, на поляны не выходить. Сержант точно рубил каждое слово, и разведчикам передалось его боевое напряжение, его чувство близости зверя. Опять шли по лесу, огибая топкие места и непролазные заросли. На пути то и дело попадались сваленные бурей или отжившие свой век и упавшие сами деревья. Многие из них уже истлели, были источены червями. Вскоре Иван Платонов и Игнат Шевченко, двигавшиеся метрах в тридцати впереди, вышли к огромной поляне. Во всю ее ширь раскинулись прошлогодние заросли пожухлого камыша и осоки... Следы вели через поляну. — Вот идиоты! — ругнулся Платонов. — Зачем их понесло прямо в болото? Ведь все равно свернут в сторону. Но делать было нечего, и разведчики, пригибаясь среди камыша, пошли дальше. Земля под ногами становилась все более и более заболоченной. Наконец добрались до такого места, где различать следы уже было невозможно. Платонов остановился в раздумье, потом достал из чехла бинокль и приложил его к глазам. Впереди простиралась обширная болотистая равнина. Местами она была покрыта осокой, камышом. Это верный признак, что там вброд пройти трудно. Местами же на болоте бурели пятна прошлогодней травы, и над ней возвышались редкие кустики осины, ивы, чернотала. Там почва покрепче, может выдержать человека. Но как знать, куда могли пойти разведчики врага? Метрах в трехстах впереди виднелись на болоте кусты лозняка. Платонов знал, что за этими островками находится Гнилое озеро. Его контуры на топографической карте напоминают очертания рыбы. Из хвоста этой «рыбы» берет начало ручей Чимишмуха. «Дальше Гнилого озера они пройти не смогут, — подумал Платонов. — Наверняка укрылись на каком-нибудь островке...» Однако такой вывод не подсказывал никакого решения. Островков на болоте много, все не обыщешь. Да и зачем понесло гитлеровцев в болото?.. Игнат Шевченко нетерпеливо дернул Платонова за рукав: — Ну как? Махнем напрямик? Время-то идет!.. — Куда махнем? Думать надо, Игнат, — упрекнул солдата сержант. Шевченко недовольно засопел, и его черные брови сбежались на переносье. Не любил Игнат, когда упрекали его в торопливости. — Тогда в обход, может, на той стороне след перехватим, — предложил Игнат. — Это мысль. Но с болота глаз не спускать.ОСТРОВОК НА БОЛОТЕ
Разведчики опять развернулись в цепочку и опушкой пошли над болотом. Торопились. Болото лежало в низине, и чуть пологий склон, отделявший его от леса, был голым, изрезанным ручейками талой воды. Заметить здесь след можно было с первого взгляда. Но вот уже скоро конец болота. Тревога все больше охватывает разведчиков: нигде ни малейшей приметы, которая бы указала на присутствие врага. Над болотом пролетают стаи птиц. Они кружат над островками и исчезают в их зарослях. Платонов внимательным взглядом провожает пернатых. Вот летят вертлявые скворцы. Над одним из островков они сделали круг и нырнули к земле. И тотчас же стайка черных точек взметнулась над болотом, рассыпалась. Острый слух Платонова уловил беспокойный скворцовый говор. — Стой! — скомандовал сержант. — Смотрите на островок с кривым деревцем слева. Каждому из разведчиков было известно, что птицы зря не беспокоятся. Что-то вспугнуло их. Платонов передал Шевченко свой автомат и быстро вскарабкался на сосну, стоявшую над самым болотом. Приложил к глазам бинокль и сразу же увидел среди стройных высоких березок покатую крышу какой-то постройки, разглядел ее бревенчатые стены. «Что за чертовщина?» Тут же на дереве развернул карту, отыскал болото. На самом берегу озера, похожего на рыбу, заметил черный квадратик и надпись: «Сар.». «Сарай! Небось охотничья изба», — догадался Иван и мысленно выругал себя, что раньше не разглядел на карте такой важной детали. Опять приложился к биноклю. Островок казался пустынным, сарай полуразвалившимся, давно покинутым. Однако Платонов твердо был уверен, что враг именно там. Он спустился на землю. Засветло подбираться к островку было рискованно: можно вспугнуть зверя, можно нарваться на огонь в лоб. Только внезапность нападения могла принести полный успех. Платонов решил дожидаться сумерек. А пока светло, нужно выбрать наиболее короткий и удобный путь к островку. Разведчики, маскируясь в кустах, еще немного прошли над болотом. И вдруг Атаев, шедший правее всех, взволнованно воскликнул: — Командир! Сюда! К нему поспешили все разведчики. Атаев, широко расставив короткие ноги, указывал пальцем на найденный им след и победно глядел на товарищей: — Смотри, командир! Разведчики узнали знакомые отпечатки сапог со стертыми посредине подошвами, знакомый выверт носков — свидетельство того, что человек, оставивший следы, плоскостопый. Отпечатки совершенно свежие. Они вели от болота в лес. — Шевченко! Остаетесь старшим. Наблюдайте за болотом, за островком с сараем и ждите меня. Атаев пойдет со мной. — Отдав такое распоряжение, Платонов быстро пошел вдоль следа. За ним устремился Атаев. След вывел на дорогу, вилявшую по лесу мимо полковых тылов и огневых позиций артиллерии крупных калибров. Некоторое время они шли вдоль обочины дороги. Потом след повернул влево, на залитую жидкой грязью настильную дорогу, ведущую к тыловым подразделениям. На ней рассмотреть отпечатки ног было невозможно. Чтобы не утерять следа, Платонов и Атаев двигались по сторонам утопавшего в жиже настила и внимательно глядели на обочины, стараясь заметить, не сворачивает ли след в лес. Навстречу разведчикам ехала повозка. Лошадьми управлял знакомый Платонову старшина хозяйственного взвода. Рядом с ним сидел лейтенант из какой-то авиационной части. Летчик и старшина о чем-то оживленно беседовали. Заметив Платонова и Атаева, старшина радушно воскликнул: — Глазам и ушам армии мое почтение! Кого выслеживаете, хлопцы? — Зайца на кухню гоним. Хороший заяц! — пошутил Атаев. А Платонов озабоченно спросил у старшины: — Никого сейчас не встречал на дороге? — Никого. Да я же только-только с места тронул. Когда повозка минула разведчиков, лейтенант спросил старшину: — Что за солдаты? — Разведчики. Вчера один солдат наш исчез. Вот они и разыскивают. А сержант этот умеет читать следы, как по-писаному. Добрую академию в сибирской тайге прошел... Платонов и Атаев достигли того места, где дорога расширялась и шла уже не по настилу, а по грунту. Земля здесь была почти сухой. По обочинам дороги, между елями и кустами орешника, стояли замаскированные машины, повозки. Невдалеке виднелись землянки. Следы обнаружили у походной кухни. На ее передке сидел солдат в белом переднике и, зажав меж ног ведро, чистил картошку. — Кто здесь сейчас проходил? — спросил у него Платонов. — Вроде никто, — ответил солдат. — Ну, а на этом месте кто недавно топтался? Вот эти следы чьи? — Откуда мне знать? Старшина здесь ходил, а с ним летчик один. Он приехал разыскивать подбитый самолет. Наверное, это они здесь наследили. А что, разве тут ходить нельзя? — Лейтенант? В летной форме?! — воскликнул Платонов и бросился в ближайшую землянку, где был телефон. Через минуту он разговаривал с помощником начальника штаба. — Прошу задержать лейтенанта, летчика. Он едет на командный пункт со старшиной хозвзвода. Да. Наверняка переодетый фашист... На дороге показалась грузовая машина. Платонов вскочил на ее подножку и бросил несколько слов шоферу. Машина остановилась. Секунда — и два разведчика сидели в кузове. — Гони по дороге на командный пункт! — крикнул Иван, нагибаясь к окну кабины. Машина неслась на предельной скорости. Разведчики напряженно всматривались вперед. Поворот дороги. За поворотом увидели повозку. В ней сидел один старшина. — Где летчик? — взволнованно спросил у него Платонов, когда машина поравнялась с повозкой и остановилась. — Он передумал. Решил сначала к артиллеристам зайти, порасспросить там о своем самолете, — ответил старшина. Платонов и Атаев соскочили с машины. — Проведите нас к тому месту, где фашист сошел с повозки, — попросил сержант старшину. — Какой фашист? — ужаснулся старшина. Через пять минут старшина показывал: — Вот тут он соскочил и пошел напрямик к лесу. Платонов и Атаев опрометью бросились по еле приметному следу. Видно было, что немецкий разведчик не шел здесь, а бежал. В лесу, густо усыпанном прошлогодними еловыми иглами, след исчез. Платонов и Атаев не пытались искать его. Они спешили к болоту, которое начиналось в двухстах метрах от дороги. Сгущались сумерки. Наступал вечер. Сквозь редеющие на опушке ели виднелось небо — багровое от закатившегося солнца... Вот и болото. Густой подлесок подступает вплотную к мохнатым кочкам, между которыми тускло поблескивает рыжеватая вода. Платонов приложился к биноклю и замер. Он увидел спину переодетого гитлеровца. Высоко подобрав полы шинели, пригибаясь, гитлеровец барахтался среди кочек, направляясь к островку с кривой березкой.Дмитрий Кедров лежал на куче прелого сена у бревенчатой, отдававшей плесенью стены. Он никак не мог согреться. Одежда на нем не просыхала со вчерашнего дня, и ее нельзя было отодрать от задубевшего тела. Да и как отдерешь? Уже вторые сутки руки Дмитрия накрепко связаны за спиной. И он непрерывно шевелил кистями, стараясь расслабить веревку. В сарае было сыро и темно, несмотря на то что посреди него пылал небольшой бездымный костерок из сухого валежника. У костра молча сидели немецкие солдаты Вормут и Шинкер. Пламя бросало на солдат красные блики. Дмитрий видел, что его враги смертельно устали. У солдата, который сидел ближе к Кедрову, глубоко ввалились глаза, кожа, плотно обтянувшая кости лица, потемнела, заострились скулы. Уставившись глазами в костер, он сидел будто окаменевший. Кедров, несмотря на то что его прошибал озноб и что вторые сутки ничего не ел и не пил, чувствовал в себе силу: днем ему удалось час-другой уснуть на сене. И он еще энергичнее шевелил кистями рук. «Распутаться бы только. Я с ними справлюсь», — думал он, настороженно следя краем глаза, как один из солдат клюет носом и с его колен прямо к костру сполз автомат. В противоположной стене сарая зияла большая дыра. Сквозь нее виднелось красное вечернее небо над лесом и кусочек глади озера, на котором переливались яркие краски заката. Дмитрию чудилось, что это манит его свобода, такая близкая и желанная. Казалось, вырвись он за стены этого сарая, на шаг отойди от этого страшного места — и у него вырастут крылья... Неожиданно слуха Дмитрия коснулся крик лесной птицы, тревожный, надрывный: «Ка-гу-гу!... Ка-гу-у-у!..» Солдаты, охранявшие пленного, встрепенулись. Один из них вскочил на ноги, просунул голову в отверстие в стене и страшным, охрипшим голосом ответил: — Ка-ги-и!... Через минуту в сарай ввалился Финке — «летчик-лейтенант», запыхавшийся, взволнованный. Точно чем-то холодным плеснуло Дмитрию на сердце. Небо, видневшееся в проломе стены, вдруг померкло, и, кажется, исчезло все, что было вне сарая, — лес, пространство, свобода... Даже труднее стало дышать, и в груди ширилась какая-то пустота. Финке затравленно оглянулся вокруг и подошел к Кедрову. — Или сейчас умрешь, или говори, — почему-то шепотом обратился он к пленному: — Что у вас за разведчики, которые умеют следы отыскивать? Но что мог Кедров ответить немецкому лазутчику? Если б и знал он о следопыте сержанте Платонове, все равно смолчал бы. Постояв минуту над пленным, «лейтенант» пнул его ногой, выругался и отошел к костру. Быстро достал из вещмешка радиостанцию, подготовил ее к работе. За ним молча, настороженно наблюдали солдаты Шинкер и Вормут. Они видели на длинном, зубастом лице Финке страх, и этот страх передавался им, хотя причины его еще были неизвестны разведчикам. Через минуту Финке уже переговаривался со своим шефом за линией фронта — обер-лейтенантом Герлицем. Он торопливо зашифровывал фразы в цифры и тихо, взволнованно выкрикивал их в микрофон. Цифры эти означали: «Русские напали на наш след. У них имеются специально обученные разведчики-следопыты. Встретить самолет не могу. Район выброски на парашюте выбирайте по своему усмотрению. Охотничью избу покидаю немедленно, ухожу за озеро. Завтра жду указаний о месте встречи. Что делать с пленным?..» На последний вопрос обер-лейтенант Герлиц ответил: «Пленного уничтожьте...»
ОБЕР-ЛЕЙТЕНАНТ КАРЛ ГЕРЛИЦ
Надрывисто гудят моторы «юнкерса» — большого транспортного самолета. От докучливого шума клонит ко сну. Но обер-лейтенант Карл Герлиц не спит. Он сидит на жесткой откидной скамейке, прислонившись спиной к гофрированной обшивке кабины. В кабине полумрак: горит синяя лампочка у перегородки, за которой находятся пилоты. Рядом с Герлицем, уронив голову на пристегнутый парашют, дремлет офицер разведки 16-й немецкой армии капитан Маргер, рыжеголовый, бледнолицый, одетый в форму солдата Красной Армии. Свои длинные, худые ноги он вытянул почти к противоположной стенке, где сидят, прижавшись друг к другу, три разведчика, одетые в такие же серые шинели, как и Маргер. Обер-лейтенант Герлиц смотрит на разведчиков сквозь узкие щелки глаз, и на его тонких губах трепещет презрительная улыбка. «Наивные, как куропатки, и трусливые, как зайцы, — думает о них Герлиц. — И как это Маргер отважился выбрасываться с такими скороспелками? Знать русский язык, даже превосходно, — очень мало для настоящего разведчика». Карл Герлиц никогда не относился с доверием к прошедшим краткий курс обучения сынкам русских белогвардейцев. Что они могут, на что способны? Научились к месту и не к месту произносить слово «товарищ», запомнили знаки различия командиров да немного подрывное дело освоили. А конспирация, а искусство заметать следы, а, наконец, умение найти в стане врага «крышу», под которой обосноваться?.. На это способен только он, Карл Герлиц, и все те, кто закончил шпионскую школу «Орденсбург Крессинзее». Правда, немного уцелело аспирантов, обучавшихся в этой образцовой школе «восточного направления». Да и было бы неразумным всех их посылать на такие мелкие задания. Впрочем, не такое уж мелкое дело, на которое идет штабной офицер армейской разведки со своей небольшой группой. Шутка ли: перед самым наступлением армии генерала фон Буша оставить без боеприпасов дивизию русских, на участке обороны которой намечен прорыв! Обер-лейтенант Герлиц хорошо это понимает. Понимает и то, что многое может сделать подчиненный ему, опытному разведчику, отряд агентов. Быстрее бы только встретиться с лейтенантом Финке. Жаль, что не очень он проявил себя в последней операции. При воспоминании о Финке в груди Герлица шевельнулось приятное чувство. Они старые друзья, однокашники, как говорят русские. Вместе учились в окружной школе Адольфа Гитлера в Брауншвайде, куда попали с первым же набором в 1934 году. Потом несколько лет провели дома, в родном городишке Хенау, где под строгим тайным контролем и наблюдением проходили курс «практического обучения жизни». «Практическое обучение жизни», — думает Герлиц и ухмыляется. Он покосился на небольшое квадратное окошко кабины, за которым невидимо проносилась густая темень ночи, прислушался к размеренному шуму моторов самолета и погрузился в воспоминания. Тогда они были совсем юные. Что это были за годы! Ночные шествия с горящими факелами по улицам, лихие, чеканные, как ступеньки лестницы, песни, праздничные парады в коричневой форме. Карл Герлиц и Ганс Финке делали все, чтобы оказаться пригодными для «специальной работы», чтобы попасть наконец в «академию» шпионов, дающую право на жизнь, полную невероятнейших приключений. Но отбирались в эту «академию» далеко не все, кто окончил окружную школу Адольфа Гитлера и кто прошел курс «практического обучения жизни». Нужно было проявить себя способным к агентурной работе. И Герлиц с Финке проявили эту способность. Надрывно гудят моторы «юнкерса». Обер-лейтенант Герлиц ежится от прохлады, подносит к глазам руку, смотрит на светящийся циферблат часов, а потом снова погружается в воспоминания... Школа «восточного направления» в Фалькенбурге. Она отличается от школ в Фогельзанге, Зонтхофене и Химзе только тем, что готовит шпионов, которым предстоит работать в СССР и в некоторых других странах на востоке от Германии. Карл вспоминает, как шли они по железнодорожной ветке от станции Фалькенбург, шли вслед за человеком в темном плаще и темных очках, пока не уткнулись в глухую высокую стену. Карл и Ганс с трепетом прочитали на стене крупную надпись: «Проникновение за ограду без пропуска карается смертью». И вот они за оградой, где на огромной площади раскинулись одноэтажные серые здания. В тот же день они предстали перед начальником школы, старым нацистом Годесом. Потом в подвальном этаже одного из корпусов принимали специальную присягу. У Карла Герлица дрожал тогда голос и по спине бегали мурашки. Ему было очень страшно. Он понимал, что переступает такой порог, из-за которого нет возврата. И будущее уже не казалось Карлу таким заманчивым... Началась учеба. Это, пожалуй, были самые трудные годы в его жизни. Наверное, так чувствуют себя животные, которых непрерывно дрессируют для выступления в цирке. К концу дня усталость валила с ног, и всегда чертовски хотелось есть, хотя кормили в школе неплохо. С рассвета до темна проводились занятия. Вся их рота обучалась русскому языку. И уже под конец первого года пребывания «аспирантов» в школе занятия по изучению экономики, армии, законодательства, внутренней и внешней политики СССР проводились на русском языке. В учебных классах слышалась немецкая речь только тогда, когда осваивались формы, виды и методы ведения агентурной разведки, методы диверсий, дезинформации и другие специальные предметы. Карл Герлиц проявил большие способности в умении держать себя, в искусстве грима и быстрого переодевания. Однажды на спортивных занятиях брошенная кем-то из «аспирантов» ручная граната, скользнув по земле, задела ступню ноги Герлица. Карл, до этого с тоской думавший о завтрашнем марше на выносливость, вмиг оценил выгодность своего положения. Он упал. Подбежавшим товарищам не дал и притронуться к ноге. А когда подоспевший врач снимал с него ботинок, на лице Карла было написано такое неподдельное мучение, что тот с уверенностью решил: треснула кость. Однако осмотр не подтверждал такого диагноза. Был заметен только легкий ушиб ступни, а пострадавший тем не менее испытывал адскую боль. И лишь на второй день рентген установил, что ступня цела. Но рота уже находилась на марше... Открылась дверца кабины пилотов. Обер-лейтенант Герлиц отмахнулся от воспоминаний. — Пора? — спросил он летчика, высунувшего в дверцу голову. — Через две минуты, — ответил тот. Карл Герлиц поднялся со своего места и сделал шаг к дремавшему капитану Маргеру. Маргер тотчас же поднял бледное лицо с впалыми щеками, и по его глазам Герлиц догадался, что капитан не спал. Зашевелились и остальные разведчики. Они зевали, потягивались, точно сейчас им предстоит прыгнуть не в черную пропасть, а сесть за стол. Но Герлиц уловил их притворство, хитрость, за которыми скрывался страх — животный, неодолимый. Этот страх все они, даже капитан Маргер, испытывали с той минуты, когда сели в самолет, и, чтобы не выдать его ни взглядом своим, ни бледностью лица, ни нервным движением руки, притворились спящими. Герлиц знал, что их пугал не прыжок с парашютом, — это дело привычное. У каждого из них за спиной десятки тренировочных прыжков. Боялись разведчики другого — неизвестности, которая ждет их впереди, боялись опасностей, которые таит в себе встреча с русскими солдатами. А он, Карл Герлиц, как раз боялся больше первого — самого прыжка: «А вдруг не раскроется парашют? — холодила душу мысль, — Вдруг русские заметят его в момент приземления?..» Герлиц горько усмехнулся своим мыслям и упрекнул себя: «Тебя, старина, страшит та опасность, которая ближе. Потом новой будешь бояться...» Обер-лейтенант пожал протянутую капитаном Маргером руку и сказал: — Значит, условие прежнее: действуем порознь, но поддерживаем радиосвязь. Если же с Финке мне встретиться не удастся, тогда базируемся вместе... Через минуту четыре полусогнувшиеся человеческие фигуры, одна за другой, нырнули в открытую дверь кабины. На борту самолета кроме экипажа остался обер-лейтенант Карл Герлиц. Он должен выброситься у большой излучины реки через четыре минуты. Нервный озноб охватил тело Карла. Никак нельзя отделаться от этой противной дрожи, от тревоги, которая давит на сердце каждый раз, как только вырисовывается впереди опасность. Герлиц уселся на свое место, закинул ногу на ногу и внимательно, уже в который раз, осмотрел свои ботинки, специально подготовленные для такого случая. Герлица обеспокоила радиограмма Финке о русских следопытах. О них Герлиц никогда раньше не слышал. И эти ботинки, если его, Герлица, заметят во время приземления, нужных следопытам следов не оставят. Точно такие же ботинки на ногах Маргера и его разведчиков. Ботинки, конечно, придется выбросить сразу же после того, как будут спрятаны парашюты и останется далеко позади место приземления. Герлиц припал лицом к холодному окошку. Сквозь прозрачный целлулоид заметил, что внизу тускло сверкнула река, и подошел к двери. В эту минуту он себя ненавидел. Давящее чувство страха холодило тело, сковывало движения. О, если бы на борту самолета находились его коллеги. Карл Герлиц с гордостью прошелся бы перед ними, прежде чем прыгнуть в эту гнетущую неизвестность. Он готов на самый невероятный подвиг, но только перед лицом людей, которые могут этот подвиг оценить. Честолюбие помогает побороть любой страх. Но сейчас он — один на один с собой. А себя не обманешь... Опять открылась дверца кабины пилотов. Герлиц приободрился. Подошедший летчик пожал ему руку и подтолкнул к распахнутой двери. Карл гордо шагнул в черную пустоту.НА РАССВЕТЕ
Погожие дни стояли в приильменских лесах. Конец апреля выдался здесь теплый и безоблачный. Солнце и мягкий ветерок быстро сушили раскисшую во время весенней распутицы землю. Все вокруг покрылось молодой, яркой зеленью. Нет такой полянки, где бы к небу не тянулась нежная поросль травы, бурьяна, где бы не вспыхивали синими, желтыми, красными огоньками ранние лесные цветы. Солнечные лучи пробиваются в самые тайные уголки лесной глухомани и пробуждают там жизнь. Хорошо вокруг днем. Легко дышится, можно снять надоевшую за зиму шинель или фуфайку, можно сбить на затылок шапку-ушанку и ругнуть начальство, что медлит с распоряжением о выдаче солдатам пилоток. Однако ночью солдаты забывают о том, что днем тяжелы были им шинель и шапка. Влажная свежесть заставляет ежиться, потуже затягивать поясной ремень. Кажется, и не было теплого дня, горячего солнца. Особенно достается саперным командам, которые дежурят на переправах. Давно кончился ледоход на Ловати и Поле, но вода в реках продолжает прибывать, нести с собой лес, приготовленный для сплава еще до войны, угрожая временным фронтовым мостам. Круглые сутки наблюдают солдаты за уровнем воды и за тем, чтобы плывущие по реке бревна не создавали затора. В эту ночь, в предрассветные часы, когда особенно одолевает сон, на переправе дежурил рядовой Евгений Фомушкин — солдат из отделения плотников сержанта Рубайдуба. Невысокого роста, стройный и тонкий, Фомушкин ходил вдоль перил с карабином в руках и поеживался. Нерадостные мысли бродили в его горячей голове. Сетовал Фомушкин на свою военную судьбу, сделавшую его, прирожденного разведчика, сапером, да еще таким сапером, которого посылают на мостовые работы только в тылу. Трудное дело махать топором, когда душа, сердце рвутся туда, где время от времени погромыхивает артиллерия, где идут настоящие бои, где совершаются героические подвиги. Евгений Фомушкин — еще совсем молодой солдат. Прошло лишь две недели, как он с маршевой ротой прибыл из запасного полка на фронт в приильменские леса. Но две недели фронтовой жизни казались Евгению не коротким сроком. Тем более огорчался он, что за этот срок ничего еще значительного не сделал и даже не видел живого фашиста. Евгению, или просто Жене, как звали его товарищи, недавно исполнилось семнадцать лет. На фронт пошел он добровольно. Впрочем, «добровольно» — не то слово. Ему выпало испытать много трудностей, обойти немало препятствий, прежде чем стать добровольцем. Короче говоря, помогло упорство. Два дня ходил он по пятам за секретарем райкома комсомола Галиной Зайцевой и надоел ей так, что она самолично побывала у райвоенкома и доказала ему, что без комсомольца Евгения Фомушкина, эвакуированного в этот уральский городок из Севастополя, на фронте ни за что не обойтись. Потом у Жени состоялся неприятный разговор с райвоенкомом, пожилым сердитым майором с седыми усиками. Майор не очень вежливо выставил Женю из кабинета и приказал не надоедать ему, а ждать повестки. Но ждать у Жени не было никаких сил. В ночное время — в третью смену — работал он на мебельной фабрике, которая изготовляла повозки для армии, а в остальное — дежурил у военкомата или курсировал под окнами квартиры военкома. И добился своего: его направили в запасный полк. А там, на беду Жени, узнав, что он хороший плотник, сделали из него сапера, хотя (Женя был в этом твердо убежден) он прирожденный разведчик. И вот теперь Евгений Фомушкин караулит переправу. Скучное дело: ходи по мосту и наблюдай за водой, да и по сторонам смотри. А тут еще прохлада донимает — вода совсем рядом плещется о мостовые сваи, и такой сыростью тянет от нее, что все тело корчит, как бересту на огне. Фомушкин нетерпеливо поглядывает на восток. Небо светлеет там медленно, и на его фоне гребенка недалекого леса вырисовывается еле-еле. Но все же время идет, и Женя с радостью думает, что через десять-двадцать минут на пост заступит новый часовой, а он заберется в землянку и у пылающей железной печурки крепко уснет. В темных облаках прогудел немецкий транспортник. Фомушкин не обратил на него особенного внимания: мало ли самолетов бороздит ночное небо? Евгений прошелся по мосту, похлопал озябшими руками по перилам, прислушался к их бодрому звону и еще раз оглянулся на светлеющее небо. В этот миг он увидел, как по ту сторону реки что-то серое медленно спускалось на землю. Фомушкин бросился к землянке, где отдыхали товарищи: — Вставайте, фашисты парашютиста бросили!.. Саперы, протирая заспанные глаза, торопливо выскакивали из землянки, захватив с собой оружие. — Где, где парашютисты? Сколько их?.. Но на фоне темной стены леса уже ничего не было видно. — Совсем недалеко! — доказывал Фомушкин. — По правую сторону дороги. Одного заметил... Сержант Рубайдуб окинул взглядом свое немногочисленное «войско», выстроившееся у входа на мост. Кроме Фомушкина, это были пожилые солдаты — колхозные плотники и столяры, ставшие теперь строителями военных мостов. — Кириллов, Поцапай, Крупенев, охраняйте мост, — приказал Рубайдуб. — Остальные — за мной! Саперы побежали на поиски парашютистов. Под их ногами загудел настил моста. Вернулись, когда уже совсем рассвело, усталые, злые. Никого не нашли. Но Евгений Фомушкин твердил свое: — Собственными глазами видел... — Это тебе с перепугу показалось! Померещилось, бывает, — кольнул Фомушкина солдат Поцапай. Молодое, остроносое лицо Евгения потемнело от обиды. В серых глазах сверкнули упрямые огоньки. Он обратился к Рубайдубу, который сидел у землянки на кучке дров и щепкой соскребал с сапог грязь. — Товарищ сержант, разрешите мне еще поискать. — Иди... Только к завтраку чтоб вернулся. Фомушкин возвратился, когда над лесом всплыло солнце. Ни на кого даже глаз не поднял: поиски парашютиста ни к чему не привели. Сержант Рубайдуб подсунул ему котелок с уже застывшей пшенной кашей — «блондинкой», как ее звали солдаты, и пошел на мост, где саперы длинными баграми расталкивали в воде скопившиеся бревна. Евгений посидел над котелком с кашей, поглядел в землю, потом решительно поднялся и пошел к командиру отделения: — Товарищ сержант, позвольте еще сходить... Видел же я его!.. Фомушкин, чуть наклонившись вперед, стремительно шел по мосту к другому берегу, а сержант Рубайдуб глядел ему вслед задумчивыми глазами и одобрительно качал головой: — Кремешок, а не хлопец... На этот раз Фомушкин вернулся быстро — возбужденный, торжествующий. На его плечах саперы увидели скомканное белое полотно парашюта. — Женя! Нашел?! — В старом блиндаже, — взволнованно сообщил Фомушкин. Сержант Рубайдуб торопливо побежал в землянку к телефону.ОТЕЦ И СЫН
Лука Сильвестрович Кедров побывал у артиллеристов и саперов, выступал перед ними с речью, передавал фронтовикам наказ колхозников — нещадно бить фашистских оккупантов. Хозяйский глаз старого Луки примечал все: добротную одежду на солдатах и офицерах, сколько черпаков супа или каши достается в солдатские котелки, какую порцию махорки отмеряет старшина каждому курящему. Ночь захватила его на пути в штаб дивизии. Лука Сильвестрович ехал верхом на молодой, маленькой гнедой кобылке. Его сопровождали инструктор политотдела батальонный комиссар Артемьев и начальник клуба политрук Подгрушенский. Из троих всадников только передний, Артемьев, умел сидеть в седле. Он, в перехваченной ремнями шинели, широкоплечий, широкогрудый, походил на заправского кавалериста. Высокая рыжая лошадь шла под ним спокойно, чувствуя, что узда находится в твердых руках. Кобылка Луки Сильвестровича тоже чувствовала руку своего седока, но руку неуверенную. Она косилась по сторонам, на обступавший дорогу лес, прядала ушами и шаловливо разбрызгивала передними копытами грязь. Луке Сильвестровичу было не по себе. Ему не приходилось ездить в седле, и фронтовой конь казался необузданным зверем. Собственно, он больше надеялся на благоразумие кобылы, а не на свое умение сидеть в военном седле. Но та не очень почтительно относилась к седоку. Она резво перемахивала через лужи и рытвины, высоко вскидывала при этом задом, все время пытаясь перейти на рысь. Лука Сильвестрович неуверенно опирался о стремена, что было сил сжимал колени, обхватывая ими кобылку, и цепко держался руками за седло. Ему казалось, что вот-вот он потеряет равновесие и седло скользнет под брюхо коня. Политрук Подгрушенский ехал в хвосте этой небольшой кавалькады. Он, как и старый Кедров, мучительно переносил езду. Сугубо гражданский человек, недавно призванный в армию, Подгрушенский всем своим видом свидетельствовал о неприспособленности к военной службе. Об этом говорили его большие очки, плотно сидевшие на мясистом носу, вздувшаяся пузырем на спине шинель, сбившееся набок снаряжение. Батальонный комиссар Артемьев чуть пришпорил коня. Кобылка Луки Сильвестровича тоже перешла на рысь, и он, бросив узду, согнулся еще больше и двумя руками судорожно впился в гриву. Он терпеливо и молча переносил это испытание. Подгрушенский взмолился: — Потише, товарищ комиссар! Сейчас же выпаду в грязь... — А ты за Луку держись, — посоветовал Артемьев. Старик Кедров опасливо покосился на Подгрушенского, и, желая оказаться подальше от него, чуть пришпорил кобылу каблуками сапог. Она тотчас же перешла в галоп и оказалась впереди Артемьева. Артемьев, понимая, что дело старика плохо, решил догнать его и остановить ретивую кобылу. Что было дальше, Лука Сильвестрович толком не помнит. Он высвободил ноги из стремян и, изогнув их калачиком, сколько было сил, прижал к бокам кобылы, невольно пришпоривая ее. А кобылица еще энергичнее прибавляла ходу, не желая, чтобы конь Артемьева обогнал ее. Начальник клуба Подгрушенский капитулировал первый. Как только его высокая, упитанная лошадь тоже ринулась вскачь вслед за передними, он не сумел сдержать ее и самоотверженно выбросился из седла на раскисшую дорогу. Но вот Артемьеву удалось поравняться с кобылкой Луки Сильвестровича, ухватить ее под уздцы и остановить. Старый Кедров тут же решительно слез на землю и молча зашагал по обочине дороги. Никакие уговоры Артемьева снова сесть в седло не поколебали его. Когда они приблизились к шлагбауму, перекрывавшему дорогу у землянок штаба дивизии, навстречу Луке Сильвестровичу бросился солдат. — Митяй! Митюшка! — обрадованно воскликнул старик, узнав сына. — Наконец-то... Разговорчивый до этого, Дмитрий Кедров не нашел нужным рассказывать отцу, как попал он в руки фашистских разведчиков, как следопыты сержанта Платонова освободили его в ту самую минуту, когда гитлеровец Ганс Финке собирался прикончить его, Дмитрия, и удрать вместе со своими двумя спутниками через ручей Чимишмуха. На второй день, проводив отца, Дмитрий Кедров возвращался в свою роту. Он проходил по знакомой тропинке над ручьем, настороженно прислушивался к дыханию фронта, к лесным шорохам и держал наготове свой карабин. Совсем недалеко от переднего края, где сквозь кусты чернотала виднелись брустверы наших траншей, Дмитрий столкнулся с пулеметчиком Новоселовым. — Кедров, ты?! — Видишь, чего ж спрашиваешь? — Вижу. Только у нас слух прошел, что ты пропал куда-то. — Мало ли слухов ходит. Посторонись! — сказал Кедров и зашагал дальше. Он совсем не хотел вступать в разговор, окончательно утвердившись в мнении, что излишняя болтливость не украшает солдата. «Человек в деле должен проявлять себя», — думал Дмитрий.ЧЕЛОВЕК С КОПЫТАМИ
Генерал Чернядьев сидит за столом и молча рассматривает развернутую карту. Сквозь небольшие окошки в землянку струится свет, но дневного света мало, и поэтому над столом горит маленькая электрическая лампочка. Чернядьев морщит свой высокий открытый лоб и еще раз пробегает глазами листы бумаги. На них записаны показания трех пойманных вчера вечером немецких лазутчиков, которые захватили было в плен солдата Кедрова. Особенно интересны показания лейтенанта Ганса Финке — кадрового агентурного разведчика. Его вместе с несколькими другими выпускниками Фалькенбургской шпионской школы «восточного направления» прислали в 16-ю немецкую армию генерала фон Буша. Здесь обученные шпионы должны на практике познакомиться с советскими войсками и подготовить себя для агентурной работы в Красной Армии. Буш воспользовался пребыванием в своей армии тайного «войска», придал ему полтора десятка разведчиков, прошедших ускоренные курсы, и приказал пока заниматься войсковой разведкой, диверсиями и в ходе этого готовиться к агентурной работе. На расстеленной карте среди зеленых лесных массивов в синем карандашном кружке зажат хутор Борок. Чернядьев остановил на нем свой взгляд и задумался. В Борке, по показаниям пленных, размещается вся группа фашистских разведчиков. Хорошо бы разгромить это змеиное гнездо, прежде чем его обитатели успеют расползтись. Но и другое беспокоит генерала Чернядьева. Раз враг так активизировал свою разведку, значит, готовится к какой-то серьезной операции. Нужно быть начеку. Об этом напомнил Чернядьеву сегодня по телефону и командующий армией. При воспоминании о разговоре с командующим генерал морщит лицо. Действительно неприятная история. После допроса в штабе дивизии пленных сегодня утром отправили на машине в штаб армии. По дороге лейтенант Ганс Финке пытался бежать и получил пулю в правую ногу. Пришлось завезти его в медсанбат и оставить там; ранение серьезное: раздроблена кость. А Финке — самый ценный «язык». Он многое мог бы рассказать в штабе армии. Вот и недоволен командующий, что не усмотрели за пленным. Размышления генерала Чернядьева прервал начальник дивизионной разведки майор Андреев. Он протиснулся в узкую дверь землянки, низко наклоняя голову. Комдив окинул сухощавую, чрезмерно высокую фигуру Андреева и не удержался, чтобы не бросить излюбленной шутки: — Все растешь, товарищ разведчик? На месте командиров полков я тебя на свой передний край не пускал бы: демаскируешь. Лицо начальника разведки было озабоченным, и на шутку генерала он ответил только короткой улыбкой. Тут же доложил: — Сегодня на рассвете сброшен парашютист. Развернув свою карту, майор ткнул в нее пальцем: — Вот здесь его заметили, и здесь же найден парашют. — Что вы предприняли? — спросил генерал. — На всех объектах приказано усилить караулы. На контрольно-пропускныхпунктах проверяют каждого человека, а в сторону от них выставлены секреты. Усилена радиоразведка с использованием кода, найденного у пойманных вчера лазутчиков. — Все? — Нет. Хочу сейчас же послать разведчиков-следопытов к месту, где найден парашют. — Но Платонов на передовом наблюдательном пункте. Оттуда днем не выбраться — подстрелят. Кроме того, пусть Платонов продолжает готовиться к походу за линию фронта. Борок нужно разгромить. — Я возьму разведчика Шевченко. Он тоже напрактиковался следы читать. Также считаю целесообразным перевести отделение следопытов из полковой разведки в дивизионную. Здесь их можно лучше использовать. — Согласен, действуйте, — коротко сказал генерал. — И еще одно: этот Финке утверждал, что заброска новых групп разведчиков-диверсантов в наш тыл намечалась гитлеровцами после его возвращения в Борок. Значит, обманул? — Выходит, так. — Еще раз допросите его, пока он у нас. Выясните, на какой срок пригодна кодированная карта лейтенанта Финке. Чернядьев поднял на Андреева глаза, и его сухощавое лицо расплылось в хитрой улыбке. — Понимаете, как можно одурачить их? — спросил генерал. — Не догадываетесь? Код в наших руках. Если кодированная карта не устарела, связаться по радиопередатчику Финке с этим парашютистом и назначить ему «свидание». — Я думал над этим, — ответил Андреев. — Но как знать, имеет ли этот парашютист отношение к Финке, есть ли у него передатчик? И наконец, вряд ли рискнет он пользоваться тем же кодом. — Словом, допросите Финке еще раз, — заключил разговор командир дивизии.Через час после того как Евгений Фомушкин нашел в старом блиндаже парашют, к переправе, где дежурило отделение саперов сержанта Рубайдуба, приехал командир взвода из подразделения дивизионной разведки лейтенант Сухов. Это малоразговорчивый высокий, плечистый человек, не вызывающий с первого взгляда к себе симпатии. Он только что получил приказание принять в свой взвод отделение сержанта Платонова. И не успел познакомиться со следопытами, как пришлось идти на это необыкновенное задание. Лейтенант взял с собой рядового Игната Шевченко. Убедившись из рассказа Фомушкина, что сброшен только один парашютист, Сухов приказал: — Вот вы с нами и пойдете, укажете, где парашют найден. Остальные не нужны. Прежде чем отправляться к старому блиндажу, Игнат Шевченко попросил саперов сделать на сырой земле четкие отпечатки своей обуви. — Чтобы не спутать следы парашютиста с вашими, — пояснил он и принялся сосредоточенно рассматривать отпечатки. Игнат явно важничал. Как-никак он здесь самый главный следопыт. И хотя даже для неопытного в следопытстве Фомушкина было ясно, что следы саперов очень легко отличить от всех других следов (отделение Рубайдуба только на прошлой неделе получило новые сапоги), Шевченко продолжал колдовать над следами. Наконец лейтенант Сухов заметил рисовку Игната и, погасив улыбку, сказал: — А ну, профессор, хватит! Шагом марш на мост! Игнату не по душе пришелся такой тон. Но ничего не поделаешь: командир приказывает. Для пущей важности он посмотрел еще отпечатки сапог лейтенанта и вдруг заторопился: — Теперь все. Пусть фашист попробует уйти. Но поспешил Игнат хвалиться. Сколько ни искали они следов у блиндажа, в котором был обнаружен парашют, — никаких результатов. Вокруг виднелись только знакомые отпечатки, оставленные ногами саперов, да еще видно было, что через поле прошла мимо блиндажа корова. Первым усомнился в коровьих следах Фомушкин: — Откуда могла взяться здесь корова? Может, на мясо кто погнал?.. Но почему не дорогой? Шевченко наклонился над следами коровьих копыт, подумал и вдруг заволновался: — Точно! Это его следы... — Парашютиста? — удивился Сухов. — Да! Корова-то на двух ногах не ходит? А здесь видно, что шаг не сдвоен, как это бывает у четвероногих. Старый прием... И еще такую деталь заметил Игнат: задняя часть отпечатка копыта была глубже передней, значит, копыто ступало задом наперед... Шевченко торопливо пошел по следу копыт. От него не отставали лейтенант Сухов и Евгений Фомушкин. Отпечатки привели в раскинувшийся на продолговатой, чуть заметной возвышенности лес. Разведчики окунулись в густую тень. Лес жил бурной утренней жизнью: на разные лады щелкала где-то варакуша; словно прерывистая струйка воды, звенела песня крапивника; соревновались клест и чиж; оглашая лес громкими, полными трелями, пересвистывались щур с иволгой. Веселый гомон птиц сливался в непередаваемую музыку — мирную и убаюкивающую. Но разведчикам было не до лесной музыки. Здесь земля густо покрыта опавшей хвоей, и трудно разобраться, куда вели следы. Игнат Шевченко напряженно смотрел вперед, стараясь издали заметить сбитую прошлогоднюю траву, потревоженные иглы хвои, густо устилавшие землю, надломленные на деревьях ветки, сдвинутый с места и раздавленный валежник. Так удавалось ему «держаться» за след, угадывать, куда пошел фашистский лазутчик. Они двигались километра два, пока путь их не перерезала глухая лесная дорога, наискосок идущая от линии фронта к большой магистрали. На обнаженной полосе песчаного грунта виднелись колеи, оставленные колесами редко проходивших автомашин и повозок. Шевченко внимательно осмотрел дорогу, но следа коровьих копыт на ней не обнаружил. — Куда они запропастились? — растерянно разводил руками Игнат. — След исчезнуть не может, — упрямо напомнил Фомушкин и, уловив на себе одобрительный взгляд лейтенанта Сухова, добавил: — Не улетел же фашист. Шевченко вспомнил, как учил его поступать в таком случае сержант Платонов: «Нужно обозначить место, где оборвался последний след». Так и сделал: рядом с еле заметным отпечатком копыта положил ветку и метр за метром начал осматривать землю, описывая вокруг ветки круги. Ему помогали Сухов и Фомушкин. Наконец Игнат заметил отпечаток подошвы обыкновенного солдатского сапога русского покроя. След вел от глубокой воронки к дороге. — Здесь фашист переобувался, — уверенно сказал Шевченко, разглядывая примятую траву, продолговатые лунки, выдавленные каблуками в пологих стенках воронки. Евгений Фомушкин проворно соскользнул к залитому водой дну. Засучив рукав, ощупал дно и вытащил затопленные ботинки. Теперь все окончательно убедились, что след, по которому они шли, действительно принадлежит человеку. Лейтенант Сухов и Фомушкин с любопытством осматривали ботинки, на подошве которых была приспособлена особая подбойка в форме коровьего копыта, обращенного передней частью назад. От воронки следы повели разведчиков к дороге. Они были расположены друг от друга дальше обычного. И это значило, что оставивший их человек бежал. — Спешил почему-то, — заключил Шевченко. Но на дороге след исчез. Шевченко снова начал осматривать каждую вмятину в песке. — Сел на попутную машину, — сказал наконец Игнат, показывая лейтенанту глубокий оттиск носка, сделанный фашистом в тот момент, когда он перенес всю тяжесть своего тела на одну ногу, а вторую занес на колесо грузовика. — Поэтому и бежал — спешил перехватить машину. — Но как мы теперь узнаем, в какую сторону поехала машина? — недоумевал Фомушкин. — Сейчас выясним, — деловито ответил Шевченко, на ходу осматривая промежуток между колеями, оставленными колесами грузовика. Пройдя метров сто, Шевченко остановился. — У этого ЗИСа картер протекает, — сказал он. — Видно по следам масла на дороге. Игнату, как и всем следопытам отделения Платонова, было известно, что, если у машины течет масло из картера или вода из радиатора, они оставляют на земле следы в виде продолговатых брызг, обращенных своим острием в сторону движения. — Признак ясный — машина поехала в сторону фронта, — пояснил Игнат. Следопыты быстрым шагом пошли вперед. Фомушкин хмурил свои белесые с золотинкой брови, глядел в землю и над чем-то сосредоточенно размышлял. Наконец он спросил: — Ну, а если бы картер машины не протекал?.. — Тогда другим бы способом узнали, куда уехал грузовик, — уверенно ответил Шевченко и с чувством собственного достоинства оглядел молодого сапера. — Смотри: вот свежая колея, оставленная колесами повозки. По отпечаткам подков лошади видно, что повозка шла к фронту. А вот здесь машина обгоняла повозку. Известно, что машины обгоняют только с левой стороны. Значит, и этот признак говорит о том, куда уехал ЗИС. — Почему вы утверждаете, что здесь прошел именно ЗИС? — спросил лейтенант Сухов. — Конечно, ЗИС-5! — воскликнул Шевченко, удивляясь, что лейтенанту-разведчику неизвестны такие простые вещи. — И нагружен этот ЗИС крепко. Смотрите, какой широкий след оставили колеса. А это истина: чем больше груз, тем шире расплющиваются скаты — шире колея. На одном скате — заплата. По ее следу в колее видно, что здесь прошел ЗИС. — Непонятно, — заметил Фомушкин. — Очень даже понятно! Расстояние от отпечатка к отпечатку заплаты равно окружности колеса. А разведчик должен знать длину окружности колес автомобилей разных марок. Евгений Фомушкин даже свистнул от удивления. — Вот бы мне научиться так! — со вздохом проговорил он. — А чего, просись у лейтенанта. Ты парень подходящий, для разведки подойдешь, — высказал свое мнение Шевченко. — Правда? — голос Фомушкина дрогнул. Он умоляюще посмотрел в хмурое лицо лейтенанта Сухова: — Товарищ лейтенант... Я же специально на фронт шел для того, чтобы разведчиком стать... — Потом. Сейчас не до этого, — недовольно ответил Сухов. Колея ЗИСа привела на огневые позиции артиллеристов. На небольшой поляне справа от дороги разведчики увидели машину. Четверо солдат снимали с нее последние ящики со снарядами и уносили их в глубину леса. Подошли к шоферу — невысокому солдату в зеленом замасленном комбинезоне. Он стоял у раскрытого капота и о чем-то думал. — Кого вы подвозили с этим рейсом? — спросил у шофера лейтенант Сухов. — Мало ли голосующих на дороге, — ответил шофер. — Последним подвозил какого-то старшину. Не доехав до перекрестка, он соскочил. А что такое? — Нужен нам этот старшина. Какой он из себя? Шофер недоуменно пожал плечами и ответил: — Обыкновенный. Заметил только, что повыше меня будет да вещмешок за спиной. От огневых позиций до перекрестка лесных дорог — с километр. Мимо проезжала грузовая машина, и лейтенант Сухов энергичным взмахом руки приказал шоферу затормозить. Быстро вскочили в пустой кузов, и машина понеслась. Издали увидели на перекрестке человека. Уверенно расставив ноги, он смотрел на машину, дожидаясь, пока она приблизится. Потом поднял руку. Шофер остановил машину, и разведчики соскочили на землю. Человек (на петлицах его шинели два красных прямоугольника) подошел к кабине и попросил шофера: — Подвези-ка, дружок! Шофер измерил майора недовольным взглядом, прибрал с сиденья вещмешок с сухим пайком и, открыв дверцу кабины, хриплым голосом ответил: — Садитесь. — Товарищ майор, минуточку, — обратился лейтенант Сухов. — Вы, случайно, не встречали здесь высокого старшину с вещевым мешком за спиной? Майор широко открытыми глазами посмотрел в лицо лейтенанта, подумал и ответил: — Нет, не встречал. Машина поехала дальше, а Сухов, Шевченко и Фомушкин пришли к тому месту, где, по словам шофера, привезшего снаряды, соскочил старшина. Игнат без труда отыскал знакомый след. Он вел в глубь леса. Опять пошли по следу. Снова приглядывались, где среди густого подлеска сдвинута прошлогодняя листва, рыжие иглы опавшей хвои, где раздавлен ногами сушняк. Пробирались вперед осторожно, держа наготове оружие. Неумелый шаг, лишнее движение могли выдать присутствие следопытов. Игнат Шевченко напряженно всматривался в лесную чащу, прислушивался, старался издали увидеть, где обрывались следы. Затем крадущейся походкой пробирался дальше и снова смотрел вперед. Сухов и Фомушкин шли также осторожно, шагах в десяти сзади, готовые в любой миг пустить в ход оружие. Наконец дошли до такого места, где след исчез. Как ни смотрели разведчики себе под ноги, нигде ни намека на то, что здесь прошел человек. Возвратились чуть назад, к тому месту, где был замечен на голом клочке земли четкий отпечаток сапога «старшины». Фомушкин, шедший несколько в стороне, вдруг увидел точно такой же отпечаток под кустом орешника, потом второй. Только носки этих отпечатков были направлены в противоположную сторону — к дороге. Шевченко осмотрел следы, прошелся немного вдоль них и с недоумением развел руками: — Вернулся назад. Что это значит? — Нужно выяснить, зачем этот парашютист приходил сюда, — сказал лейтенант Сухов. Следопыты начали осматривать каждый куст, каждое дерево. Сухов первым обратил внимание, что со ствола одной приметной сосны осыпалась старая кора. Земля под сосной была вытоптана. И тут же острый глаз Фомушкина разглядел среди ветвей какой-то сверток. — Снять, только осторожно, — приказал лейтенант. Через минуту сверток был на земле. Это оказалась обыкновенная солдатская плащ-палатка, в которой завернут вещмешок. А в вещмешке — портативный радиопередатчик, консервы, галеты, шоколад, ракетница, ракеты, батарейки к электрическому фонарю и всякая другая мелочь. Среди этой мелочи увидели две пары петлиц — одна с шинели, другая с гимнастерки. На петлицах — по четыре треугольника. Они говорили о том, что носивший их имел звание старшины. — Только что спороты, — заключил Сухов. — И боюсь, что майор, которого мы встретили на перекрестке... Сухов не договорил. Его перебил Шевченко: — Наверняка это он! Не зря так глазами сверкнул, когда про старшину у него спросили... — Дурака сваляли, а не спросили! — зло проговорил Сухов. — А ну, бегом к дороге! Нужно посмотреть следы майора. — Может, засаду устроить? — предложил Шевченко. — Так он и вернется сюда. Видел же, что мы на след напали, — ответил лейтенант. — А если то был не он?.. — Сейчас проверим. Вскоре разведчики были на перекрестке, у того места, где майор садился в машину. — Эх, тогда бы посмотреть на эти следы! — сокрушался Шевченко. — В руках держали «майора» и упустили...
На столе перед генералом Чернядьевым — листы бумаги с дополнительными показаниями раненого лейтенанта Ганса Финке. Финке утверждает, что, кроме его группы, которая схвачена, никого из немецких разведчиков в расположении наших войск нет и до его возвращения в Борок быть не должно. Финке оговаривается: он не отвечает за войсковых разведчиков. Штаб любого немецкого полка, любой дивизии может забросить их самостоятельно. «Верить ли словам этого матерого фашиста? — думает генерал Чернядьев и морщит свой высокий лоб. — Как узнать — одного ли поля ягода с ним этот «майор», которого выследила и упустила группа лейтенанта Сухова? Жалко, что «майор» оставил в лесу передатчик. Теперь радиоразведка ничего не даст...» Было над чем задуматься генералу. След «майора» безнадежно затерялся на фронтовых дорогах. Никакие меры — прочесывание леса, выставление дополнительных контрольно-пропускных пунктов — результатов не дали. Ясно одно — в наших тылах орудует враг, враг хитрый, опытный, коварный. Чернядьев развертывает на столе карту, закрывая листы с показаниями пленного немецкого лейтенанта, и пристально смотрит в нее. Перед глазами короткая надпись: «Хут. Борок» и несколько черных квадратиков. Здесь находится база фашистских разведчиков, отсюда направляются их действия. Генерал тянется рукой к телефонной трубке и вызывает начальника разведки майора Андреева. — Новостей никаких?.. — спрашивает Чернядьев. — Никаких. — Значит, нужно ускорить намеченный удар. И бдительность, бдительность, бдительность. Особенно в тыловых подразделениях... Следопытов перевели из полка? Хорошо. Платонова вызовите ко мне.
...Иван Платонов втиснулся в узкую дверь генеральской землянки и, щурясь от яркого электрического света, доложил: — Прибыл по вашему вызову. Генерал внимательно посмотрел в широкое, курносое лицо сержанта с острыми живыми глазами, не торопясь, поднялся из-за стола, протянул ему руку. — Как дела, следопыт? Платонов, вытянувшись в струну, молчал. — Что молчите? Выдержав пристальный взгляд командира дивизии, Иван ответил: — Обидно, товарищ генерал, что упустили «майора». — Согласен, очень обидно. Но, думаю, дело поправимо. — Как вас понимать, товарищ генерал? — А понимать так: нужно рубануть под корень эту нечисть. Вы к переходу через линию фронта готовитесь? — Не слезаю с наблюдательного пункта. — Вот-вот. Ищите место, где можно совершенно незамеченными пробраться к немцам в тыл. Платонов приготовился выслушать задачу. Но генерал медлил и, казалось, собирался затянуть беседу. Сержант насторожился, стараясь уловить главное в разговоре. И здесь, как всегда, у Платонова сказывалась привычка разведчика — видеть и слышать все, но мысли приковывать к самому нужному. Однако сейчас все, о чем говорил генерал, казалось нужным и главным. — Я о рейде в тыл говорю, — продолжал генерал. — Лейтенант Финке сообщил, что из Германии прибыла на наш фронт группа только что подготовленных лазутчиков. Сейчас она размещена на хуторе Борок. Ждет заброски в наш тыл, тренируется в действиях на лесисто-болотистой местности. И еще одно: немецкая разведслужба узнала о наших следопытах. Враг принимает контрмеры. Свидетельство этому — копыта непойманного гитлеровца — «майора». Платонов слушал и внимательно смотрел в разостланную на столе карту, где среди лесных массивов был обозначен крохотный хутор Борок. Перехватив взгляд сержанта, генерал сказал: — Надо разгромить это гнездо. — Разрешите готовить людей к операции? — спросил Платонов. — Не торопитесь, выслушайте, — остановил сержанта комдив. — Одному вашему отделению с такой задачей не справиться. А большому отряду перейти линию фронта трудно. Придется пробираться к фашистам в тыл хотя бы двумя группами или в разное время. В тылу предстоит попутно решить и другую задачу. Стало известно, что на участке немецкой обороны перед нашей дивизией гитлеровцы вот-вот введут свежие силы. Генерал имел в виду показания того же пленного фашиста. Финке рассказал, что перед заброской в наш тыл по пути на аэродром, в населенном пункте Лубково, он встретился со знакомым унтер-офицером. Тот сообщил, что в районе Лубково до сих пор находилась в резерве часть. На этой неделе она тронется к линии фронта. Зная, что для перехода к передовым позициям гитлеровцев потребуется не меньше трех-четырех суток, так как они могут идти только ночью, а днем будут прятаться в лесу от советской авиации, командир дивизии рассчитывал, что нашим разведчикам удастся застать врага на дорогах, уточнить самый факт появления новых сил и примерно определить их численность. — И если, — промолвил генерал, — вам удастся не только разгромить Борок, но и понаблюдать за дорогами или, еще лучше, привести из тыла «языка», сделаете большое дело... Телефонный звонок, которого комдив, казалось, ждал, не дал ему завершить разговор. Чернядьев взял трубку. — Сейчас же выезжаю, — сказал он в микрофон. Затем повернулся к Платонову: — Пока нашу беседу прервем. Завтра в одиннадцать приходите ко мне со своими соображениями. Значит, ближайшая ваша задача — подыскать подходящее место для перехода линии фронта.
ЗВЕРИНАЯ ТРОПА
Стояли теплые солнечные дни. Приильменские леса одевались в буйную зелень. Выветрились запахи прелой листвы и подсыхающего мха. На полянах, просеках—там, где обилие тепла и света, пестрели первоцветы. В такое время не хочется думать о войне, о том, что завтра-послезавтра предстоит опасный рейд в тыл врага. Тем не менее думать приходится, и не только думать, но и напрягать все свое внимание, все силы, чтобы найти слабо прикрытое место в линии обороны противника. Иван Платонов сидит на правофланговом наблюдательном пункте артиллеристов. НП устроен на высокой сосне, ничем не приметной в гуще леса, который спускается по крутому пригорку вниз к заболоченному озерку. Сквозь вершины впереди стоящих деревьев Платонов видит густое мелколесье по ту сторону озера, а за мелколесьем — широко раскинувшееся непроходимое болото; слева от болота, среди кустов, тянется немецкая траншея. Под ногами у Ивана — дощатый настил, закрепленный на сучьях. На железном штыре, ввинченном в ствол сосны, как и на сотнях других наблюдательных пунктов, прочно сидит стереотруба. Двумя стеклянными глазами она смотрит из-за ствола над вершинами деревьев. Платонов не отрывается от окуляров стереотрубы. Уже третий пункт сменил в эти дни Платонов, однако найти незащищенный или слабо прикрытый участок в обороне гитлеровцев пока не удавалось. Кончилась весенняя распутица, вражеские траншеи и дзоты, проволочные заграждения и минные поля опять замкнулись в сплошную цепь. Крепко сторожили фашисты свою оборону, и в этом им помогала местность. На нашей стороне было куда больше болот и мелких, заросших камышом озер, где ни дзота не построишь, ни боевого охранения не выставишь, но по которым без особого риска можно перейти линию фронта. Не зря генерал Чернядьев постоянно напоминал командирам о защите флангов и организации наблюдения. Второе утро встречает Иван Платонов на этой сосне. Чутье разведчика и охотника подсказывает ему, что он близок к цели. Небольшое озеро, в которое с двух сторон упирались фланги стрелковых полков дивизии генерала Чернядьева, густые заросли на ничейной полосе между этим озером и болотом, вклинившимся в линию обороны гитлеровцев, наводили на мысль, что здесь фашистам трудно усмотреть за каждым клочком местности. Об этом уже дважды напоминал сержанту майор Андреев — начальник дивизионной разведки. Платонов напряженно всматривается в кудрявую зелень непролазного кустарника за озером. Ни одна ветка не шелохнется там. И так второй день — ни малейшего признака, что между озером и болотом есть враг. Но кто знает, как близко примыкают к болоту и кустарнику траншея, виднеющаяся чуть дальше и левее кустарника? Сержант поднимает к глазам руку с часами: ровно семь. До одиннадцати, когда ему нужно быть у генерала, целых четыре часа. За это время можно многое сделать. Уступив место у стереотрубы артиллерийскому наблюдателю, Платонов, держась за сучья, спускается к высокой лестнице, закрепленной с тыльной стороны дерева, и по ней быстро сбегает вниз. Под сосной сидят Петр Скиба и Игнат Шевченко. Не выпуская из рук автомата и прислонившись спиной к стволу дерева, Шевченко дремлет. Скиба читает томик стихов Гейне на немецком языке. Петр Скиба — до войны студент Киевского института иностранных языков — нашел применение своей будущей гражданской профессии и на фронте. Знание немецкого языка позволяет ему занимать особое место среди разведчиков, несмотря на его чрезмерную осторожность, которую кое-кто расценивает как трусоватость. Однажды — это было еще до прихода Платонова в полк — Скиба по приказанию командира взвода на рассвете выполз за передний край. Там он вырыл себе глубокий окоп и днем должен был наблюдать за дзотом, в котором разведчики собирались захватить «языка». Наступил вечер, а Скиба не возвращался. Товарищи забеспокоились. Еще немного подождали и пошли на поиски. Нашли Скибу на дне окопа целым и невредимым. Оказалось, недалеко от окопа самолет сбросил бомбу и она не взорвалась. Подозревая, что бомба замедленного действия, Петр решил переждать в окопе, пока она не сработает. А бомба так и не взорвалась... Платонову почему-то вспомнился сейчас этот случай, о котором слышал от разведчиков, и он на миг заколебался: «Стоит ли брать Скибу?» Но выползать за передний край только с одним Шевченко было опасно. И сержант коротко приказал: — Пошли. Три разведчика спустились по пригорку к небольшому озеру, покрытому зарослями. Потом, пригибаясь в мелком кустарнике, добрались до дзота, который был соединен узким и мелким ходом сообщения с такой же мелкой траншеей. Земля здесь заболочена, и поэтому дзот возвышается над поверхностью. Это замаскированный зеленью большой квадратный сруб из толстых бревен, а в нем сруб поменьше; между простенками срубов — слой земли, в передней и двух боковых стенках — амбразуры. Бруствер траншеи также выложен из толстых сосновых стволов. Нелегко приходилось в этом гиблом месте солдатам. В задней стенке сруба на уровне бруствера хода сообщения чернела квадратная дыра — выход из дзота. Из нее, нагибаясь, выбрался солдат и, удивленный, настороженно спросил у разведчиков: — Опять саперы? — Не узнаешь? — ответил Шевченко на вопрос вопросом. Лицо солдата расплылось в улыбке: — А-а, узнаю: глаза и уши! Может, огоньком прикрыть? Это мы можем. У нас пулеметы наготове. — Вы старший? — спросил у солдата Платонов. — Нет, сейчас позову. — И солдат крикнул: — Товарищ сержант! Из дзота выбрался худощавый сержант, с серым, усталым лицом. — Мы полазим за передним краем, не подстрелите. Дайте огонька левее вон той березки. Только не правее. Выслушав Платонова, сержант в знак согласия кивнул головой и, не проронив ни слова, направился в дзот....Передний край обороны остался позади. Платонов, Шевченко и Скиба, держа наготове автоматы, осторожно пробирались вперед. Справа от них тихо шелестело камышом озеро. Но вот и озеро осталось позади. Начался густой кустарник. Сквозь него можно пробираться только ползком. Разведчики поползли. Земля под кустарником голая и сырая, в нос бил запах плесени. Ни один луч солнца не мог проникнуть сюда и развеять полумрак. Ползли минут десять, прислушивались. Нигде ни звука, только поблизости тенькала пеночка. Наконец кустарник начал редеть. В просветах между ветками сверкнула гладь совсем небольшого озерка. Платонов удивился: на карте это озерко не обозначено. Неожиданно выползли на тропу. Она наискосок вела к озеру. Чуть впереди виднелась вторая тропа. Платонов догадался: это звериные тропы. Человеку не пройти по ним в рост — на пути встают заросли, ветки, переплетающиеся низко над землей, хлещут в лицо. Бывалому охотнику было ясно: раз звери ходили к этому озеру на водопой, значит, оно не пересыхает в жару и вода в нем не стоячая. Иван вспомнил, как отец когда-то передавал ему свой опыт охотника. Старый таежный волк учил сына так ходить по лесу, чтобы всегда знать, где находишься. Это называлось на языке охотников «ходить на привязи». Если охотник сбивался с пути, говорили, что он «оторвался от привязи». «Не знаком лес — не торопись, — поучал отец, — пройди немного, оглянись назад, заприметь сваленное дерево, вывороченный корень или что-либо другое. Запоминай, как выглядит твоя дорога, — пригодится на обратном пути. Заблудился — ищи муравейник под деревом. Он всегда будет с южной стороны. Посмотри на ствол дерева — с северной стороны его облепил мох. Теперь и дорогу нетрудно разыскать... Не каждой тропе верь, — предупреждал старый охотник. — Бьет ветка в лицо, в грудь — уходи с тропы. Это дорога зверей, к жилью человека она не приведет...» «Да, такая дорожка к жилью человека не приведет», — думал Платонов, рассматривая найденную тропу. Пройдя вдоль самого берега озера, она запетляла среди кустов и деревьев дальше. На этой тропе, еще не просохшей под сплошным шатром зелени, у самого озера Платонов заметил свежие следы лап волка. В том, что следы оставлены совсем недавно, Иван не сомневался. Он видел, что не успела даже подняться примятая лапами зверя молодая травинка, не успели завянуть листья на сломанном стебельке бурьяна. — Вот так находка! — изумленно шепнул сержант, указывая Шевченко и Скибе на тропу. — Чуть бы пораньше — волка б вспугнули. Изумляться было нечему. Война, пришедшая в старорусские и новгородские леса, разогнала зверей, заставила их переселиться подальше от линии фронта, забраться в непролазные чащобы, где их не пугают рвущие воздух взрывы, где не несет опасным запахом пороха, гари и человека. А здесь волк бродил почти возле передовой. И нигде ни одного отпечатка ноги человека. Значит, гитлеровцы не знают про озеро, иначе брали бы из него воду. Это устраивало Платонова. Разведчики пошли вдоль тропы. Скиба и Шевченко всматривались в заросли, прислушивались, а сержант не спускал глаз с волчьего следа. Отпечатки волчьих лап были еле различимы. По расстоянию между ними Платонов видел, что волк бежал равномерной тихой трусцой. Значит, зверя ничто не беспокоило. Но вскоре следы стали более частыми и четкими. Тут волк шел медленнее, осторожнее. Зверь, видимо, чуял опасность. Насторожились и разведчики. А немного дальше Иван увидел примятую траву и клочки шерсти, прилипшие к ней. Здесь волк лежал. Разведчики остановились. Их слуха коснулся стук топора; он долетал слева. Залегли. Платонов движением руки приказал Скибе и Шевченко не двигаться с места, а сам осторожно пополз влево. Ни одна ветка не шелохнулась над разведчиком, ни один сучок не треснул под ним. Вскоре кустарник поредел, и Платонов увидел в прогалине небольшую возвышенность. «Дзот», — догадался он и тут же заметил гитлеровца, который на корточках сидел за дзотом и что-то тесал топором. Платонов еще немного прополз вперед. Сквозь просветы в кустарнике заметил справа далеко раскинувшуюся болотную равнину. Слева виднелся знакомый лес. Где-то там — наблюдательный пункт артиллеристов. Лес спадал по пригорку вниз, к нашему переднему краю. Теперь Платонову было ясно: до болота можно пробраться незамеченными. А если ослепить этот дзот, то проскочить за линию фронта нетрудно. Иван взглянул на часы. Десять утра. Через час нужно быть у генерала...
В землянке комдива тесно. Здесь кроме генерала Чернядьева собрались начальник штаба — седой, краснолицый полковник с косматыми нахмуренными бровями, майор Андреев — начальник разведки, лейтенант Сухов и сержант Платонов. Платонову никогда не приходилось докладывать в присутствии стольких начальников, и он, когда закончил говорить, с облегчением вздохнул и вытер со лба пот. Все молчали, раздумывая над тем, что сообщил сержант. Наконец генерал Чернядьев нарушил тишину: — Интересно! Мы еще раз убеждаемся, как полезно уметь разведчику читать написанное на земле. — Генерал провел ладонью по стриженой голове, и его худощавое, смуглое лицо посветлело. Он поднялся за своим небольшим столом, и здесь, в тесной землянке, особенно был заметен его высокий рост. — Итак, — продолжал комдив, — у нас имеются два варианта перехода разведчиками линии фронта. Вариант лейтенанта Сухова потребует сильного огневого обеспечения и огневой маскировки. Вариант Платонова — небольшой артиллерийской обработки участка левее обнаруженного им озерка. Час назад мы утвердили бы оба варианта. Сейчас нужно выбрать один, так как в тыл к немцам через линию фронта пойдет только группа лейтенанта Сухова. Майор Андреев удивленно взвел брови. Генерал Чернядьев поднял руку, предупреждая вопрос начальника разведки. — Вторая группа — сержанта Платонова — будет сброшена на парашютах. На мгновение в землянке воцарилось молчание. Чернядьев хитроватым взглядом окинул присутствующих и пояснил: — Командующий армией предоставляет нам такую возможность. Сержант Платонов со своими следопытами и радиостанцией выбросится сегодня ночью в районе деревни Лубково — это недалеко от хутора Борок, — посмотрит там дорогу на Замочье и выяснит, действительно ли идут к линии фронта свежие силы гитлеровцев. Потом установит наблюдение за хутором Борок и будет ждать подхода разведчиков лейтенанта Сухова. — Товарищ Платонов, — обратился генерал к сержанту, — кто, кроме вас, может показать лейтенанту Сухову разведанный вами проход? Платонов задумался: «Кого лучше назвать — Шевченко или Скибу?» — и тут же твердо ответил: — Рядовой Шевченко. — Вот и хорошо. Он познакомит лейтенанта с этим кустарником у озерка, а затем пойдет с его группой. Вам, майор Андреев, — комдив повернул голову к начальнику разведки, — срочно уточнить место и время встречи Сухова и Платонова за линией фронта, обеспечить обе группы рациями, кодами и всем другим необходимым. Группа Сухова должна закончить подготовку к завтрашней ночи...
Отделение разведчиков-следопытов, как было приказано, переселилось в старый сосновый бор, где размещался штаб дивизии. В тот же день на новом месте выкопали и накрыли бревнами просторную землянку. Уходя из полка, солдат Атаев не успел проститься со своим земляком ефрейтором Укиновым — наводчиком из полковой батареи. Атаеву очень хотелось перед уходом в тыл противника перекинуться с другом несколькими словами, сообщить о полученном из дому письме и, конечно, похвалиться своим перемещением в разведку дивизии. Перед вечером дежурный телефонист, расположившийся с аппаратом в землянке разведчиков, отлучаясь, чтобы подвесить упавшую на дорогу линию, попросил Атаева минуту посидеть у телефона. Атаев обрадовался такому поручению и, как только остался один в землянке, тут же позвонил в полк. Вскоре его соединили с батареей, где служил Укинов. — Заходи в гости, — послышался в трубке голос земляка. — Не могу. В тыл собираюсь. — Будь другом. Я вчера по шоссе стрелял. Посмотри, что там мои снаряды наделали. — Не до этого! — важно сказал Атаев. — Дела посерьезнее есть. — Интересные? — Очень! Возможно, накроем в одном хуторке птичек, которые к нам залетают, — прихвастнул Атаев, вспомнив, что сержант Платонов уже два дня изучает на карте район, в котором находится хутор Борок. Не подозревал Атаев, что в это время один из разведчиков группы капитана Маргера сидел на дне неглубокого, заросшего кустарником оврага и, включившись в телефонную линию, подслушивал его разговор...
СОБЫТИЯ ОДНОЙ НОЧИ
Возле небольшой, сожженной дотла деревушки Сущево, близ дороги, в старом сосновом лесу расположился медсанбат дивизии. Медсанбат простоял здесь ползимы и весну и успел обжиться. Были построены просторные бревенчатые срубы, в которых размещались сортировочное, перевязочное, операционно-хирургическое отделения, палаты для раненых, общежития медперсонала. К медсанбату был проложен добротный настил, на который указывала приметная стрела с красным крестом и надписью «МСБ», установленная на повороте с грейдерной дороги. Когда над лесом опустилась ночь, с дороги свернул на настил грузовик, в кузове которого лежали раненые и сидел, примостившись у заднего борта, подполковник-попутчик. У шлагбаума машину встретил офицер — дежурный по медсанбату. Лицо его в темноте разглядеть было трудно. Только по голосу — звонкому, с еле уловимой басинкой — можно было догадаться, что офицер молодой. Выяснив, сколько раненых, откуда они, дежурный попросил подполковника оставить машину и пропустил ее за шлагбаум к сортировочной. Окинув высокую, узкогрудую фигуру приезжего внимательным взглядом, он представился: — Старший лейтенант медицинской службы Скворцов. Вы, кажется, без направления? — Да, я здоров, — засмеялся подполковник. — По делам службы к вам. — Разрешите документы. — Прошу. Старший лейтенант при свете электрического фонаря рассматривал удостоверение личности и командировочное предписание, из которых было видно, что подполковник Ерофеев, работник штаба фронта, направляется в войска Н-ской армии для выполнения служебного задания. — Чем могу помочь? — спросил Скворцов, возвращая подполковнику документы. — Проводите к вашему начальству. Впрочем, я не ошибся? Раненый пленный у вас лежит? — А-а, значит, вы по этому делу? — Да, должен уточнить кое-какие его показания. Надеюсь, он в таком состоянии, что разговаривать с ним можно? — Чувствует себя после операции хорошо. Перекидываясь словами, они шли в глубь леса среди маячивших темными массивами срубов. Возле одного сруба Скворцов остановился: — В этом домике пленный. — А почему часового не видно? — удивился подполковник. — Зачем он? У пленного перебита нога, на одной не ускачет. В палате дежурит санитар, оружие у него есть. Подполковник вдруг вспылил: — Это безобразие! Забываете, что находитесь не в тылу, а на фронте! Немедленно выставьте часового, и чтобы он караулил по всем правилам. Потом спросил: — Из штаба дивизии никого здесь нет? — Были днем, уехали. — Да-а, порядочки! — сердился подполковник. Из темноты вынырнула фигура человека. — В чем дело? — спросил он. — Кто здесь? Узнав в подошедшем командира медсанбата, дежурный доложил: — Товарищ майор медицинской службы, приехал подполковник из штаба фронта. Пленным интересуется. — Мне нужно пяток минут поговорить с ним, — подтвердил подполковник. — А потом попрошу вас подбросить меня в штаб дивизии или связать по телефону с генералом Чернядьевым. И о часовом позаботьтесь. Командир медсанбата молча проверил документы прибывшего, затем, скользнув по его лицу лучом карманного фонаря, сказал: — Хорошо. Можете пройти к пленному. Поговорите и заходите в штаб. Там решим, как быть. Старший лейтенант медслужбы Скворцов ввел подполковника в бревенчатый домик. На небольшой железной печурке стояла лампа, бросая тусклый свет на нары, застланные поверх толстого слоя мелких еловых веток простынями. В углу нар, накрывшись одеялом, спал человек. У печурки сидел пожилой солдат-санитар и строгал перочинным ножом палку. — Оставьте нас наедине, — небрежно бросил подполковник. Дежурный кивнул санитару головой в сторону дверей. Тот взял винтовку, стоявшую у печки, и вышел. — Я буду по соседству, — сказал Скворцов подполковнику и тоже хлопнул дверью.Майор медицинской службы Гуляев зашел в свой кабинет — небольшую комнату в таком же бревенчатом доме — и в раздумье остановился у стола. Его немолодое усталое лицо, круглое, с чуть обвисшими щеками и темными кругами под глазами, было нахмуренным. Какое-то смутное беспокойство тревожило Гуляева. Ему казалось, что он должен был что-то сделать сейчас — важное и неотложное, но не сделал. Мысли навязчиво блуждали вокруг прибывшего подполковника. «Что за тон разговора? — недоумевал Гуляев. — Покрикивает даже...» Прошло еще пять-семь минут. Чувство беспокойства не оставляло Гуляева. Наконец он собрался с мыслями: «Почему, собственно, я должен решать, кто может, а кто не может допрашивать пленного? Это же непорядок! Мое дело обеспечить лечение. А все прочее...» — И майор решительно снял телефонную трубку. Через минуту он докладывал начальнику штаба дивизии. В ответ услышал резкое и повелительное: — Арестовать немедленно!.. Майор медслужбы Гуляев бросился к двери. Подсвечивая фонариком, торопливо бежал по знакомой дорожке. Вот и сруб, в котором лежит раненый немецкий лейтенант. Вокруг — ни души. Только чуть в стороне, где располагается транспортный взвод, слышится чья-то песня. Вдруг из дверей бревенчатого дома навстречу Гуляеву вырвался солдат-санитар. — Сюда! Сюда! — задыхаясь, крикнул он. — Убил, убил его!.. Гуляев резко распахнул дверь и остановился на пороге. Подполковника в комнате не было. Лейтенант Ганс Финке хрипел. На его губах пузырилась красная пена. Беспомощно хватаясь руками за грудь, в которой торчал глубоко вонзенный нож, Финке шептал: — Герлиц... Карл Герлиц... убийца... Прибежал дежурный Скворцов. — Объявите тревогу! — приказал ему Гуляев. — Нужно поймать этого мерзавца.
Кажется, что самолет стоит на месте. Только изредка чуть встряхнет его, точно на выбоине, и опять монотонно жужжат моторы, опять состояние покоя и неподвижности. Но Платонов, прильнув к окошку кабины, видит своим острым глазом: далеко внизу, где утонула в ночном сумраке земля, проплывает, тускло поблескивая, река Пола. Заметно и приближение линии фронта. Впереди, куда держит курс самолет, то там, то здесь раздвигают темноту красные всполохи — это бьют батареи. Откуда-то из глубины, точно из недр самой земли, время от времени вырываются белые и красные светлячки и, описывая в ночном небе кривую, исчезают. Иногда заметна вспышка в том месте, куда падает светлячок, и кажется, что он разбивается о что-то твердое, разбрызгивая сотни искр. Это трассирующие снаряды. С высоты чудится, что летят они очень медленно и нисколько не опасны. Платонов отрывается от окошка и окидывает внимательным взглядом солдат своего отделения. Даже при тусклом освещении заметна сосредоточенность на их лицах: всем им, кроме шустрого молодого паренька Курочкина, приданного отделению радиста, впервые приходится выбрасываться в тылу врага на парашютах. Вспоминается минувший день — хлопотливый и напряженный. Разведчиков тщательно инструктировали, как пользоваться парашютом, потом предложили сделать по одному пробному прыжку. Петр Скиба отказался! «Я лишний раз рисковать не хочу», — заявил он. Разведчики подсмеивались над Петром, а новичок Евгений Фомушкин, которого только вчера перевели в отделение из саперной роты по ходатайству лейтенанта Сухова, начал упрашивать инструктировавшего их капитана разрешить ему прыгнуть дважды — за себя и за Скибу. Капитан отказал, а Скибу несколько раз заставил повторить, как и когда дергать за вытяжное кольцо парашюта, как разворачиваться по ветру, держать ноги при толчке о землю... Линия фронта осталась позади. Внизу — непроглядная темь. Только изредка блеснет озерко или тонкая жилка лесной речушки. Наконец самолет лег на крыло, начал описывать круг. Казалось, что далекая земля вдруг вздыбилась вверх. Платонов заметил знакомые очертания, точно такие же, как на карте, двух лежащих рядом озер. Справа от них должна находиться деревня Лубково, а слева, в трех километрах, — огромная лесная порубка, где предстоит приземлиться разведчикам. Из кабины экипажа вышел летчик-капитан, высокий, полнощекий, и хрипловатым голосом сказал: — Ну, братва, приготовиться! Только без спешки рвать кольца! Открыл дверь, и в самолет пахнула свежая струя воздуха. Иван Платонов почувствовал, что у него что-то холодное, как этот воздух, шевельнулось в груди. В тревоге сжалось сердце. В коленках и в руках появилась противная слабость. «Страшно, — подумал Иван. — Легче на медведя с ножом идти, чем бросаться в эту прорву...» Поглядел на разведчиков. В телогрейках, с пристегнутыми парашютами, они казались в полумраке кабины неуклюжими, даже беспомощными. Заметил, как побледнел Петр Скиба.Перевел взгляд на Атаева, Зубарева, Савельева; понял, что и они чувствуют себя точно так же, как он. Только веселыми огоньками горят глаза у Фомушкина и у радиста Курочкина. «Юнцы, этим бы побольше приключений», — мелькнула мысль. Платонов поднялся и точно стряхнул с себя неприятное, давящее чувство. Решительный и уверенный вид сержанта придал бодрости другим разведчикам. Только у Скибы по-прежнему не сходила бледность с лица. — Пора! — крикнул капитан. Платонов подошел к открытой двери, положил руку на вытяжное кольцо парашюта. Хотел что-то сказать разведчикам, но побоялся голосом выдать свое волнение. Во время тренировочного прыжка днем тоже было страшновато, но не так перехватывало дыхание, не сжималось сердце. Глубоко вдохнув в себя воздух, точно перед броском в воду, Иван бросился грудью вперед. Вторым шагнул за борт самолета радист Курочкин, за ним Савельев, Атаев, Зубарев. Настал черед Петра Скибы. Он решительно подошел к распахнутой двери и вдруг остановился. Евгений Фомушкин, которому не терпелось броситься вслед за товарищами, легонько подтолкнул его в спину. Скиба заупрямился, резко повернулся и ухватился одной рукой за обшивку самолета, а второй за грудь Евгения. Но, потеряв равновесие, полетел за борт, успев сильно дернуть за вытяжное кольцо парашюта Фомушкина. Евгений растерянно оглянулся на капитана-летчика и, прижав к груди полотно своего парашюта, которое, точно пух из распоротой подушки, начало вылезать из чехла, бросился в распахнутый люк. Капитан широко раскрытыми глазами смотрел в опустевший проем двери. И уже ни к чему крикнул Фомушкину: — Разобьешься, дурак!.. Потом бросился на пол кабины и высунул голову сквозь дверь наружу. Тут же увидел такое, от чего похолодел: нераскрывшийся парашют Фомушкина верхним краем зацепился за хвостовое оперение, точно прикипел к нему. Фомушкин болтался где-то сзади самолета на вытянувшихся стропах. Капитан вскочил на ноги и кинулся за перегородку — в кабину, где сидел экипаж... Правый, левый крутые развороты, еще и еще. Капитан снова лежит на нижней обшивке и смотрит в раскрытую дверь. Полотно парашюта Фомушкина отодвинулось чуть дальше к краю хвостовой плоскости, но расставаться с самолетом упорно не хотело. Машина опять легла на крыло, потом выровнялась и рванулась вниз. Казалось, неуклюжее тело большого транспортного самолета сейчас разломится на части. Когда капитан опять поглядел в открытую дверь, то увидел, что парашюта Фомушкина на хвосте самолета нет.
Платонов приземлился среди большой поляны, покрытой редким мелколесьем. Натянул нижние стропы, погасил упавший на кусты парашют и торопливо отстегнул лямки. Тут же увидел, как недалеко к земле скользнул еще один парашютист. Подбежал к нему и узнал Атаева. Мелколесье мешало оглядеться вокруг. Минут через десять, как было условлено, Платонов два раза закричал филином. Один за другим собирались разведчики. Последним пришел Петр Скиба — в разорванной телогрейке, с поцарапанным лицом. Из-за того, что он промедлил с прыжком, парашют опустил его на опушку леса и куполом прочно зацепился за ветки сосны. Петр, подтянувшись по скрученным стропам к стволу дерева, выбрался из лямок и спустился на землю. Не явился на зов один Фомушкин. После того как закопали парашюты, его искали до утра, но тщетно.
В эту ночь произошли еще два важных события. Было перехвачено радиодонесение. Оказывается, код, взятый у лейтенанта Ганса Финке, не устарел. В донесении говорилось: «Связь с Финке и Герлицем установить не удалось. Наверно, схвачены. Возможно, завтра ночью через линию фронта попытается проникнуть отряд советских разведчиков. Об их задаче русские по телефону говорили так: «Накроем в одном хуторочке птичек, которые к нам залетают». Речь идет о хуторе Борок. Примите меры. Операция подготовлена. Сегодня будет осуществлена. Маргер». Стояла глухая ночь, когда генералу Чернядьеву принесли это донесение. Генерал не спал. На вошедшего в землянку майора Андреева даже не поднял глаз. Это значило, что комдив сердит. Еще бы: стало известно, что обер-лейтенант Герлиц побывал в медсанбате и убил пленного лейтенанта Финке. — Диверсии не допустим, — уверенно сказал Андреев, стараясь как-то смягчить неприятное впечатление, которое произвела на Чернядьева радиотелеграмма, свидетельствовавшая о том, что в тылу дивизии появилась новая группа диверсантов. — На всех объектах — усиленные караулы, люди проинструктированы. Наготове дежурные подразделения. — Пока что, товарищ майор, фашисты оставляют вас с носом, — хмуро промолвил Чернядьев. — Поймали эту группу Финке и успокоились. Болтунов развелось полно. Найдите, кто проболтался по телефону об операции Сухова. Наказать строжайшим образом... Как Платонов? — Выбросился. Утром ждем его позывных. — При первой же возможности сообщите ему, что гитлеровцы знают о готовящемся нападении на Борок. Пусть к хутору не приближаются и ждут наших указаний. Операцию лейтенанта Сухова пока отложить. — Слушаюсь. — А насчет диверсии не успокаивайте себя. Как видите, лейтенант Финке правду сказал не до конца... Герлиц, по-видимому «майор», которого вспугнул Сухов, остался без рации, вот и не может связаться с этим Маргером. Но кто он — Маргер? Может, группа из Борка уже начала действовать? — Трудно сказать, — ответил майор Андреев. — Но работают оперативно. Герлиц явился в санбат уже не «майором», а «подполковником». — Ладно, не задерживайтесь, — поторопил его генерал. — Пока есть время, обзвоните тылы и переправы. Пусть не зевают. Но звонить уже не было необходимости.
Дмитрий Кедров — тот самый солдат, которого следопыты вырвали из рук фашистских разведчиков, — прохаживался вдоль штабелей ящиков, прикрытых густыми еловыми ветками. Рука твердо лежала на новеньком автомате. До предела напряжен слух, обострено зрение. Непривычна для Кедрова служба в тылу после четырехмесячного пребывания в траншеях переднего края. Чудится ему, что тишина таит в себе необъяснимую опасность. Четыре дня взвод, где служит Дмитрий Кедров, находится в дивизионных тылах. Его вместе с несколькими другими взводами сняли с переднего края для прочески леса. А сейчас поставили охранять артиллерийский склад. Ночь выдалась темная, прохладная. Хотя скоро должно рассветать, Дмитрию кажется, что сосны, столпившиеся вокруг в темноте, придвинулись ближе, а прогалины меж них, сквозь которые днем можно было видеть далеко вперед, куда-то исчезли. Совсем иным казался лес ночью. Днем Кедров даже не замечал убаюкивающего шума верхушек сосен, их тонкого посвистывания, а сейчас этот шум мешал прислушиваться к темноте, нагонял дремоту. Бесшумно, неторопливо прохаживается Кедров от одного угла штабеля к другому, за углами тоже стоят часовые — солдат Новоселов и ефрейтор Мухин. Пятнадцать шагов вперед, пятнадцать назад. Потом останавливается, напрягает слух, зорко всматривается в лесную чащу. Взгляд настороженно прощупывает каждый ствол дерева, темную массу кустов орешника, которые солдаты пожалели срубить, расчищая сектор обзора. Ветер по-прежнему слегка шумит в верхушках сосен. Внизу стоит затишье, точно в яме. Почему же тогда шевельнулась ветка орешника? Кедров медленно повернул голову в одну, а затем в другую сторону. Но щеки не почувствовали движения воздуха. Отчего же качнулись ветки? Или показалось? Дмитрий стал спиной к сосне, о которую опиралась стена ящиков со снарядами. Долго всматривался в ореховый куст, напряженно прислушивался. Ничего подозрительного. «Показалось», — подумал Дмитрий. И снова медленно зашагал от угла к углу. Автомат холодил руки. И вдруг Кедров заметил, что рядом с темным силуэтом большого орехового куста замаячил маленький куст. Это встревожило Дмитрия. Он хорошо помнил, что никаких маленьких кустов вокруг не было. Стараясь ничем не выказать тревоги, Кедров продолжал прохаживаться вдоль штабеля, кося глазом на кусты. Ему казалось, что маленький куст медленно, почти незаметно приближался к стволу ближайшей сосны. «Не поднять бы зря переполоха», — думал Кедров. Словно ничего не случилось, часовой свернул за угол, где стоял на посту Новоселов. Сделал ему знак рукой и упал на землю, наблюдая из-за ящиков за кустом. Ждать долго не пришлось. Кедров отчетливо увидел, как темная фигура согнувшегося человека проворно скользнула к ящикам. Автоматная очередь эхом раскатилась по лесу...
КОНЕЦ БАНДЫ КАПИТАНА МАРГЕРА
На рассвете на склады артиллерийского снабжения приехали начальник разведки дивизии — сухощавый, высокий майор Андреев и рядовой Игнат Шевченко. Майор в присутствии Игната подробно расспросил солдата Кедрова об обстоятельствах нападения на пост. Затем подошли к трупу диверсанта, лежавшему на том же месте — близ штабелей снарядных ящиков. Убитый был одет в обыкновенную телогрейку, солдатские брюки и ботинки с обмотками. Рядом валялись пилотка и финский нож. Из-за борта телогрейки торчала рукоять пистолета. Шевченко первым делом осмотрел подошвы и каблуки ботинок убитого. Заметив «слизанную» середину железного косячка на левом ботинке, присмотревшись к расположению гвоздей на подошве, Игнат, нахмурив черные брови, сказал: — Это не та птичка в майорской форме, которую мы гоняли, не Герлиц. — Жаль, — ответил Андреев, — а может, Маргер? — Кто его знает? Документов никаких. Около куста, указанного Кедровым, на примятой траве валялись четыре пакета взрывчатки, бутылка с горючей жидкостью, бикфордов шнур со взрывателями. Все это бросили диверсанты, застигнутые врасплох внезапным огнем часового. Майор Андреев тем временем раздумывал: «Одежда диверсантов ничем не отличается от одежды других солдат. Не могло ли случиться, что диверсанты пристроились в каком-либо тыловом подразделении и, войдя там в доверие, преспокойно занимаются своим делом?» Андреев тут же справился, не исчез ли в эту ночь кто-нибудь из состава тыловых подразделений. Но все люди оказались на месте. Никто из офицеров, сержантов и солдат, подошедших взглянуть на застреленного диверсанта, не опознал его в лицо. Все это рассеивало опасения майора. Кроме того, весьма основательные доводы привел Шевченко. Осмотрев склад, который фашисты пытались взорвать, прилегающую к нему местность, а также следы, оставленные диверсантами, Игнат пришел к заключению, что враг действовал наугад. — В расположении складов диверсантам до этого не удалось побывать. Иначе они полезли бы подрывать снаряды с другой стороны. Сказав это, Шевченко кинул быстрый взгляд на майора Андреева, на начальника артснабжения — молодого щеголевато одетого капитана. Заметив, что капитан не очень-то верит его словам, Игнат пояснил: — Правее дороги у самых складов — овражек, сплошь поросший кустарником. Там же и ручей журчит. Ясно, что оттуда легче было напасть на часового. Наконец, легче было приблизиться к посту и около ящиков с минами. Лес там гораздо гуще. Выслушав доводы Шевченко, майор Андреев укоризненно посмотрел на артснабженца: — Оказывается, крепко думать нужно, прежде чем склады располагать. — Оттуда тоже не укусили бы. Охрана надежная, — ответил в свое оправдание капитан. Шевченко обратился к майору Андрееву: — Разрешите идти по следу? — Идите. Вот вам в помощь отделение автоматчиков. — И майор указал своей длинной рукой в сторону выстроившихся на дороге солдат. Среди автоматчиков был и Дмитрий Кедров. Он смотрел на Игната, точно на волшебника, боялся пропустить каждое его движение, каждый взгляд. На всю жизнь запомнит Дмитрий разведчиков-следопытов, которые разыскали его на островке среди болот и вырвали из рук фашистов... Цепочка солдат быстро продвигалась по утреннему лесу. Игнат Шевченко шел впереди. Он понимал, что первые несколько сот метров диверсанты, напуганные внезапной стрельбой Кедрова, должны были бежать по прямой, в глубину леса. Поэтому вел автоматчиков ускоренным шагом, примечая следы. В прогалинах между стволами деревьев засветлело небо. Вскоре автоматчики вышли на опушку леса. Перед ними раскинулась неширокая, но далеко тянувшаяся вправо и влево — по обе стороны ручья — поляна. Солнце положило свои косые лучи на поляну, и на молодой траве засеребрились капельки росы. Игнат сразу же заметил, что от того места, где кончается тень деревьев, по искрящейся росистой зелени поляны тянутся три темные полосы. Их заметили и автоматчики. — Ишь какую дорогу по росе проторили! — промолвил Кедров. Солдаты быстро побежали по поляне к ручью. За ручьем темных полос на покрытой росой траве уже не было. — Опомнились, гады. Начали следы заметать, — сказал Шевченко. — По воде пошли? — спросил Кедров. — По воде. Но по илистому дну далеко не уйдут. За мной! Игнат повел автоматчиков вверх по течению ручья. Ему казалось, что диверсанты побежали именно в этом направлении, так как к лесу здесь ближе. И тут же он вспомнил частое напоминание Платонова: «Только без горячки!» Точно почувствовал на себе строгий, с прищуром взгляд сержанта. Но так сразу менять свое решение не хотелось, и Игнат пробежал еще шагов десять. Потом остановился. «Задание серьезное. Не до гонору», — мелькнула мысль. Он остановил автоматчиков, разделил их на две группы и послал одну, во главе с Дмитрием Кедровым, обратно — вниз по течению. — Глядите в оба. Ни одной царапины на земле не пропустите, — поучал Шевченко. Обе группы прошли поляну, углубились в лес и вынуждены были возвратиться обратно. — Никаких признаков, — с досадой доложил Кедров. — Только один след увидели, но и тот из лесу ведет. — Где след? Ведите туда. Вскоре Игнат разглядывал на болотистом берегу ручья замеченные Кедровым отпечатки человеческих ног. Присмотревшись к ним, следопыт снисходительно, с чувством собственного достоинства пожурил Кедрова: — Эх, голова! Думать нужно. Если человек шел из леса через ручей, так где же следы на этой стороне?.. Молчишь? То-то... Кедров уже и сам удивлялся, как он не сообразил, что здесь дело не чисто. Однако не мог понять, что же подозрительного в этих следах, и растерянно оглядывался на переминавшихся с ноги на ногу автоматчиков. Игнат, хотя и нужно было спешить, не отказал себе в удовольствии поучить не смыслящих в следопытстве солдат. — Смотрите мой след. — И он сделал несколько шагов по берегу, покрытому еще не высохшим наносным илом. — Сличите его со следом, который, как вы говорите, идет из леса. Есть между ними разница? Есть. Найденный вами след сделан человеком, который двигался спиной вперед. Шевченко скороговоркой объяснил солдатам, что при нормальном шаге отпечаток, сделанный краем каблука, обычно глубже всего остального следа, особенно той части, которая выдавливается носком. В этих же следах отпечатки носков ботинок гораздо глубже отпечатков каблуков. — Ширина нормального шага должна быть больше, чем ширина шага человека, оставившего здесь следы. Это также подтверждает, что человек двигался спиной вперед. Теперь понятно? — Как у профессора получается, — не без зависти проговорил Кедров. — Не ясно только, почему наши следы мельче чем эти. — Вопрос правильный, — похвалил солдата Шевченко. — Ведь здесь только один след. Куда же девались следы остальных двух диверсантов? — Понятно! — обрадовались автоматчики. — Они прошли по следу первого. Поэтому и отпечатки глубоки. — Верно. А теперь — по следу! Вражеские диверсанты хитро заметали следы. Когда на их пути попался еще один лесной ручей, каких здесь много, они прошли по его дну километра два. Однако Шевченко и автоматчики нашли то место, где выбрались фашисты из воды, нашли их следы в сторону фронта. Долго петляли гитлеровцы по лесу и остановились в густых зарослях совсем рядом с лесной дорогой и огневыми позициями артиллеристов. Враги рассчитывали, что никто не будет искать их в такой близости от наших войск. И вот перед Шевченко и притомившимися уже автоматчиками встала стена дикого мелколесья, густого и непролазного. Было слышно, как метрах в двухстах отсюда, за мелколесьем, гудели проезжавшие по дороге автомашины. За дорогой изредка ухали орудия. Игнат сообразил, что дальше этого кустарника диверсанты уйти не могли. Но как бы не вспугнуть их! Как поступить, чтобы никто из них не улизнул? Шевченко оглянулся на автоматчиков. Мало! Ведь, по существу, кустарник нужно прочесывать, здесь за следами усмотреть трудно, да и можно раньше времени выдать себя. — Товарищ командир, — обратился Дмитрий Кедров к Шевченко, — а что, если пригласим артиллеристов?.. Через пятнадцать минут артиллеристы, поднятые по тревоге, вместе с автоматчиками взяли в кольцо кустарник. Артиллеристов возглавлял молодой краснощекий лейтенант, командир взвода. Кольцо начало сужаться. Вдруг тишину, висевшую над мелколесьем, вспорола автоматная очередь, вторая, третья... Это не выдержали нервы диверсантов, услышавших, как со всех сторон тихо потрескивает кустарник. В ответ прозвучал звонкий голос лейтенанта-артиллериста. — Вторая рота, гранаты к бою! Шевченко, пробиравшийся по кустарнику с отделением автоматчиков со стороны, леса, понял хитрость лейтенанта и тут же поддержал его. — Первая рота, гранаты к бою! — крикнул он хрипловатым баском. Из глубины кустарника послышался торопливый, жалкий голос: — Сдаемся! Не бросайте гранат... — Выходи на дорогу! — властно ответил лейтенант. — Выходи на дорогу! — повторил Игнат Шевченко. Пробираясь сквозь мелколесье, на дорогу вышли три солдата с автоматами в руках и вещмешками за спиной. Посеревшие от страха лица, широко раскрытые глаза. Они тут же положили на землю оружие и, затравленно оглядываясь на густую цепь автоматчиков, подняли руки. Последним вышел из кустарника рыжеголовый, бледнолицый мужчина, также в красноармейской форме. Разбитой походкой он приблизился к молодому лейтенанту-артиллеристу, положил к его ногам автомат и, с трудом выговаривая слова, представился: — Капитан Маргер, офицер разведки шестнадцатой немецкой армии. Гитлер капут!..СЛЕДЫ НА ДОРОГЕ
Солнце уже поднялось высоко, когда отделение разведчиков сержанта Ивана Платонова приблизилось к столбовой грейдерной дороге. Позади — большой переход по лесам вокруг деревни Лубково. Этот переход помог разведчикам выяснить, что в районе Лубково, в лесных шалашах и, видимо, в самой деревне, совсем недавно стояла воинская часть. Сейчас ее там нет. Двигаясь через болото, через лес, сокращая путь, Платонов надеялся успеть побыстрее вывести своих разведчиков к грейдеру и, если удастся, понаблюдать за передвижением врага. И вот дорога перед ними. Разведчики лежат в двух шагах друг от друга, в густой зелени молодняка, буйно поднявшегося над почерневшими, укрытыми в траве пнями. Несколько лет назад здесь был вырублен лес. Нельзя сказать, что это лучшая позиция для наблюдения: в такой гущине трудно сделать шаг, чтобы над тобой не замахали лапчатыми ветвями кусты. А в случае боя такой кустарник не очень-то прикроет от пуль. Зато дорога тут изогнулась, коснувшись вершиной изгиба порубки, и ее можно просматривать далеко вправо и влево. Платонов лежит чуть впереди цепочки своего отделения и, опираясь на локти, не отрывает глаз от бинокля. Дорога почти пустынна. Недавно по ней промчались три мотоциклиста, да вон вдали дымит сгоревшей соляркой грузовик. Ивана одолевают тревожные мысли: почему мотоциклисты так напряженно всматривались в лес? Что случилось с Фомушкиным, куда он мог пропасть? И то, что эти оба вопроса встали сейчас одновременно, казалось не случайным. Ответы на них могут находиться в прямой связи друг с другом. В который раз жалел Платонов, что взял на это задание новенького солдата Евгения Фомушкина. «Непроверенный парнишка, вот и результат... А может, парашют не раскрылся?..» — холодила душу мысль. Уже было пора связаться по радио со штабом дивизии, но Платонов медлил: нечего еще сообщать, разве только об исчезновении Фомушкина. Он решил быстрее посмотреть полотно дороги, пройти вдоль него в направлении к фронту. Это как раз по пути на Борок. По дороге с ревом промчался тяжелый грузовик. Проводив его взглядом, Платонов встал на ноги. — Скиба и Зубарев, наблюдайте справа; Савельев и Курочкин — слева. Атаеву следить за моими сигналами, — отдав такое приказание, сержант осторожно выбрался из кустарника. Грейдерная дорога оказалась изрядно разбитой. Посередине — глубокие и широкие колеи, укатанные колесами машин. Однако Платонову ясно, что здесь прошли и танки: на закраинах колеи сохранились зубчатые следы гусениц. На правой стороне грейдера, почти над кюветом, заметны вмятины с рисунком «елочки». Их оставили колеса пушек. В том, что здесь провезли пушки, Платонов нисколько не сомневался: следы гораздо уже, чем те, которые оставляют машины; между колеями видны отпечатки широких подков артиллерийских лошадей. Направление следов — в сторону фронта. Платонов прошелся немного вперед и остановился у того места, где дорога была настолько просохшей, что все следы на ней утопали в пыли. Но и пыль подсказывала Ивану, что прошедшие здесь танки, пушки, машины направлялись к фронту. Сержант знал: колеса и гусеницы при движении захватывают пыль и поднимают ее вверх; пыль тут же сыплется на землю, образуя косые зубцы по окраинам колеи. Острия этих зубцов направлены в сторону движения колес и гусениц. Нехитрая арифметика, но знать ее разведчику нужно, да и не только разведчику. Осмотрев полотно дороги, Платонов вернулся в кусты. Взмахом руки поднял с земли солдат и повел их в глубину зарослей. Шли цепочкой — один в след другому, — настороженные, молчаливые. Одна рука лежит на автомате, другая — вытянута вперед, навстречу упругим веткам, которые хлещут по лицу. Порубка кончилась, и следопыты вступили в полумрак расчищенного леса. Медноствольные сосны толпились густо; сквозь высокие наметы их ветвей не видно ни клочка неба. И несмотря на густоту леса, здесь после непроходимого кустарника разведчики чувствовали себя не в безопасности. Казалось, за каждым стволом дерева поджидает враг — невидимый и тем более опасный. Но это чувство вскоре прошло. Через какой-нибудь километр опять начался лес с густым подлеском, давно не видевшим топора лесоруба. Шли вдоль грейдера в направлении фронта. Разведчики без слов понимали, что сержант Платонов хочет понаблюдать те места, где останавливались на дневные привалы вражеские войска. Платонова одолевали навязчивые мысли. Отбивался от них, точно от назойливых мух, но они не покидали. Думал о своей далекой сибирской деревушке, о девушке Полине, которая изредка пишет ему письма. В тех письмах скупые деревенские новости: о небогатом промысле сельчан (большинство настоящих охотников ушло на войну), о подготовке к весеннему севу, о том, кто из раненных на фронте вернулся в деревню. И ни слова о другом, что так волнует Ивана. Не пишет Полина о своих чувствах к нему. Однажды он упрекнул ее за это в письме. Ответила коротко и строго: «Дала слово ждать и сдержу его, а повторяться нечего». Ивану очень хочется, чтобы узнала Полина, как он водит своих разведчиков по тылам врага. Ведь было время, когда в артели отказались избрать его бригадиром. «Молод-зелен», — говорили старики. «Молод-зелен, — ухмыляется своим мыслям Платонов. — А тут специальный самолет предоставили, парашюты, которые не пожалели потом выбросить. И в штабе дивизии небось сейчас ни на минуту не забывают о нас, радист ждет не дождется позывных Курочкина». Но не узнает об этом Полина. Не умеет Иван рассказывать ей в письмах о фронтовой жизни, о своей службе разведчика. Да и ничего нет особенного в этой службе. Не один же он встречается с опасностями... Мысль, что по ту сторону фронта с нетерпением дожидаются его сообщений, заставила ускорить шаги. Где-то впереди должен быть ручей. Там, у воды, наверняка фашисты делали большой привал. По грейдерной дороге, которая чуть виднелась слева в прогалинах между стволами сосен, с треском пронеслась группа мотоциклистов. «Чего их носит?.. Не нас ли ищут?» — подумал Платонов. Ему в голову не раз уже приходила мысль, что, возможно, Фомушкин попал в руки фашистов. Но не мог допустить, чтобы он, комсомолец, сказал врагу о присутствии в его тылах группы советских разведчиков. И все же сомнение таилось где-то в глубине души: уж очень мало знал Евгения Фомушкина сержант Платонов. В лесу царила тишина. Только изредка хрустели под ногами сухие ветки. При каждом таком хрусте Платонов недовольно хмурил брови. Неосторожные шаги свидетельствовали о том, что разведчики привыкли к новой обстановке, почувствовали себя в полной безопасности и не заботятся о мерах предосторожности. Платонов оглянулся на солдат, окинул их строгим взглядом. Заметив, что силач Савельев, сдвинув в сторону автомат, казавшийся игрушечным на его широкой груди, общипывает на ходу своими толстыми, как сосиски, пальцами лепестки сорванной ромашки, тихо скомандовал всем: — Стой! Разведчики остановились. — Савельев, возьмите в руки автомат. Кто еще раз наступит на сучок или сломает ветку, получит взыскание, — предупредил сержант и с назиданием добавил: — Забываете, что опасности нужно остерегаться, пока ее нет. Потом будет поздно. Разведчики снова двинулись вперед. Савельев взял на изготовку автомат и, не поворачивая головы, как бы между прочим сказал: — Цветы почти не пахнут, значит, погода не изменится, хотя и тучи собираются. — Верно, — скупо похвалил Платонов. — А ну-ка, все посмотрите вокруг. Какие еще видите приметы, указывающие, что дождя не будет? Разведчики некоторое время молчали, оглядываюсь по сторонам. — Атаев, отвечайте! — приказал сержант. Желтое скуластое лицо Атаева вдруг сделалось сосредоточенным, точно он решал трудную задачу. Но только на мгновение. Блеснув черными, как мокрая смородина, глазами, Атаев ответил: — Вон в том муравейнике все ходы открыты. Муравьи шибко бегают. Утром роса была. Значит, дождь не пойдет. — Правильно, — одобрил Платонов. — А что Зубарев скажет? — Одуванчики открыты, листья на кустах не показывают изнанки, облака высоко. Не быть дождю, — отчеканил Зубарев. Скиба же припомнил, что сегодня небо перед восходом солнца было серым. — День будет хорошим, — нехотя сказал он. На его продолговатом лице было написано недовольство: «Чего, мол, зря говорить о том, что ясно без слов». Но все же пояснил: — В атмосфере мало влаги. Иначе в ней отражались бы лучи солнца и небо было бы красно, как огонь. И вдруг лицо Скибы посветлело, на его потрескавшихся губах дрогнула улыбка. — А ведь Пушкин о погоде тоже писал, — заметил он и чуть нараспев прочитал стихи:ЛОВУШКА
Лес постепенно редел. Вскоре в прогалинах между стволами сосен засветлелось небо. Платонов, шедший впереди цепочки отделения, поднял руку — и разведчики тотчас залегли, устремив настороженный взгляд вперед, навострив слух. В лесу стояла тишина. Лучи солнца, пробивавшиеся сквозь ветви уже с западной половины неба, рисовали на земле причудливые узоры, в которых ярко пестрели синие, голубые, фиолетовые колокольчики медуницы на жестких, мохнатых стебельках, золотистые головки василисника и лютика. Было слышно, как, перелетая с цветка на цветок, жужжали лесные пчелы и шмели. Тишина убаюкивала. У залегших в траве разведчиков сладко заныли ноги, получившие наконец отдых. Петр Скиба с трудом удерживал себя, чтобы не закрыть глаза и не уронить отяжелевшую голову на руки. Ведь позади бессонная ночь и многокилометровый переход по лесам. Клевал носом и молодой радист Курочкин. У него ноша, пожалуй, наиболее тяжелая, но, несмотря на это, он никому ни разу не согласился уступить свой вещмешок, в котором была рация. Платонов стоял у толстой сосны и, приложив к глазам бинокль, всматривался в прогалины. Ничего особенного не увидев, он повернулся к залегшим разведчикам и заметил осоловевшие глаза Скибы, Курочкина, да и Зубарев, всегда словоохотливый, казался сейчас сникшим. Сержант нахмурил свои рыжеватые брови, распрямил ссутулившиеся больше, чем обычно, плечи. Его широкое, курносое лицо, посеревшее от усталости, сделалось строгим и даже злым. Этого было достаточно, чтобы разведчики зашевелились, сбрасывая с себя дрему и преодолевая усталость. — Вправо от Савельева — в цепь! — тихо скомандовал Платонов. А когда разведчики проворно побежали на свое место, сержант внушительно сказал: — Наблюдать за мной и ушами не хлопать. Борок под носом. Взяв наизготовку автомат, Иван неторопливым шагом пошел вперед. Он, как и остальные его разведчики, также чувствовал большую усталость. Гудели натруженные ноги, ломило в пояснице, а в голове стоял звон, мешавший прислушиваться к лесным шорохам. Но что поделаешь? Нужно занять позицию близ Борка, установить наблюдение за хутором, связаться по радио со штабом дивизии, а уж потом можно будет подумать об отдыхе. Деревья расступились еще больше. Платонов залег и ползком подобрался к видневшемуся на опушке кусту можжевельника. Отсюда перед взором Ивана раскинулся длинный — километра на три — луг, стиснутый с двух сторон лесом. Через луг, во всю его длину, протекал узкий извилистый ручей. Берега ручья были словно покрыты ярко-желтым покрывалом — это золотились лютик и козлобородник. А ближе к лесу густо румянел тысячелистник. По ту сторону луга виднелся хутор Борок. Платонов долго осматривал бревенчатые стены немногих его домиков, дворы, но не увидел ни одной живой души. Закралась тревога: «А что, если никого там нет? Могли же пленные наврать или напутать?.. Тогда вся затея насмарку». А время не терпело. И Платонов принял решение: лесом обогнуть луг, приблизиться к Борку. И вот цепочка разведчиков снова петляет меж деревьев и кустов. Снова настороженный взгляд вперед и по сторонам. Но на этот раз идти пришлось недолго. Через полчаса наткнулись на густые, почти непролазные заросли колючего боярышника. Забрались в глубину кустарника и на тесной поляне остановились. — База подходящая, — сказал Платонов, оглядываясь по сторонам. — Здесь и отдохнем. Только не все. Атаеву и Скибе оставить вещмешки и идти в разведку. Курочкину развернуть радиостанцию. Атаев и Скиба, освобождая плечи от лямок вещмешков, слушали приказ сержанта. — Задача простая: подобраться поближе к хутору и понаблюдать за ним. Но чтоб ни звука. Наблюдать — и только. Ясно? — Ясно, товарищ сержант, — с готовностью ответил Атаев. — Ясно, — чуть помедлив, сказал Петр Скиба. — Старшим назначаю... — Платонов цепким взглядом впился в лицо Скибы. Не зря он выбрал именно Петра для такого дела. «Этот напропалую не полезет», — мелькнула мысль. — Старшим будет рядовой Скиба... И еще запомните: в случае чего — пункт сбора, — и Платонов ткнул пальцем в карту, которую развернул Скиба, — здесь, на болоте. Ищите по следам. Атаев и Скиба пробирались сквозь густой подлесок по направлению к хутору. Атаев время от времени надламывал ветки на кустах, перекладывал валявшиеся под ногами сучья; разведчик оставлял приметы, чтобы легче было возвращаться назад. Вскоре между деревьями замаячили постройки. Атаев и Скиба легли и ползком начали выдвигаться из глубины леса на опушку. До крайнего домика — рукой подать. Хорошо видны окна без стекол, полуоткрытая дверь, заросший бурьяном дворик. На огороде стог сена — растерзанный, потерявший свою форму. Вокруг — ни души. — Нужно ближе, чтоб улицу увидеть, — предложил Атаев. Скиба заколебался: стоит ли спешить? Но тут Петр вспомнил, как он перетрусил, когда выбрасывались из самолета, подумал, что, пожалуй, если б не подтолкнул его Фомушкин, не хватило бы у него сил нырнуть в бездну. И стало стыдно Петру. Весь день его мучила мысль: «А не из-за меня ли нет сейчас Фомушкина среди нас? Может, промедлив, спрыгнул, как и я, на лес, но более неудачно?..» (Скиба, конечно, и не заметил тогда в горячке, как он рванул вытяжное кольцо парашюта Фомушкина, и поэтому худшего не предполагал). — Поползли, — согласился наконец Петр. Перевалили через канаву, окаймлявшую огороды хутора, подобрались к стогу сена. Только теперь Скиба и Атаев заметили в бревенчатой стене амбразуру, прикрытую свежими ветками. Это встревожило солдат. Разведчики замерли. Прошло десять, может быть, двадцать минут. Солнце уже спряталось за лесом, а следопыты неподвижно лежали на земле. В хуторе по-прежнему царила мертвая тишина. Но разведчиков томило тягостное чувство. Тишина казалась зловещей, ничего доброго не сулившей. И Атаев и Скиба начали думать, что зря они вышли из лесу, что хутор таит какую-то опасность. Тревожная догадка подтвердилась. Разведчики увидели, как из леса, почти в том же месте, где не так давно они лежали на опушке, выбежала группа солдат в серых тужурках и брюках, заправленных в сапоги. Фашисты, развернувшись в цепь и держа наготове черные автоматы, устремились прямо к стогу сена. — Огонь! — крикнул Скиба. Оглушительно застучали два автомата. В этот миг из-за дома выскочила вторая группа солдат. Скиба не успел повернуться в их сторону, как в это время откуда-то с опушки леса ударила по фашистам длинная автоматная очередь. «Кто стреляет?» Эта очередь сразила нескольких солдат и заставила залечь всю группу. Фашисты, охватывавшие кольцом Скибу и Атаева, не стреляли, надеясь взять разведчиков живыми. У самого уха разразился резким стуком автомат Атаева. Скиба толкнул локтем товарища под бок и крикнул: — Беги к лесу, пока не окружили! Но тот, сделав вид, что не расслышал, продолжал стрелять. — К лесу! — сурово приказал Скиба. Атаев кинул на Петра горящий, негодующий взгляд, но ослушаться приказания старшего не посмел. Он стремительно побежал через огороды. Скиба, прикрывая отход товарища, не переставал стрелять из автомата по гитлеровцам, залегшим у дома. Потом посмотрел вслед Атаеву и, увидев, что тот достиг опушки леса, вскочил на ноги. Еще полоснул длинной очередью, пригнувшись, забежал за гумно и скрылся из глаз преследователей. Отсюда Петр повернул к большому пепелищу, видневшемуся в стороне. Но вдруг ноги его потеряли опору, и Скиба рухнул в какую-то яму. В нос ударил запах прели, сырости. Петр попытался выбраться наверх, но почувствовал острую боль в ступне правой ноги.Свое донесение в штаб дивизии об исчезновении Фомушкина и результатах разведки района деревни Лубково и дороги на Замочье Платонов закончил словаки: «Сейчас силами двух человек веду разведку хутора Борок. Группу Сухова сможем встретить в назначенное время». Передав донесение, Курочкин перешел на прием. Штаб некоторое время молчал, видимо расшифровывая радиограмму. Затем рация заработала. Первые же строки взволновали Платонова. Из штаба сообщали: «Фашисты ждут вашего появления у хутора Борок. Немедленно уходите. Ждем ваших позывных через два часа». В это время со стороны хутора послышалась автоматная стрельба. — Отделение, к бою! — тихо, но властно скомандовал сержант Платонов. Поредевшее отделение разведчиков встретило рассвет километрах в десяти от хутора, в том месте, где был заранее намечен пункт сбора на случай, если посланные в разведку Скиба и Атаев никого не застанут на прежней стоянке. Здесь, в глухих зарослях лозняка, укрывших зыбкий островок среди труднопроходимого болота, коротали остаток ночи. От боя с фашистами, прочесывавшими лес вокруг Борка, уклонились. Нельзя было выявлять свои силы, нельзя дать возможность врагу обнаружить местонахождение разведчиков. Платонов сидел на высокой мохнатой кочке и непрерывно глядел в расстеленную на коленях топографическую карту, точно хотел найти там ответ на вопрос: «Что случилось со Скибой и Атаевым, где Фомушкин?» Обуревало желание подобраться к хутору, попытаться выяснить, что там произошло. Но майор Андреев строго-настрого по радио запретил приближаться к Борку. Лицо Платонова за ночь еще более потемнело, осунулось. Сказались крайняя озабоченность и напряженное ожидание. Такое же ожидание застыло на усталых лицах Савельева, Зубарева, Курочкина. Все они, как и сержант, настороженно прислушивались к шелесту кустов, к каждому шороху на болоте, ожидая, что вот-вот выглянет из-за лозняка скуластая, с чуть раскосыми глазами физиономия Атаева, появится кряжистая фигура осторожного Скибы. Не зря же Платонов ночью, уводя разведчиков от преследования, то и дело оставлял на кустах, стволах деревьев, на земле приметы, по которым исчезнувшим следопытам легче будет разыскать товарищей. Солнце поднялось выше. В недалеком лесу и в кустарнике на островке начал утихать утренний концерт птиц. А разведчики все сидели и ожидали. «Потерпим еще час. Не придут, — значит, ожидать нечего», — твердо решил Платонов. — Тс-с-с, — вдруг зашипел Курочкин, хотя никто не нарушал тишины. Послышался шорох кустов и хлюпанье болотной жижи. Разведчики насторожились. Минута томительного ожидания. Острый глаз Платонова первый заметил тупое рыльце автомата, просунувшегося сквозь кусты лозняка. Вслед за этим показалась фигура в маскировочном халате. Остроносое лицо, настороженный взгляд, седоватые брови. — Фомушкин!.. Женя!.. — с изумлением и неудержимой радостью в один голос воскликнули разведчики, позабыв об осторожности. Фомушкин, опустив автомат, бросился в объятия товарищей. Потом тихо позвал: — Скиба, иди! Здесь они. Из зарослей выглянула черная, непокрытая голова Скибы. Встретившись взглядом с товарищами, Петр радостно улыбнулся. От этого его лицо посветлело, хотя с него и не исчезла тень усталости и горечи. Скиба шагнул вперед, и разведчики увидели, что он держит правую ногу на весу и опирается на палку... Первым докладывал Скиба. Рассказывал, как они с Атаевым попали в ловушку, как, уходя от погони, он нечаянно свалился в заросший бурьяном погреб и вывихнул ногу. В погребе Скиба лежал долго, прислушивался, как немцы искали его на огородах. Ему удалось уловить фразу, брошенную каким-то фашистом: «Этого раненого доставили обер-лейтенанту Герлицу, а второй русский будто сквозь землю провалился». Значит, Атаева захватили раненным. Вскоре в хуторе воцарилась тишина, и Скиба прислушивался к автоматным очередям в лесу, раздумывая над тем, что делает сейчас отделение и кто мог поддержать его с Атаевым огнем в ту трудную минуту, когда гитлеровцы брали их в кольцо. А потом, когда все вокруг успокоилось и наступила ночь, Петр услышал возле погреба шелест бурьяна и вслед за этим шепот: — Скиба, живой ты или нет? Это был Евгений Фомушкин. Фомушкин рассказал о своем неудачном прыжке с парашютом и о том, с каким трудом удалось летчикам сбросить его с хвоста самолета. Приземлился Фомушкин на лесную поляну близ того места, где грейдерная дорога пересекала речушку. Сориентировался по карте и определил, что находится в двенадцати километрах от Борка. Так как найти отделение было невозможно, Евгений решил идти к хутору. Рассвет застал его у Борка. Фомушкин выбрал сосну на опушке леса, забрался на нее и замаскировался. Утром видел, как гитлеровцы расставляли в засаду своих солдат, но предпринять ничего не мог: его наверняка схватили бы, если б спустился с дерева, к тому же он не знал, с какой стороны могутподойти к хутору разведчики. Оставалось одно: ждать. Скибу и Атаева Фомушкин заметил в тот момент, когда фашисты начали их окружать. Невзирая на опасность, открыл огонь из автомата. В суматохе боя фашисты не разобрались, кто и откуда стрелял по ним. Видел Фомушкин, как свалился в какую-то яму близ пепелища Скиба, как упал раненый Атаев и на него набросились враги... Потом вместе со Скибой они лежали в бурьяне на огородах, прислушивались, наблюдали, как фашисты грузили какое-то барахло в большой автобус. Тут Фомушкин чуть не выдал себя. В свете фар он увидел высокого гитлеровца в офицерской форме и узнал в нем «майора» — старого «знакомого», которого не так давно искали они по коровьим следам и которому удалось тогда улизнуть. Фомушкин вскинул автомат, но Скиба вовремя успел схватить его за руку. К середине ночи немцы покинули хутор. Бронетранспортером они потянули большой автобус по дороге за ручей.
ПО ПЯТАМ КАРЛА ГЕРЛИЦА
Короткой кодированной радиограммой Платонов сообщил майору Андрееву о событиях и о своем решении начать розыски Атаева. Из штаба ответили: «Вступать в бой с противником только в крайнем случае. Разведку ведите со всеми мерами предосторожности. В 18.00 ждем ваших сообщений. Андреев». Скиба в это время мастерил себе костыль из ствола не совсем ровной, но крепкой березки. Ему помогали Фомушкин и Савельев. Расшифровав полученную радиограмму, Платонов бросил беспокойный взгляд на Скибу. Петр уловил этот взгляд и понял мысли сержанта. — Смогу пройти хоть сто километров, — сдержанно промолвил он. Потом усмехнулся и добавил: — Деревянная нога меньше уставать будет. — Сможете не сможете, а идти надо, — ответил Платонов. Развернув карту, он подозвал к себе разведчиков:— Значит, немцы уехали вот по этой дороге? — По этой самой, — подтвердил Скиба. — Стало быть, здесь и нужно «привязываться» к их следам. Платонов учитывал, что хутор лежит в стороне от больших дорог, машины проезжают через него редко. Значит, можно было надеяться, что следы, оставленные ночью гитлеровцами, уехавшими из Борка, не затерты. Тем более, что гусеницы бронетранспортера, которым гитлеровцы буксировали автобус, должны были оставить четкие отпечатки. Прежде всего Платонов решил обследовать полотно дороги, подходящей к Борку с противоположной стороны. Чтобы не пойти по ложному следу, сержант хотел выяснить, не проезжал ли сегодня через Борок какой-либо другой транспорт. Направились к дороге. Поляны обходили, просеки переползали. Неожиданно заметили перед собой узкую, обнаженную, пепельного цвета полосу земли. Это и была дорога, стиснутая с двух сторон тучной зеленью леса. На дорогу вышли только двое — Платонов и Савельев. В пыли они рассмотрели мелкие колеи, выдавленные колесами прошедших машин. Когда и в какую сторону прошли машины? Может быть, они своими колесами стерли нужные разведчикам следы по ту сторону хутора? Не выяснив этого, нельзя было продолжать разведку. Рисунок следов казался нечетким, давним. Но Платонов учитывал, что на пыльной дороге самый свежий отпечаток может при одном дуновении ветра превратиться в «старый». Пытались найти между колеями следы брызг масла, по которым легко узнать, в какую сторону ушли машины, но это не удалось. Фомушкин, Зубарев, Курочкин и Скиба тем временем шли лесом, немного впереди Платонова и Савельева, приготовившись в случае опасности прикрыть отход товарищей огнем автоматов. За поворотом дороги Платонов и Савельев увидели большую лужу. Обрадованно подошли к ней. Эта заплесневевшая лесная вода должна была помочь разгадать, в каком направлении и как давно проехали немецкие автомобили. Разглядев следы машин близ лужи, Платонов удовлетворенно заметил: — Все в порядке. Разведчикам было известно, что при переезде через лужу или наполненную грязью выбоину колеса машин разбрызгивают воду и грязь наискось по направлению движения и, кроме того, оставляют за собой влажные следы, отчетливость которых уменьшается по мере удаления машины. По этим признакам установили, что все прошедшие здесь машины ехали со стороны хутора. Другие приметы — комки грязи, выброшенные колесами из лужи и уже высохшие, — подсказали, что машины прошли здесь еще вчера. Не теряя времени, разведчики лесом обогнули Борок и вышли на дорогу с противоположной стороны, в двух километрах от хутора. На дороге Платонов и Савельев разглядели запоминающиеся следы, оставленные тяжело груженным автобусом, — две широкие колеи и по краям их четкие отпечатки гусениц бронетранспортера. Дорога, извиваясь между зарослями и болотами, шла наискось к фронту. Именно к фронту держала путь группа специального назначения, которую возглавлял опытный разведчик, бывший «аспирант» шпионской школы «Орденсбург Крессинзее» обер-лейтенант Карл Герлиц. Это могло означать только одно: Герлиц, несмотря ни на что, собирался забросить змеиный выводок за линию фронта. Сержант Платонов терпеливо вел горстку своих солдат вдоль дороги. Шли лесом, пробирались сквозь кустарники, переползали или обходили открытые места. Молчали, избегали встречаться друг с другом взглядами. Думали об Атаеве, попавшем в руки врага. Каждому казалось, что и он виноват в этой неудаче. Пётр Скиба замыкал цепочку разведчиков. Он скакал на одной ноге, стараясь подальше вперед выбрасывать самодельный костыль. Беспокоила боль в ступне, горела кожа под мышкой. Особенно трудно было ему идти кустарником. Но стойко переносил трудности Петр, старался не отставать от товарищей, не задержать их. Что это за испытание для него по сравнению с тем, какое выпало на долю Атаева! Путь разведчикам перерезала широкая просека. Платонов первым выполз на открытое место, огляделся по сторонам и, махнув рукой солдатам, ползком двинулся дальше. Когда оказался на середине поросшей негустой травой просеки, вдруг заметил на песчаном грунте знакомые следы буксируемого автобуса. Что за чертовщина? Неужели гитлеровцы свернули с дороги и двинулись напрямик к фронту? Это требовалось проверить. Платонов круто повернул назад. Пришлось выйти на дорогу и осмотреть ее. Оказалось, фашисты действительно свернули с дороги на просеку. Вдоль просеки идти было удобнее и безопаснее. Разведчики ускорили шаг. Платонов на ходу развернул карту и проследил взглядом, куда ведет просека. Выяснилось, что километров через пять она пересечет рокадную, идущую вдоль линии фронта дорогу. «Неужели выедут на эту магистраль? — думал Платонов. — Там идти по следу будет труднее...» Через полчаса острый слух разведчиков уловил лязг железа. Где-то впереди и чуть правее в глубине леса точно стучали молотком по наковальне. Завернули вправо от просеки. Здесь лес был погуще, с подлеском. — Савельев и Фомушкин — в головной дозор, — распорядился сержант. Опять пошли вслед за маячившими метрах в тридцати впереди широкоспинным, могучим Савельевым и по-мальчишески стройным, тонким Фомушкиным. Стук железа доносился все отчетливее, и дозорные держали направление прямо на него. Вдруг Савельев и Фомушкин остановились и тут же упали на землю. Савельев поднял над головой автомат, что означало: «Замечен противник». Отделение залегло, а Платонов вмиг перебрался к дозорным. Впереди, в прогалине между деревьями, виднелась серая парусиновая палатка. Платонов чуть прополз в направлении к ней и увидел другие палатки, а рядом с ними несколько грузовиков, бензоцистерну и огромный серый автобус, еще не отцепленный от бронетранспортера. По лесу гулким эхом разносились стук железа, громкие голоса, урчание моторов. Фашисты чувствовали себя в безопасности. Отделение укрылось в глухих зарослях неподалеку от обнаруженного лагеря. Не было в отделении только Савельева и Фомушкина. Они лежали в кустах под самым носом у фашистов и наблюдали за ними. Ровно в 18.00 радист послал в эфир свои позывные. Из штаба поступил приказ: «В квадрате 27-18, Б (это означало — у стыка просеки и дороги, по которой гитлеровцы буксировали автобус) отделению разведчиков Платонова ждать прихода разведотряда лейтенанта Сухова. После объединения с отрядом действовать по указанию его командира». Ждать пришлось целую ночь. Только на рассвете очередная смена дежурных — Платонов и Зубарев — услышала, как в стороне просеки ухнул филин. Это условный сигнал. Мгновение — и все разведчики были на ногах. — Угу-у! — ответил Платонов. От сосны к сосне, держа наизготовку автоматы, осторожно приближались к просеке. Еще несколько шагов — и лес начал редеть. Над просекой стелился туман, незаметный в глубине леса. Вокруг — ни души. Может быть, разведчики услышали не сигнал, а крик настоящего филина, потревоженного предутренней прохладой? Несколько минут стояли, прижавшись к соснам, не выдавая себя ни единым движением. Потом Платонов, приложив ладони ко рту, снова, но уже более тихо закричал филином. От дерева впереди отделилась фигура человека. Платонов тотчас же узнал в ней Игната Шевченко и шагнул навстречу с распростертыми руками. Не успел обняться с ним, как сзади облапили Ивана могучие руки лейтенанта Сухова. Из кустов высыпали остальные разведчики. Еще не взошло солнце, не улетучились из леса сумерки, как отряд советских разведчиков приготовился к нападению на вражеский лагерь: перерезаны провода линии связи, распределены обязанности между группами, залегшими в лесу вокруг лагеря. В лагере тишина и безлюдье. Только несколько часовых, поеживаясь, прохаживались между палатками и возле машин. Вдруг автоматная очередь полоснула по часовым. Казалось, лес ответил ей многоголосым эхом. Но это было не эхо. Ударили автоматы, застрочили пулеметы. Разведчики вихрем налетели на лагерь... Лес звучал веселым говором птиц. Всходило солнце, осветившее пока только верхушки деревьев. И хотя солнечные лучи еще не коснулись остывшей за ночь земли, не пробились к ней сквозь высокие наметы ветвей, разведчикам казалось, что лес сегодня не такой угрюмый и неприветливый, как обычно. Выполнив задание, они уходили в глубь лесной глухомани, в глубь болот. А впереди со связанными руками шли девять пленных — девять уцелевших в недавней схватке фашистов, которые должны были быть заброшены в тыл советских войск. Впереди колонны бредет обер-лейтенант Карл Герлиц. Радость каждой победы на войне всегда омрачается потерями. Омрачена радость и разведчиков. Савельев, Зубарев и еще два солдата из отряда лейтенанта Сухова несут на носилках, сделанных из плащ-палатки, тело Атаева. Умер он в страшных муках, но не выдал тайны, не нарушил присяги. Сзади несут двух раненых разведчиков. Рядом с ними скачет на одной ноге и на костыле Петр Скиба. У него забинтована голова. Евгений Фомушкин шагает в ногу с Игнатом Шевченко. У обоих сияют глаза. Позади ведь столько пережитого и сделанного! Чуть ссутулившись, бесшумно ступает Иван Платонов. На его курносом лице заметна усталость. Тихо шумит верхушками сосен лес, вздыхает и посапывает укрытое зеленью болото, прерывисто рокочут вдали орудия. Идет война. И смелые труженики войны — разведчики держат путь навстречу новым опасностям и победам.1951 г.
ГЕННАДИЙ СЕМЕНИХИН ПАНИ ИРЕНА Повесть

В древнем польском городе, раскинувшемся вдоль и вширь на многие километры, наполовину сожженном войной и теперь постепенно встающем из пепла, в городе островерхих кирх, длинных трамвайных маршрутов и старых мостов над светлыми водами Одры, на самой его окраине, у развилки дорог, есть скромное солдатское кладбище. Лет двадцать назад, когда город носил немецкое название, этого кладбища не было. Оно появилось после войны как печальный памятник советским солдатам и офицерам, не дожившим до солнечного Дня Победы, сраженным в последних боях или умершим в полевых госпиталях от неизлечимых ран уже после этого дня. Сначала это кладбище было скоплением одиноких разрозненных могил, наспех вырытых, иногда увенчанных деревянным столбиком с красной пятиконечной звездочкой и дощечкой, где написано, кто здесь похоронен, когда родился, до какого воинского звания дослужился в боях и походах и когда, в какой день победного сорок пятого года, настигла его смерть. С годами ласковые руки людей, получивших жизнь и свободу от тех, кто уже никогда не встанет из могил, превратили это маленькое солдатское кладбище в цветущий парк. Обнесенное серым решетчатым забором, оно теперь увенчано со всех четырех сторон высокими серобетонными башнями. На постаментах стоят танки и пушки с длинными стволами. Нет, это не декоративные украшения. Потрогайте их, и вы убедитесь, что эти пушки, так же как и танки, из самого настоящего твердого сплава. Металл почернел от времени, но остался таким же прочным, каким и был в последних, нелегких боях. И стоят теперь эти орудия и танки как символы величия и бесстрашия русского солдата. Большая арка украшает главный вход. Если войти в нее, увидишь в конце кладбища под пышными кленами одинокую голубую скамейку. Тот, кто сядет на эту скамейку, может хорошо обозревать ровные аккуратные ряды могил, симметрично разделенные асфальтовыми дорожками, прямоугольные плиты с врезанными в камень фамилиями погибших. Почти все плиты серые. Но местами темнеют на кладбище надгробия из черного мрамора, и по ним узнаешь могилы генералов и Героев Советского Союза, честно принявших в этих краях обидную солдатскую смерть за несколько дней, а то, может быть, и часов до окончания войны. В майский полдень над кладбищем царит безмолвие. Легкие струйки пара поднимаются от влажной земли. Между могилами не колыхнется от ветерка пестрое поле цветов. В будние дни редко кто заходит сюда в полдень. И от этого безмолвия особенно величественной кажется каменная фигура солдата, высящаяся над кладбищем. Может быть, не все совершенно в этом памятнике, не все подчинено строгим законам искусства. Есть и излишняя грубоватость в очертаниях лица, и сразу бросающаяся в глаза громоздкость в позе солдата, но разве обращает на это внимание тот, кто приходит на кладбище, кого уже и так щемящей болью взяла за сердце тоскливая тишина могил, затененных подстриженными кустами? Этот молчаливый, высеченный из камня воин, одиноко возвышающийся над ними, лишь усиливает впечатление. И нет ничего удивительного в том, что советский полковник, появившийся в будничный полдень на этом кладбище, начал его осматривать именно с этой фигуры. Полковник подъехал к кладбищенским воротам на запыленном вездеходе ГАЗ-69, на котором долго носился по окраинам города, прежде чем нашел нужную развилку дорог. Его водитель, совсем молоденький курносый солдат-первогодок, несколько раз останавливал машину и, коверкая польскую речь, спрашивал прохожих, как проехать к кладбищу. Он и полковник, прислушивавшийся к ответам, понимали далеко не все, но переспрашивать считали неловким и поэтому, выслушав ответ и поблагодарив прохожего коротким польским «дзенькую», поворачивали совсем не на тех городских перекрестках, где им советовали. Наконец пожилой рабочий, ковырявшийся с киркой на обочине шоссе, более седой от пыли, нежели от прожитых лет, указал рукой вперед: — Теперь просто, пане пулковнику, совсем просто. И они вскоре увидели кладбищенские ворота. ГАЗ-69 остановился, не доехав до них. Полковник грузно вылез из неудобной машины, водитель следом за ним соскочил на мягкую травку. — Куда, Сидоров? — окликнул офицер. — С вами, товарищ полковник. — Не надо. Солдат-первогодок обидчиво поджал пухлые губы и сердито поправил непокорную пряжку. Сквозь мелкие веснушки на щеках пробился румянец смущения. И полковник, заметивший, что подчиненный обижен невольной резкостью его слов, сказал мягче, пряча в зеленоватых глазах усмешку: — Не сердись, Олег. Так надо. Я один здесь побуду. А ты погуляй или почитай, что еще лучше... И пошел к арке. Когда она осталась за его спиной, он остановился и огляделся. Каменный солдат смотрел на него из-под каски строго бесстрастным взглядом, словно говорил: «Иди дальше, иди». И полковник пошел. Ровные ряды надгробий были перед его глазами. Полковник обходил их медленно, внимательно вглядываясь в надписи. Сойдя с центральной разогретой солнцем асфальтовой дорожки, шел он замысловатыми петлями меж каменных плит так, чтобы не миновать ни одну из могил. Один раз он наклонился, чтобы получше рассмотреть какую-то стертую надпись. Светлые, уже порядком поредевшие волосы небрежными прядями упали на прорезанный морщинами лоб. Это несколько оживило лицо полковника, на котором своей обособленной жизнью жили зеленоватые глаза. Что-то свое, ни на что не похожее, светилось в этих глазах: то притаенная усмешка, то твердость и сухость, когда зрачки замирали, устремившись в одну точку, то удивленность, почти детская, когда расширялись они, заставляя нервно взлетать вверх брови. На темных полевых его погонах блестели авиационные «птички», одна из которых была прикреплена неверно, крылышками в обратную сторону, а на груди, над тремя рядами планок, невыцветающим блеском золота сияла маленькая звездочка. Возле одной из могил полковник остановился, слабая полуденная тень легла на клумбу, но тотчас же метнулась назад, потому что полковник резко выпрямился. Короткие, в черных волосках пальцы, сжимавшие козырек фуражки, стиснули его еще сильнее. Не то гравий захрустел под подошвами сапог, не то вздоха, тяжелого, шумного, не смог полковник подавить вовремя и, словно рассердившись на то, что этот вздох вырвался, плотно сжал губы. Зеленые глаза под выгоревшими от солнца ресницами стали горькими, и морщины пробежали по одутловатому лицу. — Здесь, — самому себе сказал полковник и прочел на такой же, как и десятки других каменных плит: — «Гвардии капитан Виктор Федорович Большаков. Июль 1920 — май 1945 год». Прочел сначала про себя, а потом вслух тем же странно осипшим голосом, таким неуместным в устоявшейся кладбищенской тишине. Потом помолчал и совсем неожиданно, совсем уже не осипшим, а торжествующим голосом выкрикнул: — Виктор Большаков, Вик-тор! Над обнаженной головой полковника плыло ослепительно ясное майское небо. Рядом шумели клены, трелями захлебывались жаворонки, то припадая к земле, то мячиками отскакивая от нее. Со стороны города доносились приглушенные гудки паровозов, шум фабрик, звон трамваев. Прикованный к короткой надписи на могильной плите, полковник не обратил внимания на голубенькую скамейку, затерянную меж подстриженных кустов, не заметил, как отделилась от нее одинокая женская фигура. Гравий почти не скрипнул под легкими торопливыми шагами. Женщина шла напрямик к нему, минуя памятники и клумбы. Не шаги, а ее возбужденное дыхание услыхал он за своей спиной и стремительно обернулся, недовольный тем, что кто-то посягнул на его одиночество. Женщина явно была не русской. Об этом говорило и длинное белое, не по-нашему скроенное платье и темный платок, простенький, с нерусскими орнаментами, и широкий черный пояс, плотно перехватывающий талию. В темных, коротко подстриженных волосах виднелись редкие нити седины. Худенькое бледное лицо с узким подбородком было суровым. Вероятно, она ожидала увидеть кого угодно, но отнюдь не советского полковника — суровое выражение на ее лице сменилось беспокойной растерянностью. — Пане пулковнику, — заговорила она недовольно, — так бардзо не добже. Здесь кладбище. Здесь не говорят громко. Тонкие губы женщины оскорбленно вздрогнули. Он сначала смутился, но, овладев собою, беспечно возразил: — А почему бы мне и не говорить громко, пани? Что я, рыжий, что ли? — Рыжий, — повторила за ним женщина растерянно. — Пан полковник произнес слово «рыжий»... Товарищ полковник, товарищ полковник, вы... — Она еще раз взглянула в его зеленоватые глаза, щурившиеся от солнца, — Виктор! Полковник вздрогнул, все уже поняв. — Ирена... — Неужели это ты! — тихо проговорила женщина. — Неужели ты стоишь рядом... живой? — А что же я, рыжий, что ли, чтобы помирать! — взяв себя в руки, засмеялся полковник. — Да, да, — глухо проговорила она. — Но как же это? — Женщина посмотрела растерянно на серое надгробие, у которого они стояли. Полковник тоже посмотрел на обелиск, еще раз прочитал все, что значилось на могильной плите: «Гвардии капитан Виктор Федорович Большаков. Июль 1920 — май 1945 год»...
* * *
Среди военных летчиков много зеленоглазых. Кто знает почему. Может быть оттого, что зеленый цвет глаз часто присущ людям порывистым и смелым, закалившим в себе волю. Или оттого, что глаза у летчиков, как ничьи другие, преломляют в себе самые различные небесные оттенки. Словом, среди тех, кто сделал своей профессией полеты в небо, много людей с зелеными глазами. В человеческом обиходе употребляется выражение: прочитать в глазах. Им довольно часто пользуются и в устной и в письменной речи. И действительно, во многих случаях по глазам сравнительно точно угадывается состояние людей: в горести они или в радости, в тоске или в тревоге. Но у летчиков, обладающих зелеными глазами, сделать это значительно труднее. При всей несовместимой разнообразности оттенков такие глаза часто имеют одну особенность. В нужную минуту они становятся непроницаемыми, словно покрываются заледенелой пленкой, и тогда невозможно узнать, что у человека на душе. Он может бороться с растерянностью, или же тосковать, или раздумывать над принятием важного решения, или быть совершенно спокойным, прогнав от себя робость и неуверенность, — об этом нельзя догадаться по глазам. Чуть насмешливый холодный зеленый блеск их ничего не выдаст тому, кто в эти глаза заглянул. Попробуйте подойти к срубу и посмотреться в глубокий колодец. За темно-зеленоватой поверхностью вы никогда не увидите дна. Именно такие глаза были у двадцатичетырехлетнего Виктора Большакова, гвардии капитана, командира корабля из полка тяжелых бомбардировщиков. Любые раздумья и переживания умел он прятать за внешней бесшабашностью и холодной насмешливостью зеленых глаз. Совершив сто тринадцать полетов на бомбометание по дальним объектам, попадал он в самые различные переделки. Не однажды отбивался со своим экипажем от истребителей противника и приводил на аэродром тяжело поврежденную машину. С большим трудом, вопреки всем правилам техники пилотирования, приземлив эту машину, он с удовольствием, прибегая, как и все летчики, к жестикуляции, рассказывал об этих переделках, но никогда его глаза при этом не изменяли спокойно-насмешливого выражения. А если ему было трудно или попросту не хотелось о чем-нибудь распространяться, он, как древний рыцарь за щит, прятался за одну и ту же фразу, которую повторял до надоедливости, часто с нарочито дурашливой ухмылкой: — Да что я, рыжий, что ли? — И умолкал. Однажды беседовавший с ним по какому-то важному вопросу замполит полка, пожилой и всегда степенный подполковник Латышев, в прошлом научный работник, не выдержал и вспылил: — Послушайте, капитан, мы разговариваем с вами какой-нибудь десяток минут, а вы этого рыжего уже пять раз произнести удосужились. — Замполит снял очки в роговой оправе и рассерженно положил их на стол. — Просто не понимаю. Смотрел на днях ваше личное дело, там черным по белому написано, что до авиационной школы вы в индустриальном институте учились. Ну должна же у вас быть какая-то элементарная интеллектуальность. Но опять промолчали зеленоватые глаза летчика, лишь уголки рта не то насмешливо, не то обиженно покосились. — Что касается интеллектуальности, об этом вы со мной после войны приходите рассуждать, — спокойно возразил он, — а сейчас штурвал, триммер, противозенитный маневр... да и вообще, рыжий я, что ли, чтобы об этой интеллектуальности распространяться. Виктору вспомнилось детство, тесная, на пятнадцать человек детдомовская комната и его сосед по койке — рыжеголовый слабосильный Валька, у которого петлюровцы заживо сожгли в хате отца и мать. Среди этих пятнадцати нечесаных и не всегда сытых ребят был несносный задира Славка-гусь, безжалостно помыкавший всеми. Только новенького — Виктора — он не трогал, остерегаясь его насмешливых зеленых глаз и жестких кулаков. Однажды Славка-гусь отобрал у рыжего Вальки плитку макухи и, бесстыдно болтая ногами, стал есть ее на глазах у потерпевшего. Было это вечером, перед сном. Виктор вошел в комнату, когда рыжий Валька, всхлипывая от обиды, клянчил: — Отдай, Гусь... исты хочу... отдай! Трудно сказать, что разжалобило сразу Виктора, — то ли сморщенное заплаканное личико мальчика, то ли наглая уверенность обидчика, — но только он шагнул к сидевшему на табуретке Славке и потребовал: — Отдай сейчас же, Гусь... слышишь! — Подумаешь, командир нашелся, — презрительно протянул Славка, с хрустом грызя макуху. — Вот надаю по шее, будешь знать. Договорить он не успел. Ударом в подбородок Виктор сбил его с табуретки и навис над ним всей своей плотной фигурой. Плитка макухи полетела в сторону, и обрадованный Валька тотчас же ее схватил. Славка-гусь, сопя, поднялся и замахнулся было на Виктора, но на него посыпались новые удары. Под левым глазом у Гуся вспух красный рубец. — Пусти, что ли... — запросил он пощады. — То-то же, — переводя дыхание, смилостивился Виктор. — И запомни, что я тебе не рыжий. И понес он с тех пор по жизни это грубоватое изречение. Словно куст крапивы в чистый огород, проникло оно в его речь да так и прижилось. Но не объяснять же все это замполиту. И Большаков ответил на его слова усмешкой, которую замполит истолковал совсем по-другому. Таким же холодно-спокойным был Виктор и в те минуты, когда получал новое задание. Полковник Саврасов, командовавший гвардейской частью дальних стратегических бомбардировщиков, был хорошо известен на всех фронтах. Это он в жестоком сорок первом году, когда немцы были у Химкинского водохранилища и, как казалось почти всему миру, должны были захватить Москву, совершил со своим экипажем неслыханной дерзости налет на Берлин, чем и вошел в историю войны. Саврасову было на год больше, чем гвардии капитану Большакову, и был он для всех летчиков непререкаемым авторитетом, потому что летал наравне с ними и никогда не прятался за чужие спины, если выпадали трудные боевые задания. Появившись у командира полка в кабинете, Виктор небрежно откозырял и вместо уставного «гвардии капитан Большаков явился по вашему вызову» коротко спросил: — Звали, товарищ полковник? Саврасов вместе с начальником штаба сидел над картой фронта и дальних тылов противника, разостланной на добротном письменном столе с резными массивными ножками, но такой большой, что она падала со всех сторон на паркетный, давно не вощенный пол. Штаб полка размещался в старинном фольварке с белыми ажурными колоннами, принадлежавшем Казимиру Пеньковскому, предусмотрительно сбежавшему с отступающими фашистами. В большом зале на стенах висели портреты. Саврасов, выбиравший помещение под штаб, войдя в нарядный зал, решительным жестом указал ординарцу на стены: — Этих убрать в сарай. Через минуту вбежал запыхавшийся замполит Латышев и сердито воскликнул: — Ну не ожидал я от тебя, Александр Иванович! Ты же Шопена и Сенкевича выбросил. Да еще Огинского в придачу. — А, черт, — выругался Саврасов, — они же без подписи были! Тогда всех назад, ординарец. — Постой, командир, — засмеялся замполит, — всех назад тоже не надо. Там же Пилсудский и Мосьцицкий вместе с ними. И остались в зале портреты всему миру известных поляков, о которых вчерашний молотобоец Сашка Саврасов, добродушно улыбаясь, сказал: «Вот черт, теперь я эти лица до самой смерти не спутаю». ...Услыхав спокойный, чуть глуховатый голос Большакова, Саврасов поднял голову. На кителе у него звякнули две золотые звездочки. — Садись, Виктор, в ногах правды нет. Большаков сел в большое мягкое кресло. Резные подлокотники щерились на него львиными зевами. Он положил планшетку ребром на колени, придавил ее тяжелыми ладонями. — Ты как отдохнул? — поинтересовался Саврасов. — Вполне удовлетворительно. — Вот и хорошо. Пойдешь ночью на большой радиус. Очень сложное и опасное задание, не скрываю... — Чего ж скрывать, — пожал плечами Большаков, — мы не в прятки играем, воюем. А я уже пережил свой сто тринадцатый вылет. Раз на сто тринадцатом не сбили, дальше жить будет легче. — Вот и пойдешь в сто четырнадцатый, — подытожил полковник. — Смотри. — И он ткнул красным карандашом в карту. Между Брестом и Бяла Подляской маленьким кружком затерялся аэродром Малашевичи, что приютил дальние бомбардировщики полка. Острый карандаш провел от этого аэродрома длинную, в несколько изломов линию. — Пойдешь вот так, — озабоченно продолжал полковник Саврасов, — от Малашевичей до Минска-Мазовецкого на полторы тысячи метров. Дальше впереди линия фронта и Варшава. Варшава нам, конечно, ни к чему. Ее надо обойти. От Минска-Мазовецкого скользнешь на север и Вислу пересечешь южнее Вышкува. На этом отрезке наберешь пять тысяч метров. Зенитки тебя, разумеется, обнаружат и обстреляют. Уйдешь за облака и потом с курсом двести восемьдесят пять выйдешь за городом Коло. Отсюда, над этими вот лесными массивами, пройдешь до южной окраины Познани. Здесь их центральный аэродром. Он послужит тебе ориентиром. Видишь, как все сложно с маршрутом. Большаков недоверчиво усмехнулся: — В сорок первом из-под Орла на Констанцу и на Плоешти посложнее были маршруты. — Подожди, не суйся поперед батьки в пекло, — сдержанно осадил его полковник, — самого главного не успел еще тебе сказать. Дело не только в маршруте. Очень трудна и опасна цель. Здесь, в районе познанского аэродромного узла, твой экипаж должен снизиться до четырехсот метров. Сам знаешь, что это такое, когда ПВО будет работать на полную катушку. — А цель? — уже нетерпеливо вырвалось у Большакова. — Цель точечная, — медленно произнес Саврасов, и его смуглое лицо южанина стало еще более серьезным. — Мост? — Нет. — Вокзал? — Тоже нет. Казино. Казино, под которое они приспособили бывший кинотеатр. Сегодня там большое совещание фашистского командования. Будет весь цвет Варшавского фронта: и старшие офицеры, и генералы. — А откуда вы с такими подробностями, — осклабился Большаков, — они вам что, пригласительный билет разве прислали? Саврасов погасил улыбку в коротких густых усах. — Вроде как да. Только не они, а наши разведчики. Теперь ты понимаешь, какое это облегчение для всего фронта, если ты накроешь всю эту сволочь серией бомб. — По-ни-маю, — врастяжку ответил Виктор. — Ну и отлично, — не глядя ему в глаза, продолжал командир. — На высоте четыреста метров подвесишь над юго-восточной окраиной Познани САБ. Бомбить будешь по данным нашей разведки. Наши разведчики дважды подадут сигнал: две зеленые и одну красную ракеты. Кинотеатр рядом с двумя костелами. Их постарайся пощадить. Нам сейчас с папой римским ссориться нечего. Вот, кажется, и все. Можешь идти и прокладывать со своим штурманом маршрут. Но Большаков не уходил. — Понятно, — медленно протянул он, — значит, будем бомбить, как «илы», почти с бреющего. Хорошенькая работа! Не каждый день бомберам такую задают. — Если не уверен, что попадешь, откажись, — сухо предложил полковник, снова наклоняясь к карте и всем своим видом показывая, что разговор исчерпан. — Зачем же, — усмехнулся Большаков, — что я, рыжий, что ли, чтобы не попасть, да еще с таким штурманом, как Алехин. — Тогда прокладывайте маршрут. Вылет в двадцать один ноль-ноль. Когда осенние сумерки плотно легли на землю, открытый, много раз чиненный «виллис» заехал за Виктором Большаковым. На заднем сиденье сидели штурман Алехин и оба воздушных стрелка, неестественно громоздкие, в мягких меховых комбинезонах. Летчики полка носили их и в теплое время, потому что в дальних полетах приходилось подниматься на большие высоты. Эти трое плотно жались друг к другу, стараясь оставить для капитана побольше места. Рядом с водителем сидел полковник Саврасов, в шлемофоне, коричневой кожаной курточке и франтоватых хромовых сапогах, таких тесных, что было удивительно, как это он еще ухитрился засунуть за голенище ракетницу. — Готов, что ли, Виктор? — Готов. — Ну, полезай, дружище. Назвался груздем — полезай в кузов. — Я груздем не назывался, — с холодной усмешкой откликнулся гвардии капитан, — это вы меня в грузди определили... — А что, уже не нравится? — подзадоривающе спросил Саврасов. — Могу Яровикову или Нечаеву поручить это задание, а тебе другое. К примеру, скажем, два отработанных мотора в Куйбышев на Безымянку переправить. До Волги лети себе полегоньку: ни тебе «мессеров», ни зениток, даже прожектора ни одного. Курорт! — Висла — это тоже ничего, — огрызнулся лениво Большаков, — она при зенитках и прожекторах совсем как в карнавальную ночь. А на Волге затемнение от устья и до истоков. Обойдемся и без Яровикова с Нечаевым как-нибудь. «Виллис», скрипя изношенными рессорами, подпрыгивал по кочкам и уже несся наискосок по летному полю к одной из самых дальних стоянок, где находилась «голубая девятка» гвардии капитана Большакова. У полковника Саврасова была одна отличительная черта. Он становился особенно заботливым и внимательным, когда речь шла об очень ответственном, сопряженном с огромным риском полете. В таких случаях он всегда до самой стоянки провожал экипаж и в зависимости от того, что за человек был командир экипажа, либо говорил ему дерзкие, подзадоривающие слова, как это он делал сейчас с Виктором Большаковым, которого втайне сильно любил, либо до надоедливости был ласковым и предупредительным, если имел дело с летчиком, по его мнению, немного колеблющимся, которого надо было подбодрить и упрочить у него уверенность в успешном возвращении. На этот раз боевое задание было не только весьма трудным и опасным. По мнению начальника штаба полка, экипаж, сумевший накрыть бомбами кинотеатр, где происходило совещание нацистов, должен был впоследствии попасть под губительный огонь зенитных батарей и быть неминуемо сбитым. Саврасов этого мнения не разделял. Он даже прикрикнул на подчиненного, когда тот не совсем уверенно сформулировал эту свою точку зрения, но про себя подумал, неприязненно поглядев на седую голову пятидесятилетнего начальника штаба: «А ведь прав старый штабной волк». И у него самого, у бывшего кузнеца Сашки Саврасова, автора первого налета на Берлин, горько и обидчиво застучало сердце оттого, что не мог он беспощадно опровергнуть эти такие неуместные слова о живом. Вот почему, провожая гвардии капитана Виктора Большакова в полет, интуицией опытного летчика, побывавшего во всяких переплетах, понял он, что не может с безупречной точностью ожидать назад этот самолет и его приземление, которое было указано в таблице боевого расчета под цифрами «23.57». И от этой жестокой реальности тоской наполнилось сердце командира. Так они и ехали в одной машине к самолетной дальней капонирной стоянке: дважды Герой Советского Союза, молодой, дерзкий полковник, которого знала вся страна, и никому за пределами своей части не известный рядовой командир экипажа гвардии капитан Виктор Большаков. Они всю войну провели вместе, в одном полку, и были незримые нити, которые их прочно связывали, временами превращая отношения начальника и подчиненного в отношения ровесников. Над аэродромом набухали плотные сентябрьские сумерки. Пожелтелые листья грустно шевелились на деревьях. Их глухой и невнятный шелест наполнял тоской. Сквозь просветы между деревьями с опушки виднелось широкое, потонувшее в сумерках поле аэродрома. Ночью казалось, что нет ему ни конца, ни края. Высокие кили дальних бомбардировщиков сейчас почти не проглядывались даже на близком расстоянии. «Виллис», чихая мотором, домчал их до притаившейся под маскировочной сетью «голубой девятки». Приняв от техника рапорт о готовности материальной части, Виктор стал на земле надевать на себя парашют, затягивая на толстых ногах лямки. Один за другим защелкнулись замки. Фантастически толстый в вечернем мраке, Большаков похлопал себя по коленкам кожаными крагами, глуховато продекламировал:* * *
Рев моторов сплетался в тугую басовитую струю. Уже несколько минут «голубая девятка» находилась в воздухе. Оба двигателя равномерно пожирали высокооктановое горючее. Правая рука Большакова очень легко лежала на штурвальной баранке, а ноги в тяжелых унтах время от времени утопляли то одну, то другую педаль. В кабине было выключено освещение, но приборная панель не стала от этого темней. Фосфоресцирующие стрелки матово отсвечивали. Свет этот напоминал мертвенное мерцание северного снега под стылой луной, но на Виктора удручающего впечатления не производил. Наоборот, он ему больше напоминал ровный, успокаивающий глаза кабинетный свет, при котором хорошо читать умные интересные книги или готовиться к занятиям. Немного замкнутый по натуре, Виктор любил ночные полеты. Время в них тянулось медленнее, чем в дневных, опасности возникали только над линией фронта, большими городами и целью, а на остальных этапах маршрута, когда большая машина, растворившаяся в бескрайнем ночном мраке, становилась настоящей невидимкой, летчиком овладевало подкупающее спокойствие. Под ровный шум моторов, поставленных на большой шаг винтов, хотелось думать и думать. И еще любил Виктор этот двухмоторный бомбардировщик за его приспособленность к дальним полетам, проходившим очень часто в облаках или за облаками, когда и земля-то не видна, да за уютность обжитой кабины. Раньше летал он и на Пе-2 и на СБ, но там приборная доска почему-то казалась ему сложнее и само расположение тумблеров, рычагов и кнопок не таким удобным, как здесь. По глубокому убеждению Виктора Большакова, все летчики делились на три категории: на случайных, неприспособленных и прирожденных. Первая категория пояснений не требовала. Входили в нее люди, попавшие в авиацию по недоразумению. Чаще всего в пилотскую кабину их приводил юношеский порыв, а потом они уясняли, что авиация вовсе уж не такое романтическое занятие, каким казалось. Одни из этих случайных быстро выбывали: кто погибал в авиационных катастрофах, кто пользовался первым удобным случаем, чтобы списаться и как можно дальше оказаться от сложной неподвластной машины, именуемой самолетом. Те же из них, кому не пришлось ни погибнуть, ни списаться, оставались в авиации тяжким грузом и составляли категорию неприспособленных, про которых инструкторы и командиры давным-давно сложили ходкую поговорку о том, что медведя и того научить летать можно. И наконец, третья, наиболее многочисленная категория — к ней, несомненно, примыкал и сам Виктор Большаков — состояла из летчиков по призванию, влюбленных в авиацию и преданных ей «до дна и покрышки», как об этом говорил тот же полковник Саврасов. Возможно, поэтому, немногословный и замкнутый на земле, Виктор Большаков словно оттаивал в воздухе. Черты его лица становились мягче, нижняя челюсть не казалась тяжелой, а зеленые глаза излучали добрый и нежный свет, и не было в них обычного ледка. Голос его тоже был добрым и мягким, когда окликал он по переговорному устройству членов своего экипажа или подбадривал их в минуты опасности. В полете на него находили самые неожиданные мысли, и он любил им предаваться в ночной тишине и одиночестве, когда затерянной песчинкой в синем от звезд пространстве шел бомбардировщик к цели, ровно, без толчков и подбалтываний, отчего скорость почти не ощущалась. Сейчас Виктор испытывал легкое давление на уши. Самолет шел с набором высоты. Под широкими плоскостями «голубой девятки» уже промелькнули темными, едва различимыми контурами и маленький зеленый городок Бяла Подляска, и железнодорожный узел Седлец, и, наконец, приблизился, наплывая на огромный остекленный нос бомбардировщика, беленький, провинциально уютный Минск-Мазовецкий. «Кто же это мне говорил, — усмехаясь, вспомнил Виктор, — будто у Пилсудского сдохла любимая собака и он велел поставить ей в этом городе на собачьей могиле обелиск. Интересно, правда это или брехня?» — Гейдаров? — окликнул он стрелка-радиста. И мгновенно с легким кавказским акцентом отозвался из хвостовой рубки сержант: — Слушаю, командир. — Передай, что прошли Минск-Мазовецкий и меняем курс. — Есть, командир. — Штурман, меняем курс, как настроение? — Гвардейское, командир, — засмеялся в наушниках Алехин. От прибавленных оборотов оба мотора с натугой завыли, и носовая часть самолета приподнялась. Земля теперь удалялась от них, поглощенная сумерками фронтовой ночи. «А все-таки она тихая, — подумал Виктор, — вот что значит летать не в сорок первом, а в сорок четвертом». И ему вспомнилось, как бывало с этим же самым экипажем ходил он на боевые задания суровой зимой сорок первого. Он тогда взлетал с Раменского аэродрома, а дальними объектами считались цели под Киевом, Полтавой и Львовом. И пока шли до фронта, даже в самую темную ночь, напоминала о себе земля пожарами, густыми струями пламени, с высоты казавшимися каплями крови на теле родной земли. «А теперь уже мы вырвались из плена, — подумал он, — сами наступаем». Капитан вспомнил об экипаже. Он к нему очень привязался. И к застенчивому белявому штурману старшему лейтенанту Алехину, и к стрелку-радисту, всегда шумному, жгуче-черному азербайджанцу Али Гейдарову. Вот Пашков, нижний люковой стрелок, у него сегодня новый, с этим он не летал. Но ввоздухе с ним будет поддерживать связь только Гейдаров, а у самого командира корабля лишь два радиокорреспондента: штурман и стрелок-радист. Он их знал еще по сорок первому и доверял им беспредельно. Алехин увлекался математикой, а Гейдаров возил за собой с аэродрома на аэродром подаренную ему, как он говорил, еще дедом, зурну и на досуге пел то длинные, как ночь, то стремительные, как ветер, родные азербайджанские песни. Его поддразнивали, часто спрашивая, хорош ли город Баку, и Гейдаров, скаля от удовольствия большие белые зубы, хлопая себя по ляжкам, восклицал: — Разве не знаешь, дорогой, разве не был у нас ни разу? Это такой город, такой город! Пальчики себе оближешь, когда увидишь, вино «кара-чанах», виноград «Шамхор», шашлык по-карски с гранатовым соусом. Всем угощу, когда приедешь. А Большаков смотрел в такие минуты на Гейдарова и невесело думал: «Нет, не вернешься ты на родной Апшерон, дорогой Али, и угощать тебе никого не придется. Слишком легкая пожива для «мессершмиттов» и «хейнкелей» стрелок-радист тяжелого маломаневренного бомбардировщика». Да, Большаков был прав в своих мрачных предположениях. Не проходило недели, чтобы кто-либо из командиров экипажей не сажал на летное поле самолет с убитым или тяжелораненым стрелком. И получалось обыкновенно так, что машины эти возвращались домой с двумя-пятью пробоинами или другими повреждениями, легко поддающимися устранению, а в кабине стрелка, под выпуклым сферическим колпаком, безвольно качалось на привязных ремнях тяжелое стынущее тело. Потом в вышестоящий штаб посылалось лаконичное донесение: мол, в течение ночи с такого-то на такое-то полк уничтожал заданную цель. Совершено столько-то боевых вылетов, сброшено столько-то ФАБов и ЗАБов, противнику причинен такой-то ущерб. Все самолеты возвратились на свой аэродром. Потери: один стрелок-радист. А утром у входа в столовую вывешивался траурный боевой листок. Из угрюмой черной рамки глядело на проходящих чье-либо до боли знакомое мальчишечье лицо. Но Гейдарову везло. Три раза повидал он на близком расстоянии черные кресты «мессершмитта», сбил одного, и даже пулей тронут не был. — Подходим к линии фронта, — послышался в шлемофоне голос Алехина. — Слышу, штурман, — ответил ему задумавшийся Большаков. Плавными движениями рулей он установил новый курс. Набирающий высоту бомбардировщик снова выровнялся в синем ночном пространстве. Под правой его плоскостью, где-то в стороне, лежал сейчас объятый сумерками городок Вышкув. Над линией фронта уже появились облака, но были они рваные, в их огромных разрывах зияла земля, но совсем уже не такая сонно спокойная, какой она была до сих пор на всем протяжении полета. Всполохи зеленых и белых ракет освещали прибрежные селения, и даже с высоты было заметно, что многие из них разрушены и мертвы, только у обгорелых каменных стен и в огородах прячутся танки и орудия да задымленные походные кухни. Виктор перенес медлительный взгляд налево и в разрывах облаков увидал желтые песчаные отмели. Нет, это догадаться только можно было, что они желтые. Сейчас при безжизненном ракетном свете войны было видно, как жадными острыми языками влизываются они в темную гладь реки. Висла, широкая и гладкая, почти прямая в этом месте, с высоты казалась недвижимой. Ни одного баркаса не было на ее середине. Лишь тонкие трассы фланкирующих пулеметов секли воздух над самой водой. «Вислу воспевали, называли красавицей, — горько усмехнулся Виктор, — чего же тут красивого в этих желтых плесах и желтых пулях над ними». И ему вдруг стало горько и больно оттого, что он так долго воюет. Сто тринадцать раз пересекал он линию фронта, и какая разница, в каких широтах? Сто тринадцать раз имел дело с зенитками, а иногда и «мессершмиттами», сто тринадцать раз напрягал волю, а нервы заставлял становиться бесчувственными. Сколько же придется еще?! У Большакова было свое собственное отношение к войне. Он прекрасно понимал, что в ее большом водовороте он всего лишь затерянная, маленькая песчинка, что сила каждой из воюющих сторон: с одной стороны, его Родины, а с другой — мрачной фашистской Германии — состоит из миллионов таких песчинок, но все-таки считал судьбу свою одной из самых трудных солдатских судеб. Круглый сирота, Виктор за месяц до войны в одном из сочинских санаториев повстречал повзрослевшую школьную подругу Аллочку Щетинину и женился на ней. На рассвете 22 июня он был вызван в полк по тревоге и в тот же день уехал на фронт, провожаемый тихой, беленькой, заплаканной Аллочкой. Почти в беспамятстве целовала она его горькими, пахнущими мятой губами и жалобно шептала, закрывая глаза: — Как все это страшно, Витюша, как страшно. А что будет, если я стану к тому же и матерью. Его огорчила тогда эта новость. Он, постоянно мечтавший о ребенке, говоривший о нем в короткие ночи их жадной молодой любви десятки и сотни раз, вдруг расстроился от одной мысли, что Алла будет ожидать родов одна, что эти недолгие торопливые их ласки были, может, последними в его жизни. А потом весной сорок второго года он получил из волжского городка Канавино простенькую фотографию, где была похудевшая печальная Аллочка и двухмесячный их сын Сережка у нее на руках, с раскрытым, пухлым, как у всех младенцев, ртом и темными пуговичками удивленных глаз. Далеко не все однополчане знали о его женитьбе, и вряд ли кто мог предполагать, что этот немного хмурый с виду и малость заносчивый капитан едва не плачет по ночам, целуя эту фотографию и воскрешая в памяти короткие ночи своей первой большой любви. И Виктору всегда казалось, что его солдатская судьба едва ли не одна из самых горьких. — Душу мне война растоптала, — произнес он вполголоса, — по самому телу прошла. Темная Висла, временами озаряемая вспышками орудий, бьющих с левого и правого берегов, уплыла под крыло, и Володя Алехин скупо передал: — Командир, нас обстреливают зенитки. Заткнуть им глотку ФАБом? — Потерпи, штурман, не стоит размениваться на мелочи. За толстым бронированным стеклом пилотской кабины ночь и линия фронта в огневых разрывах. Впереди и справа темень прорезали три яркие вспышки. Клубы огня на мгновение озадачили капитана, но он тотчас же заставил тяжелый корабль чуть снизиться и накрениться в сторону разрывов. Вероятно, он это сделал вовремя, потому что следующий черный клубок остался уже слева. — Отличный маневр, командир! — восторженно воскликнул штурман. — Крепись, Володя, — ободряюще отозвался Большаков и только сейчас понял, что весь этот сложный противозенитный маневр он выполнил гораздо раньше, чем успел его осмыслить. «Отчего бы это? — подумал он. — Неужели оттого, что в действиях летчика на самом деле есть тот самый автоматизм, о котором инструкторы нам продолбили уши в авиашколе? Глупости. Никакого автоматизма нет. Летчик такой же человек, как и все другие. Есть разум, и есть быстрота реакции, рождаемая этим разумом. И еще к тому же привычка. А все-таки чудесное вещество маленький комочек, именуемый человеческим мозгом, — усмехнулся про себя Виктор. — Вероятно, со временем люди научатся строить самолеты с огромными скоростями, может быть на Луну и на Марс улетят, а вот такое вещество едва ли в какой лаборатории изобретешь». — Ты как там, штурман? — спросил он по СПУ. — В авиации порядок, — рассмеялся в наушниках Алехин. — Из одной зоны огня вышли, второй отрезок маршрута пройдем поспокойнее. — Я наберу еще с полтысячи метров. — Давайте, командир. И снова равномерный гул моторов и ночь за остекленной кабиной. Кто это сказал, будто бы летчик не думает, а только действует в полете, что в воздухе для посторонних размышлений у него не остается времени. А! Это о нем самом, о Викторе Большакове, так написали в сорок первом году в армейской газете. Приезжал смуглый молоденький лейтенант, страшно смущавшийся в разговоре оттого, что одним неосторожным вопросом может обнаружить свою авиационную неграмотность. А потом пришла газета, и Виктор в ней прочел: «Горластые моторы вынесли самолет на высоту в пять тысяч метров, и вот настали минуты, когда летчик не может думать ни о чем постороннем. Только приборы, только наблюдение, только штурвал». Шалишь, мальчик. Все ты наврал. Для чего же человеку дана такая чудесная машинка, как мозг, если он не будет ею пользоваться. Вот и сейчас, с противозенитным маневром. У него в сознании еще не успели сложиться слова об опасности, а этот комочек отдал приказ, и руки действовали и уносили прочь от разрывов пятнадцатитонную машину. И разве не он, этот удивительный комочек, привел людей к тому, что стали они поднимать в воздух такие пятнадцатитонные машины, водить их на больших высотах, где без кислородной маски много не надышишь? А что такое самолет, летящий к заданной цели? По глубокому убеждению Большакова, самолет в воздухе — это соединение лязга металла, грохота моторов и огня. И в этой формуле главным элементом он считает огонь, потому что весь самолет от хвоста и до носа, увенчанного штурманской кабиной, пропитан огнем. Да, это так. Огонь врывается в ночь веселыми всполохами из-под капотов обоих моторов, он мерцает под стеклами приборов на приборной доске. Огнем заряжены пулеметы и пушки этой большой машины, гудящей сейчас над тревожно притихшей землей. Огонь в огромной концентрации дремлет в фугасных зарядах бомб, подвешенных под крыльями или наполняющих бомболюки, даже в ракетнице, что на всякий случай засунута за голенище сапога у него, командира экипажа, — и в той огонь. «А в душе у тебя, Виктор, — вдруг спросил он себя самого, — у Алехина, у Али Гейдарова, может, одна усталость и никакого огня? Ведь четвертый год бороздишь ты фронтовое небо, ускользая от зениток и вражеских истребителей с единственной задачей — дойти всякий раз до указанной точки и сбросить бомбы именно туда, куда требует задание». Он усмехнулся и передернул плечами, сбрасывая с себя и гоня прочь тяжелые эти мысли. «Да что я, рыжий, что ли, что бы позволить усталости потушить огонь. Есть огонь!» И он подумал о своем заветном, да и не только его, но и всех летчиков желании дожить до того дня, когда Саврасов развернет карту и скажет: — А теперь, друзья мои, я вас прошу проложить маршрутную черту прямехонько на Берлин. — Прищурится и усмехнется: — Все ли нашли на карте Берлин? И он, Виктор Большаков, обязательно тогда попросится повести первый эшелон дальних тяжелых бомбардировщиков на фашистскую столицу. Он ни за что не спутает район Силезского вокзала или Александерплац с Панковым или Карлхорстом. Они с Алехиным прорвутся сквозь столбы прожекторов к самому центру, пронесутся над аркой Бранденбургских ворот и положат куда надо бомбы. А если Саврасов сам решит повести на цель бомбардировщики? Тогда Виктор, не взирая на разницу в чинах и званиях, положит ему руку на плечо — они же почти ровесники — и скажет: — Слушай, Александр Иваныч, это уже эгоизм. Ты ходил на Берлин, когда это казалось невозможным всему миру, потому что наша армия отступала и фашисты стояли под Химками. Не зажимай же теперь подчиненного. Мне с двадцать второго июня снится этот налет. Мы хорошо с Алехиным ударим. За всех наших погибших товарищей, за всех солдатских вдов, за всех, кто томится в концлагерях или не дожил до этого дня. И конечно же тогда бывший луганский кузнец Сашка Саврасов не выдержит, потому что не из глухого железа у него сердце, и предоставит это право ему, Большакову. ...А сегодня как ты понимаешь этот свой полет, Виктор? Большаков поджал губы... Самолет вошел в сплошную облачность, и его стало резко встряхивать. Машину било неровными тряскими толчками, и летчику приходилось теперь внимательно пилотировать, чаще дополнять движения штурвала движениями рулей глубины. — Командир, до цели тридцать пять минут, — доложил Алехин. — Знаю, — согласился Виктор, — через пять минут меняем высоту и курс. Цель! Где-то она притаилась в ночном мраке и, вероятно, не ждет, совсем не ждет, что в эту темную осеннюю ночь, во всем похожую на все другие осенние ночи, четыре человека на высоте шести тысяч метров, такие неуклюжие в своих меховых комбинезонах и сковывающих движения кислородных масках, несут ей смерть. «Цель у меня сегодня веселая», — определил капитан и сразу представил оживление, царящее сейчас за шторами немецкого казино. Вероятно, деловое совещание фашистских штабистов давно завершилось и теперь они развлекаются. Под высоким сводчатым потолком в хрустальных люстрах сияет огонь, пожилые генералы гитлеровского вермахта, вытянув ноги, блаженно греются у камина, а в большом зале саксофоны, смычки и флейты захлебываются какой-нибудь по-немецки сентиментальной, джазовой песенкой, скользят по навощенному паркету эсэсовцы и фронтовики с какими-нибудь раскрашенными артисточками или иными женщинами, случайно подаренными им войной. А может, нет ни музыки, и ни танцев, и ни накрашенных девиц. Длинный стол, и за ним на фоне бутылок и закусок сугубо мужской ужин и почти деловой разговор. Где-нибудь в центре стола генерал-полковник Ганзен, о котором шепнул ему перед вылетом Саврасов, командиры дивизий и корпусов, сдерживающих советские войска на Висле, — весь цвет фашистского фронта. «Рюмки две коньячку с того стола сейчас бы пропустить неплохо», — усмехнулся про себя Виктор. — Цель хорошая, — произнес он вслух. — Вы что-то сказали, командир? — Ничего, Алехин, ровным счетом ничего. — Мы прошли Коло. — Очень хорошо. И опять ревут моторы. Но странно, как разбегаются мысли. До цели остается уже двадцать минут, а ему ни о чем не хочется думать. Гул моторов сейчас не кажется убаюкивающим. И кабина, столь хорошо обжитая, тоже не кажется больше уютной. Вместе с приближением цели приходит к нему та тревожная возбужденность, которую уже переживал он в этой войне сто тринадцать раз. Нет, она — не страх. Она — это возбуждение перед неизвестностью, перед тем, что его ожидает над целью. Это те минуты, когда любой летчик теряет последнее представление о боевой авиационной романтике, когда унылой и опасной, и трудной кажется предстоящая работа, и только. Виктор знает и другое: стоит ему лишь успешно сбросить бомбы, вызвать огонь и взрывы во вражеском тылу, и на смену этой оцепенелости мгновенно придет пьянящее чувство боевого азарта. Но сейчас... Он словно впервые замечает, что жестко сиденье, в котором утоплен парашют, что лямки застегнуты неудачно и жмут, что кислородная маска плохо пригнана, а ларингофоны на шее слишком холодны. Вдобавок ко всему раздражает свет, что заливает приборную доску, — он блеклый, безжизненный... И капитану начинает казаться, что, отделенный от членов своего экипажа металлическими переборками кабин, он сейчас совсем одинок в черном массиве ночного неба, упрятавшего за ровным однообразно-непроницаемым слоем облаков польскую землю с ее городами и селами, обожженными войной. «Это нервы, — шепчет про себя Виктор, — это надо прогнать». Он знает по опыту, сколь тяжело переживать в дальнем бомбардировщике неизбежные ощущения, овладевающие при подходе к цели, когда тревожная неизвестность все активнее и активнее наступает на тебя. «Нет, ты меня не сломишь. Я не сдамся тебе на милость», — повторяет он. И странное дело: чем ближе цель и время нанесения по ней удара, тем спокойнее становится на душе, и в холодной металлической кабине четким и безошибочным кажется каждое сделанное движение. Отдав от себя штурвал, он погружает нос бомбардировщика в черную кипень ночи. Клубятся за плексигласом облака, нос самолета бесшумно вспарывает их, а встревоженная стрелка высотомера, дрожа, как в ознобе, шарахается вверх. Нелюдимо-однотонный полог туч кончается на высоте двух тысяч метров. Если бы прочертить сейчас кривую снижения, она бы получилась замысловатой. Капитан утопил свой самолет в бездонной темноте и очутился гораздо западнее Познани. Он скорее почувствовал, нежели определил по темным контурам земли, что летит теперь под облаками и может наблюдать большие ориентиры. Где-то близко притаилась в ночном хрупком молчании Познань. Огромный город, оккупированный фашистами, сторожко спал, и ни одного огонька не было видно. Значит, и тут, в далеком сравнительно от линии фронта городе, не видят снов и умеют хорошо опускать маскировочные шторы. — Командир, до цели восемь минут. — Слышу, штурман. Стрелок, усилить наблюдение! — Есть, командир. На земле темно, как на дне Каспийского моря. — Скоро слишком светло станет, — мрачно замечает Большаков. Машина снижается и снижается, идя с небольшим углом к земле. Глаза, привыкшие к темноте, уже в состоянии выделять густые массивы леса, контуры деревень и поселков, узкие наделы хуторов, которыми исполосована почти вся польская земля. — Командир, курс восемьдесят шесть, — Есть, восемьдесят шесть. — Доворот пять влево. — Есть, пять влево. — Бросаю САБ! — кричит Алехин. Бомба парашютирует над землей, и тотчас же при ее желтом неровном свете рождаются призрачные очертания города. Виктор увидел веером разбегающиеся улицы, трамвайные пути, фабричные трубы и купола церквей. Из пилотской кабины обзор был хуже, и он не удивился тому, что не заметил самого главного. — Командир, нам сигналят, — торопливо передал Алехин, — вижу зеленые и красные ракеты. Доворот влево пятнадцать. — Есть, пятнадцать влево! — спокойно ответил Большаков и сам удивился этому спокойствию. Откуда оно берется, когда до самого опасного остаются эти последние пять-шесть минут. Вот и кровь, кажется, перестала стучаться в виски, и пульс стал ровнее, лишь голос, каким отдает он команды, носит следы только что пережитого нервного напряжения: он сдавленный и глуховатый. Зеленые и красные брызги сигнальных ракет всплеснулись над крышами Познани. Если соединить точки, из которых поданы эти сигналы, образуется правильный треугольник, и в центре его два костела и высокое здание кинотеатра. «Интересно, какую по счету рюмку подносят сейчас за своего фюрера фрицы, — холодно усмехнулся Виктор, — не будь я Большаковым, если у некоторых из них она не окажется последней». Он круто отдает от себя штурвал, убирает обороты обоих моторов. Думает: «Очень важно подойти на приглушенных моторах. На приглушенных». Гулкий, басовитый рев становится тише, моторы шипят, словно два исполинских змея, изготовившихся к прыжку. Зеленые глаза Виктора сузились и точно заледенели. В них нет ни испуга, ни волнения, одно бесстрастное ожидание. По вздрагивающему голосу штурмана Большаков догадывается, что тем овладел сейчас необузданный азарт. Алехину не терпится обрушить на казино бомбы. На высотомере стрелка уперлась в цифру «3»: это уже не тысячи, а сотни метров отсчитывает она, словно подхлестывая экипаж. Тяжелый бомбардировщик будто застыл: до того он медленно приближается к цели. — Боевой курс! Это командует штурман, ему надо поточнее прицелиться. — Есть, боевой курс! — откликается Виктор серьезным, посуровевшим голосом. Наконец наступили те самые ответственные секунды, когда летчику надо провести машину без единого крена, строго по прямой до того мгновения, пока не вздрогнет она осчастливленно, освободившись от груза подвешенных к крыльям бомб. Чуть ссутулившись, замер Большаков в жестком пилотском кресле и чем-то сейчас напоминает большую нахохлившуюся птицу, напряженно высматривающую добычу. Ненужная кислородная маска временно сброшена. В глазах застыли капельки влаги, и режет болью слизистая оболочка, но он еще яростнее всматривается вперед. Крыши большого города уплывают под широкое крыло «голубой девятки». Видит Виктор Большаков на них темные зенитные установки, видит на месте иных зданий груды кирпичей и оскалы стен с проваленными глазницами окон. Ночная Познань предстает перед ним фантастическим нагромождением крыш и развалин, но он сейчас выделяет среди всего этого лишь площадь с двумя костелами и кинотеатром. Три новых сигнальных огня: два зеленых и красный — освещают площадь. Там цель. — Сброс! — кричит штурман. — Али, наблюдать, — приказывает капитан стрелку-радисту, единственному, кто точнее всех в экипаже может сейчас судить о разрывах. Правда, нижнему люковому воздушному стрелку видно еще лучше, но с ним прямой связи нет, а то, что будет знать он, будет знать и Гейдаров, потому что они обмениваются всем увиденным тотчас. Самолет вздрогнул, его будто подкинуло вверх. Это оттого, что бомбы оторвались от плоскостей и ушли вниз, к цели. Теперь самое тревожное и опасное наступает в жизни экипажа, отход от цели. О! Большаков достаточно хорошо знает, какой опасной и коварной становится в это время земля, занятая врагом. Он никогда не считал стволов, жадно устремленных на его самолет, карауливших момент выхода из атаки, но он прекрасно знал, что их бывает десятки, а то и сотни и что их огонь далеко не похож на безобидный фейерверк. — Командир, площадь охвачена пламенем! — торжествующе кричит Али Гейдаров. — Над казино рухнула крыша. — Идем домой, — нажимая на букву «м», объявляет своему экипажу Большаков. Что-то мучило его сознание, терзало удивлением и тревогой. Что бы? Ах да! Он удивился тому, что при подходе к цели над городом не вспыхнул ни единый прожектор и ни одна зенитная установка не выплюнула в них огонь. Что бы это могло означать? Возможно, его самолет, подходивший на приглушенных моторах, был принят вражескими постами ВНОС за немецкий? Может, в это время, на их счастье, над городом действительно должен был пройти какой-нибудь фашистский транспортник? Как много этих «может быть» возникает в боевом полете! Но если фашисты прозевали, они ни за что так легко не смирятся с нанесенным ударом. Резкий гул, поднявшийся от земли, прервал течение его мыслей. Виктор глянул сначала в левую форточку, затем в правую и все понял. Над крышами города взметнулись в небо десятки ослепительно-желтых столбов. Прожекторы настойчиво шарили в осеннем ночном небе, а зенитчики, не дожидаясь, пока они схватят самолет, били из сотен орудий и крупнокалиберных пулеметов. Трассы вспарывали небо, огненные клубы рождались на месте разорвавшихся снарядов. Виктор успел отметить, что большинство разрывов вспыхивает выше самолета, и он сразу понял, что зенитчики не могли поверить, что советский летчик привел ночью тяжелую машину почти на бреющем. Эта их ошибка спасла бы его обязательно, если бы не прожекторы. Их становилось с каждой секундой все больше и больше. Они шарили по небу, все приближаясь и приближаясь к нему. Сейчас он уже твердо знал, что не удастся их провести. Они его неминуемо настигнут: слишком мала у стратегического бомбардировщика скорость и слишком велик радиус разворота, чтобы вырваться из их жестокого плена. — Командир, меня осветили, — передал из хвостовой кабины Али Гейдаров, — разрешите дать очередь. — Отставить! — дико заорал Большаков. — Погубишь! Он-то твердо усвоил, что, если проходишь сильный пояс заграждения, достаточно малейшей трассы, и тебя засекут, в твою кабину ворвется этот ледяной режущий свет, а весь твой самолет станет маленькой голубой звездочкой, хорошо просматриваемой зенитчиками с земли. Виктор делал маневр за маневром, меняя высоту и курс. Центр города уже остался позади, стрельба, как ему показалось, стала отдаляться. «Кажется, пронесло», — подумал капитан, и как раз в это мгновение глаза ему больно резануло, все приборы и рычаги в кабине стали отчетливо видны. Планшетка с боевой картой, лежавшая у него на коленях, беспомощно вздрогнула. — Командир, нас взяли в клещи, — доложил штурман. — Трассу! — закричал Большаков Гейдарову. Когда ожили задние пушки и брызнули огнем в зеркало прожектора, ему стало легче и вновь подумалось, что они уйдут. Но на помощь одному, неизвестно по какой причине погасшему прожектору пришли два новых и повели «голубую девятку» дальше. Впереди по курсу возникло целое сплетение разрывов. Снаряды ложились в шахматном порядке, точно по высоте. — Штурман, снижаться некуда, попробуем перепрыгнуть, — точно советуясь, сказал он странно пересохшим голосом. — Попробуйте, командир, — устало согласился Алехин. В последней надежде Виктор задрал нос самолета и стал круто набирать высоту. Он отсчитывал холодными вспотевшими губами: — Восемьсот, тысяча, тысяча двести, тысяча пятьсот, две, две сто... — Разрыв под самым хвостом, — донесся голос Али Гейдарова, — нижний люковой Пашков прекратил огонь. — Что с ним, ранен? — Убит, товарищ командир. — А, че-ерт! — Снова разрыв, второй, тре... Голос стрелка-радиста захлебнулся на полуслове, и жуткая тишина хлынула из наушников. — Гейдаров! — крикнул в отчаянии Большаков. — Говори, Гейдаров! Я тебя прошу — говори! Зачем замолчал? Штурман, как ты? — В порядке, — донесся горький вздох Алехина, — запросите еще раз стрелка. — Али, отзовись, я приказываю! Али, ты слышишь? Белое пламя встало широким столбом перед глазами капитана, и он даже не сразу понял, что это. «Голубую девятку» сильно встряхнуло, даже не встряхнуло, а подбросило, как щепку, и если бы это был не тяжелый двухмоторный самолет, а штурмовик или истребитель, его бы наверняка опрокинуло на спину. Но и у Виктора Большакова, этого сильного, жилистого парня, штурвал вырвало из рук. Бомбардировщик здорово накренило вправо. Большаков поймал штурвал, резко дал ногу, вернул машину в прежнее горизонтальное положение и только тогда опасливо посмотрел в правую форточку. Ему захотелось зажмурить глаза. Огромная дыра зияла в широком крыле. Металлическая обшивка, сорванная при прямом попадании снаряда, торчала над ней. Но рули управления повиновались, и Большаков с надеждой подумал о том, что за жизнь своей «девятки» он еще поборется. Нового близкого разрыва зенитного снаряда он почти не ощутил: до того твердо держал управление. Он только увидел сноп искр, разбежавшихся около правого мотора. Гул этого двигателя неожиданно оборвался. Он не ослабел, не стал давать перебои, как это иногда бывает, а затих сразу, словно наповал убитый воин, что падает без стона, но уже насовсем, так, что никогда не встанет больше. В кабине стало темно оттого, что прожекторы все-таки потеряли самолет, и, воспользовавшись этим, Виктор снова изменил курс, заставив тяжелую машину развернуться в сторону работающего мотора. — Живем, голубушка, — с безотчетной злостью выкрикнул он, — что мы, рыжие, что ли, чтобы погибать! Еще один блеск разрыва, и толчок в тот же подраненный правый мотор заставил его замолчать. Большаков увидел, как полетела с мотором обшивка капота и один за другим посыпались в беззвездную ночь цилиндры. Мотор разрушался у него на глазах. Это было похоже на то, будто у него у самого вырвали одно легкое и заставили дышать одним. «Долго так не надышишься, — заключил он про себя горько, — неужели это начало конца?» А зенитки все били и били. Умолкали одни, но цель подхватывали другие, провожая ее свирепым огнем. На левом, работающем, моторе Виктор набирал высоту. Он сейчас боролся за нее, как борется умирающий за каждый глоток кислорода. Высота — это единственное, что может продлить ему пребывание в воздухе, приблизить к линии фронта. Две тысячи триста, две пятьсот, две восемьсот... Кажется, никогда стрелка высотомера не ползла так предательски медленно. Зенитная пальба становится все слабее и слабее. Но это почему-то теперь не успокаивает его. В ноге, под коленкой, нестерпимая боль. Зеленые глаза Виктора в течение нескольких секунд с тупым упрямством обследуют испещренный мелкими строчками заклепок пол кабины и видят небольшую зигзагообразную щель. — Понятно, осколок, — шепчет он вслух, — но почему молчит Алехин, черт побери. Штурман, штурман! Резким простудным кашлем захлебывается левый мотор, его последняя надежда. Чадным дымом окутывается все левое крыло. Большаков, будто гончая на охоте, тянет носом и уже здесь, в кабине, отчетливо ощущает запах гари. — Штурман, штурман, — голос кажется напряженным и слабым. В наушниках громкий стон и ругань. Но они сейчас звучат для Виктора самой радостной мелодией: ведь кто-то из экипажа жив, кто-то борется за себя и за жизнь их машины, получившей сильные повреждения. Значит, теплится еще жизнь в экипаже и в этой борьбе с огнем и дымом он не одинок. — Где разрывы, штурман? — Мы вышли из зоны огня, командир, — отчетливо доносится голос Алехина, — только я ранен. — Что? Тебя немного задело? — Кажется, сильно, командир. Дымный хвост, волочащийся за мотором, становится угрожающе черным. Если не выключить мотора, вспыхнет пожар. А выключишь, так на чем же лететь? Перетянуть линию фронта нет никакой возможности. — Штурман, посыпался правый мотор, — передает он по СПУ, — левый дымит. Мы не дотянем до дома. В наушниках стон и никакого ответа. Большаков поворачивает машину на запад, в противоположную от линии фронта сторону. Нет, это не бессмысленное решение. Маленький комочек — мозг уже все успел взвесить и обсудить. Раз они накрыли бомбами казино с этим штабным сбродом, за «голубой девяткой» будут сейчас охотиться на всем протяжении ее обратного маршрута. Чем ближе к линии фронта, тем гуще зенитная сеть, тем больше вероятности, что подбитую машину скорее настигнут и уничтожат залпы новых батарей. И уж если неизбежна теперь посадка, то ее лучше совершить не вблизи, а подальше от линии фронта, ибо, если они сядут вблизи, место приземления быстро обнаружат и все сделают, чтобы взять их живыми для допросов и пыток. Итак, единственное спасение — запутать следы, отвернуть на запад. Вот что сказал мозг Виктору Большакову в ту минуту, когда на высоте в две тысячи восемьсот метров он в последний раз услыхал голос штурмана. — Тебе плохо, Володя? — спросил Большаков. — Да, кровь... Очень много крови... Тошнит, — донеслось из наушников. — Я сейчас выключаю последний мотор, Володя. Больше нет мочи держаться... Прыгай, Володя. — Уже не могу, командир. Прыгайте вы, меня не в счет. — Что ты, Володя, что ты, родной! — громко кричит Большаков, глотая едкий дым, наполняющий кабину. Его лицо изуродовано сейчас нехорошей гримасой. Ему хочется говорить как можно добрее, но голос не повинуется, голос сдавленный, хриплый: — Что ты, родной. Я тебя ни за что, понимаешь... да и Али еще, может быть, жив. Будем пробовать, будем вместе садиться. — Прощайте, командир, — доносится из кабины слабый голос, полный утомления и боли. Но Виктор его уже не слышит. Он выключил дымящийся мотор, и в кабине наступила жуткая тишина. С чем ее сравнишь? С той тишиной, что царит в операционной? Или с той тишиной, при которой пловец, нырнувший за утопающим, должен появиться на поверхности воды на глазах у столпившихся зевак? Но сейчас нет ни зевак, ни хирургов. Есть длинная осенняя ночь, тугой ветер, смертельно подраненная машина и три человека, борющихся за ее жизнь, да и за свои тоже, три окровавленных человека, выполнивших большое и трудное задание. Впрочем, может, уже не три, а два, потому что третий давно не отзывается по СПУ. Облизав сухие губы, Виктор вдруг обнаруживает, что они горячи. Правая ступня у него отяжелела, и, когда он надавливает на педаль, перед глазами вспыхивают зеленые мячики и тело пронизывает боль. Чтобы не кричать, он сорвал с руки кожаную крагу и засунул ее в рот. Его челюсть окаменела. Ничем уже не спасти «голубую девятку». Видно, судьба у нее такая — избитой зенитками садиться далеко от родного аэродрома, где заботливые механики и техники встретили бы ее на стоянке, старательно заделали бы в ее могучем теле пробоины, залили огромные бензобаки горючим, а к широким крыльям подвесили новые фугасы. Теперь она не способна чутко, как это всегда бывало, перенимать движения летчика, воспринимать его волю и мысли. Только в одном направлении — вниз — может она лететь с примолкшими моторами и садиться там, где иссякнет высота, где ее ожидает неизбежная встреча с землей. На языке у летчиков такой полет называется планированием, и всем известно, что в жизни подбитого самолета он бывает часто последним. Виктор Большаков с грустью подумал, что, если бы не замолк Али, а штурман Алехин не был бы тяжело ранен, он бы вместе с ними с удовольствием прибегнул к услуге парашюта. Все-таки была бы надежда, что они все трое успешно приземлятся, найдут друг друга, будут вместе пробираться к линии фронта по лесам и перелескам. А сейчас... Ветер свистел за кабиной и фюзеляжем. Машина окунулась в ночь, и ничто теперь не в состоянии изменить ее полета, потому что Виктор установил самый маленький угол планирования. Под ними густые массивы леса. Он знал, что в этом районе нет ни рокадных, ни магистральных шоссейных и железных дорог, что большие города отсюда находятся в стороне, и это наполняло его уверенностью. «Если бы полянку. Полянку или перелесок. Я бы на них как-нибудь плюхнулся». Большаков напряженно покрутил головой и осмотрелся. И справа, и слева, и впереди, насколько хватало глаз, линия горизонта была темна, ее не пробивал ни один огонек. Ни один прожектор не колыхнулся чад землей, ни одна трасса «эрликона» не ощупала небо, ни одна сигнальная ракета не взвилась над лесом. Вероятно, фашистам и в голову не могло прийти, что советский самолет, обрушивший дерзкий удар по самому центру Познани, получив повреждения, повернет не на восток, а на запад. Теперь же в мрачной пучине неба обнаружить бомбардировщик с выключенными моторами было просто невозможно. Он снижался, нависая над землей большой горестной тенью. «Слишком быстро падает высота», — подумал Большаков и поймал себя на мысли, что ему очень хочется, чтобы это снижение продолжалось как можно дольше, отдаляя трагическую встречу с землей. «Отставить, — грубо оборвал он себя, — под тобою лес, а не река с кисельными берегами. Не до размышлений». Он уже хорошо различал близкую колеблющуюся поверхность леса. На часах было 23.17. Именно в эти минуты, после прохода линии фронта, он должен был обнаружить себя в эфире и доложить на аэродром, что задание выполнено. А вместо этого... Стрелка высотомера показывала уже восемьсот. Она была безжалостной, эта стрелка, все ползла и ползла к нулю. Боковой ветер чуть встряхнул самолет. Виктор утопил ногой правую педаль и едва не вскрикнул от боли. «Почему это болит ступня, если рана под коленкой?» — Володя! — окликнул он штурмана. — Потуже привяжись, сажаю. Лес шумел под крыльями снижающегося бомбардировщика. Большаков это скорее чувствовал, чем слышал. Пятьсот метров высоты, четыреста, двести. Будь сейчас день, он бы хоть видел землю и мог бы все же дотянуть до какой-нибудь полянки и опуститься там. Но сейчас темень скрывала все внизу, и от этого та самая земля, по которой он ходил около двадцати четырех лет, была ожидающе страшной. Он почувствовал неприятную сухость во рту и, уменьшая угол планирования, все отдалял и отдалял встречу с ней. Зоркие глаза искали площадку, свободную от леса, но на многие километры окрест тянулись верхушки деревьев, и ни одного гектара земли, свободного от леса, не было видно во мраке. А как бы он был нужен, этот гектар! Виктор для чего-то расстегнул под своим крутым подбородком ремешок шлемофона. Казалось, именно из-за него было трудно дышать. Сто метров отделяли его от леса, и он только теперь, как воин, сражавшийся с окружившими его врагами до последнего патрона, с безысходной тоской понял: придется сажать на лес, иного выхода нет. Он включил все пожарные краны, выпустил щитки, стараясь предельно погасить посадочную скорость, погасить ее так, чтобы тяжелая «голубая девятка» бессильно упала на верхушки деревьев и удар этот пришелся бы равномерно и на фюзеляж, и на широкие крылья, способные в какой-то мере его ослабить, самортизировать. Это уже было скорее не планирование, а парашютирование. Безжизненная «голубая девятка» падала на лес, как парашютист, над головой которого не раскрылся спасительный купол. Большаков все уже сделал, что мог и может на своем веку. Самые точные, самые филигранные движения педалей ничего не могли сейчас изменить. Но он все равно продолжал двумя руками держаться за баранку, чувствуя, что пальцы судорожно прикипают к ней. В страшном напряжении, полузакрыв глаза, он вел отсчет: раз, два, три, четыре, пять, десять, двадцать. А машину несло и несло вниз, и косо угрюмой тенью приближалась она к верхушкам леса. Сухой треск Виктор услыхал при счете сто двадцать. Но это еще не было то самое страшное, чего он ожидал. Он еще успел досчитать до десяти, после того как щитки самолета первыми царапнули по острым елям. Когда он произнес «сто тридцать», он увидел совсем близко от себя клонившиеся от ветра ветви, и оглушительный грохот наполнил уши. Виктору показалось, будто это не самолет, а он сам переломился надвое. Его рвануло вперед, навстречу приборной доске и пушечному прицелу, но ремни удержали, он безвольно повис на них, а в следующую секунду спиной вдавился в жесткую бронированную спинку сиденья. Пол кабины с педалями, линиями заклепок, узлами крепления встал над его головой, заслоняя ночное осеннее небо. Второго удара и грохота отвалившихся крыльев он уже не слышал. Тишина придавила его к земле, наводняя холодной тоской меркнущее сознание. «Земля, родная, принимай», — успел только подумать Виктор Большаков, и тишина, плотная, как покров этой опасной ночи, обволокла его тело, делая безвольным каждый мускул. Вероятно, он пришел в сознание очень скоро. Это было странно, но он сидел в своей кабине, и над его головой, на положенной высоте, целым и неповрежденным был все тот же стеклянный фонарь из толстого непробиваемого зенитными осколками плексигласа. На приборной доске были разбиты указатель скорости и бензочасы. Откуда-то сочилось масло. Стрелка высотомера стояла точно на нуле. Едва слышно шептали часы несложный мотивчик своей однообразной жизни. «Странная штука часы, — подумал Виктор, — самолет треснулся, что было силы, а они идут как ни в чем не бывало. А вот мои, карманные, те, что дядя Леша привозил в детдом, раз только на тротуар асфальтовый выпали и — вдребезги». Он вдруг вспомнил дядю Лешу, младшего отцова брата. Когда Виктор учился в шестом классе, к ним в интернат приехал худощавый блондин в буденовке со споротой звездой, что было верным признаком недавнего ухода из армии в запас. Короткая кожаная курточка и новые сапоги заманчиво скрипели. Дядя Леша долго водил его в тот день по самым лучшим городским магазинам, но тогда все было по карточкам, и только в одном коммерческом кафе дяде удалось за дорогую цену накормить племянника галетами из кукурузной муки и напоить невкусным фруктовым чаем. Голодный, как волчонок, Виктор с жадностью истреблял галеты, так что у него беспрерывно двигались уши и острый кадык. Хлебая горячий чай, тонко тянул: — Дядь Леш, ты теперь где? — На Магнитке инженером-монтажником, — улыбаясь всем своим красным обветренным лицом, отвечал ему дядя. — Я туда прямо из армии, по путевке Цека. Там, брат ты мой, такое дело варганится. Вот подожди, обживусь немного, обязательно к себе заберу. Если даже и женюсь, все равно заберу. В тот день он купил племяннику карманные часы с блестящей посеребренной крышкой. Усмехаясь, сказал: — Ты смотри с ними поосторожнее. Все-таки лучшая швейцарская фирма «Омега». И уехал. А весной как-то Виктора вызвал к себе директор интерната, усатый, пахнущий махоркой Иван Степанович, человек добрый, уважаемый всеми детдомовцами. Сворачивая из грубой оберточной бумаги «козью ножку», негромким сиплым баском спросил: — Большаков Алексей Павлович — твой, что ли, дядя? — Мой, — весь встрепенулся Витя. — Он на Магнитке инженером. О нем даже в «Правде» один раз писали. Только я об этом никому не стал рассказывать, Иван Степанович, чтобы за хвастуна не посчитали. Он меня летом к себе на житье заберет. — Не заберет, — отрезал Иван Степанович. — Не заберет, не жди. — Почему? — зябко передернув плечами, спросил тогда Виктор. Директор положил ему на затылок тяжелую руку с толстыми, в желтых подпалинах от табака пальцами. — Умер твой дядя... Он вышел тогда от директора, словно чем-то придавленный, полез в карман за платком, чтобы высморкаться, и выронил часы. И они сразу разбились от одного удара об асфальт, часы швейцарской фирмы «Омега». А вот эти, самолетные, идут. На них уже 23.57. Это как раз та минута, когда «голубая девятка» должна заходить на родной аэродром. Вероятно, там ждут не дождутся зажечь электрическое посадочное «Т». Полковник Саврасов бегает с ракетницей по летному полю, срывая зло, кричит на всех попавшихся ему под руку, потому что уже угадал верным чутьем старого, видавшего виды воздушного волка, что не будет сегодня «голубой девятки». Ни сегодня, ни завтра, ни в другие дни. Виктор попробовал привязные ремни — в порядке. Он поднял руку и отстегнул металлическую застежку. Затем так же осторожно, все еще не веря, что жив, освободил на ногах и на груди парашютные лямки. За кабиной темно. Глухо шумел потревоженный стылым ночным ветром лес. Ни одного огонька, и тысячи шорохов. Он осторожно попытался привстать: получилось. Чтобы открыть фонарь, не требовалось больших усилий — на «голубой девятке» был очень хорошо отлажен замок фонаря. Виктор дотянулся до него, но вдруг от правой ступни и до самого плеча обожгла острая боль, и он сильно сжал губы, едва удержавшись от стона, плюхнулся на сиденье. Холодные капли пота осыпали ему лоб, стало жарко. Он сорвал с головы шлемофон и снова убедился, что руки ему хорошо повинуются. Откинул голову, несколько минут, пока не утихла боль, глотал настой кабинного воздуха, пропитанного бензиновыми парами, запахами металла и нитролака. Душно было от этого воздуха, мутило. Нет, ему нельзя было бездействовать. Где он, что с экипажем? Закусив губы, чтобы не закричать от боли, он сделал новую попытку привстать, опираясь на этот раз только на левую ступню, а правую держа на весу. Боль не возвратилась. Только тяжелела правая нога и горячо было в меховом унте, вероятно, рана продолжала понемногу кровоточить. Быстрый щелчок, и крышка фонаря с легким скрипом заскользила в пазах. Прохладный воздух ворвался в кабину, разогнал душный запах бензина, плеснулся в лицо. И как-то полегчало Большакову. Он опять привстал и осторожно выглянул за борт кабины. Первое, что он увидел, были белые даже в потемках сломы веток, душисто пахнущие смолой, несколько сваленных сосен и широкое изуродованное крыло самолета, валявшееся примерно в десяти метрах от кабины. «По частям падали», — вздохнул капитан. Сама кабина, словно большая личинка, лежала прямо на земле, а позади от нее темнела отвалившаяся при падении хвостовая часть с кабинами стрелков, «Надо скорее к ним, к экипажу», —прошептал Виктор и лихорадочно забеспокоился. Первым делом он вытащил из специального гнезда в пилотском сиденье парашют и, поднатужившись, выбросил его за борт. Брезентовый мешок почти неслышно шмякнулся на мягкую землю. Затем он вывернул часы, спрятал их в карман комбинезона, а рукояткой пистолета выбил стекла на всех остальных приборах, безжалостно погнув при этом стрелки. Подтянувшись на мускулистых руках, он перенес здоровую ногу за борт кабины, затем вторую и постарался осторожно спрыгнуть вниз. Высота была небольшая, и он, расчетливо упав на левую сторону, сумел избежать боли. Он лежал на спине, устремив в небо широко раскрытые глаза, обдумывая, как ему лучше добраться до других кабин. Может, ребята в лучшем состоянии, чем он, им только надо помочь вылезти? Что-то изменилось в природе. Мягкий знобкий ветерок гулял над землей, наполняя осенний лес неразборчивыми шумами. Если бы не ветер, лес сейчас был бы тихим и сонным. Виктор хорошо знал, что такое притихший бор: наступи на сухую палку — на целый километр слышно. Глаза его привыкли к темноте, и он теперь видел гораздо больше, чем в первые минуты. Рядом лежала верхушка сосны, срубленная крылом при катастрофе. Он подполз и выломал большую палку. Подтесать ее снизу и подравнять сверху с помощью острой финки было делом недолгим. Получился приличный посох. Виктор медленно встал, опираясь на него, и сделал несколько неуверенных шагов. Надо было не мешкать, и он торопился. Еще один шаг, и стеклянный колпак носовой кабины перед ним. — Володя... Алехин, — негромко позвал капитан. Никто не ответил, только лес зашумел сильнее. Большаков увидел в плексигласе огромную дыру, вырванную снарядом, и сквозь нее черный комок, навалившийся на прицел. Даже не поверилось сразу, что это человек. Виктор вспомнил галчонка, что пригрели они однажды в курсантском общежитии. Долго жил галчонок. А раз проснулись по зычному крику дневального «подъем» и увидели: жалким мягким комком накрыл галчонок блюдце с непросохшей за ночь питьевой водой. Чем-то и Алехин напомнил ему этого галчонка, и с тоскою капитан подумал: «Нет, не лежат в такой позе живые». Он просунул руку в рваную дыру, нащупал изнутри замок и отстегнул крышку. Тело штурмана безвольно навалилось на него. Комбинезон Алехина набух от крови. Виктор расстегнул на нем молнию, увидел разорванную на груди гимнастерку, залитую кровью грудь. Осененный внезапной мыслью, он нащупал на гимнастерке карман, достал из него завернутые в целлофан документы. Не вытирая от крови и не разглядывая, сунул себе в комбинезон, потом взял у мертвого пистолет. Бледное лицо Алехина провожало его застывшими в муке глазами. — Прощай, Володя, — прошептал сдавленно Большаков, — прощай, родной, и прости, что не в силах тебя вытащить и похоронить. Потом он, чувствуя с каждой минутой, как тяжелеет раненая нога, добрел до отлетевшего на несколько метров хвоста. Кабины стрелков были сплющены, на хвост пришлась основная сила удара. Под листами дюраля и обрывками пулеметных лент лежали изуродованные трупы Али Гейдарова и нижнего люкового стрелка Пашкова. Верхняя кабина, где всего час назад хозяйничал веселый Али, была, словно сито, изрешечена осколками. — Сколько же ранений ты получил, — горько покачал головой капитан, — вот и не придется тебе, бедный мой Али, никого приглашать в Баку на шашлык по-карски, и старая Фатьма, твоя мать, выплачет под апшеронскими ветрами свои слезы. Чувствуя глубокое изнеможение, Большаков опустился на влажную, покрытую мелким мохом землю и заплакал. Широкие плечи вздрагивали под комбинезоном. Вот и конец сто четырнадцатого боевого. Он, командир, видит погибший экипаж и стоит сейчас над обломками «голубой девятки», словно над свежевырытой могилой. Ветер перед рассветом начал стихать, но лес шумел по-прежнему. Тонко звенели корабельные сосны, будто струны пели в их рыжих стволах. Каждый куст рождал свои особенные шорохи, отвечая снизу шуму ветвей. Виктор вытер рукавом лицо и, стискивая зубы, злобно подумал: «А ты все-таки должен идти, идти на восток. Ты должен добраться до своих и рассказать Саврасову и всем твоим друзьям страшную правду о гибели этих молодых ребят, принести их залитые кровью документы, чтобы все знали, как трудно даются в этой войне победы. Ты не рыжий, чтобы впадать в отчаяние и безвольно погибать в этом лесу. Главное — это подальше уйти от самолета. Вполне возможно, что в окрестных деревнях слышали грохот падения и скоро сюда нахлынут любопытные, а то и гитлеровцы из ближайшей комендатуры». На мгновение ему показалось, будто за передними кустами раздаются человеческие голоса. Он выхватил пистолет и снял предохранитель, удивляясь тому, с каким равнодушием это сделал. Несколько минут он напряженно вслушивался. Нет, это не голоса. Это кровь у него в ушах стучит. Потом он впервые подумал, как быть с раненой ногой. Она тяжелела, и, самое плохое, что кровь из раны продолжала сочиться. Если ее не унять, он не проковыляет и километра. Тогда он твердо решил заняться перевязкой. Испытывая адскую боль, он кое-как стащил с ноги унт, оголил колено. Марлевый индивидуальный пакет остался в аптечке, он забыл ее взять с собой, покидая кабину. Снова забраться туда у него не хватит сил. Тогда он вспомнил о парашюте, подполз к нему, финкой располосовал брезентовый мешок и отрезал кусок шелка. Колено сильно кровоточило. Виктор наложил повязку потуже, и, когда вновь надел брюки и натянул унт, ему показалось, будто ноге стало легче и он сможет идти. «Главное — подальше от самолета», — повторил он про себя, доставая компас. Найти восток было легко, он сделал несколько шагов. Планшетка с картой ударила о бедро, и рана сразу заныла. «Голова, как же это я позабыл перевесить планшетку на левую сторону». Он это сделал и снова пошел. Несколько раз осторожно ступил на носок правой ноги, обеими руками опираясь на палку. От нее приятно пахло смолой. Виктор добрел до узкой лесной дороги, не оглядываясь на останки того, что совсем недавно называлось «голубой девяткой». Подавленный горем, теряющий силы, он находился теперь в состоянии странного оцепенения. Но если бы его спросили, куда он идет, он бы, не колеблясь, ответил: на восток. Потерпев аварию над занятой врагом территорией, Виктор теперь делал то, что делали все советские воины, попадавшие в его положение. Он определил восток и шел туда. Там была линия фронта, там был аэродром, там были свои. Разбившийся самолет стал уже его прошлым. Чтобы остаться в живых и вернуться в полк, он должен был думать только о будущем и постараться уйти как можно дальше от этого опасного места. Виктор не оглядывался назад потому, что не хотел огорчить себя признанием, что идет слишком медленно и что по-прежнему от места катастрофы его отделяют лишь десятки метров. Шаги он тоже не стал считать, сознательно обманывая себя, и ему, теряющему последние силы, от такого обмана становилось легче и начинало казаться, что идет он в общем-то не так уж и медленно. «Это плохо, что сразу попалась дорога, — подумал он с опаской, — значит, тут ездят и ходят и могут быстро найти место падения». Но когда он пригляделся получше, увидел на поросшей травой поверхности дороги лишь один заскорузлый от засохшей грязи след деревенской подводы, которому могло быть и два и четыре дня. Тяжело дыша и делая частые остановки, он уже перешел проезжую часть дороги, желая поскорее углубиться в чащу. Оставалось перешагнуть небольшую ложбинку. Почувствовав усталость, Виктор остановился перед ней и, запрокинув голову, посмотрел вверх. Уже близок рассвет, и верхушки елей, как нарисованные, стыли на фоне неба. Ветер утомленно сник, вверху пояснело, и звездная частота предвещала солнечный день. Его ладоням, опирающимся на плохо обструганную палку, стало почему-то очень больно. Лес снова зашумел так громко, что у Виктора заболели уши. В ту же минуту корабельные сосны, строгие и высокие, вдруг колыхнулись, зашатались до ряби в глазах и повалились на него вместе с осенним сентябрьским небом этого чужого края.* * *
Виктор лежал на спине с полузакрытыми глазами и бредил. Палка валялась у его ног. — Штурман, где разрывы... Гейдаров, ты почему молчишь, почему не докладываешь о разрывах... Володя, крепись, мы дотянем... Не будь я рыжий, дотянем... Потом в обволакивающем сознание тумане увидел он дядю Лешу. Тот улыбался всем своим красным лицом, поправлял на голове буденовку с отпоротой звездочкой и тянулся похлопать его по плечу: — Что, паря, заждался? Вот я и приехал за тобой. Обещал забрать на Магнитку и заберу. — Так я же теперь большой, дядя Леша, я уже не детдомовец. — Ерунда, паря. Ты мне родной, будешь у меня за сына. — Но ведь я уже летчик и вожу тяжелый бомбардировщик. — Кому он нужен, паря? Войны больше не будет. Я на Магнитке сделаю из тебя хорошего горнового. — Но у меня же Аллочка и Сережка. — Ты их заберешь с собой. Ты больше не будешь сиротой, паря. Потом явилась Аллочка. Поправляя белые локоны, она что-то горячо возражала и ни за что не соглашалась ехать на Магнитку. И снова красный туман, и отчаянный звон в ушах, и боль во всем теле. Аллочка нагибается над ним, ласково спрашивает: — Тебе что-нибудь надо, Витя? — Пи-ии-ть, — отчаянно просит он. — Пи-ии-ть, — хрипло разносится по лесу. Сколько времени он пролежал, ни за что бы не смог определить. Но когда временами открывал глаза, понимал, что бредит, и от этого становилось уныло и горько. Однажды, с трудом разомкнув веки, увидел он обогретые солнцем красные стволы сосен и между ними белые тела берез. В теплом воздухе пахло диким медом, прелой листвой и хвоей. Легкий шепоток листвы спадал на землю с верхушек. Большаков локтями уперся в покрытую высохшими листьями землю, еще мокрую и холодную от росы, и, приподнявшись, тупо покачал головой. Розовый туман плыл перед ним, голова гудела, и тело не хотело повиноваться. Среди этого розового тумана он вдруг отчетливо увидел ровный пенек на месте спиленной сосны и фигуру незнакомой женщины, Женщина сидела на этом пеньке, упираясь локтями в острые коленки, приоткрытые короткой юбкой, и ладонями поддерживала подбородок. Голова у нее была непокрытая, и все, что успел запомнить Большаков — пышные волосы, коротко, по-городскому подстриженные. Под теплым ветром, как ему показалось, они полыхали еще ярче сосновых стволов. Будто крылья, вырастали они за плечами у женщины. Виктор упал, обессиленный и пораженный. «Что за чушь, — подумал он недоуменно, — и чего только не представится во время бреда. Нужно себя перебороть». Он опять приподнялся, открыл глаза. Женщина сидела на том же месте, хотя розового тумана как не бывало. Виктор испуганно отодвинулся. Было тяжело удерживать равновесие, но, собрав силы, он не упал на спину, остался сидеть, правой рукой опираясь о землю. Желтый пенек стоял метрах в четырех от того места, где он упал, и женщина сидела на нем все в той же позе глубоко задумавшегося и очень усталого человека. Теперь он разглядел ее отчетливо и понял, что это происходит наяву. На ней была короткая замшевая курточка с косо прорезанными карманами, поверх накинут дождевик, на ногах коричневые с высокими каблуками туфли, уместные где угодно, но только не здесь, в глухом и далеком от больших городов лесу. Бледное продолговатое лицо и большие синие глаза под темными бровями. Снизу он увидел на не тронутой загаром шее родинку. Растопыренные пальцы подпирали подбородок, и на одном поблескивало тонкое колечко с белым камнем. «Подосланная, — подумал Виктор, — не будь я рыжий, подосланная». Почуяв опасность, он выхватил из кармана пистолет, не взводя курка, направил на нее: — Руки вверх, слышишь! Она не пошевелилась и продолжала смотреть в упор. — Кому говорю! — злобно крикнул Большаков. — Или не понимаешь, ну! Женщина медленно отвела ладони от лица, выработанным движением попыталась натянуть короткую юбку на колени. Движение оказалось бесполезным — колени не закрывались. Синие глаза ее расширились, но не от испуга — от удивления. И в голосе, тихом и отчетливом, прозвучало то же удивление человека, не собиравшегося пугаться: — Мам поднесць ренце до гуры? На цо пану мое ренце? Виктор медленно опустил пистолет. Ему уже было неловко, что прицелился в эту неизвестно как очутившуюся здесь женщину. В тот год война согнала с насиженных мест тысячи людей. В поисках пищи и крова бродили они по омертвелым полям, полуразрушенным городам и селам. Крестьяне несли в город последний кусок хлеба и сала, чтобы обменять на потрепанные чеботы или поношенную одежду. Горожане с рюкзаками, набитыми последней одеждой, отправлялись в деревни и на хутора в надежде добыть пропитание. Стараясь избежать встречи с гитлеровцами в этих своих горемычных скитаниях, выбирали они темное время, шли, избегая больших дорог, забредая в глухие овраги и перелески. И не было ничего удивительного в том, что эта женщина, подстегнутая какой-то своей нуждой, очутилась в этом лесу, вблизи от места падения «голубой девятки». Но обостренное сознание Большакова не хотело принимать этой простой версии. Как и всякий человек, оказавшийся в беде на оккупированной территории, он готов был видеть врага в каждом шевелившемся кустике и тем более в каждом повстречавшемся человеке. — Вы полька? — спросил летчик. — Так есть, проше пана. Они помолчали. Жажда мучила Виктора, и он учащенно дышал, не сводя глаз с незнакомки. На вид ей было около тридцати. — А вы совецкий летник? — спросила она тем же, то ли грустным, то ли усталым, голосом. — А зачем вам это знать? — насторожился капитан. — Так вы же разговариваете по-русски, — улыбнулась она. — Ах да, — пробормотал он, — а вы разве понимаете по-нашему? Женщина утвердительно кивнула головой. — И даже очень хорошо. До войны я изучала в Варшаве русский. — Как вы тут оказались? — О! Это долго надо рассказывать. У пана совецкого летника катастрофа, я знаю. И у меня тоже катастрофа. Недавно я похоронила своего Янека. Ему было только три года. Только три... — Она закрыла лицо ладонями и помолчала. Потом, подавив глубокий вздох, добавила: — Вчера утром я вышла из Познани, и мне надо было попасть в веску Бронкув. Я шла по той стежке и наткнулась на ваш разбитый самолет. Там ваши мертвые товарищи и спадохрон. — Что такое спадохрон? — спросил машинально Виктор. — Как это объяснить? — она подняла вверх обе руки, и белый дождевик зашуршал: — Это есть то, на чем прыгают с самолета. — Парашют, — подсказал капитан. — Так есть, парашют, да, да, — закивала она быстро головой, и снова огненным облаком всколыхнулись ее волосы, освещенные утренним солнцем. — Я подошла к спадохрону и увидела, что от него отрезан кусок материи, а на футляре капли крови, и тогда я все поняла. Я сразу подумала, что не все летники погибли и что кто-то из них жив и пошел в густой лес. И я пошла по следу. Потом я наткнулась на вас. Вы лежали вот здесь, такой сильный, такой большой и совсем беспомощный. И мне стало пана очень, очень жалко. Я перевязала вас. Вы не ушли далеко от своего самолета, пан летник. И я искала вас очень быстро, искала предупредить. Здесь вам нельзя оставаться. Здесь бардзо опасно. Вы должны уходить. Виктор горько покачал тяжелой головой и посмотрел на свою вытянутую на земле раненую ногу, на посох, валявшийся рядом. Присутствие незнакомой польки внесло какую-то разрядку в его настроение; тревога, вызванная ее появлением, стала постепенно проходить. — Ох, пани, добрая пани. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Вы же видите, — промолвил он с усмешкой и указал взглядом на костыль. — Мне бы хоть денек отлежаться, может, полегчает. Женщина жалостливо посмотрела на него. Ее рот болезненно покривился. — Вам здесь оставаться нельзя, — проговорила она. — Это очень опасно. Вас схватят. — Здесь рядом немцы? — встревожился Виктор. — Рядом нет. Но близко есть комендатура, и еще в Бронкуве войсковой госпиталь. — Меня там лечить не будут, если обнаружат, — усмехнулся он. — Послушайте, — неожиданно предложила полька, — а вы можете идти, опираясь на меня? Я пану помогу. Добже? Она старалась говорить по-русски, но, когда волновалась или торопилась, ей не хватало русских слов, и она заменяла их польскими. Виктор многие из них знал, потому что полк Саврасова уже три месяца стоял на польской территории, и он, как и все другие летчики, часто общался с местными жителями. Он критически оглядел ее худенькую фигуру: — Прошу прощения, пани, но во мне почти девяносто кило. — О, это совсем неважно, — сказала женщина, поднимаясь с пенька, — только надо спешить. Здесь поблизости должны быть старые блиндажи. — Немецкие? — удивился Виктор, недоумевая, зачем фашистам копать здесь блиндажи, если они удерживают фронт по Висле. — Польские, — уточнила женщина. — Они здесь с тех пор, как Гитлер напал на нашу родину. В этом лесу сражалась наша кавалерийская дивизия. Я не знаю номера. Но поляки сражались храбро, и не их вина, что у них не было танков и самолетов, а были одни тупые начальники, вроде президента Мосьцицкого и маршала Рыдз-Смиглы. Вставайте, пан летник, нам нельзя медлить. Виктор нашарил костыль и стал подниматься, чувствуя на себе напряженный взгляд женщины. Он очень боялся, что сразу повалится, так и не встав на ноги, потому что сильно кружилась голова и правая раненая нога отдавала болью даже в плечо. Возникали тревожные мысли. Кто она, эта полька? Куда хочет его повести? Почему так хорошо говорит по-русски? Может, она попросту хочет привести его поближе к немцам, чтобы потом передать в их руки. Разве не могут лгать ее синие глаза. Но тогда у него хватит сил, чтобы наказать ее за коварство. Поджав правую ногу, он стоял во весь рост. Солнце уже светило высоко над осенним лесом. В тугом настое воздуха млела дремотная тишина, и ему на мгновение показалось, будто ничего этого нет: ни бесформенной груды металла, оставшейся от «голубой девятки», ни трупов Алехина и стрелков, ни вчерашнего вылета и черного неба над Познанью, клокотавшего зенитным огнем. — Надо идти, — произнесла в эту минуту женщина, разрушая иллюзию. Виктор громко вздохнул и сделал несколько шагов. Земля под ним была мягкая, пряная. Кое-где торчали из травы рыжие шляпки грибов, на кустах капельками крови пламенела калина. После первых двадцати-сорока шагов ему показалось, что сил прибавилось и он теперь уйдет далеко. Женщина шла рядом неслышной походкой, и, остановившись передохнуть, он встретился с ее тревожным взглядом. Казалось, она все время хочет что-то сказать, но сдерживается. Когда под ее ногою выстрелила сухая ветка, полька испуганно втянула голову в плечи и сердито прошептала: — О, пся крев! — Где вы так научились ругаться, пани? — На войне. — А разве пани воюет? — О, пан летник, — покачала она головой печально. — Родина моя воюет, то верно, а я уже свою войну проиграла. Он почувствовал — больше расспрашивать не нужно, и замолчал. Лес местами был густой, и приходилось продираться сквозь сплетения ветвей. Большакову идти было легче, потому что он мог придерживаться руками за ветки. Он напряженно их ловил, пригибал к себе и шел вперед, а потом отпускал, и они за его спиной разгибались со свистом. Они уже прошли около километра, когда Виктор почувствовал неприятную солоноватость во рту и дальние ряды деревьев стали снова подергиваться розовым туманом. Предательская слабость охватывала его, но сказать об этом шагавшей рядом женщине он постеснялся. Нужно было перейти небольшую канаву. Он неосторожно ступил на раненую ногу и, как подрубленный, повалился. Вероятно, на этот раз он находился в забытьи недолго. Он пришел в себя от приятной свежести и открыл глаза. Женщина плескала ему в лицо холодной водой из ржавой консервной банки. — Откуда вы взяли воду? — Рядом лужа. — Зачерпните еще. — Вода бардзо недобра. — Все равно зачерпните. Она исчезла. Он не услышал ее шагов, их поглотила мягкая лесная земля. Через минуту она возвратилась и поднесла к его губам жесткий край ржавой консервной банки. Виктор попытался сделать глоток, но полька с неожиданной поспешностью отняла банку. — Так нельзя, — быстро ответила она на вопросительный взгляд Виктора, — можно порезаться. Если пан летник разрешит, я буду поить его из рук. — Спасибо, — согласился Большаков, закрывая от усталости веки. Он почувствовал на горячих пересохших губах капли влаги. Вода была невкусная, отдавала гнилью. — Еще? — спросила она. — Еще, — ответил он утвердительно. И новые капли горькой воды упали в раскрытый рот. — Спасибо, — поблагодарил он женщину, — бардзо дзенькуе. — О! — коротко усмехнулась она, — вы учитесь говорить по-польски. Как чувствуете себя сейчас? — Неважно, — сознался Виктор с неожиданной откровенностью. — Что такое «неважно»? — Неважно — это плохо, — мрачно пояснил Виктор. — Но нам надо идти, — заговорила она требовательно, — мы больше не можем здесь оставаться. Понимаете, не можем! — Дальше вы пойдете одна, — сказал он твердо, еле-еле поднимаясь на локтях. — А вы? — Я останусь. — Нет! Этого не будет. — Виктор увидел, как сдвинулись над ее большими тревожными глазами густые брови. И почему-то подумал, не убежденно, но подумал: «Нет, такая не выдаст». — Я останусь, — повторил он, ожесточаясь. Но женщина его больше не слушала. — Встаньте, пан летник! Если я уйду, вы в этом лесу умрете или придут немцы и возьмут вас в плен. Может, пану летнику хочется в плен? — спросила она зло. — Может, пан летник надеется на гуманное обращение в концлагере, так я скажу, что это только в листовках они так пишут... пана летника замучат на первом же допросе, клянусь маткой боской. — Нет уж, пани, — усмехнулся он хрипло, — плен — это не про мою честь. У меня как-никак в кармане два пистолета и три обоймы. А самый последний патрон я на себя не опоздаю израсходовать. — Но так не добже, так неправильно! — закричала она, и Виктор увидел, как в больших остановившихся глазах женщины полыхнул гнев. — Себя убить — это тоже сдача в плен. Я хочу, чтобы вы жили. И вы будете жить. Она сжала пальцы обеих рук в два маленьких кулачка, выпрямилась над ним и сунула эти кулачки в косые разрезы карманов своей короткой замшевой курточки. — Встаньте! — приказала она. — Я же не могу, поверьте, — вздохнул Виктор, — я и двух шагов не сделаю. — Я понесу вас, — прикрикнула полька. — Слышите... и молчите! Женщина опустилась на колени и попыталась приподнять его за плечи. Но он был настолько тяжел, что это ей не удалось. Она попыталась еще и еще раз, и опять у нее ничего не вышло. Тогда она опустилась рядом на корточки и горько, беззвучно заплакала. Виктору стало ее жалко: — Послушайте... Ну зачем? Я попробую... Он встал на ноги, ощущая озноб во всем теле, и растерянно огляделся. — А дальше как? Как пойдем-то? — Тише, тише, — сказала женщина и стала рядом. — Берите меня за шею и прыгайте на здоровой ноге. — А если вы меня не удержите? — Это моя забота, — ответила она резко. Он обхватил ее за плечи, и они двинулись. Подпрыгивая на левой здоровой ноге, Большаков заковылял в чащу леса. Каждый шаг отдавался в его голове тупой болью. Странное состояние невесомости вдруг овладело им. Потом снова волнами расплылся розовый туман, и он впал в забытье. Когда он очнулся, увидел, что солнце в зените, и ощутил на себе его теплые лучи. Ему показалось, что он медленно плывет по воздуху, а здоровая его левая нога лишь чуть-чуть соприкасается с землей. Спине его было неудобно, руки были странно вытянуты, и кто-то цепко удерживал его за запястья. Он понял, что его несет на себе женщина, несет, тяжело дыша, выбиваясь, очевидно, из последних сил. И на самом деле, через несколько минут она опустилась на землю. Виктор увидел ее усталое, в мелких капельках пота лицо. — Что смотрите? — сказала она сердито и, отвернувшись, стала ладонями обтирать потный лоб. Он озадаченно спросил: — Вы меня несли? — А кто же еще, не добрые же гномы. — Какие тут, к черту, гномы, — с усилием улыбнулся Виктор, удивляясь тому, как оттаял и потеплел его голос: — Сколько же вы меня несли? — Я не считала метры... Очень много было метров. Но теперь будет лучше. Блиндаж недалеко. — Это хорошо, — прошептал Виктор. Полька провела ладонью по его лбу: — Очень плохо, что вы горонций. Бардзо горонций. — Это от раны, — грустно признался Большаков. — Так ест, от раны, — горестно покачала головой полька. — В блиндаже я перебинтую вашу рану. Я умею бинтовать. — Как все-таки вы сумели протащить меня на плечах, — удивлялся капитан, — целых девяносто кило... — Это страх меня сделал сильной. — Почему страх? — Мне почудилось, за кустами говорили по-немецки. Они замолчали. В редких иглах сосен и сквозь пожелтевшую высушенную березовую листву виднелось небо, ровное и голубое, совсем не такое, каким было вчерашней ночью, когда Виктор вел на цель «голубую девятку». Ему стало немного легче, и боль в ноге, как показалось, стихла. — Мы должны идти дальше, — строго сказала женщина. — Здесь находиться опасно. — Я теперь попробую самостоятельно, — откликнулся Виктор, — только обопрусь на вас немножко. Когда он встал и положил ей на плечо руку, женщина спросила: — Видите блиндаж? Виктор сузил воспаленные глаза, всматриваясь вперед. Метрах в двухстах от него, там, где особенно густой была толпа низкорослых сосенок, он увидел земляное сооружение с торчащими ребрами бревен, облепленное дерном. — Там не так опасно, — пояснила полька, — надо только поторопиться. Быстро надо, пан летник. Лицо ее, минуту назад красное от напряжения, снова стало бледным. Синие глаза неподвижно смотрели вперед. По тому, как дрогнули ее тонкие, строго поджатые губы, Виктор понял, что женщина опять погрузилась в горестные воспоминания. — Пойдем? — спросила она рассеянно. Большаков утвердительно кивнул головой. Идти последние метры было еще труднее. Два раза он оступался и падал, судорожно впиваясь от злого бессилия скрюченными пальцами в мягкий безобидный мох. Женщина помогала ему встать на ноги, и они снова шли. Блиндаж был старый, полуобвалившийся, поросший мохом. На его крыше росли две маленькие елочки с наивными пушистыми ветками. Женщина хотела сразу же спуститься вниз, но Виктор ее удержал: — Постойте, пани. А если блиндаж заминирован? Она впервые за весь их трудный, опасный путь улыбнулась и подзадоривающе спросила: — А разве пан летник боится смерти? — Глупой, да. — Но ведь он же сам две годины назад хотел глупо застрелиться из пистолета и просил его покинуть. — Пани, вы перестаете быть доброй, — усмехнулся Большаков и впервые встретился с ее глазами в упор. Они поглядели друг на друга удивленно, будто была повязка, мешавшая им друг друга рассмотреть, и они ее впервые сбросили. «Ты добрая? Ты не предашь?» — пытали зеленые глаза Большакова. «Ты мне веришь? Ты знаешь, как мне тяжело?» — спрашивали вместо ответа синие глаза незнакомки. Потом они резко, как по команде, отвернулись друг от друга, и Виктор предложил: — Пожалуй, я спущусь первым. Все ж таки я немного больше вашего разбираюсь в саперном деле и мину от еловой шишки как-нибудь отличу. — Этого не потребуется, пан летник, — засмеялась полька, — кому надо минировать старые блиндажи! — И все же я войду первым, — настоял он. Опираясь на самодельный посох, Виктор по кривым жердевым ступенькам спустился вниз. Приглядевшись в полумраке, он достал из кармана электрический фонарик, чтобы обследовать вход и удостовериться, нет ли на поверхности земли проводки от мин. Он услышал за спиной взволнованное дыхание: женщина стояла рядом. — Зачем вы здесь! — выкрикнул он. — Я не могу, чтобы пан один. Вместе, — решительно сказала полька. Виктор ничего не ответил. Он никогда не был сапером, но знал, как кладутся и маскируются мины. Сейчас это было как нельзя кстати. Блеклое пятно электрического фонаря шаг за шагом прощупывало внутренность блиндажа. На пороге не было никаких опасных примет, и Виктор, смелея, толкнул от себя посохом полусгнившую от старости дверь. Она тоскливо застонала на петлях и подалась вперед. Косяк желтого света, вырвавшийся из его руки, заскользил по земляному полу и бревенчатым сводам, вырвал из мрака рассыпанные по земле патроны, порожние пулеметные ленты, два топчана, наскоро сбитые из березовых жердей. Пахло плесенью и прелой листвой. — Поверим этой тишине, пани, — напряженно проговорил капитан. — Поверим, — отозвалась женщина спокойно, и они вошли. Виктор опустился на топчан, устало вздохнул: — А если прилечь? — Можно прилечь, — улыбнулась женщина, — даже надо. Ложитесь, а я осмотрю рану. Большаков осторожно лег на спину, с наслаждением вытянул одеревеневшую правую ногу. Все из того же вместительного кармана комбинезона достал он предусмотрительно захваченный на месте катастрофы кусок парашютного щелка. — Прошу, пани, если сможете, поменяйте повязку. Ни слова не говоря, женщина утвердительно кивнула головой. Он почувствовал, как бережно прикоснулись к нему ее холодные пальцы. Им вдруг овладело состояние безразличия. Сквозь обманчивый туман, снова к нему подкравшийся, видел он лохматую голову, иногда вздрагивал от боли и обреченно думал: «Ну, перевяжет, а дальше? А завтра и послезавтра? Разве в таком состоянии добрести до линии фронта, перейти к своим?» Неужто придется погибать на захваченной врагом польской земле, вдали от своих, не рассказав им о той страшной ночи, не передав документы погибших героев, таких близких — Володи Алехина и Али Гейдарова и такого же отважного, хотя и малознакомого, нижнего люкового стрелка Пашкова. Женщина зубами надорвала лишний кусок материи, вздохнула: — Рана не загноилась, но вы очень горонций. Нужен доктор. — Где же его в лесу сыщешь? — пробормотал капитан. — Тут и волков с медведями война распугала. Вы есть хотите? — спросил он внезапно. — Не плохо бы, — созналась она. Виктор вспомнил, что перед вылетом за вечерним ужином он взял в карман комбинезона с полкилограмма хлеба, большой кусок колбасы и белые квадратики пиленого сахара. Он был расчетливым бойцом и всегда брал в дальний полет немного продуктов. Делал это вовсе не потому, что предвидел вынужденную посаду в тылу противника. Просто перед полетом ничего не хотелось есть, он ограничивался в столовой стаканом чаю, а наблюдательная официантка Надя напутственно говорила: — Вот и опять вы сегодня без аппетита, товарищ капитан. Возьмите хоть что-нибудь с собой. Может, на стоянке захочется есть, а то и в кабине. — В кабине не до этого, Надя, — отмахивался Виктор, но какой-нибудь сверточек из ее рук брал. Сто тринадцать раз эти свертки оказывались ненужными, а на сто четырнадцатый запас пригодился. — Подождите-ка, пани. — Он запустил руку в карман комбинезона, но вместо колбасы и хлеба вытащил оттуда два черных пистолета. Посмотрел на них и, осененный внезапной мыслью, протянул один женщине. У польки встревоженно поднялись темные брови. — Нацо мне? — Берите, — настойчиво посоветовал Виктор, — вы же видите, какой я дохлый. Вдруг какая опасность. Ни вас, ни себя защитить не сумею. Берите. Мы теперь вроде как единомышленники. — Что такое единомышленники? — печально улыбнулась полька. — Коллеги? — Пусть будет коллеги. Женщина быстро и решительно взяла пистолет и чему-то горько усмехнулась. — Браунинг? — неуверенно спросила она. — ТТ, — возразил Большаков. — А что есть ТТ? — Тульский Токарева... наш, советский. — Тула? — высоко подняв брови, спросила полька. — Тульские ружья... тульские пряники и самовары? — И еще тульские кузнецы, которые блоху подковали, — прибавил Большаков. — Давайте покажу, как им надо пользоваться, — сказал он. — Не нужно. Я знаю. Тонкими пальцами она сноровисто вынула магазин с патронами, густо смазанными оружейным маслом, потом сдвинула предохранитель и прицелилась в узкое оконце, чуть прижмурив один глаз. Щелкнул курок, и Виктор успел заметить, что в ее цепкой руке ствол пистолета почти не дрогнул. — Откуда у вас такие навыки? — поинтересовался он. — Может, и стрелять приходилось? — Приходилось, — погасив на лице улыбку, подтвердила полька. — Но только в тире. Больше он ее не спрашивал. Молча погрузил обратно в карман свой пистолет, достал хлеб, колбасу и сахар. — Давайте подкрепимся немного. Женщина закивала головой. Взяв хлеб и колбасу, она отвернулась. «Изголодалась, бедняга, не хочет, чтобы я видел, как она жует», — догадался Виктор. Сам он съел мало. От пищи тошнило, она казалась удивительно горькой. Съев свою порцию, полька достала платочек, заученным движением вытерла рот. Обернувшись, тихо сказала: — Спасибо. — Если бы можно было достать воды, — промолвил Виктор. Он стеснялся обращаться к ней с прямыми просьбами, но на каждую из них, неопределенно высказанную, она мгновенно отзывалась. — Я поищу, — сказала она, вставая, — здесь должен быть поблизости ручей. — Откуда вы знаете? — покосился он недоверчиво. — Знаю, — ответила она, и лицо ее мгновенно просветлело от каких-то ей одной доступных воспоминаний. — В этих местах я бывала до войны. В шести километрах отсюда веска Бронкув, куда я шла. — Ну, а в чем вы принесете воду? — Извините, не подумала, — тихо улыбнулась полька, и улыбка эта показалась Виктору такой домашней, располагающей, что и он улыбнулся. — Может, мне повезет и я найду банку получше той, первой. — Это бы хорошо, — сказал он слабо. Когда она ушла, Виктор закрыл глаза. Его снова клонило ко сну. В узкие разбитые оконца блиндажа вливались солнечные лучи, успевшие по-вечернему побагроветь. Они рассеивали прохладный полумрак землянки, слабо освещали ее дальние заплесневелые углы. Сквозь дрему Виктору почудилось, будто он слышит мягкие переливчатые звуки губной гармошки. Звуки то приближались, то удалялись и, казалось, все кружились и кружились около землянки. «Вот, черт, до чего доходят галлюцинации», — подумал он. Потом в зыбких мечтаниях перед ним предстала беленькая улыбающаяся Аллочка в клетчатом платье с фартуком. Она протягивала ему мягкий сверток с незнакомым, туго спеленатым Сережкой. Почему-то у нее были очень широкие синие глаза, совсем такие, как у этой польки. Видение растворилось, и вся голова Большакова от затылка до висков наполнилась тяжелым звоном. Его бесцеремонно трясли. Он подумал, что это возвратилась женщина, и удивился, почему она его будит так грубо. Он открыл тяжелые горячие веки и, несмотря на боль в ноге и на слабость во всем теле, едва не вскрикнул от ужаса. В двух шагах от него на скользком от плесени чурбаке, вероятно заменявшем в свое время стул обитателям блиндажа, сидел здоровый мордастый немец с рыжими ресницами и тонкими бровями, словно обмазанными сметаной. На мышиного цвета мундире темнели железный крест и эмблемы танкиста. В руке он держал парабеллум и тыкал стволом в грудь и плечо Большакова. — О, шен! — восклицал он, обнажая прокуренные зубы. — Какой прекрасный экспонат для господина коменданта. За плечами у гитлеровца маячил ствол охотничьего ружья. Дерзкие водянистые глаза смотрели с издевательским бесстрашием. — Дизер блиндаж ист ейн шлехтер отель фюр зи, — возбужденно продолжал он, — для вас у господина коменданта найдется получше место. Вы пилот? Люфтваффе? Я? Руссише люфтваффе одер энглиш, одер полянд? — Полянд, — прошептал Виктор побелевшими губами. — Молшать! — заорал немец. — Ты есть руссише пилот, большефик. Хенде хох унд ауфштейн. Виктор молча поднял руки и привстал на топчане, опуская ноги. Тоскливая мысль билась в мозгу: значит, предала синеглазая пани. Вот за какой водой она отлучалась. Он удивился тому, что при этом не ощутил ни злобы, ни ярости к ней. Одна только тоска и щемящее чувство одиночества проснулись в душе. За все четыре года войны Виктор ни разу не видел живого немца в фашистской форме. Ему, летчику дальней авиации, за свои сто четырнадцать боевых вылетов, вероятно, пришлось уничтожить не одну сотню таких, как этот. Они погибали от бомб, которые сбрасывались с большой высоты на штабы, нефтехранилища, вокзалы и эшелоны, аэродромы и морские порты. Но гитлеровцев он видел только в киножурналах да на страницах газет. Да еще раз, занимая во время наступления новый, только что разминированный аэродром, видел неубранные трупы. Их было около тридцати. Стояла суровая зима, и они не могли разложиться, а только закостенели. На некоторых лицах замерло выражение страдания или испуга, рожденное последними отблесками сознания, некоторые были бесстрастны. А один ефрейтор лежал в стороне от группы, стылыми руками сжимая и после смерти короткий ствол автомата. У него было строгое лицо с тонким профилем носа, надменными очертаниями небольшого рта и холодным презрением в остекленевших голубых глазах. Ветер трепал густые белые волосы. Стройный и высокий, весь устремленный вперед, — таким он был настигнут смертью в последней атаке. Большаков долго простоял над убитым, и у него в сознании именно тогда родился образ фашиста, против которого он воюет. Это был сильный и наглый воин, во всем похожий на замерзшего в наших снегах ефрейтора. Немец, который сейчас сидел напротив, направив на него черный ствол парабеллума, всем своим видом разрушал этот образ. Он скорее напоминал карикатуры Кукрыниксов, чем того ефрейтора. Вдобавок от самодовольно ухмыляющегося немца пахло чесноком и самогонным перегаром. Большаков глядел на немца и напряженно думал: «Один на один он не рискнет меня обыскивать. Но если я полезу за пистолетом, он пришьет меня, прежде чем я взведу курок. Не годится. Надо сделать вид, что я напуган и во всем ему повинуюсь. По дороге я раза два упаду, как бы в обморок, и постараюсь, поднимаясь, выхватить пистолет или хвачу его посохом по глазам. Нужно выиграть время. Ну, а если он не один? — спросил себя Виктор, — Нет, этого не может быть. Если бы он был не один, он бы и сюда пришел с другими». — Нур хенде хох унд ауфштейн! — прокричал немец, поднося черное дуло к его лицу. — Фриц, у меня нога кранк, не могу идти быстро, — попытался ему объяснить Большаков. — Шнель, шнель! — заорал немец. — Да что ты тычешь пистолетом, я и сам пойду. — Он нашарил палку и, вставая, нарочито громко застонал. — Шнель, шнель! — повторил гитлеровец и парабеллумом указал ему на выход. В узком прямоугольнике двери стояло багровое солнце, клонившееся к земле. «Неужели это мой последний закат, — с тоской подумал Виктор, — и придется погибнуть от этого провонявшего чесноком и водкой фрица?» Гитлеровец стоял за его спиной, поторапливал. — У тебя железный крест, — сказал Виктор озлобленно, чтобы хоть как-нибудь растянуть время, — надеешься за меня получить от коменданта второй? — Шнель, шнель, — повторил немец невозмутимо. На мгновение Виктору показалось, что легкая тень промелькнула в проходе блиндажа. Он вздрогнул от смутного предчувствия. — Ну, я пошел, — так же озлобленно крикнул он гитлеровцу, — можешь конвоировать. Показалось, даже раненая нога оцепенела за эти страшные минуты и стала лучше повиноваться. Виктор, поднимаясь наверх, пересчитывал ступеньки, их оказалось тринадцать. «Хорошенькое число», — тупо подумал он. Предвечерний ветер дохнул ему в лицо и немного взбодрил. Выйдя из блиндажа, Виктор повернул налево, чувствуя, как сзади, весь напружинившись, шагает его конвоир. Гитлеровец только поднялся на самую верхнюю ступеньку выходной лестницы, когда Большаков явственно услыхал шорох осыпающейся земли. В следующую секунду за его затылком блеснуло пламя и пистолетный выстрел расколол лесную тишину. Виктор стремительно обернулся. Грузная фигура фашиста беззвучно осела на землю. Выроненный им парабеллум валялся на траве. Большаков остолбенело поднял голову. От блиндажа к нему медленно приближалась полька. Было что-то подавленное в ее походке. Рука с пистолетом опустилась вниз, побелевшие губы вздрагивали, а синие неподвижные глаза стыли от ужаса. — Я убила человека, — прошептала она едва слышно. — Ты убила фашиста, — громко сказал Виктор. Она покачала головой, и пышные волосы прядями хлестнули ее по лицу. — Я убила человека, — повторила она, вся дрожа. — Ты убила фашиста, — грубо оборвал ее Большаков. Он стоял рядом, высокий, выпрямившийся, с обветренным, румяным от жара лицом, — ты... Она неожиданно бросилась к нему: — О матка боска, матка боска, если бы вы только все знали, если бы знали... — Да успокойтесь же, пани, — сказал он после небольшой паузы, видя, что она вся дрожит. — Скажите лучше, как вас зовут, я даже этого не знаю. — Ирена, — ответила женщина едва слышно. — Ирена, — повторил за нею капитан. — Ирена... А меня просто, по-российски, Виктором. Вы мне жизнь сейчас спасли, Ирена, а о себе говорить не хотите. — Очень много надо говорить, Виктор. Я лучше потом. Вам тяжело стоять. Я вам помогу спуститься опять туда. Добже? Когда он присел на нары, женщина доверчиво опустилась рядом, ее плечи продолжали вздрагивать. — Я набрала воды в бутылку и возвращалась сюда, — зашептала она, — потом эта губная гармошка. Он играл на ней сладенькую немецкую песенку «Марихен». Я увидела его издали и спряталась за дерево, а он все шел и шел к землянке. А когда он спустился вниз, я поняла, что он вас ни за что не отпустит, а поведет в комендатуру. И тогда я решила, что только одна могу вас спасти. Я спряталась за насыпью блиндажа, а все остальное вы знаете. — Какая вы смелая и добрая. Она постепенно успокоилась и перестала вздрагивать. Виктор осторожно снял руку с ее плеча. Нога начинала ныть. — Слушайте, пан Виктор, — встревоженно заговорила Ирена, поднимая не просохшие от слез глаза, — здесь нельзя дольше оставаться. — Я и сам об этом думаю, — мрачно ответил он, — но видите, какой я нетранспортабельный. Только обуза для вас. Ирена осуждающе подняла ладонь с заблестевшим колечком. — Замолчите, все равно я не брошу вас. У вас тяжкая рана. В ноге осколок, и, если его не вытащить, может случиться все. — Гангрена? — невесело вымолвил летчик. — Да, и гангрена. Нужен врач. — Так где же его взять, пани Ирена? Она запахнула полы белого плаща, встала и тонкими нервными пальцами деловито застегнула пуговицы. Выражение человека, принявшего твердое решение и намеревавшегося его как можно скорее осуществить, было на ее лице. — Это уже моя забота. Вы раненый, вы должны бытьтерпеливым, и только. Я вернусь очень быстро, но сейчас вы меня ни о чем не пытайте. — Хорошо, — согласился он тихо. — Шесть километров не большая дорога, — проговорила она, стоя уже в дверях, — я сниму эти туфли и за час дойду до вески. Она поднялась по лесенке ступеньки на две и остановилась, зябко передернув плечами: — Я хотела вас попросить. — О чем? — Не можете ли вы проводить меня наверх. Очень тяжело пройти мимо него одной. Поверьте. Большаков встал, нащупал посох, проковылял мимо нее и, отстранив ее руку, протянутую для поддержки, вышел из блиндажа первым. — Вам и на самом деле лучше не смотреть, — проворчал он. — Сворачивайте сразу направо и шагайте себе на здоровье. Она благодарно кивнула головой и, обогнув земляную насыпь с правой стороны, быстро пошла вперед. Опираясь на посох, капитан несколько минут простоял неподвижно. Увидел, как она остановилась, сняла туфли и почти побежала. Прежде чем спуститься в землянку, Виктор подошел к убитому фашисту. Тот лежал, зарывшись лицом в бледно-зеленый мох, неуклюже подвернув под себя левую ногу. Темная лужа крови натекла из раны. Большаков нагнулся и подобрал парабеллум. Потом, тихо охая, спустился в землянку. Солнце уже догорело за дальней березовой рощицей, смутно белевшей на фоне сосняка. Прохладой веяло из лощин и буераков. Сколько в этот день ни грело солнце, но сентябрь оставался сентябрем, и тепло, отданное земле, было непрочным. Земля в вечерних сумерках быстро остывала. Одиночество угнетало Большакова. С детства не боявшийся мертвецов, он с холодным презрением думал об убитом. За Володю Алехина и Али Гейдарова их надо было положить не столько. Какие ребята погибли! А что самое обидное, он был не в силах вырыть могилу, предать их земле. Он подумал о том, как странно складываются человеческие судьбы на войне. Вот лежат в трех или четырех километрах отсюда тела его товарищей: Володи Алехина, Али Гейдарова, Пашкова. Лежат вдали от Родины, на польской земле. И на этой же земле лежит в мышином мундире толстомордый фашист, пытавшийся захватить его в плен. Четыре иностранца. Трое из них пришли с востока, проходили эту землю, чтобы поскорее ее освободить, а этот фельдфебель ступил на нее, чтобы жечь, покорять, резать. Прошумят многие ветры и метели, и наконец придет мирная весна. И тогда тем троим его товарищам и побратимам — бакинцу Али Гейдарову, туляку Володе Алехину и малознакомому нижнему люковому стрелку Пашкову, пришедшим с востока, может быть, в этом же самом лесу поставят обелиск те же поляки, а мрачный пришелец с запада сгниет бесславно в этой земле. «Вот в чем сила всех наших, живых и мертвых, — решил Виктор. Потом он подумал об Ирене. — Кто она, эта молодая полька, такая неожиданная и необычная в этом лесу. Впрочем, не все ли равно кто. Пусть она окажется графиней или варшавской парикмахершей, разве ему это не одинаково. Если бы не она, его бы уже мучили на допросе в комендатуре. Спасибо тебе, Ирена». В наступивших сумерках он чутко прислушивался к шорохам. Сейчас он больше всего боялся впасть в забытье. Его горячая ладонь нервно сжимала холодную колодку ТТ. Ночь вползала в землянку. Ветер крепчал, и ближайшие кусты орешника уже наполнились шумами. Но обманчивый мир и покой стояли сейчас над лесом. Ни одного залпа, ни одного отголоска артиллерийской канонады. Да и откуда! Ведь фронт отсюда очень далеко. Только раз где-то в стороне прогудел тяжело и надрывисто самолет, и по шуму моторов Виктор безошибочно распознал, что летит бомбардировщик, но не наш, а немецкий: моторы работают с хриплым привыванием. Прошло уже много времени, ночь полновластной хозяйкой опустилась на лес, осветив его желтой луной. Звезды холодными невеселыми табунками рассыпались по безоблачному небу. Сквозь ветер и шум недалеких кустов до капитана донеслось конское ржание. Он настороженно прислушался. «Померещилось», — успокоенно подумал он. Но прошло несколько минут, и порыв ветра донес до его обостренного слуха скрип колес. Он поднял руку с пистолетом и, отодвинувшись от двери, стал выжидать. Рядом с землянкой послышались быстрые шаги. Потом верхние ступеньки заскрипели. Готовый к любой неожиданности, Виктор сжался и тут же облегченно вздохнул, когда знакомый голос негромко позвал: — Пан Виктор, вы меня слышите? — Слышу, Ирена. — Вот я и вернулась. Она вошла в блиндаж, нащупала рукой топчан, села рядом. — Я очень волновалась. Здесь тихо? — Пока да. — О! Мы не будем дожидаться, когда станет шумно и немцы начнут искать пропавшего фельдфебеля. Слушайте меня внимательно, пан Виктор. Вы больше не совецкий летник. Все свои одежки вы оставите здесь, в блиндаже... Возьмете только оружие и документы. — В чем же я поеду? — Я привезла вам польское платье. Вы теперь просто пан Виктор, бывший российский солдат, отпущенный из концлагеря, и только. Почему я вас везу к доктору?.. Потому что вы мой монж, — договорила она смущенно. — А что такое монж? — Муж, муж, понимаете? — нервно повторила Ирена. — И давайте поскорее собираться. В углу блиндажа было небольшое углубление. С помощью пани Ирены Большаков запрятал туда унты, комбинезон и свою офицерскую гимнастерку. Он не без труда надел на себя принесенную Иреной белую расшитую рубашку, юфтевые сапоги с короткими голенищами, оказавшиеся, к счастью, очень просторными, фуражку с узким лакированным козырьком, сделанную на манер конфедератки. — Я готов, — сказал он негромко, — только куда вы теперь меня повезете, Ирена? — На операцию, — ответила она кратко, — и больше ни о чем меня не спрашивайте. Скоро вы сами все поймете, а сейчас — вперед. В двадцати метрах от блиндажа стояла запряженная двухместная бестарка. Ловко и быстро Ирена усадила в нее капитана, отвязала лошадь и легко впрыгнула на сиденье. Тихо чмокнув губами, она дернула поводья, и бестарка бесшумно покатилась к дороге. Громкий стук колес медленно замирал в воздухе. Виктору опять стало плохо. Сквозь надвигавшийся розовый туман он смутно слышал, как подскакивает на ухабах бестарка, но почти не чувствовал, как прижимает его, большого, измученного и отяжелевшего, к себе Ирена, опасаясь, что он вывалится. Глубокой ночью под редкий лай собак они въехали в небольшое село.* * *
Низкий задымленный потолок был весь в царапинах. Штукатурка во многих местах осыпалась, но тонкий правильный круг с золотистой каймой остался на потолке целым. В центре этого круга бронзовела дряхлая, древняя люстра, и в ее старомодных подвесках желтели лампы. Виктор их пересчитал — шесть. Он лежал на жесткой, выкрашенной в белый эмалевый цвет деревянной кушетке, какие стоят во всех госпиталях мира, с удивлением ощущая под головой твердоватую, не то резиновую, не то соломенную подушку. Предметы, населявшие незнакомую комнату, розовея, двоились у него в глазах. Видел он незатейливые переплеты двух небольших, плотно зашторенных окон и аляповатую репродукцию какой-то картины, изображающей на охоте всадников в нарядных доспехах. У одного окна белел небольшой столик, заставленный склянками и пузырьками, пинцетами, поблескивающими в стакане, пучками ваты и бинтов. Пахло от столика йодоформом и спиртом. Виктор увидел, как мимо него прошагал высокий сутуловатый человек в пенсне и зеленом немецком френче без погон и знаков различия. Только на левом рукаве у него была пугающая повязка со свастикой. Но к нему подошла Ирена, и Виктор сразу успокоился. — Пить, — прошептал он тихо. — Сейчас, — сказала она и поднесла стакан. Виктор пил большими глотками и чувствовал, как холодеют губы, прикасаясь к стеклу. Предательская слабость опять подкатывалась, и он плохо понимал происходящее. Голоса Ирены и незнакомого человека плыли над его изголовьем, не западая в сознание. Он только понимал, что в комнате говорят по-польски, говорят очень быстро и, как ему померещилось в родившемся от жара полуобморочном состоянии, миролюбиво. Но так ли это было на самом деле? Пани Ирена стояла у стены, прислонившись лбом к холодному стеклу, и, не оборачиваясь, гневно и твердо говорила: — Ты должен это сделать, Тадеуш, и ты это сделаешь. Человек в зеленом френче стоял позади и, как будто его голове с залысинами и редеющим ежиком волос было больно, стискивал ладонями виски. — Но по какому праву... по какому праву ты врываешься в мой дом и толкаешь меня на это! — возмущался он. — По праву родной сестры, — сказала Ирена спокойно, — сознаюсь, что этим правом мне нечего гордиться. Очень невысока честь считаться твоей родной сестрой, Тадеуш. Но ты должен вспомнить, если ты еще не до конца растерял остатки человечности, что нас с тобой вскормила одна и та же мать. Ты и о том должен вспомнить, что по твоей вине погиб твой родной отец. — Ирена! — вскричал Тадеуш. — Это не правда. Слышишь, Ирена, не правда! — Замолчи! — Так думают многие, кто знает нашу семью, но, клянусь, это не правда. К отцу давно подкрадывался паралич сердца, и я не виноват, что он сразил его именно в ту минуту. — В какую? Когда старик узнал, что его единственный сын ушел добровольно служить нацистам, разрушившим нашу чудесную Варшаву. Ты забыл это прибавить к своим лживым словам, Тадеуш. Я тогда была молодой и глупой, но что-что, а это я прекрасно поняла. Думаешь, я забыла, как ты бегал на поклон к ним в комендатуру и как гордился, что они обещали тебе богатую практику, как потом хвалился, что тебя назначили ведущим хирургом полевого немецкого госпиталя. — Ирена! — попытался он ее перебить упавшим голосом. Но она стремительно обернулась: — Что «Ирена»? Думаешь, я не знаю, как тебе далась твоя мышиная форма, против которой воюют сейчас все честные поляки, и сколько крови на этой твоей повязке! Ты знаешь, Тадеуш, мне часто кажется, что, когда мимо тебя проходит настоящий гитлеровец, эта твоя повязка ему кричит: «Не бойся его, этот человек сделает все, что ты пожелаешь, он продался». Ирена приблизилась к брату, крылья ее тонкого прямого носа раздувались от ярости. — В последний раз тебя спрашиваю: сделаешь ты это или нет? Тадеуш невольно попятился и отнял руки от висков. Бледный его рот кривился. — Ирена, ведь ты должна понимать, насколько это невозможно и невероятно. Я, главный хирург немецкого эвакуационного госпиталя, буду делать тайком от своего командования операцию... — Перед тобою раненый, Тадеуш. Разве не взывает о помощи его рана? Вспомни святые медицинские принципы, существующие со времен Гиппократа. — Я обязан поставить в известность свое командование, — упрямо твердил он. — Предать? — жестко спросила женщина. — Отдать на пытки человека, которого я привезла сюда без сознания. Так, что ли, Тадеуш? В этом ты видишь свой долг? Хорошо, иди и зови сюда свое командование. Предавай его и меня. Только не позабудь прихватить с собой дюжину автоматчиков. Я буду защищаться до последнего патрона. Вы нас живыми не возьмете. Иди же... Она показала ему на дверь. — Чего же ты стоишь, Тадеуш? Или, может, тебе надо подать твою фашистскую фуражку и плащ. А? Врач не отвечал. Он медленно опустился на красную тахту, ладонями взялся за голову. Ирена не видела его глаз, устремленных вниз. — Ирена, сестра моя, — спросил он, затравленно пряча глаза, — кто он тебе, этот человек? Не пытай меня, скажи правду. Женщина устало вздохнула. По этому последнему вопросу она безошибочно поняла: брат сдается. — Я уже сказала, это человек, которого я люблю. Он бежал из концлагеря под Познанью. Его там продержали около года, а в Советской Армии он был всего только лейтенантом. — И ты убеждена в этом? — настороженно спросил доктор. — Да, твердо, — ответила она не колеблясь. — Ты легковерная, Ирена, — грустно улыбнулся Тадеуш. — Ты всегда была рабой первого впечатления. Вспыхиваешь как порох, а потом приходишь к выводу, что не все то золото, что блестит. — Зато ты, Тадеуш, слишком долго тлел. Таким тлеющим они тебя и заманили и во френч этот впихнули. — Ты легковерна, Ирена, — повторил хирург не слушая, — он тебе сказал, что лейтенант. А вот мне стало известно, что не далее как вчера ночью бомбардировщик русских сбросил в Познани бомбы на казино, где проходило совещание старших офицеров германской армии. — Так ведь промахнулись, наверное? — беспечно перебила она брата. — В том-то и дело, что не промахнулись. Пятьдесят три убитых и четверо скончавшихся от ран. Статистика точная и в поправках не нуждается. — Ну и что же? Какое это может иметь отношение к раненому? Тадеуш поднял на сестру глаза, сказал строго: — А такое, что советский бомбардировщик был сильно подбит зенитными батареями и совершил, по-видимому, где-то вынужденную посадку. Может, этот твой лейтенант один из красных летчиков и есть? Вся задохнувшись от гордой догадки, Ирена выдержала его испытующий взгляд. — Ты гестаповец или хирург? — К чему эта пытка? — почти простонал Тадеуш. — Тогда я тебя в последний раз спрашиваю: будешь ты делать операцию или нет? Тадеуш встал и вяло потянулся за халатом. — Хорошо, Ирена, я сделаю операцию. Но дай мне слово, что, как только рана станет безопасной, ты увезешь его отсюда. Здесь ему оставаться нельзя. Немцы ко мне заходят почти ежедневно. Ни ты, ни я не заинтересованы теперь в огласке. — Да, Тадеуш, я об этом подумала еще до того, как решила просить тебя об операции. Он уже мыл руки с той старательностью, с какой их моют только хирурги. Тугие струйки воды падали в оцинкованный тазик. Высокий, ссутулившийся не по годам, Тадеуш казался сейчас угрюмым. — И еще одна просьба, — сказал он, не глядя на сестру, — обещай, Ирена, что, если мне когда-нибудь понадобится, ты подтвердишь, что я делал ему эту тайную операцию. Не хочу, чтобы на моих руках была одна только грязь. Ирена подалась вперед, почувствовав в его голосе боль и усталость. — Тадек, ты не веришь в их победу? Он обернулся, вытирая с той же старательностью руки, негромко подтвердил: — Я скажу тебе со всей откровенностью, что верю в большее: в их неминуемое поражение. — Зачем же тогда ты остаешься с ними, Тадек? — А что же прикажешь мне делать? — пожал он плечами. — Пустить себе пулю в лоб, чтобы одним покойником стало больше? Ты думаешь, мне легко? Мне часто хочется положить руки на подоконник, глядеть на луну и выть как волку. — Так беги от них, Тадек. Брось все и беги. Ищи партизан. Или тех, кто борется за свободную Польшу. Тадеуш снова опустился на тахту, словно у него подгибались колени. — Уже поздно, Ирена. — Не понимаю... — Я слишком далеко зашел. За доверие, которое гитлеровцы мне оказывают, они в свое время потребовали очень дорогую плату. — Он помедлил и тяжело спросил: — Ты знаешь о Майданеке, Ирена? — Да, знаю. — Там, в Майданеке, я был одним из лагерных врачей. — Ты! — отшатнулась она, бледнея. — Ты истязал этих безоружных людей, делал им прививки, снимал скальпы! — Ты очень пышно выражаешься, Ирена! — возразил Тадеуш, и она увидела, как дернулось нервным тиком его худощавое лицо. — Никаких скальпов я не снимал и ни в какие душегубки людей не запихивал. Но то, что я делал, было еще страшнее. Мы испытывали на пленных три сорта вакцины. Два сорта для заживления рая и один... смертоносный. Их подводили ко мне голых, изможденных. По сравнению с ними любой скелет выглядел бы куда красивее. — И ты их колол? — Да, Ирена, колол! — воскликнул он с ожесточением. — Все это происходило в ужасной угловой комнате с низкими средневековыми сводами. Она была известна в лагере под литером «тринадцать «г». Там все ходили в хрустящих белоснежных халатах: и врачи, и санитары, и даже два фельдфебеля из СД, посаженные по приказанию коменданта лагеря для порядка. Мне один из них особенно запомнился, Густав Стаковский. Он носил польскую фамилию, но был, как они говорили, чистокровным арийцем. Настоящий зверь. Волосатые, как у гориллы, руки, низкий лоб и очень проницательные глаза. В лагере его звали «железный Густав». Они приходили в комнату и садились «на всякий случай» с расстегнутыми кобурами парабеллумов. Их лица я не позабуду и на том свете. У меня кружилась голова и дрожали руки, но я колол. Понимаешь, Ирена, колол эту проклятую вакцину, от которой некоторые умерли, а некоторые остались инвалидами. Я уходил из этой комнаты шатающейся походкой, совсем уничтоженный как человек. Вечерами я напивался до потери сознания, стараясь забыть прожитый день, благо водки и вина выдавалось неограниченно, и лагерные офицеры снисходительно хлопали меня по плечу: «Ну вот, доктор, теперь вы и совсем уже наш. Потерпите немного и ко всему привыкнете. Главное, не нужно сентиментальности: запомните, что это такая же работа, как и любая другая». Понимаешь, они именовали это работой! — И ты... ты убивал своими прививками даже поляков? — Там были все, Ирена. Все в одну кучу: русские, евреи, поляки, французы и даже марроканец. — И ты можешь после этого жить! — Как видишь, даже слушаю тебя и исповедуюсь, — ответил он без усмешки. — И еще об одном хочу сказать, Ирена. Не подумай, что, делая эту тайную операцию, я дрожу за свою шкуру. Для меня страх — уже далекое прошлое. Очень хочу, чтобы хоть что-то светлое появилось у меня в жизни, прежде чем из нее уходить. — Я тебя поняла, Тадек, — сказала в смятении Ирена. — Я тебя хорошо поняла. Он решительным движением отбросил от себя вафельное полотенце: — Ну, а теперь ближе к делу, сестра. Твоего подопечного я залатаю по первому списку. Ты заменишь мне ассистента. Помнишь, я тебя когда-то учил этому.* * *
Удаление осколка оказалось более сложным делом, нежели предполагал Тадеуш. Он долго возился около бредившего летчика. Опытные смуглые руки сейчас не дрожали. В угрюмом молчании длилась операция. Изредка кивком головы и шепотом Тадеуш отдавал короткие распоряжения сестре: — Иглу... пинцет... тампон... зажим. Наконец он наложил повязку, накрыл простыней правую ногу Виктора и поднес на ладони к глазам сестры небольшой с зазубренными краями кусочек металла. — Возьми на память, Ирена. Ты меня уверяла, что в него стреляли часовые, когда он бежал из концлагеря. Это не пуля, Ирена. Это осколок. — Помолчал и прибавил: — Зенитный. Час спустя на старых брезентовых носилках, которые, как и многое другое медицинское оборудование, валялись в просторных комнатах дома, занятого главным хирургом эвакогоспиталя, Виктора отнесли на чердак и уложили на узкую лазаретную кровать. Он пришел в сознание, и взгляд его встретился с тяжелым взглядом хирурга. В больничном белом халате тот показался Виктору более приветливым, чем в серо-зеленом фашистском френче. — Это вы меня отремонтировали? — прищурился Виктор. — Спасибо. — Он муви бардзо дзенькуе, — перевела Ирена брату. Тадеуш, не улыбнувшись, качнул головой и пробормотал: — Порекомендуй ему больше не попадать под зенитки. Ты спустишься со мной или останешься с ним? — Останусь с ним. Только одежду свою заберу. — Да, это не помешает, — буркнул брат. — У майора Рихарда, начальника эвакогоспиталя, я пользуюсь неограниченным доверием, о чем тебе уже говорил, но все же лучше не лезть на рожон. Если он увидит женскую одежду, пойдут расспросы. До свидания, — кивнул он раненому. Ирена минут через десять возвратилась, неся перекинутые на руке плащ и замшевую курточку. На чердаке под нагревшейся за день крышей было душновато. От разбросанного свежего сена исходил живительный запах. Рядом с его койкой, прямо на сене, она начала молча стелить себе нехитрую постель. — Это вы, Ирена? — негромко осведомился Виктор. — Я, — ответила женщина и, придвигаясь, спросила: — Ну, как теперь себя чувствует пан летник? Больше не думает о смерти? — Нет, Ирена. Я не рыжий, чтобы так легко сдаваться костлявой. Она меня со своей косой еще наждется. — Пан Виктор, — засмеялась она тихо, — если правда, что поляки несколько хвастливы, то вы похожи на поляка. — Вот и хорошо. Особенно если все поляки похожи на вас и на этого доктора, что меня резал, — продолжал он восторженно, — это же отличный мужик. — Вы хотите сказать, что он хорошо удалил осколок? — Я говорю, он вообще чудесный парень, — повторил Виктор. Она помолчала, подавив горестный вздох. Белый камешек на ее пальце поблескивал во тьме. — Нет, Виктор. Нет и нет. Он вовсе не отличный. Он плохой и несчастный. — А зачем он тут? — Он главный хирург немецкого эвакогоспиталя. — Значит, он может предать. Сделать операцию и предать. — Нет, Виктор. Он исполнит все, что я захочу. — Почему вы так уверены в этом, Ирена? — Он мой брат, Виктор, родной брат. Она уронила голову на колени и заплакала. Было тихо. Где-то в дальнем углу, заставленном косами, граблями и лопатами, — видно, подлинный хозяин этого дома, прежде чем уступить его временным пришельцам, заранее стащил сюда всяческую утварь — робко затрещал сверчок. Лунный свет скупыми полосками проникал сюда через дымоход и небольшое незамаскированное оконце и слегка освещал женщину. Она казалась Виктору печальной. Он постарался сейчас в потемках воскресить каждую черточку ее лица и вздрогнул, осененный внезапным открытием. «Да она же красивая, — сказал он себе, — она очень красивая». Внизу раздавались глухие быстрые шаги: это доктор расхаживал по комнате из угла в угол, почти не останавливаясь, потому что шаги не затихали. Потом послышался дребезжащий телефонный звонок, шаги оборвались, и нервным хрипловатым голосом курильщика доктор произнес несколько фраз по-немецки. Вскоре Большаков уловил скрип двери и щелканье ключа — доктор ушел. — Пан Виктор, — заговорила Ирена тихо. — Вы можете мне довериться, как другу? — Разумеется, могу. Только не называйте меня паном. Я просто Виктор, и точка. Ладно? — Ладно. И меня зовите только Иреной. — Условились, — согласился он. — Так о чем вы хотели спросить меня? — Виктор, — торжественно зашептала женщина, — вы можете мне сказать правду. Эту правду будем знать только я и вы. Познань бомбили вы? Пятьдесят три убитых офицера и четверо скончавшихся от ран — ваша работа? — А само казино? — Большаков приподнялся на постели. — О! Казино стало для них добрым погребением. От него остались одни стены. — Это точно? Откуда ты знаешь? — Брат сказал, — пояснила она, — а брату — немцы. Значит, это ты? Виктор выпростал из-под одеяла руки, глуховато рассмеялся: — Какое тебе спасибо за это боевое донесение! Теперь все стало на свое место и мучиться от неизвестности не надо. — А ты мучился? — Еще бы! Даже в лесу, сквозь бред думалось: а вдруг промахнулись. Если зря погибли твои боевые друзья — Володя Алехин, Али Гейдаров и стрелок Пашков, кто ты такой после этого, капитан Большаков? Обхватив руками колени, Ирена жадно вслушивалась в его сбивчивую речь. При мягком свете луны видела она бледное от потери крови, одухотворенное лицо летчика, мягкие волосы, разметавшиеся по подушке. «Почему они побеждают, эти добрые и сильные парни из Советской России? — думала она восторженно. — Наверно, потому, что всегда идут в бой с таким порывом». — Ты — богатырь, Виктор, — с восхищением прошептала она, — настоящий богатырь. — Нет, Ирена, — покачал он головой, — если кто и богатырь, так это ты. До сих пор не могу понять, откуда у тебя нашлось столько сил, чтобы дотащить меня до того блиндажа. — Не надо, Виктор. Не надо так красиво говорить. Красиво скажешь — друга обкрадешь. Они замолчали. Пахло кровельной краской, сухим деревом и сеном. Да еще от забинтованной раны исходил острый запах йодоформа. Лежа на жесткой подушке, Виктор устало молчал, занятый своими размышлениями, и женщина интуитивно почувствовала, что это раздумье сейчас ему необходимо, не нарушила установившейся тишины. А Виктору грезилось Канавино и коричневый деревянный домик, куда незадолго до двадцать второго июня перенес он свое необременительное холостяцкое имущество, став мужем Аллочки Щетининой. Жили они в двух тесных комнатах этого домика, принадлежащего Аллочкиному отцу. Этот богомольный старичок с розовой лысиной и сутулой спиной работал агентом Госстраха и мечтал об уходе на пенсию. Он не пил и не курил, любил копаться в огороде, а белая сирень, три куста которой вымахали в маленьком дворике, была его подлинной страстью. В домике с низкими потолками скрипели двери, скрипели половицы, скрипели и кашляли стенные часы, перед тем как отбить положенное количество ударов. Любовь у них была тихая и ровная, без единой размолвки. Да откуда им было и взяться, этим размолвкам, если они пожили так мало. Аллочка была опрятной и заботливой. Только однажды незадолго до войны она ему не угодила, когда ночью, лежа на его плече, тихо спросила: — Вить, а Вить. — Что, белочка? — отозвался он сонно. — А может, ты бросил бы свою авиацию. Все-таки это опасно очень. Вот и папа так считают. — Она даже за глаза говорила о своем родителе уважительно: думают, работают, считают, пишут. Он удивленно отодвинулся и даже засмеялся, полагая, что она шутит. — Да не могу же я жить иначе, белочка. Не могу! — А как же другие могут, — возразила она неодобрительно и не то обиженно, не то просто потому, что устала, закрыла глаза и до самого утра больше не разговаривала. Его это немножко покоробило, но он подумал: да можно ли это считать за размолвку? Вздор! Позднее, когда их уже разлучила война, она писала ему очень часто, и письма ее всегда были заботливые и ласковые. Только в последних, очевидно не выдержав лишений и полуголодной жизни, длинных очередей за молоком и хлебом, она стала глухо упрекать Большакова за то, что тот ни разу не вырвался с фронта на побывку и не смог ни с кем передать хотя бы маленькой продовольственной посылки. А им трудно, им очень трудно, и денег, которые он посылает по аттестату, едва хватает. Он читал это письмо на аэродроме в промозглый нелетный день, и косая недобрая складка западала у него на переносье. Ему было жаль Аллочку, и в то же время он не мог обнаружить своей вины и представить, как это он может ей что-либо послать, если получает всю свою пятую летную норму в столовой и сверх нее не может получить на руки ни одной консервной банки, ни одного килограмма масла, так же, как и другие, летавшие с ним бок о бок летчики и штурманы, не говоря уже о техниках, питавшихся значительно хуже. Он поделился своими мыслями с полковником Саврасовым, с которым его связывали обоюдные симпатии. Саврасов нахмурился, подумал и безжалостно изрек: — Конечно, все это трудно, но все ж таки ты дрянь, Виктор. — Почему? — спросил он обиженно. — Жрать в столовке поменьше надо. Попроси повара недодавать тебе немного продуктов, так и соберешь посылку. А потом при случае пошлешь с кем-либо. С одной стороны, как командир, такого совета я тебе давать не имею права. Мне важно, чтобы вы все сытые летали, без головокружения. Но с другой стороны... — и, не договорив, полез в карман за папиросами. Вспомнив об этом, Виктор погрустнел. Вздохнув, подумал, как-то они сейчас там, родные. Черные в полумраке чердачные балки висели над ним. Виктор, глядя на них широко раскрытыми глазами, слушал гулкие толчки своего сердца. Неожиданно остро возник совершенно ненужный вопрос: «А ты бы, Аллочка, так смогла? Вот так бы тащить меня по чужому лесу, по топям. Так же спрятаться за блиндаж в минуту опасности и убить врага». Он разозлился, что не находит на этот вопрос ответа. Чтобы отвязаться от докучливых мыслей, нерешительно спросил сидевшую рядом польку: — Ты не спишь, Ирена? — Нет, Виктор. — Послушай, Ирена, — взволнованно заговорил он. — Конечно, я не хочу разводить всякие там сентиментальности, но я-то вижу, до чего тебе не по себе. Ты какая-то странная, Ирена. — Какая же, Виктор? — Ты вся темная, Ирена. Темная оттого, что я о тебе ничего не знаю... и вся светлая оттого, что совершаешь одни хорошие поступки. Кто ты, Ирена? Женщина сдавленно засмеялась: — О, Виктор, я вовсе не добрая волшебница из хорошей сказки. Я простая полька, каких много. Я не беднячка и, как у вас говорят, не пролетарка. Моему прадеду принадлежал один из красивейших замков под Краковом... Говорят, вся округа трепетала, когда он выезжал на охоту. Дед не смог удержать этого богатства, а отец мой был большим демократом и тяготился положением среднего помещика. В первую мировую войну наше имение было разрушено, а то, что от него осталось, отец продал, и мы переехали в Варшаву. В Жолибоже отец купил большой особняк, и я бы не сказала, что дела у нас пошли плохо. Он работал в суде, был депутатом сейма... Он меня учил с детства: «Запомни, Ирена, что самое дорогое в жизни — это человек. Он все создал. Люби и уважай человека». — Смотри ты, — рассмеялся Большаков, — твой батька мыслил марксистскими категориями. — Подожди, Виктор, — остановила его полька, — не перебивай. Он, конечно, не был марксистом, но не был и тем сытым буржуйчиком, какими были многие чиновники при Пилсудском. И вот однажды, когда мне было пятнадцать и я уже заканчивала гимназию, отец принес домой папку с очередным судебным делом. Был он расстроенный и сердитый. «Паненка Иренка, — сказал он мне, — возьми-ка почитай, если хочешь». Это было дело о пятнадцати молодых рабочих, поднявших забастовку на ткацкой фабрике. Там приводились такие примеры нищеты и произвола фабрикантов, что я задрожала от возмущения. «Отец, — сказала я, — неужели ты не откажешься от этого дела, неужели ты засудишь невинных и покроешь позором свою голову?» Помню, он посмотрел на меня своими черными глазами. Тоскливо так посмотрел. У моего отца глаза были черные, это только у нас, у мамы, меня и Тадека, синие. Посмотрел и улыбнулся: «Цурка моя кохана. Ты опоздала. Я уже отказался. Мундир государственного чиновника мне приказывал: суди, а совесть говорила — нет! И я послушался совести». Словом, мой отец подал в отставку. Мы с мамой его одобряли, Тадек, мой брат, нет. Он тогда учился на медицинском факультете, франтил и гордился нашим фамильным прошлым. «Что ты наделал, отец, — говорил он, — ты не прав. Идет сейчас на смену прошлому новый железный век, нужно быть твердым и презирать филантропию». Отец выходил из себя, топал на него ногами, но к согласию они так и не приходили. В это время я поступила в университет, стала изучать русский. Родной брат отца Стефан Дембовский был полковником кавалерии в царской армии и погиб во время Брусиловского прорыва. Отец его очень любил, а дядя Стефан был совершенно обрусевшим поляком, и поэтому отец одобрял мой выбор. Меня же другое увлекало, Виктор. У нас в Польше многие любили Пушкина, Лермонтова, Толстого, зачитывались и Маяковским. И у паненки Ирены была мечта стать переводчицей. Жили мы по-прежнему в Варшаве. Ты ее ни разу не видел? Большаков, упираясь локтями в подушку, приподнялся на койке. Он вдруг вспомнил, как в Малашевичах среди всякого скарба, брошенного отступившими немцами, нашли они с Алехиным нарядный альбом с видами Варшавы. Вспомнил открытку: черный красивый собор, и у входа темный бронзовый Христос, придавленный крестом, гневно показывал рукой на противоположную сторону улицы. Он рассказал ей об этой открытке. Ирена встрепенулась: — Виктор, так это же самый знаменитый собор на улице Новый свят, где похоронено сердце Шопена. А Христос, так о нем варшавские остряки целую присказку сочинили. Говорят, напротив храма какой-то торговец завел ресторацию и назвал ее «Бахус». Христос, у которого на спине крест, показывает на двери кабака и кричит: «Берегитесь Бахуса! Грешники, вы там все погибнете!» — Она поперхнулась сдавленным смешком, видимо обрадовавшись, что в грустный ее рассказ ворвалась эта неожиданная шутка. — Что ж с тобой было дальше, Ирена? — тихо спросил Большаков. — Жили мы по-прежнему в Варшаве. Года через два с отца моего сняли опалу. Снова стал он депутатом сейма. Время было тревожное: война подбиралась к нашей земле. Отец был следователем по особо важным делам. Судил он теперь валютчиков, изменников и шпионов германских. И, надо сказать, расправлялся с ними круто. Он всегда говорил, что самое большое зло принесет полякам Гитлер. Я однажды подслушала, как они шептались с мамой в спальне. «Не понимаю, — говорил отец, — на что наше правительство рассчитывает. Балы, приемы, неописуемая роскошь, а танков нет, авиации тоже, и вся оборона на песке...» В это время я уже была замужем. Командир польского эскадрона Анджей Стукоцкий стал моим мужем. А войной дуло на нас все сильнее и сильнее. Помню, было у нас в доме какое-то семейное торжество. Собралось много гостей, а папа запаздывал. Он был на каком-то приеме в сейме и приехал оттуда не очень веселый. На него сразу же набросились: «Как вы полагаете, пан Дембовский, каково будущее Польши, что по этому поводу говорят в правительстве?» Папа отвечал на эти вопросы, острил, улыбался: «Я сейчас только от Мосьцицкого. Были там все министры, и маршал Рыдз-Смиглы заявил, что никогда польская армия не была такой сильной, как сейчас». Он улыбался, а черные глаза оставались печальными. Но кто-то, едва его дослушав, уже кричал: — Панове, шампанского. Тост за здоровье храброго маршала Рыдз-Смиглы! Дней через пять я сама видела большую толпу на площади у могилы Неизвестного солдата и толстого упитанного человечка в военном френче на трибуне. Он кричал, что наша кавалерия самая лучшая в мире, что еще не родилась армия, способная нас победить. «Жители Варшавы могут спать и не думать ни о какой опасности!» — заверял он. А потом началась бомбардировка Варшавы. Это не война была, Виктор, а убийство. Первые зловещие бомбежки. Если бы я была художником, я бы написала страшную картину и назвала бы ее «Сумерки большого города». Сердце болит, когда вспомнишь. Закрою глаза и, кажется, до сих пор слышу, как воют над Варшавой их одномоторные пикировщики... — «Юнкерсы-87», — вставил капитан. — Так есть, — согласилась Ирена. — Они переворачивались в воздухе и бомбили очень точно. Никогда не забуду второе сентября. Трамваи не ходят, водопровод поврежден, и за водой везде целые толпы. Я шла по улице Краковское предместье, когда появились самолеты. Не знаю, сколько их было на самом деле, но мне показалось, что они закрыли все небо. Они пикировали на эту беззащитную толпу с ведрами, чайниками и котелками. Помню, самолеты уже обстреливали улицу, когда толпа с криками разбежалась. Я глянула — у колонки на мокром асфальте мальчик лет семи. Белая рубашка, поясок с медной пряжкой, кудряшки, а на рубахе кровь. Рядом валяется перевернутый чайник. Я не выдержала, бросилась к мальчику, подняла на руки. Бегу по Краковскому предместью и кричу: «Где здесь «Красный крест»?» Кто-то меня остановил. Смотрю, сестра с красным крестом на рукаве: «Куда вы несете хлопчика, пани?» — «На перевязочную». Она головой покачала: «Не надо, пани, хлопчик юш не жие». Вот так началась для меня война. Потом пришли фашисты. А вскоре умерла мама от заражения крови во время операции, она тоже была хирургом. Муж оказался мелкой дрянью, и я с ним рассталась. Не повезло и нашему отцу. Самый тяжкий удар нанес ему Тадеуш. Когда папа узнал, что сын пошел на контакт с фашистами, он слег. Больное сердце не выдержало. Я похоронила его в Варшаве зимой сорок второго года и осталась с годовалым Янеком... Но не устерегла и его. Менингит. Я все, что могла, сделала, и все-таки теперь одна... Большаков неловко заворочался, узкая лазаретная койка скрипнула под ним. — Тебе нехорошо? — спросила она. — Рана заболела? — Нет, Ирена, душа, — сказал летчик потеплевшим голосом. — Вот думаю о тебе и досадно, что слов не могу найти хороших, чтобы тебя утешить. Ирена вздохнула: — Добрый ты, Виктор. Ночи бывают всякие: длинные и короткие, душные и холодные. Одни из них тянутся долго, будто тлеют, не оставляя в памяти никакого следа. Другие, наоборот, сгорают, словно короткий запал перед взрывом, если люди проводят их без сна, и что-то новое открывается перед ними. Эту ночь он не мог отнести ни к первым, ни ко вторым. К первым потому, что, избежав опасности на несколько последующих дней, был относительно спокоен, ко вторым потому, что как будто и открытий никаких он не сделал. Просто сидела перед ним женщина, ставшая вдруг понятной и близкой. — А ты как жил, Виктор? — спросила Ирена. — Я? Да, наверное, как все мои одногодки. Ты же знаешь, что у нас было после революции? Гражданская война, разруха, голод. Мать мою и отца убили в бою. Они сражались в Первой Конной. А младший отцов брат дядя Леша остался жив. — Тебя воспитывал, — догадалась она. — Нет, Ирена, я воспитывался в детдоме. Дядя Леша был тогда инженером и получил назначение на Магнитострой. Это большой у нас завод на Урале. Доменные печи, металл и сталь. Понимаешь? Он меня обещал забрать, но не получилось. Мой дядя внезапно умер, прямо на работе. Он был хорошим человеком, Ирена. Лучший пулеметчик в одном из буденновских эскадронов. Секретарь партячейки. — Да, да, — вдруг сказала Ирена, — я очень хорошо понимаю вас. Она покачала головой и спросила: — Виктор, ты, наверное, голодный? Я спущусь вниз, пока брат не возвращался, и поищу еды. Должна же быть какая-нибудь еда у главного хирурга фашистского госпиталя. Скрипнув дверью, она тихонько спустилась по узкой лестнице. Шаги ее все же были слышны: пани на высоких каблуках не ходят бесшумно. Проходя мимо высокого трюмо, Ирена остановилась. Старомодное зеркало добросовестно ее отразило. Полька с удивлением отметила и возбужденный румянец на щеках, и блеск синих глаз и осталась явно довольна всей своей легкой стройной фигурой. Она улыбнулась и опустила узкий подбородок в воротник синей шерстяной кофты, словно пристыженная этим неожиданным открытием. Потом она начала поиски еды, с легким шумом распахивая ящики и разрывая кульки. Ей попалась пустая коньячная бутылка, несколько пустых консервных банок. Наконец Ирена обнаружила две булочки, начатую пачку печенья и кусок сыру. Она сделала три бутерброда, один тут же съела сама, а два торжествующе понесла наверх. Когда она подошла к койке, раненый летчик крепко спал. Ирена положила бутерброды на разостланный свой плащ и долго всматривалась в его лицо, окутанное темнотой. Потом она наклонилась и осторожно погладила его волосы. Виктор не проснулся.* * *
Почему он так часто сравнивает Ирену и далекую беленькую Аллочку — ему и самому было непонятно. Тихая, рассудительная и такая незабываемая Аллочка белым облаком проносилась в его размышлениях. Но стоило лишь подумать о ней, как сразу же на ум приходила и Ирена. Эта, как порох. Она может быть гневной и вся пылать, а через мгновение становится кроткой и тихой. У Аллочки доводы и доказательства, а у нее чувство, и только чувство. Нет, не надо сравнивать добрую рассудительную Аллочку с этой, случайно ему повстречавшейся полькой, совершенно неожиданной в его жизни. «Случайно! — оборвал себя Виктор. — А дорога в чужом лесу от разбитого самолета к блиндажу. А ее твердый и расчетливый выстрел в фельдфебеля, собиравшегося отправить его на расправу в фашистскую комендатуру. А ее отчаянный гнев, сломивший безвольного, запутавшегося в жизни Тадеуша, заставивший его взяться за скальпель и, по существу, спасти Большакова от неминуемого заражения крови! Если есть мера мужества и твердости, — подумал Виктор, — то эта мера щедро отпущена Ирене». Несколько суток прожил он на чердаке. Врач приходил к нему по утрам, сдержанно говорил «добрый» — так сокращенно приветствовали друг друга поляки, опуская в обращении «день добрый» первое слово. Так же сдержанно Тадеуш осведомлялся о его самочувствии и угрюмо качал головой в знак того, что он действительно соглашается с тем, что у летчика на самом деле хорошее настроение и самочувствие. Рана быстро подживала, потому что была все-таки она неглубокой и нерв, к счастью, оказался неповрежденным. Утром в субботний день Виктор на костылях рискнул подойти к слуховому окошку и оттуда долго смотрел на улицу, но так ничего и не увидел, кроме крыш, крытых шифером и жестью, да глубокого, согретого солнцем неба. Прислушался — тишина кругом. Он недоверчиво пожал плечами и отошел. Ему представилось, что сейчас на огромном протяжении советско-германского фронта тысячи орудий выплевывают на израненную войной землю тонны раскаленного металла, а в воздухе поют сотни боевых моторов. Может, и даже наверняка, на их аэродроме Саврасов готовит сейчас пять или шесть экипажей к ночному вылету и, давая последние советы, скажет напутственно: вы смотрите, если зенитки прижмут, все равно пробивайтесь к цели. Как Большаков и Алехин, пробивайтесь. А на боевой листок уже налеплены их фотографии в траурных рамках. В полдень Ирена принесла ему рисовый суп в зеленом солдатском котелке. Была она на этот раз невеселая и встревоженная. — Немножко плохое дело, Виктор. Больше нам нельзя здесь оставаться. — Что случилось? — спросил Большаков, переламывая ломоть ржаного хлеба. — Нем-нож-ко плохое дело, — повторила она нараспев. — Вчера фашисты обнаружили труп убитого фельдфебеля и обломки самолета. Они согнали крестьян и приказали зарыть в яму твоих товарищей. И очень удивляются, кто убил фельдфебеля. — Она посмотрела на капитана в упор: — Как твоя нога, Виктор? Он отставил котелок, взял костыль и прошелся по комнате. Сначала тихо, потом быстрее. — Это уже хорошо, — одобрила Ирена, — мы сегодня должны будем отсюда уехать. — Если поближе к линии фронта, то я рад. — Да, Виктор, поближе. — Кто же нас отвезет? — Тадеуш. — Твой брат? — Да, мы с ним уже обо всем договорились. У него свой «оппель» с паролем. Ни один регулировщик до самой Варшавы не остановит. Он сам будет за рулем. Он, я и ты. Все. — И мы поедем прямо к Варшаве? — Нет, Виктор. Туда ехать — на верную смерть ехать. А я тебя, — она подумала и горячо прибавила, — на верную жизнь должна повезти. — А где же она водится, эта верная жизнь? — ухмыльнулся капитан. Ирена рассмеялась: — Я знаю, где такая жизнь водится. У нашей бабушки Брони. Хочешь, скажу, чем хороша Польша? Тем, что она небольшая. У вас другое. Если ты родился в Сибири, а приедешь на Кавказ, ты не всегда найдешь родных или близких. А у нас страна маленькая, и, куда бы ни поехал, везде встретишь своих. Бабушка Броня моя няня. Мы поедем на Краков, в лесное местечко Ополе. Там ты поправишься, а перестанешь хромать, будем думать, как перебраться через Вислу. — Спасибо, Ирена, — поблагодарил летчик. — Тогда будем собираться, — сказала она, — не забудь документы. Виктор сел на койку, из-под подушки с пожелтевшей наволочкой достал планшетку, раскрыл. Ему на колени выпалидва целлофановых переплета, в них были сложены его собственные документы и тех, кого уже не было в живых: штурмана Алехина и стрелков. Комсомольский билет Али Гейдарова потемнел от засохшей крови. Затем он вынул карту, пересеченную красной маршрутной чертой. В ней лежала большая открытка со штампом фотоателье. Он грустно поднес ее к глазам. Белокурая Аллочка в своем любимом клетчатом платье с передником держала на руках завернутого в пеленки малыша. Ирена искоса поглядела на снимок: — Твоя жена, Виктор? — Жена и сын. — Можно взглянуть? — Пожалуйста. — Красивая женщина, — задумчиво произнесла Ирена, — очень красивая. А пистолет не забыл? Большаков в ответ похлопал себя по карману. Ирена тоже стала укладывать в маленький черный чемоданчик свои вещи. Усмехнувшись, повертела в руках пистолет. Спросила, советуясь: — В чемодан его или с собой? — Лучше с собой, Ирена. Уже смеркалось, и за окнами домика совсем посинело, когда во двор въехал на небольшом «оппеле» доктор. Въехал он без сигнала, и только по скрипу тормозов Большаков догадался, что машина уже ждет. Надев планшетку под пиджак, Виктор заковылял к выходу. Ирена помогла ему спуститься по узкой винтовой лестнице. В машину садились молча. За рулем темнела фигура доктора. Был он в бежевом демисезонном пальто с поднятым воротником. Ирена села рядом с братом, а Виктор устроился на заднем сиденье и вытянул раненую ногу. Он с удовольствием ощутил, что даже во время ходьбы рана не отдает прежней режущей болью. «Еще бы дня четыре покоя, и через Вислу попробовать можно, — подумал он. — Только бы к берегу скрытно подойти, а уж там...» Большаков был хорошим пловцом. У Горького запросто перемахивал Волгу, спокойно справлялся с течением, умел нырять, если это было необходимо. «Оппель» тихо выехал из села. Пока до шоссейной магистрали пробирались замысловатыми лесными перепутками, Тадеуш на полную мощь включил фары, потом их почти полностью погасил, и по отсутствию толчков капитан понял, что едут они уже по асфальту. Все дальше и дальше удалялся «оппель» от места падения «голубой девятки». Капитан подумал о своем погибшем экипаже: «Простите, ребята, что не предал земле ваши тела. Но что я тогда мог сделать, окровавленный, в горячем бреду? Останусь жив — всем полком поставим вам памятник. Из мрамора отгрохаем». Путь им предстоял долгий. К поселку Ополе надо было ехать не менее шести часов. Прямо перед собой он видел сутуловатую спину Тадеуша. Одетая сумерками, она казалось окаменелой. О чем думал этот запутавшийся в жизни человек? Большаков понимал, что доктор сделал ему операцию, прятал его на чердаке, а теперь отправился с ним в этот опасный путь не только потому, что хотел поскорее освободиться от его присутствия. Видно, и чувство загубленной совести давило в эти дни Тадеуша. А может, при иных обстоятельствах он еще станет выдавать себя за героя, хвалиться спасением советского летчика. «А впрочем, черт с ним, — решил Большаков, — пускай довезет, и точка». На шоссе их обогнало несколько военных машин, и оп услыхал — в последней пели по-немецки. Видно, на фронт перебрасывались подкрепления. На каком-то перекрестке их остановили: немецкий солдат задал Тадеушу несколько вопросов, Большаков нервно прислушивался, а пальцы сами собой стискивали в кармане рукоятку пистолета. Но все обошлось, и «оппель» покатился дальше. Свернув с магистрали, врач повел его по одной из рокадных дорог на юг. Яркая луна висела над миром, посылая желтый свет всем живым и всем мертвым, кто сражен был в эту ночь пулями и осколками на линии фронта и упал на прохладную, отдающую осенью и прелой листвой землю. Тадеуш молчал, делая вид, что все его внимание сосредоточено исключительно на управлении машиной. Ирена иногда оборачивалась и бросала на Виктора короткие ободряющие взгляды. Они проехали добрую половину пути. Спина у капитана затекла. Он попробовал сесть по-другому и, чтобы было удобнее, вытянул левую руку на спинке переднего сиденья. В полночь машина ворвалась на одинокую улицу небольшого села, придавленного сонной тишиной, потом выехала за околицу и, не сбавляя скорости, повернула в сторону густого леса. В зыбких отсветах фар Большаков увидел стволы берез и осин, толстые, в два обхвата, комели дубов. Дорога шла в гору, и четырехцилиндровый мотор «оппеля» с натугой гудел на подъемах. Наконец Тадеуш затормозил и выключил мотор. Фары выхватили из ночного мрака торец бревенчатого сруба. Избенка с небольшим крылечком испуганно жалась к темным стволам. — Приехали, — тусклым голосом произнес врач и распахнул дверку. — Ты нас подожди, Виктор, здесь, — ободряюще пояснила Ирена и положила на его ладонь свою, — мы переговорим с бабушкой Броней и сразу вернемся. И тотчас их поглотила темнота. Виктор дремотно смежил глаза, коротая ожидание. Тишина леса не рождала никаких звуков. Ветер погас, и деревья стояли унылые и молчаливые. Даже отдаленный крик птицы был сонным. Потом две смутные тени снова выросли около машины. — Можно выходить, — объявила Ирена и помогла ему выйти. Виктор стоял, опираясь на костыль, с жадностью вдыхая ночную прохладу. — Мы все трое здесь остаемся, Ирена? — Нет. Тадеуш уедет. Утром он должен быть под Варшавой. У него там свои дела. Врач приблизился к ним и что-то быстро сказал по-польски. — Он хочет знать, все ли хорошо сделал во время операции, — перевела женщина. — Да, — сдержанно сказал Большаков. Врач выслушал его ответ и заговорил снова. — Он говорит, — перевела Ирена, — что, по его мнению, в ближайшие два-три месяца русские прорвут фронт на Висле и будут здесь. — Скажи ему, Ирена, что он не глупый человек и умеет трезво мыслить. — Он еще раз тебя благодарит и спрашивает, что, по твоему мнению, он должен будет сделать, когда придут советские войска. — Отвечать за прошлое, — отрезал Большаков и сердито стукнул костылем по росной ночной земле. — Явиться в первую советскую комендатуру или к первому командиру польской Народной армии, в зависимости от того, кого он раньше встретит, и честно обо всем рассказать. А меру наказания для него, как мне кажется, определит польский народ. Так и переведи. Тадеуш закивал головой, выслушав сестру, и сказал ей тихо еще несколько слов. — Он говорит, что готов нести ответственность и благодарит тебя за прямоту. Сейчас он уедет. Тадеуш сделал несколько шагов к Ирене, растопырил руки, намереваясь ее обнять, но она стояла не двигаясь. Он только поклонился ей, потом обернулся к летчику и приветственно поднял руку: — До свидания, пан. — До свидания, доктор, — сдержанно откликнулся Большаков. «Оппель» почти бесшумно скользнул в темень. Через секунду фары выхватили полоску проселочной дороги, спадающей с холма в туманную пену низины. Жалко помигал задний маленький огонек и скрылся. И они остались одни под звездным высоким небом. — Пойдем, Виктор, — устало объявила Ирена, — бабушка Броня нас ждет. Она взяла его под руку, помогла подняться на крылечко. Старые половицы запели под их ногами. В сенях их уже ждала ссутулившаяся старушка. С доброго морщинистого лица выцветшие глаза изучающе скользнули по фигуре летчика. Керосиновая лампа с жестяным кругом абажура вздрагивала в ее руке. — Иренка, цурка моя кохана, — ласково выговорила она. Они долго о чем-то пререкались по-польски, прежде чем войти в избу. Потом старушка запричитала и толкнула дверь. Глазам Большакова предстала узкая комната, половину которой занимала печь с лежанкой. Дряхлая деревянная кровать стояла вдоль стены. Вокруг стола несколько табуреток да еще длинная лавка — вот, пожалуй, и вся обстановка. На столе глиняный кувшин, четверть краюхи хлеба, блюдо с черной смородиной. Старушка поставила лампу на скатерть из грубого холста с дешевыми цветочками и, улыбнувшись, пригласила их к столу. — Сядем, Виктор, — тихо предложила Ирена и потянула его за локоть. Большаков опустился на табуретку. Стиснув коленками костыль, он с удовольствием пил парное козье молоко, закусывая его кислым хлебом из прогорклой муки, сильно разбавленной отрубями. Ирена и бабушка Броня все время оживленно разговаривали, и по отдельным, знакомым ему польским словам и названиям Виктор понял, что они вспоминают Варшаву, довоенную жизнь, детство Ирены, ее отца и мать. Большаков в эти минуты сосредоточенно думал о своем ближайшем будущем, рассчитывая мысленно тот остаток пути, что отделяет теперь его от Вислы и линии фронта. «Она мне поможет, — размышлял он, поглядывая на Ирену, — она мне и этот путь обязательно пройти поможет. Честное слово, до чего же прекрасные люди живут на земле», — благодарно думал он. Потом из уст бабушки Брони он услышал фразу: «Ирена, пан Виктор очень утомился», которую понял как сигнал идти на отдых. Сказав эти слова, старушка взяла лампу и встала проводить их до крыльца. Ирена встала тоже. — Мы не должны ночевать в доме, — пояснила она. — Бабушка Броня отведет нас в сарай, а утром вернется дедушка Збышек, и мы посоветуемся, как быть дальше. — А ему довериться можно? — спросил Большаков. — Вполне, — успокоила его Ирена, взяла чемоданчик и пошла вперед. Летчик заковылял следом. Они быстро пересекли подворье и остановились у черневшего сарая. Ржаво запела дверь, впуская полосу лунного света, и захлопнулась. Кромешная темнота окутала их. Виктор скорее почувствовал усталое учащенное дыхание Ирены, чем увидел ее. Он достал из кармана фонарь, включил батарею. Неяркий кружок света побежал по стенам, осветил низкий сеновал, заваленный сеном, и приставленную к нему короткую, в три ступеньки, лестницу. — По этим ступенькам еще надо подняться — сказал он. — Я помогу, — отозвалась женщина и ловко забросила на сеновал чемодан. — Так во мне же почти девяносто кило. — А по лесу, думаешь, легче было тебя тащить? — Сдаюсь, — тихо засмеялся летчик. Почти без помощи Ирены он взобрался на сеновал и обшарил его с помощью фонарика. Вдалеке у стены валялись вилы. В центре сено было примято, и он разглядел две разостланные холстины, а на них подушки. — Тут дедушка Збышек иногда ночует, — пояснила Ирена, — ложись на ближайшую подстилку, а я устроюсь на другой. Фонарик погас. Ползком добравшись до первой постели, он разулся и, положив в изголовье костыль и планшетку, с удовольствием растянулся. На засохшей ране повязка ослабла. Ее бы следовало затянуть, но, блаженно вдыхая запах сена, он решил: ладно, завтра. Рядом раздавались легкие шорохи. Это Ирена укладывалась спать. Он вдруг представил, как она сбрасывает белый дождевик и неудобные городские туфли. — Доброй ночи, Виктор, — донесся ее шепот. — Доброй ночи, Ирена. В его кармане тикали самолетные часы. Те самые, что снял он с приборной доски «голубой девятки». Почему-то ему показалось, что стучат они слишком громко, на весь сарай. Он заворочался, и сено колко прикоснулось к лицу. Смутное волнение мешало спать. Он снова вспомнил о маленьком домике в Канавино, о далекой беленькой Аллочке, постарался ее представить и не смог. Вместо нее, словно нет темноты и сарай освещен ярким электрическим светом, он увидел Ирену, ее грустные синие глаза. Он обругал себя яростно: «А вот назло буду думать об одной Аллочке, и только о ней». И опять не мог ее представить и ловил глухие шорохи, раздававшиеся рядом, вслушивался жадно в чужое громкое дыхание и вздрогнул, когда знакомый голос ласково окликнул: — Пан Виктор. — Опять пан. — Нет, не пан, а просто Виктор. Ты меня слышишь? — Да, слышу, — ответил он, зная, что по неровному его голосу она также поняла, что он взволнован и этой кромешной темнотой, и ее близостью. — Что я хотела спросить? Ты свою жену очень любишь? — Очень, Ирена, — подтвердил он на этот раз сухо, будто сухостью голоса отбиться хотел, а про себя подумал: «Да тебе-то какое дело?» В повисшей над ними тишине оба лежали с открытыми глазами. Ему уже стало казаться, что он вот-вот задремлет, но было это ощущение обманчивым, сон не шел. А часы, казалось, стучали все громче и громче. «Она красивая, — думал Виктор, — сильная, смелая и красивая. И тебе она нравится. По-настоящему нравится. Только ты не должен об этом думать, Большаков. Не должен. Не имеешь права». И когда зашуршало рядом с ним сено, он нисколько этому не удивился, потому что напряженно все время этого ждал, как неминуемого. Жаркое дыхание Ирены опалило лицо. Он ощутил на лбу ее легкую ладонь. Длинные пальцы, чуть вздрагивая, ласково перебирали спутанные волосы Большакова. — Послушай, Виктор, — проплыл над ним ее знобкий шепот, — я должна тебе открыть правду. — А разве до сих пор ты говорила мне неправду? — усмехнулся он. — Нет, Виктор, я никогда тебя не обманывала. Но об этом ты меня не спрашивал, а сама я не сказала. Ты никогда не думал, почему я сразу пришла тебе на помощь, там, в лесу, у разбитого самолета? — Нет, Ирена. — А тебе хочется об этом узнать? — Да, Ирена. — Я тогда увидела тебя в лесу, окровавленного, полумертвого, и как-то сразу жалость взяла за сердце. И я сказала себе: «Ты должна все сделать, Ирена, чтобы его спасти. Если надо, даже погибнуть». А сейчас... сейчас мне даже не верится, что мы так мало знакомы. Какое-то странное ощущение владеет мною, будто всю жизнь я тебя знаю. Скажи, Виктор, может, это и смешно, ты веришь в любовь с первого взгляда? Виктор молчал. — Верю, Ирена, — ответил он немного погодя и почувствовал, как она приблизилась и наклонилась к нему. — Ты веришь? — проплыл над его головой взволнованный шепот женщины. — Слушай, Виктор, у меня ничего нет: ни дома, ни семьи, ни родных. Ты понимаешь? И я хочу отдать тебе самое дорогое, что у меня осталось — свою любовь. «Она красивая, — снова подумал Виктор, — сильная, смелая и красивая. Только ты не имеешь права!» Большаков изловчился и правой раненой коленкой встал на разостланную по сену полость. Острая боль обожгла тело. Не в силах ее побороть, он сдавленно застонал: «У-уу» — и тут же себе и всему наперекор выдавил сквозь зубы: — Уйди, Ирена! Слова прозвучали зло, и он тотчас же подумал: «Зачем я так грубо?» Ирена резко от него отпрянула. Виктор видел, как она села на свою постель. — Ирена, — позвал он. Она не отозвалась. Широко раскрытыми глазами он безотчетно смотрел вверх. Сквозь прорехи в крыше виднелись мелкие звезды, тихое ночное небо, не вспоротое ни трассами, ни сполохами прожекторов. Нога успокоилась, и он наконец задремал. Когда он очнулся, было уже, вероятно, много времени, потому что солнце стояло довольно высоко. Он встревожился, увидев, что постель, на которой спала Ирена, пуста. Но черный ее чемодан был рядом, и это успокоило. От ночного кошмара голова трещала, и до боли было обидно за необузданную выходку. «А если она не придет, — вдруг задумался он, — обиделась, взяла да и уехала. Тогда?» И ему стало ясно, что он этого испугался. И вовсе не потому, что боится теперь, выздоравливая, остаться в одиночестве, без ее помощи и поддержки. Нет, ему надо обязательно увидеть эту высокую, стройную пани, чтобы перед ней извиниться и, по крайней мере, расстаться дружески. Беспокойные его мысли были прерваны скрипом двери. Легкие шуршащие шаги по разбросанному внизу сену, шорох приставной лесенки — и фигура пани Ирены по пояс вырастает над сеновалом. Она свежая, умытая, в волосах широкая белая пряжка, и они не развеваются, как обычно. Синей шерстяной кофточки на ней нет, она в легком коричневом платье с короткими рукавами. — Доброе утро, Виктор. Он пытливо вглядывается в ее глаза. — Ты меня прости за вчерашнее, — говорит он. — Это о чем? — переспрашивает Ирена. — Не надо, Виктор. Ночью человек всегда неправильные слова говорит... говорит, любит, а сам не любит. Говорит, не любит, а сам любит. — Ты рассуждаешь, словно старый мудрец. — Женщина всегда старше. — Ирена вдруг задумалась, и синие глаза ее остыли. Она вспомнила недавний гробик из неотесанных досок, кладбище за околицей, холодное маленькое тельце. Она подумала, что вместе с ним закопала в землю какую-то часть самой себя. — Мне тебя очень жалко, Ирена, — сказал в эту минуту Большаков, — ты ведь недавно похоронила сына. Ирена резко вздрогнула: — Откуда ты узнал, что я об этом сейчас подумала. — Не знаю, — пожал он плечами, — только мне тебя жалко. И очень хочется, чтобы ты не обижалась. — А тебе от этого будет легче? — Будет. Он взял ее ладонь, сложенную в маленький кулачок. Холодная, твердая. А на губах у Ирены добрая и немножко грустная улыбка. Глаза упорны, смотрят не моргая. — Как твоя нога, Виктор? — Спасибо, Ирена. Уже прыгаю, как старый козел. Скоро смогу обходиться без палки. — Без палки ты начнешь обходиться, когда будешь прыгать, как молодой олененок, — поправляет его весело Ирена, и он бесконечно рад этому ее беспечно игривому тону. Он снова заглядывает ей в глаза, откровенно и доверчиво, будто говоря: «Слушай, ты меня простила. Правда, простила?» И они ему так же откровенно отвечают: «Ну конечно же». Но глазам суждено молчать, а улыбки у обоих такие приветливые, что им нельзя не понять друг друга. «Как с ней легко», — думает Большаков, подходя к самому краю сеновала, а снизу уже звучит заботливое: — Тебе помочь? — Нет, я сам. Ты только посмотри, чтобы на ступеньку попал, да лесенку придержи. — Хорошо, пан капитан, — колокольчиком разносится ее смех. Потом во дворе она ловко достает из колодца ведро холодной воды, льет ему на руки и смеется, когда он, отфыркиваясь, умывается. Вскользь говорит: — Пан капитан и на самом деле вышагивает довольно-таки хорошо. Между прочим, бабушка Броня велела мне после завтрака посмотреть в лесу грибы. На обед приедет дедушка Збышек. Не пойдешь со мной, Виктор? Если тебе станет тяжко — возвратишься. Ведь нужно готовиться когда-то к дальним переходам, иначе ты и до конца войны не выберешься из этого леса и не узнаешь, когда возьмут Берлин. — Конечно пойду! — не колеблясь, решает Большаков. — Вот и хорошо. Они завтракают за тем же кривобоким столиком, но при солнечном свете дня Виктору кажется, что здесь все как-то повеселело: и сама изба не такая бедная, и на лице у бабушки Брони морщин гораздо меньше, чем было вчера, и белый кот, калачиком свернувшийся на узкой скамейке, как бы олицетворяет доброту и покой. А мягкая печеная картошка с солью и откуда-то взявшийся белый каравай выше всяких похвал. Во время завтрака он внимательно смотрит на руки Ирены, ловко очищающие горячие картофелины, и не видит на среднем пальце блестящего камешка. — А колечко твое где, Ирена? — Кольцо? — переспрашивает она и морщится. — Ах, есть о чем говорить. Виктор, ты же меня о нем ни разу не спрашивал, пока я его носила. Это обручальное кольцо. Его мне подарил Анджей, пустой и недобрый человек... я не хочу носить о нем память. Наша бабушка Броня, добрая фея, пока ты спал, обратила это кольцо в котелок картошки, белый каравай, кусок сала, десяток яиц и даже маленькую бутылочку бимбера, которую вечером вы осушите вместе с дедушкой Збышеком. Ты знаешь, что такое бимбер? Есть такая польская песенка. Ирена прищелкнула пальцами, лукаво прищурилась и напела:* * *
Солнце было дымчатым от облаков, затягивавших его с запада. Но сильные, не по-осеннему яркие лучи пробивали их насквозь, обдавая землю благодатным теплом. Что может быть лучше такого тепла в это время года, когда никнут к земле пышные травы, вянут цветы и даже красавец лес из зеленого превращается в огненно-рыжий! Но здесь, южнее Познани и Варшавы, осень еще не сумела уверенно коснуться земли, и яркость лиственных лесов, обогретых солнцем, спорила и сражалась с ней. Лес, распростершийся на сотни километров окрест, дышал полной грудью. Багровые дубы и гордые кедры смешивались здесь в одну нарядную толпу. Еще пели в полдень птицы, и кукушка назойливо долбила одну и ту же нудную свою молитву... Лес лежал далеко и от фронта, и от больших дорог, не было в округе никаких фашистских тылов, и о войне только на заре и на закате напоминали отдаленные раскаты канонады. Да еще иной раз злыми ночными совами низко над верхушками деревьев пролетали крестатые двухмоторные «юнкерсы», надсадно ухая. И от этой тишины избушка лесничего Збышека казалась безнадежно затерянной в мире. «Просто курорт», — издеваясь над самим собой, думал Большаков, не поспевая за шагавшей впереди Иреной. Они уже отошли от избушки лесничего на такое расстояние, что стала она за деревьями едва приметной. Виктор подходил к осинам и березам, костылем расшвыривал зеленые побеги лесной травы, оголял грибные шляпки. Если попадались сырые, пряной плесенью отдающие поганки и мертво-красные прыщавые мухоморы, безжалостно их затаптывал. Когда же обнаруживал подберезовики и коварно маскировавшиеся подо все коричневое лисички, звал негромко Ирену. Ее лукошко быстро наполнялось, и, когда они вышли к небольшой широкой балочке, грибов в нем было уже до краев. — Бабушка Броня одобрит, — сказала Ирена, критически осматривая лукошко, — а ты, наверное, Виктор, устал? — Признаться, да, — улыбнулся капитан. — Я, как видишь, с этой палкой все-таки прыгаю, как старый козел, а не молодой олененок. Он тяжело опустился на землю и вытянул больную ногу. Ирена бросила на мшистую поляну белый водонепроницаемый плащик и опустилась на него. Сосредоточенно оглядев свои подогнутые ноги, она обнаружила на юбке небольшую дырку и сокрушенно покачала головой. Пошарив в кармане плаща, достала иголку с ниткой и, отвернувшись от Большакова, стала штопать. Она сидела на пригорке, густо поросшем сухим мягким мхом, спиной прислонившись к белому березовому стволу. Солнце целовало ее голые розоватые колени. Откусывая нитку, Ирена обратилась к нему: — О чем задумался, Виктор... победитель? Он посмотрел на одежду с чужого плеча, которую носил, и горько махнул рукой: — Да уж какой там победитель. — А о чем ты думаешь? — Так, ни о чем, — сбивчиво произнес он, продолжая на нее глядеть. До сих пор не мог он понять, как могла эта худенькая и хрупкая, созданная для домашнего уюта полька броситься его спасать, все позабыв, когда поблизости были немцы, как она сумела тащить его, тяжелого и бессильного, по лесу. В синем теплом воздухе плавали тонкие паутинки бабьего лета. Как серпантином обвили они ее колени. — Виктор, — позвала его Ирена, — у тебя руки твердые? Он вытянул перед собой широкие ладони, озадаченно на них посмотрел. — Да вроде. — Так помоги мне, продень нитку в ушко иголки. Посмотрю, как это у тебя получится, — дразня, сказала она, и не было на ее лице усмешки, только лучики морщин в уголках рта дрогнули. Виктор придвинулся, взял у нее из рук иголку с ниткой. Днем он еще ни разу не видел Ирену так близко. Чуть побледневшее свежее лицо волновалось от ожидания. Испуганными и ласковыми были зовущие глаза. Он никогда не мог бы и подумать, что на ее щеках столько мелких добрых веснушек, почти незаметных издали. — Ты чего так смотришь, Виктор? — пересохшим голосом спросила Ирена. Лес шумел над их головами целым оркестром. Дубы били в литавры. Нежные березы пели, как флейты. Тонкими скрипками скрипели осины. Лес пел им гимн. Иголка и нитка выпали из рук обомлевшего Виктора. Золотистые от солнца волосы Ирены рассыпались по мягкой моховой подушке. Широко раскрытыми затуманенными глазами видела Ирена его, и яркий незабываемый лес, и острое солнце в просветах меж березовыми и сосновыми ветвями, и шелковое небо, голубевшее сквозь листву, вызванивающую колокольчиками под ветром. Виктор склонился над нею и встретил зовущие, ожидающие глаза. — Ирена, судьба моя, — прошептал Виктор. ...Потом они шли назад к избушке лесничего, но шли уже совсем не так, как сюда. Они поминутно останавливались, вглядывались друг в друга, словно впервые виделись и хотели навсегда запомнить каждую черточку на лицах. На глазах у Виктора она расцвела и ясной, доброй, необыкновенно счастливой улыбкой, и невесть откуда пробудившимся у нее грудным певучим голосом. Что с ней произошло, с этой Иреной? Она попросила его присесть отдохнуть и сама села рядом, долго гладила его непокрытую голову. И Виктор тоже захмелел от этого неожиданного счастья. Лишь на мгновение в разгоряченном мозгу бледной тенью проплыла беленькая Аллочка. Он сразу же помрачнел, и это не укрылось от проницательной польки. — Ты о жене вспомнил, Виктор? Жалкуешь? Не надо. Жена твоя далеко, она ничего не узнает. — По-моему, я все должен буду ей рассказать, — вспыхнул он. — Зачем! — покачала полька головой и жалостливо, как непонимающему, улыбнулась. Сняв белую пряжку, она расчесывала пышные волосы, и они опять становились похожими на крылья: — Иная честность в сто раз хуже жестокости. Ну чего ты добьешься, если расскажешь. Себе жизнь испортишь, жене испортишь. А жизнь у нас и без того не сладкая. Обхватив его за шею, она стыдливо прятала у него на груди свое лицо. — Я рада, что ты со мной счастлив. Только счастье у нас с тобой больно коротенькое. Вот уйдешь ты за линию фронта и — прощай навсегда Ирена. Ты же не можешь взять меня с собой на всю жизнь. Ты советский, Виктор, я — полька. — После войны поляки и русские станут самыми большими друзьями, — горячо воскликнул Большаков, — разве ты этого не понимаешь? Придет время, когда мы станем ездить друг к другу в гости. — И я в это верю, Виктор, — обрадованно закивала она, — но я — полька, и родина моя здесь. Земля моя под ногами моими, и по ней мне ходить. Они возвратились к избушке лесничего уже под вечер. Издали до Большакова донеслось конское ржание, и на подворье он увидел распряженную пролетку. — Там кто-то есть, — забеспокоился Виктор. Ирена, стягивая на затылке волосы белой пряжкой, спокойно пояснила: — Это дедушка Збышек. — Ты уверена? А вдруг не он? — Он, Виктор, — улыбнулась Ирена. — Когда мы уходили в лес, я с бабушкой Броней уговорилась. Если все хорошо и приехал дедушка Збышек, она вывешивает на подоконнике полотенце с красными петухами. Посмотри. Большаков глянул на избу и действительно увидел раскрытое окошко и на подоконнике рушник с красной вышивкой. — Ты находчивая, Ирена. — Есть немножко, — закивала она головой. — По-иному нельзя, — и, лукаво засмеявшись, прибавила: — Не будешь находчивой, не будет счастья.* * *
Вопреки ожиданиям Большакова, дедушка Збышек оказался мало похож на расслабленную поседевшую бабушку Броню. Виктор собирался увидеть дряхлеющего старца со слезящимися глазами и блеклым взглядом и был невероятно удивлен, когда из-за стола ему навстречу поднялся высокий, осанистый старик с бородой и белыми распушенными усами и протянул огромную ладонь для рукопожатия. Ирену он запросто расцеловал в обе щеки и той нее ладонью, как маленькую, погладил по голове. — Нельзя молодых посылать по грибы одних, — хитровато подмигнул он Виктору, произнося все это по-русски, — долго ходят, бардзо долго. Дай-ка лукошко, Ирена. Он запустил в лукошко толстые, как разваренные сосиски, пальцы, быстро переворошил грибы, бормоча под нос: — Лисички, подберезовики, белый. Да, могли бы и получше собрать, если бы не отвлекались. Был он в высоких болотных сапогах с отвернутыми голенищами и в теплой суконной поддевке. Сапоги густо пахли дегтем. В углу стояла снятая с плеча трехлинейка. — Вы по-русски можете? — сощурился Виктор. — Откуда же? Ну Ирена — та в Варшаве изучала наш язык, а вы? — А я в лесу, — гулко расхохотался дедушка Збышек, — ведь с кем поведешься, от того и наберешься, — и, страшно довольный, похлопал летчика по спине. Очень сильная была у него рука. — Что, милый, съел? — сказал он, любуясь его замешательством. — Мы так зробимы: пока бабушка с Иреной будут готовить, выйдем на крылечко и потолкуем. Под его сапогами пороги деревянного крыльца отчаянно взвыли. Большаков, ковыляя, сошел следом. На подворье пахло навозом. Распряженные лошади хрустко жевали сено. Были они гладкие и незаморенные, и Виктор подумал, как это старик сумел утаить их от немцев. Таких бы для армейских нужд гитлеровцы обязательно должны были забрать. Серые, не по годам зоркие глаза старика с пытливым вниманием рассматривали прихрамывающего капитана. — А что, — спросил он с задором, — такая одевка похуже, чем комбинезон летчика? — Вроде да, — уклончиво ответил Виктор. — Ну вот что, гвардии капитан Большаков, — неожиданно выпалил дедушка Збышек, — так, кажется, ваша фамилия? Виктор настороженно промолчал. Старик достал из кармана синий сатиновый платок, развернул его и гулко высморкался. — Добже, — продолжал он, — не буду тебя, сынок, пытать неизвестностью. Я действительно из леса. Из какого — сказать пока не могу. Большое тебе от всех честных поляков спасибо за то, что не промахнулся в ту ночь над Познанью, — он торжественно поклонился. — Ты небось и не знаешь, что немцы по всей Познани расклеили листовки, и в них за выдачу совецкого летника сулили пятьдесят тысенц злотых. Виктор сощурил зеленые глаза: — А что можно купить за пятьдесят тысяч злотых? Дедушка Збышек озадаченно закряхтел: — Что можно купить? Ну корову, скажем, можно. — И только? — Так ведь время-то военное, сынок. — Дешево же тогда фашисты оценили пятьдесят своих офицеров и генералов. — Ах, ты вот о чем, — засмеялся старик, — да зачем давать за них дроже. Они и этих пятидесяти тысенцев злотых не стоят. — Он согнал улыбку со своего лица, заговорил серьезнее. — В этом лесу тихо, пан капитан. Лесники знают, где селиться. Сегодня ты живешь здесь, еще два дня живешь здесь, а потом я приеду под вечер и отвезу тебя вместе с Иреной. — Куда? — К надежным людям, пан совецкий летник. До бардзо добрых людей, — прибавил он по-польски. — А там мы подумаем, как тебя переправить через линию фронта. Ты хорошо воевал, пан капитан, но война еще не закончена. Виктор постучал костылем о голую землю. Лошади прянули ушами и опасливо покосились на него. — Клянусь этим вот костыликом, для меня война — дело тоже не оконченное. Я за кровь своих ребят должен еще не одну бомбу положить. В том числе и Берлину кое-что от меня причитается. Старик взял его за локоть и повел в избу. Войдя, они удивились. Маленький столик был накрыт чистой скатертью, от тарелок с супом поднимался густой пар. Горками нарезанный белый хлеб и блюдо с тонкими, веером разложенными ломтиками сала венчали убранство этого стола. Солнце поблескивало на протертых граненых стаканчиках и бутылке с самогоном. «Вот во что превратился твой перстень, бедная Ирена», — подумал Виктор. — У нас, як пши свенте, — пояснила бабушка Броня. Ирена взяла бутылку и доверху наполнила стаканчики. — Мы млоди, мы млоди, нам бимбер не зашкоди, — пропела она, а дедушка Збышек, грозя пальцем, немедленно подхватил: — Вы стажы, вы стажы, вам бимбер не до тважы. Виктора поразило, как повел себя дедушка Збышек. Старик подошел к столу в надвинутой на лоб фуражке с узким лакированным козырьком, щелкнул каблуками и выпил первую рюмку стоя. Потом, сказав «бардзо дзенькуе», снял с головы фуражку и присел. — Отчего это вы так? — удивленно улыбнулся Виктор. — У нас по команде «смирно» водку не пьют. — А я с детства привык, сынок, — рассмеялся старик. — Помещик, у которого отец батрачил, приучил, сто чертей ему на том свете. Помещику нравилось, что я пью и не пьянею. А мне тогда всего девять лет было. Совсем маленький хлопчик. И когда у того пана собирались гости, он меня обязательно выкликал. Отец меня получше принарядит и скажет: «Иди, поздравь пана». Меня пропускали в гостиную, и сам помещик протягивал рюмку: «Выпей, Збышек». И я выпивал стоя, под хохот гостей, щелкал каблуками, а потом снимал конфедератку. Иногда мне давали злотый. Горькая то была водка. Збышек помолчал и посмотрел на Большакова грустно-доверчивыми глазами: — Такой жизни у нас больше не будет, пан летник. Когда разобьют проклятых фашистов, мы другую построим. И не останется в ней места помещикам. Напрасно Гитлер думал, что польский народ легко покорить. Дорого ему теперь это обходится. Ты знаешь, пан капитан, что бывает в лесу во время бури? Все деревья стонут: осина плачет и гнется, березка-красавица тоже гнется, а дуб стоит. Только позванивает немного. Так и народ наш, Виктор. Гордый люд в леса ушел, оружие взял. Борется и Советскую Армию ждет. Ты знаешь, какие теперь над Вислой слышатся песни? — Дедушка Збышек склонил седую голову на плечо, сдвинул лохматые брови и ясным сильным баритоном запел:* * *
Три коротких дня и три ночи, были они или не были? Вероятно, во всю жизнь Виктор Большаков не сможет правильно на этот вопрос ответить, до того мечты на этот раз перепутались с явью. Три раза он приходил после ужина в сарай, взбирался по короткой лесенке на сеновал, все слабее и слабее ощущая боль в заживающей ноге. Батарея в электрическом фонарике садилась, и широкий круг, вырывающийся из него, становился вялым. Но все равно был он в состоянии вырвать из мрака примятое сено, широкую полость, разостланную по нему, и две подушки, положенные рядом. Вероятно, под холодной осенней луной и тусклыми звездами сентября многое произошло за это время на огромном фронте, протянувшемся от севера до юга на многие сотни километров. Где-то бушевали артиллерийские дуэли, где-то, поднимаясь во весь рост, шли в контратаки батальоны и стрелковые полки, чтобы улучшить позиции, взять населенный пункт или высоту, которых никогда и в помине-то не было и не будет ни на одной географической карте. Шли и не все доходили. Пожилые и безусые, сродненные одной формой и одним порывом, падали они на заброшенную пахоту или на скат оврага, сраженные осколками и пулями, оставляя на великой русской земле новых вдов и осиротевших матерей. Так на земле было. А в воздухе, там тоже закипали жестокие схватки и огненные трассы рвали небо, иногда низкое и пасмурное, иногда высокое и чистое, в каком и погибать-то горько. Но все это обходило стороной заброшенную усадьбу лесничего Збышека, гвардии капитана Большакова и пани Ирену. Часто в голове возникали такие мысли, но Виктор гнал их прочь и гневно успокаивал взбунтовавшуюся совесть: «Да что я, рыжий, что ли! Или это не я падал на горящем самолете, спасался от врагов при доброй поддержке этой женщины и залечил рану, чтобы вернуться в строй и бить, и бить озлобленного, но уже надломленного врага. Так почему же я должен стыдиться этого короткого счастья?» Три короткие ночи, были они или не были? А потом настал четвертый условленный день, и вечером, час в час, на подворье въехала пароконная пролетка. Рядом с дедушкой Збышеком сидел молодой парень в фуражке с таким же узким, как и у Виктора, козырьком. У обоих трофейные немецкие автоматы. И понял Большаков, вот и настал конец их недолгому счастью. Дедушка Збышек достал фляжку, взболтнул ее: — Может, по маленькой на дорожку? Посошок, как говорят по-русски, а? — Я не буду, — отказался Виктор сухо, — мне надо собраться. — За полгодины соберешься? — поинтересовался старик. Парень усмехнулся, но дедушка Збышек так сурово на него посмотрел, что тот моментально опустил голову вниз. Виктор вошел в сарай, крикнул возившейся там Ирене: — Нам пора... Ласковая и заплаканная, прижалась она к Большакову, тоска и тревога жили в больших глазах. А он повторял первые пришедшие на ум слова: — Ты только там не заплачь, Ирена. Там нельзя, понимаешь. — И она послушно кивала головой. ...Четыре часа подряд несли сытые партизанские кони по лесным дорогам пролетку. Два раза люди с автоматами, словно призраки, вставали из-за кустов, строго спрашивали пароль и пропускали их дальше. Потом людей с автоматами стало попадаться все больше и больше, замелькали черные шапки землянок, в темноте Ирена и Виктор разглядели табунок лошадей у коновязи, распряженные брички, людей, возившихся у короткостволой сорокапятки. Наконец Збышек осадил лошадей у одной из самых больших землянок и Виктор понял: это партизанский штаб. — Мы с Иреной останемся пока здесь, сынок, — негромко сказал ему дедушка Збышек, — тебя проводит Янек. Молодой парень сделал летчику знак следовать за ним. Спускаясь вниз по ступенькам, обшитым свежеоструганными досками, Большаков подумал: хорошо обосновались польские товарищи. Капитально. В просторной подземной комнате он увидел и мягкие кресла, и плюшевый зеленый диван, и даже письменный стол с резными ножками. Ярко горели подвешенные к потолку лампы. Ему навстречу поднялись двое: польский офицер, пожилой, лысоватый, и наш, советский подполковник, в гимнастерке без орденов, с полевыми погонами пехотинца. Виктор крепко пожал протянутые руки. — Здравствуйте, гвардии капитан Виктор Федорович Большаков, — сказал подполковник отчетливо. — Здравствуйте, товарищ подполковник, — вытянулся Виктор. — Да, к сожалению, товарищ подполковник, и все, — улыбнулся тот, — до самого конца войны для многих я действительно только подполковник, человек без фамилии. — Зачем же о себе так строго, товарищ Стефан, — с улыбкой поправил его польский офицер. И Виктор едва не расплакался, почувствовав, что наконец-таки он у своих, — так сдали нервы. — Нам о вас все известно, — тем временем говорил подполковник, — за разгром немецкого штаба вы уже представлены к ордену Красного Знамени. Это первое. А второе: не далее как позавчера я связался с вашим командованием. Вас ждут на родном аэродроме. Через два часа к нам придет Ли-2 с продуктами и боеприпасами, разгрузится и на обратном пути захватит вас. Вам все ясно, товарищ Большаков? — Все, товарищ подполковник. — А теперь я прошу пригласить сюда женщину, — кивнул офицер стоявшему у двери человеку. И Виктор услышал, как по дощатому настилу застучали ее каблучки. В ярком свете ламп появившаяся из мрака Ирена чувствовала себя явно смущенной и с надеждой поглядывала на Виктора. Он ее ободрил едва заметной улыбкой. Ирена стояла посреди комнаты, засунув в карманы блестящего дождевика нервно сжатые кулачки. Польский офицер шагнул ей навстречу и протянул руку: — Пани Ирена Дембовская? — Так есть, пане полковнику. — Вы владеете русским, пани? — Говорю совершенно свободно. Тогда польский офицер перешел на русскую речь. Он торжественно произнес: — Пани Ирена Дембовская, вы совершили мужественный поступок. В трудных условиях вы проявили отвагу и благородство, придя на помощь раненому советскому летчику гвардии капитану Большакову. Вы настоящая патриотка народной Польши. Польское командование никогда вашего подвига не забудет. — И советское командование тоже, — прибавил подполковник. — Вы, конечно, теперь останетесь с нами? — Да, с вами, — с внезапной решимостью согласилась Ирена, не задумываясь ни на секунду. — Только свами. А потом пошли расспросы за торжественным чаем и звонко хлопнувшей бутылкой шампанского, видно, самой большой драгоценностью у партизанского каптенармуса. А ночь за землянкой все сгущалась да сгущалась. На тех же дрожках Виктора и Ирену отвезли на маленькую, затерянную в лесах посадочную площадку, и все последующее произошло как по расписанию. В темном звездном небе послышался гул приглушенных моторов и замелькали бортовые огни транспортника. На земле вспыхнули мазутные плошки, составленные наподобие посадочного «Т». Гул снижающегося самолета нарастал. Ирена теснее прижалась к Виктору. Самолет уже рулил к ним по земле. При выхлопах моторов Виктор увидел ее страдающее, растерянное лицо и прошептал: — Ты опять плачешь, Ирена? Ты же обещала! — Я не буду, Виктор, — отозвалась она довольно твердым голосом, — это они сами... слезы. Мимо то и дело пробегали люди с ящиками на плечах. То и дело раздавались поторапливающие голоса «быстрее», «прентко». Высокая фигура летчика в меховом комбинезоне выросла рядом. — Товарищ командир, — доложил он подполковнику, — разгрузка закончена. — И негромко спросил в темноту: — А кто здесь гвардии капитан Большаков? — Это я, — шагнул вперед Виктор. — Вам записка от гвардии полковника Саврасова. Кто-то услужливо присветил фонариком. На плотном листе бумаги, вырванном из блокнота, Виктор прочел написанное размашистым почерком: «Витька, черт! Тебя весь аэродром ждет не дождется. Мы выкинули к дьяволу из полкового альбома твою фотографию в траурной рамке. Живи сто лет! Обнимаю!» — Нам пора, — сказал летчик, поглядев на светящийся циферблат часов. Моторы транспортника работали на малом газу. Тонкие лопасти винтов хлопали по ночной тишине, не в силах ее взорвать. Раззявленной пастью чернел распахнутый люк. Большаков по очереди обнял подполковника, польского офицера и Збышека. Когда он подошел к Ирене, она отвернулась. Виктор стиснул ее плечи. — Ты только не плачь, Ирена, — шепнул он дрогнувшим голосом. — Я не буду, — всхлипнула она. — Разве этим поможешь? Я тебе положила записку. Там два моих адреса: варшавский и познанский. Может, после войны ты будешь в Польше?.. — Нам пора, — повторил летчик и зашагал к транспортнику. — Прощай, — сухо сказала Ирена, — и ничего больше не говори. И не оборачивайся, когда пойдешь к самолету. Слышишь... Виктор быстро зашагал от нее прочь. Он поглядел на провожающих только тогда, когда за ним наглухо захлопнулся люк, словно отделяя навсегда это короткое прошлое от близкого фронтового будущего, к которому теперь его уносили два ревущих мотора. В маленьком иллюминаторе темная ссутулившаяся фигура Ирены показалась ему до того сиротливой, что заныло в груди. Летчик транспортника дал полный газ, и тяжелая машина, преодолев узкую площадку, быстро, с надрывом полезла в сумрачное небо. Минут через сорок на высоте четырех тысяч метров самолет прошел над широкой быстротечной Вислой. Его с опозданием лениво и нестройно обстреляли зенитки. Встали над Вислой два желтых прожекторных луча, наугад пошарили по звездному небу и, никого не найдя, конфузливо погасли. «Вперед, вперед», — ревели моторы. Командир экипажа вышел из рубки и, подойдя к Большакову, с уважением сказал: — Поздравляю, капитан. Прошли линию фронта. Значит, скоро будем дома. Виктор не ответил. Он вдруг снова подумал об Ирене.* * *
...И вот седоватый располневший полковник держит ее руку в своей. Шумят над ними кладбищенские деревья, и женщина грустно смотрит на серую плиту и высеченные на ней слова. — Как же это, Виктор? Я десять лет уже считала тебя погибшим. В сорок пятом этот город освободили от фашистов, седьмого мая. Каждый год в этот день я прихожу сюда. Ты не забыл, какой это день? Что-то дрогнуло, просветлело на его лице. — Нет, Ирена, не забыл. В этот день, если верить надгробной надписи, здесь в сорок пятом похоронили русского летчика Большакова. Того самого, которого на полгода раньше спасла ты. — И которого вижу сейчас, — улыбнулась Ирена, — через столько лет. На родной моей польской земле. Ты оглянись получше, Виктор, и подумай. Наша земля сейчас совсем другая. Она не та, какой ты ее знал в дни горя. Здесь на кладбище тихо, а рядом полумиллионный город. Заводы новые на его окраинах выросли, кварталы новых домов появились, люди новые выросли. Понимаешь, Виктор, новые! Каких никогда не было в старой Польше. В любой городок, в любую весну загляни и поймешь, что совсем другой стала наша древняя земля. — Я это понял, — мягко ответил Большаков, — понял, когда Вислу переезжал и мимо Варшавы ехал. Я военную Варшаву вспомнил, которая гитлеровцами была вытоптана. Улицы в развалинах, мосты разрушены, на путях паровозы со взорванными топками, и ни одного дымка из заводских труб. Ни одного. Рабочему человеку даже смотреть было жутко на такие трубы. Кладбище, а не город. А теперь даже ночью вся светится, как приодетая красавица. Набережная сверкает, улицы все в гирляндах огней, над заводскими корпусами пламя от плавок бушует. А небо чистое, ясное. На станции Варшава — Гданьск остановились. Напротив электричка: вагоны новенькие, свежеокрашенные. А главное — люди... Сколько молодых свежих лиц... Из одного окна песня на простор вырвалась:* * *
Транспортный Ли-2 садился на аэродром Малышевичи под утро. Еще мерцали на небосводе созвездия Большой и Малой Медведицы и трепетал неяркий далекий, недосягаемый Марс, когда засветилось на летном поле электрическое «Т». В ту ночь не было боевой работы, но когда транспортник подрулил к штабной землянке и хвостом стал к ней, из темноты к люку устремились десятки однополчан. Они на руках вынесли Большакова и, подбрасывая, доставили до входа на КП, у которого стоял полковник Саврасов. — А ну, расступись, гвардейцы! — прозвучал его властный басок. В образовавшемся пустом пространстве они один на один остались с командиром. Саврасов подошел, с усмешкой осмотрел его польский костюм. — Ну и пан. Хорош пан Большаков, ничего не скажешь. Потом одернул на себе китель и расправил грудь, потому что Виктор начал рапортовать о своем возвращении. — Товарищи офицеры, — зычно сказал Саврасов. — Ваш однополчанин, гвардии капитан Большаков, отлично выполнивший боевое задание, был сбит и раненым оказался на территории, захваченной противником. В тяжелой обстановке вел он себя как настоящий герой и, как видите, возвратился к нам, чтобы наносить новые удары по врагу. Ура Большакову! Полковник обнял Виктора и, целуя, трижды уколол его в губы короткими усами, пахнущими табаком и одеколоном. И пошли расспросы, рукопожатия, дружеские объятия. Весь день прихрамывающего капитана сопровождала толпа однополчан. Куда бы он ни пошел, веселый табунок летчиков и техников следовал за ним. Полковой врач Волович к вечеру окончательно рассвирепел и пригрозил установить ему постельный режим, если он будет так много расхаживать, и пришлось Виктору покориться. На следующий день он должен был на пять суток отправиться в ближайший госпиталь легкораненых для полного выздоровления. Утром его навестил Саврасов, справился о здоровье и улетел на По-2 в штаб фронта. Виктор спокойно позавтракал и стал собираться к отъезду. Выписав продовольственный аттестат, он возвращался в общежитие, когда был остановлен посыльным по штабу, румяным молоденьким механиком по вооружению Иванцовым. — Товарищ гвардии капитан, вас какой-то майор дожидается. — Где? — равнодушно спросил Большаков. В ту пору в полк довольно часто наезжали офицеры из высшего штаба, и не было ничего удивительного в том, что один из них по какому-то поводу поинтересовался им. — В штабе. В кабинете у командира полка сидит, — доложил посыльный. — Просил, чтобы вы быстро. — А он мне второго костылика не прислал? — ухмыльнулся капитан. — Я не рыжий, чтобы на одном через весь аэродром к фольварку скакать. Но шел попутный «виллис» и очень быстро доставил Большакова в штаб. В просторной комнате, которая когда-то служила кабинетом сбежавшему с немцами Казимиру Пеньковскому, за столом Саврасова сидел пожилой майор в авиационной форме. Распахнутая шинель открывала перепоясанную портупеей гимнастерку. У майора было длинное узкое лицо с залысинами большого лба и усталые неяркие глаза. Перед ним на раскрытой тетради лежала вечная ручка. Большаков покосился на портрет Сенкевича, висевший на стене, и по-уставному доложил: — Товарищ майор, гвардии капитан Большаков явился по вашему вызову. Пожилой майор, не вставая, протянул ему длинную ладонь. — Садитесь, товарищ капитан. Виктор присел и, зажав коленками костыль, оперся на него руками. Зеленые глаза в ожидании уставились на майора. С легкой фамильярностью, какую только бывалый летчик мог себе позволить в обращении со старшим по званию, осведомился: — Чем могу служить? — Служить? — строго повторил незнакомый майор. — Служить вы должны Родине, товарищ гвардии капитан. — Он достал пачку «Беломора» и предложил закурить. Задетый его ледяным тоном, Виктор не произнес обычного в этих случаях «я не курю», а только отрицательно мотнул головой. В тонких пальцах майора заскрипело перо трофейной авторучки, и на белом листе тетради он крупным почерком вывел: «Гвардии капитан Виктор Федорович Большаков, 1920 года рождения, русский, командир корабля дальней авиации». — Так, кажется? — Так, — сухо согласился Виктор. Майор закурил и потушил почерневшую спичку. — Какого числа вы были сбиты над Познанью? — Двадцать первого сентября ночью. — Во время вынужденной посадки вы остались в живых только один? — Да. Майор положил на стол холодные ладони, налег на него узкой грудью и вдруг быстро спросил: — Кто из немцев вас допрашивал? Звание допрашивающего, место допроса, характер вопросов? Большаков удивленно поднял голову и не моргнул, встретившись с блеклыми непроницаемыми глазами. — Позвольте, а кто вы такой? — Майор Олежко. Следователь. Прошу отвечать коротко и точно. — Меня никто из немцев не допрашивал, — растерянно возразил Виктор. — Значит, никто? — Жесткая линия рта у майора насмешливо дрогнула: — Может, вы вообще там в тылу ни одного немца не видели? — Нет, видел, — успокаиваясь и понимая, что этого допроса не избежать, спокойно произнес Виктор. — Фашистского фельдфебеля видел. Перо трофейной авторучки зашуршало быстрее, и на бумаге родились слова: «Во время пребывания за линией фронта имел встречу с фашистским фельдфебелем». — Что вы там пишете? — взорвался капитан. — Было совсем не так. — Вас это не касается, — оборвал его грубо следователь. — Отвечайте на мои вопросы и только. При каких обстоятельствах произошла эта встреча? — Я был ранен. Нога воспалилась. Фашист взял меня в плен в заброшенном блиндаже. Повел к коменданту. — Как звали коменданта, звание? Большаков презрительно вздернул плечами. Развязность майора начинала его бесить. — Если бы фельдфебель довел меня до коменданта, вам бы не пришлось мотать мне душу этим допросом. — Почему же он вас не довел? — Потому что был убит. — Кем? Вами? — Нет, не мною. — Кем же? — Это к делу не относится, — мрачно отрезал Виктор. Над фольварком затарахтел мотор. Зеленый По-2 пронесся над самой крышей, косо снижаясь над летным полем. «Саврасов из штаба прилетел», — догадался капитан. Он подумал об Ирене и твердо решил: «Нет, я не буду впутывать ее в эту историю, — кому какое дело». — Так кто же убил фашистского фельдфебеля? — Один человек... хороший человек польского происхождения. — Хорошие люди тоже имеют фамилии. — Его фамилия к делу не относится. Но если она вас так интересует, советую обратиться к командиру того партизанского отряда, откуда меня вывезли. Короче, об этом я говорить не стану. Задавайте другие вопросы. Трофейная авторучка снова забегала по бумаге, и Большаков, косивший за ней глазами, прочел: «Утверждает, что был обнаружен немецким фельдфебелем и пленен. По его словам, фельдфебель был убит, и он ушел. Кто убил фельдфебеля, скрывает. Вся версия сомнительна». — Значит, вы говорите, что фельдфебель, наткнувшийся на вас, бродил по лесу один? — Майор прищурился, и его водянистые глаза превратились в две маленькие щелочки. — А что ему одному было делать в лесу? Что? — Не знаю... — устало промолвил Большаков. — За плечами у него было охотничье ружье. Возможно, куропаток искал. — Да? Но фашисты никогда не ходят в лес в одиночку. Большаков посмотрел в узкое лицо майора и презрительно усмехнулся. — А вы их, этих фашистов, живыми при оружии когда-нибудь видели, товарищ майор? Или только на допросах? — Капитан, не дерзите! — тонко выкрикнул следователь и ребром ладони ударил по столу. — Вы увиливаете от прямого объяснения. В вашу историю с фельдфебелем я не верю. — Если не верите, зачем же спрашивать, — вспылил и Большаков. — И вообще я не понимаю, для чего вся эта процедура. Разве вам недостаточно, что я, советский летчик, раненым попавший за линию фронта, все сделал, чтобы вернуться в родной полк, и стою сейчас перед вами? Разве вам недостаточно, что я снова готов совершать боевые вылеты? Следователь поджал тонкие губы и вставил: — Если вас к ним, разумеется, допустят. — А почему же нет! — простецки развел Большаков руками. — Мне же не вечно с этим костыликом шкандыбать. Вот заживет нога, и допустят. Ясно как божий день. Докуренная папироса чадила в пепельнице. — Дело не только в одной раненой ноге, — многозначительно сказал следователь: — Прежде всего мы должны выяснить, как вы провели все эти дни в тылу у противника, что делали, с кем встречались, какой характер носили эти встречи. Из ваших ответов пока что ясной картины не создается. Странная история с фашистским фельдфебелем, какой-то великодушный человек, убивающий фашиста. Имя этого человека вы почему-то назвать отказались... В эту минуту рывком распахнулась дверь, и на пороге возникла плотная фигура полковника Саврасова. — Что здесь происходит? — рявкнул он, с недоумением переводя тяжелый взгляд с капитана на следователя. — Вы кто такой, майор? Усы у Саврасова стояли, что называется, дыбом, полные губы вздрагивали, и сквозь них проглядывали почерневшие от табака зубы. По всему было видно, что из штаба фронта командир полка возвратился разъяренным и сейчас не знал, на ком сорвать зло. Большаков обессиленно опустился на стул. — Он меня сейчас назвал предателем, товарищ командир. В желтых глазах Саврасова погас на мгновение гнев и воцарилось удивление. — Тебя? Нет, подожди. Я чего-то не понимаю. Следователь уже оправился от растерянности. Растягивая в улыбке побледневшие губы, сказал: — Здесь и понимать-то нечего. Вот мое удостоверение. Я начал допрашивать вашего капитана Большакова, находившегося на вражеской территории. — Подождите, — прервал его Саврасов, коротким и властным движением руки отводя в сторону протянутую коленкоровую книжечку. — Значит, вы допрашиваете моего летчика? — К сожалению, вынужден, товарищ полковник. — Значит, вы допрашиваете, — не слушая его, с нарастающим бешенством продолжал Саврасов, — а я, командир полка, ничего об этом не знаю. Значит, я для вас, выходит, что трын-трава? Так вы, может быть, с этим своим мандатом и полком вместо меня командовать станете? Матчасть контролировать, маршруты готовить, на цель аэропланы водить. А?! Саврасов рванул молнию на теплой меховой куртке, и она с треском опустилась, открывая грудь в орденах и Золотых Звездах. Кусая губы, он шепотом спросил: — Вы на чем сюда приехали? — На «виллисе». — Садитесь на него и сейчас же отправляйтесь назад. Следователь деловито закрыл тетрадь, застегнул шинель вздрагивающими пальцами и потянулся за фуражкой. — Вы сорвали мне работу, — произнес он с вызовом и вышел. Саврасов сел за письменный стол, не снимая распахнутой куртки, исподлобья посмотрел на Большакова: — Ну, а теперь рассказывай, что натворил? За окном послышался шум отъезжающего «виллиса». Виктор рассказал ему все, как было. Саврасов слушал с большим интересом. Несколько раз дверь отворялась и с порога раздавалось нерешительно: «Можно, товарищ командир?» — но он досадливо поднимал руку, говорил: «Нельзя». Смотрел на капитана, с любопытством выставив подбородок, пощипывал короткие густые усы. Вечером из штаба фронта пришла лаконичная шифровка. Гвардии капитана Большакова Виктора Федоровича доставить в распоряжение полковника Одинцова. Так и значилось в ней — «доставить». Саврасов читал шифровку в присутствии начальника штаба. Он стоял посреди просторного кабинета, широко расставив ноги в лохматых унтах, твердо упираясь ими в дубовый паркет. Брови сердито ходили над переносьем. — Нажаловался все-таки этот деятель. Вот и завертелось теперь. Подготовьте, майор, на утро «виллис». Большакова в отдел Одинцова я сам отвезу. — С хрустом сжал пальцы в кулаки и усмехнулся: — Он, видите ли, нажаловался. Ишь, страсть какая! Но ведь Саврасов в Советской Армии один? Так, что ли, начштаба?* * *
Адъютант командующего фронтом встретил Саврасова доброй улыбкой и дружески протянул руку: — Ну, как там поживают ваши мастера бомбовых ударов, Александр Иванович? В хвост и в гриву бьют дальние тылы противника, если верить нашей фронтовой газете? — На сей раз нас бьют и в хвост и в гриву, — мрачно заявил полковник. — Маршал у себя? Принимает? — В принципе нет. Но для вас постараюсь добиться исключения. Адъютант скользнул за двойную, обитую кожей дверь и, возвратившись, ободряюще кивнул полковнику. Саврасов, успевший сбросить кожанку, порывистым, нетерпеливым движением расправил у пояса гимнастерку. Сдвинув черные брови, он решительно распахнул дверь и быстрыми смелыми шагами приблизился по длинной ковровой дорожке к столу. Ему навстречу из кресла поднялся высокий человек с красивым, скорее усталым, чем пожилым, лицом. Мягкий, добрый рот как-то не сочетался с внимательными, чуть строгими и озабоченными глазами. Густые волосы были разделены на его голове аккуратным пробором. Командующий был хорошим психологом. К нему в кабинет входили всякие люди: волевые и безвольные, правые и виноватые, боязливые и требовательные. Сейчас по нервной взвинченной походке Саврасова он безошибочно понял, что тот взбешен до последней степени, и спросил тихим обезоруживающим голосом: — Что у вас ко мне, Александр Иванович? — Товарищ маршал, — задохнулся Саврасов от вновь подступающего бешенства, — да кто позволил глумиться над честным советским человеком и летчиком? — Вы о гвардии капитане Большакове? — так же тихо осведомился командующий. — О нем, товарищ маршал. Гвардии капитан Большаков совершил подвиг: накрыл бомбами весь цвет немецкого фронта, стоящего против Вислы. Был сбит, раненный пробирался по лесам, наконец возвратился в полк... а тут в мое отсутствие приезжает какой-то майор и начинает снимать допрос. Да еще кулаком стучит по столу и спрашивает у моего летчика, кто его завербовал и когда. — Я все знаю, Саврасов, — сказал командующий и опустился в кресло. — Дело приняло нежелательный оборот. Ваш Большаков оказался весьма невыдержанным. Что бы там ни было, но нельзя же грубить представителю госбезопасности, да еще старшему в звании. — А если тот фашистским шпионом ни за что ни про что называет? Что же Большаков должен был делать, сидеть и улыбаться? Конечно, нервишки у парня сдали и нагрубил он зря. Но какой же честный человек простит, если его ни за что ни про что предателем начинают называть и подозревать в шпионаже. Командующий рассеянным движением снял с чернильного прибора серебряную крышку, подержал в руке и положил на место. За большим окном в эту минуту на низкой высоте проплыл целый косяк «илов», и он проводил одобрительным взглядом три девятки горбатых самолетов, поблескивающих в солнечных лучах остеклением кабин. — Ишь ты, как хорошо идут, как на параде, — не удержался командующий. — Так ведь это ж домой, от цели, — засмеялся Саврасов. — Все напряжение и страхи уже позади. Чего ж домой весело не лететь? — Осмотрительность только надо не терять, «мессера»-охотники подкрасться могут. — Ничего, товарищ маршал. Они этой осмотрительности за четыре года как-нибудь выучились. Командующий перевел взгляд на Саврасова. — А вы знаете, что предлагает следователь? — Нет конечно, — мрачно ответил Саврасов. — Гвардии капитана Большакова к полетам не допускать и вплоть до окончательной проверки всех обстоятельств, связанных с его пребыванием в тылу противника, направить в специальный лагерь. Саврасов побледнел и, сжав кулаки, сделал шаг вперед: — Что вы сказали, товарищ маршал? Моего Большакова в лагерь? — У них это называется карантином, — каким-то скучным голосом поправил командующий фронтом. — У кого у «них»? — не понял Саврасов. — У Берия и его заместителей. На лице командующего он увидел глубокие морщины и складки в углах доброго рта. И Саврасов подумал о том, что не мог командующий ответить по-другому, ибо он и сам испытал тупую жестокость лагерного режима, отсидев немало времени по ложному доносу. Не откуда-нибудь, а из места заключения был он вызван в суровом сорок первом году прямо в Кремль. Перед ним извинились, восстановили во всех правах, дали армию под командование. А потом его имя загремело на весь мир, как имя героя исторических сражений, его армия неоднократно упоминалась в приказах Верховного Главнокомандующего, и в честь его фронта прогремел над Москвой не один салют. Но осталась в душе тяжелая незаживающая рана. Из-под воспаленных век горестно посмотрел он на Саврасова, думая, смирится тот или нет. Но полковник упрямо тряхнул черными кудрями, и Золотые Звезды тренькнули на его гимнастерке. — Товарищ командующий, да неужто мы допустим, чтобы парню судьбу изломали? Да я все свои ордена и Золотые Звезды сниму с себя, если его в эти самые лагеря отправят, от полка откажусь. Пусть что угодно со мной делают. Серые глаза маршала посуровели: — Не то говорите, полковник. Я верю и вам, и Большакову. Вечером вернется полковник Одинцов. Он старый, опытный чекист. Мы разберемся. А гвардии капитана Большакова верните пока в часть. — Спасибо, товарищ маршал, — поблагодарил ободрившийся Саврасов. Вечером командующий фронтом сам позвонил ему в кабинет. Саврасов проводил в это время совещание с командирами звеньев и строго потряс кулаком в воздухе, призывая присутствующих к могильной тишине. — Да, да, товарищ маршал, я вас слушаю. Голос на другом конце провода был добрым: — Имел беседу с товарищем Одинцовым. Так называемое дело капитана Большакова прекращено. Отправляйте его подлечиться, а потом в бой. — Спасибо, товарищ маршал, до самой души растрогали, — только и мог вымолвить полковник и, положив трубку, посмотрел на летчиков. — Ну, а вы что сияете, словно тульские самовары? Все уже поняли? Да, хлопцы. Дело Виктора Большакова прекращено... так называемое дело, — поправился он.* * *
Закончив совещание, полковник вскочил в «виллис» и помчался на хутор, где в одной из хатенок квартировал Большаков. Только что прошел обильный короткий дождь. Осенняя хлябь расквасила дорогу. Затянутое тучами небо висело низко. В хуторке не было видно ни одного огонька: местное население строго выполняло правила светомаскировки. Саврасов с трудом распознал очертания домика, радостный взбежал на крыльцо. Большакова он застал в непредвиденном состоянии. В маленькой комнате Виктор сидел за столом в одном исподнем белье. Рядом прислоненный к печке костыль. Перед ним на столе стакан остывшей кавы, половина огурца, горбушка черного хлеба и пустая пол-литровая бутылка. — Ну вот что, Виктор, — с деланным пафосом воскликнул Саврасов, не заметив, что голос у него задрожал, — считай, что ты в рубашке родился, коль из такой беды удалось тебя выпутать! Никаких поездок к следователю и никаких допросов. Все прекращено. Он ожидал, что слова эти мгновенно обрадуют подчиненного, заставят его облегченно вздохнуть. Большаков медленно поднял голову. Пьяным он не был, не брал, наверное, хмель. Но лицо было угрюмым, из зеленых остекленевших глаз текли тихие и безвольные слезы. — Товарищ командир... Александр Иванович, да за что же все это? За что недоверие, если я через такие испытания прошел? И Саврасов оторопело попятился, встретившись с тоскливым взглядом летчика. — Ладно, Виктор, — сказал он просительно, — водкой не успокоишься. Оно бы пора тебе и спать. Завтра в госпиталь, а через недельку-другую в бой. Саврасов сдержал свое слово. Ровно через пятнадцать дней в длинную октябрьскую ночь на тяжелом корабле с бортовым номером четырнадцать вылетел Виктор Большаков бомбить порт Пилау. ...Так оно было на самом деле. Так бы надо рассказать и ей, Ирене, об этом теперь, через много лет. Но Виктор подумал и решил: зачем, только разволную, и все. И он не проронил ни слова. А Ирена, по-своему истолковавшая затянувшееся молчание, осторожно, стыдясь откровенной ласковости этого движения, погладила его руку. — Ты запечалился, Виктор? Тебе, наверное, тяжко рассказывать об этой могиле. О! Я так рада, что под каменной этой плитой пусто и ты сидишь со мной рядом. Это такое счастье. Но как же все-таки это случилось? — Очень просто, Ирена, — тихо заговорил полковник, поглядев на могилу, — ногу мою подлечили, и я снова сел за штурвал. Мне дали нового штурмана, Алешу Воронцова, и других стрелков. Так и стали мы летать на новом самолете под номером четырнадцать. «Голубая девятка» у меня была полегче, поманевреннее, но на «четырнадцатой» стояли новые двигатели, и я к ней скоро привык. Бывало, лечу в дальний тыл, моторы гудят так монотонно, что хоть засыпай под них. А я все стараюсь подвернуть поближе к Познани или над Ополе пройти, и всегда в такие минуты, как живая, вставала перед глазами лесная избушка, бабушка Броня... — Значит, вспоминал! — А ты разве сомневалась? — хрипловато рассмеялся Большаков. — Нет, — с горячностью возразила Ирена, — я знала, что ты помнишь... такое не забывается, Виктор. Но от тебя самого это слышать так приятно. Даже теперь, когда мы уже не молодые. — Ты права, Ирена. Ты была моей лесной песней, а ее не забыть. Налетел майский ветерок, зашелестел листвой кладбищенских кленов, а Ирене показалось, что это Большаков вздохнул грустно. И опять она вслушивалась в его тихий голос. — Да, я думал о тебе в каждом полете. Потом осень сменилась зимой, и наш фронт рванул. Освободили Варшаву, Быдгощь, Кутно, Познань. Мы стали летать на этот город. За него большое было сражение. Войска наши его окружили, а фашистский гарнизон не сдавался. Здесь недалеко от кладбища — товарная станция. Ты слышишь паровозные гудки, Ирена? — Слышу, она и сейчас там же. — А тогда здесь стояли под разгрузкой прибывшие из Берлина и Кюстрина эшелоны с танками. Если бы эти заправленные танки с ходу устремились в бой, тут на кладбище было бы побольше наших могил. Это так, Ирена, не будь я рыжим. Она усмехнулась: — Ты и до сих пор не отвык от своего присловия. — Нет. Это как пластырь. А надо бы отвыкнуть... — покачал он головой. — Значит, разгружались три эшелона с танками... И шесть тяжелых кораблей с нашего аэродрома поднялись на эту цель. Я шел вторым, за Саврасовым. Мы бомбили днем, без прикрытия истребителей. Эшелоны мы раскрошили. Вся станция была в дыму, когда мы пошли на второй заход. И вот тут-то не повезло. Подбила меня зенитка. Высота полторы тысячи метров, а рули уже не действуют. Теряю метры сотнями. Командую экипажу прыгать, а они вопрос: «А вы?» Так часто спрашивают у командира экипажа, если самолет попал в переделку. А я подумал: выпрыгнешь, возьмут в плен и тут же расправятся. И решил я твердо: вместе с самолетом в танковую колонну, что по шоссе развернулась в районе леса. Штурман и стрелки закричали: «Мы с вами!» А дальше... — штурвал от себя — и на цель. На земле взорвалась бензоцистерна. Когда я должен был врезаться в танки, самолет отбросило взрывной волной и разломило. Хвост с кабинами стрелков сгорел, а нос вместе с нашими телами метров на пятьдесят отлетел от дороги. До сих пор не могу понять, почему немцы не бросились за нами. Видать, горели у них танки и не до этого было. Как потом мне рассказывали, все это произошло на глазах у наших пехотинцев и танкистов. Они пошли в атаку, чтобы нас отбить. Взяли район, и нас, полумертвых, из-под обломков самолета извлекли. Потом отступили. Фашистский гарнизон в этом городе долго еще сопротивлялся. Нас сразу в Москву на специальном самолете доставили. Штурман — тот до сих пор на протезах. Ну, а мне повезло — сломанными ребрами и шрамами на бедрах отделался. Вот и все, Ирена. Случай этот расписали в газетах, узнали наши фамилии, и во фронтовой неразберихе объявили нас погибшими и бессмертными и могилу мне сделали на этом кладбище. — И ты об этом не знал? — Знал, Ирена, — признался Большаков, — как же. Лет десять назад товарищи, побывавшие в Польше, рассказали. Сначала решил в Варшаву нашему послу написать, а потом рукой махнул. Пусть остается могила. Может, проживу от этого подольше. Ведь есть же какая-то народная примета, что тот, кого заживо похоронили, долго живет. Полковник заглянул в синие глаза, окруженные морщинками. Эта запоздалая встреча будила нежность да еще далекие глухие воспоминания. — Как ты живешь, Ирена? — А ты, Виктор? — Я сносно, Ирена. Она высвободила свою руку и обеими ладонями взяла его за виски, чувствуя под кожей жесткость его волос: — Седой ты стал, Виктор... совсем седой. — Это годы, Ирена. — Только ли годы, Виктор? Кладбище окружало их тишиной, шелестом листьев и легкими нитями паутины, медленно никнущей к земле. Она опустила руки, и сидели они теперь молча, думая каждый о своем. Тихая худенькая полька вспомнила вдруг о том, как на следующий день после отлета Большакова из партизанского лагеря узнала она, что ее брат Тадеуш, высадив их у избушки лесничего, так и не попал в штаб фашистской армейской группировки, державшей оборону по Висле. Отъехав километров сто на север и запутав свои следы, в глухом лесу вышел он из «оппеля» и выстрелил в себя из браунинга, подаренного ему в концлагере Майданек. Верные люди доставили ей коротенькую записку Тадеуша: «Прости меня, Родина, прости, любимая сестра. Я сам себя осудил и вынес приговор. Приговор этот окончательный и обжалованию не подлежит». Прожитая жизнь! Как часто при воспоминании оборачивается она какими-нибудь пятью-шестью видениями, стремительными, как кинокадры, но по ним можешь ты хорошо и безошибочно судить о пережитом, обо всех горестях и радостях, о счастье и о тоске. Так и она вспоминала эти годы. Смерть брата, партизанские костры, потом руины Варшавы и работа в неотапливаемой школе. Нет, она не ждала писем. Она знала, что у него своя жизнь, полная опасностей и военных гроз. А потом в пятьдесят втором году она случайно натолкнулась на эту могилу во время экскурсии во Вроцлав, выплакала ночью все свои слезы, и надежда на встречу сменилась прочной тоской. Как-то в том же пятьдесят втором году на большой перемене ее окружили школьники и наперебой загалдели: — Проше, пани, это правда, что в войну вы спасли радецкого летника? Это так? И она тогда растерялась, покраснела, заплакала. — Да, мои коханы, это так. Слух об этом быстро распространился, и ее вызвали в отдел народного образования. Человек в роговых очках, бывший политрук Войска Польского, повторил тот же вопрос. — Вы должны об этом подробно написать, товарищ Дембовская, — сказал он ей деловито, — и тогда мы возбудим ходатайство о представлении вас к ордену. Но Ирена подумала и ничего не написала. Да и зачем ей был орден? Разве смог бы он заменить ей человека, с гибелью которого она уже смирилась? — Как твоя жена, Виктор? — тихо спросила Ирена. — Как семья? Полковник горестно покачал головой. — Я один. Давно уже один, — ответил он тихо. — Глупый и жестокий случай. Жена и сын погибли в автомобильной катастрофе, в сорок шестом году. Ирена порывисто подняла обе руки к груди. — О! Какое несчастье! — прошептала она. — Вот с тех пор я и поседел, — покачал головой полковник. — Жизнь меня никогда не баловала, Ирена. Целый год я не мог прийти в себя после их гибели. Сам добровольно выпросился служить в дальний гарнизон. Думал, легче будет в глуши. Года через три стало полегче вроде. И улыбаться заново научился. Очень много думал тогда о тебе. Даже с письмом обратился к одному из наших начальников. Просил командировку в Польшу. По старым местам захотелось поездить. Было это в пятидесятом, кажется. Не разрешили. Потом уже в пятьдесят пятом я снова задумался: а не поехать ли к ней, к Ирене. И останавливало что-то. Интуиция, что ли. Думаю, ведь уже больше десяти лет прошло. Замужем она давно. Зачем же мне появляться и старое травить. Пусть лучше останутся в памяти те десять дней, та лесная песня. — И в моей тоже, Виктор. Они помолчали. Каменный воин печально смотрел на них с пьедестала. Никли ромашки от теплого легкого ветерка. То затихал он, то вспыхивал, и от этого казалось, что прячется он в низкой кладбищенской траве и цветах. Полковник искоса посмотрел на польку, и следующий его вопрос прозвучал смущенно: — Ты скажи, а сына или дочки у тебя не было? Она уронила зардевшееся лицо на его плечо. Жесткий погон колол щеку, но женщина не замечала этого: — Я почему-то ожидала, что ты обязательно этот вопрос задашь. Нет, Виктор. Ни дочки, ни сына. А как бы хотелось! Большаков улыбнулся. Все-таки многое в ней осталось от прежней Ирены: и эта стыдливая нежность, и смелость признаний. Только прежняя порывистость и нетерпеливость сменились с годами пришедшим спокойствием. — А ты еще раз женился, Виктор? — Нет, Ирена. — А я выходила замуж, Виктор, — вздохнула Ирена, — и тоже нема счастья. Ошиблась я в нем. Разошлись. Переехали мы с сыном Сташеком в Варшаву, там и живем. — Сколько же сейчас твоему Сташеку, Ирена? — Уже учится хлопчик. Большаков в знак согласия покачал головой. Тихая и вся какая-то осенняя, сидела рядом Ирена. И он впервые подумал о том, что сильно, очень сильно потрепала их обоих за эти годы жизнь. Так потрепала, что в грузном седом полковнике трудно было сразу признать прежнего лихого зеленоглазого капитана, а в этой женщине с явными приметами седины в волосах ту порывистую, то и дело вспыхивающую энергией и страстью Ирену. И он, чувствуя, что не нужно было этого говорить, что получится не слишком-то искренне и душевно, но не в силах победить внутренний голос совести, все-таки произнес: — Послушай, Ирена. А может, нам следует подумать... может, нам все-таки как-то все изменить, а? Она привстала и улыбкой своей его извинила: — Виктор, можно я тебя поцелую? — Тебе все можно, Ирена. Она придвинулась и легко, бережно, словно к чему-то самому дорогому, прикоснулась холодными губами к его щеке. И не было в этом поцелуе страсти, а была лишь тихая материнская грусть. — Ты прекрасно сегодня сказал о наших тех днях: лесная песня. Мы тогда были молодыми и горячими, а сейчас другие. Не надо говорить об этом, Виктор. Это так тяжко. Лучше, будешь в Варшаве, заезжай в гости. Мы тебя с сыном всегда хорошо встретим. Как самого родного. Ирена посмотрела на ручные часы: цифры и стрелки расплывались в глазах, но она все-таки разглядела — без десяти четыре. — Мне уже пора, — сказала она волнуясь, — в гостинице меня ждут. — Это где, в центре города? — спросил полковник. — Да. — Я тебя туда подброшу на машине, — предложил он. Женщина кивнула головой. ...И они пошли к выходу, к массивным кладбищенским воротам. Каменный автоматчик грустно смотрел им вслед. Казалось, что он все понимает. Мужчина и женщина покидали кладбище. Они шли молча и медленно. Между ними была прямая асфальтовая дорожка, а по сторонам от нее две жизни. Две жизни, так и не слившиеся в одну.СОДЕРЖАНИЕ
Владимир Волосков Операция продолжается..........5 Михаил Алексеев «Привидения» древнего замка...207 Николай Грибачев Огни в тумане.......................245 Иван Стаднюк Следопыты ..........................303 Геннадий Семенихин Пани Ирена...........................392Эдуард Ростовцев Час испытаний Роман

Издательство ЦК ЛКСМУ «Молодь»
Киев 1963
В этом городе у моря я был впервые. Раньше я знал о этом только понаслышке — в основном от приятелей, ежегодно проводивших свой отпуск на побережье. Приятели хвалили городские пляжи и большой тенистый парк, рассказывали и прогулках на катерах и экскурсиях в Старые каменоломни. Но я приехал в город перед Октябрьскими праздниками, когда пляжи уже закрыты, деревья в парке сбрасывали листья, прогулочные катера стояли на ремонте. Однако это не огорчало меня. Целые дни я проводил в местной библиотеке, подбирая материал для моей работы о южнорусском диалекте. И только в воскресенье решил осмотреть город. Широкие улицы принаряжались к празднику. Осеннее солнце поднималось над притихшим с вечера морем. Стоя у парапета Приморского бульвара, можно было видеть, как внизу у причалов грузовые краны, словно гигантские цапли, клевали трюмы судов. Из порта вверх по Баркасному спуску ползли вереницы тяжелых грузовиков. Мое внимание привлекло объявление об открывшейся выставке работ местных художников и скульпторов. Уже давно я убедился в том, что знакомство с городом следует начинать с осмотра картинной галереи, если таковая имеется. Никто лучше художников не расскажет о достопримечательностях родного города. Самый добросовестный гид не сумеет передать и сотой доли того, что скажут яркие полотна, бесхитростные зарисовки с натуры, тяжеловесные скульптурные портреты… Выставка размещалась в небольшом опрятном домике на одной из улиц, круто спускавшихся к морю. Дом стоял у обрыва. Через раскрытое окно было видно, как внизу двое парней спускали на воду спортивную яхту с парусной мачтой… В пяти небольших комнатах было около двухсот картин и только одна скульптура: стоящая в полный рост девушка с протянутой вперед рукой. Вначале я лишь мельком взглянул на мраморную девушку и подошел к большой картине, изображавшей бой партизан с карателями в Старых каменоломнях. Картина мне не понравилась — слишком уж одинаковым, а потому неестественным было выражение ожесточенной решимости на лицах партизан, слишком испуганны и растерянны были эсэсовцы в парадных мундирах. Я вернулся к девушке. Композиция скульптуры показалась мне необычной и, на первый взгляд, не совсем понятной. Девушка была как бы прижата к бесформенной мраморной глыбе: она не выступала, не вырывалась из камня, а была придавлена к нему. Запрокинутая голова с маленьким ртом, жадно ловящим воздух, отброшенные назад плечи, на которые наваливалась какая-то непомерная тяжесть; круто выгнутая, готовая надломиться спина — все говорило о конце, о последнем мгновении жизни. И только рука, слабеющая, полусогнутая в локте, обреченная через секунд упасть, была устремлена к раскрытому окну, к сверкающему за ним морю. То не был призыв о помощи, не был жест отчаяния — рука приказывала… Напротив скульптуры возле окна на единственном в этой комнате стуле сидел пожилой моряк с косматыми, сдвинутые к переносице бровями. Он внимательно, словно отыскивая какую-то погрешность, рассматривал мраморную девушку. На меня он не обратил внимания. И только когда я случайно закрыл от него скульптуру, моряк сердито засопел. Я отошел в сторону и принялся разглядывать серию карандашных зарисовок. Громко разговаривая, пересмеиваясь, в комнату ввалилась группа подростков — ребят и девушек. Экскурсовод безуспешно пытался сосредоточить их внимание на каком-то пейзаже. И вдруг оживленный гул голосов смолк. В комнате стало так тихо, что было слышно, как внизу под окном лениво шуршит прибрежной галькой море. Я оглянулся. Молодые люди тесным полукругом обступили мраморную девушку. Прошла минута, другая, а ребята стояли у скульптуры притихшие, серьезные, как-то сразу повзрослевшие. — Это она, — словно боясь вспугнуть наступившую тишину, тихо сказала длинноногая девчонка. Никто ей не ответил. Из комнаты ребята выходили молча, осторожно ступая по навощенному паркету. Я вернулся кскульптуре и долго смотрел на девушку, на бесформенную глыбу камня, которая своими уродливыми выступами, как щупальцами, обхватывала, сжимала, втягивала в себя стройное, гнущееся тело, и думал о том, что могучая глыба не властна над простертой вперед слабеющей рукой. Моряк с косматыми бровями по-прежнему сидел возле окна. Я подошел к нему и, немного помедлив, спросил о девушке. Моряк не ответил. Рискуя показаться навязчивым, я назвал себя и снова попросил его рассказать, как погибла девушка. На этот раз он удостоил меня взглядом, но прошло еще несколько долгих и неловких для меня минут, пока я, наконец, услышал его низкий, слегка приглушенный голос. — Вы литератор? — спросил он. — Да. — Конечно, приезжий. Я кивнул головой, хотя это последнее обстоятельство было для него очевидным. Он встал и подошел к раскрытому окну. — Вы хотите знать, как она погибла? — глядя куда-то в осеннее обманчиво-спокойное море, спросил он. И тут же, предупреждая меня, быстро возразил: — Вы мало что поймете из рассказа о ее смерти. Ведь смерть сама по себе ничего не объясняет. — Он повернулся и внимательно посмотрел на меня из-под косматых седых бровей. — Я вам расскажу о ее жизни…
Часть первая «А БЫЛО ТАК…»

Когда в 1940 году Галка Ортынская поступила на вокальное отделение музыкального училища, ребята со Второй Якорной улицы недоуменно пожали плечами, а Сашка Болбат — моторист рейдового буксира «Альбатрос» — сказал, что Галка сошла с ума. Никто не спорил — у нее был хороший голос. Когда она приходила на Западный мол, портовые мальчишки просили ее спеть одну из полузабытых матросских песен, которых так много знала Галка. Она как-то удивительно тонко умела передать ту скупую тоску, что рождалась в далеких морях у людей, надолго оторванных от родной земли, то мужество, что спорило с ревом штормовых волн, ту бесшабашную удаль, что будила теплые ночи уснувших портов. Кода она пела, рыбаки на траулерах, ошвартованных близ Западного мола, и грузчики на 17-й пристани умолкали, слушая песню. Молодые штурманы промысловых судов с интересом разглядывали в бинокли стройную загорелую девушку, беспечно восседавшую на молу в почтительном окружении портовых сорванцов. — Это внучка Семена Петровича, — говорили им, и штурманы поспешно опускали свои «цейсы», потому что не было на побережье моряка, который не знал бы и, говоря откровенно, не побаивался бы Галкиного деда. Двадцать лет Семен Петрович бессменно пребывал в должности капитана большого торгового порта. Честный и прямодушный, он отличался некоторой грубоватостью, свойственной морякам старой закалки. Но если крепкое слово, сказанное к месту, не обижало моряков, то кое-кто в управлении пароходства не раз упрекал Семена Петровича в старорежимных ухватках. А однажды эти упреки переросли в обвинение. И тогда Семену Петровичу вспомнили и его дворянское происхождение, и его службу в царском флоте, и даже его нашумевшую в свое время женитьбу на итальянской актрисе. Только вмешательство самого наркома, знавшего Семена Петровича еще по Цусимскому походу, положило конец так называемому «делу Ортынского». Но обида не прошла бесследно для старого моряка. Он начал сдавать, а тут еще простудился и заболел воспалением легких. Умер он в самый разгар летней навигации 1939 года. Смерть деда была первым горем в Галкиной жизни. Она любила его. Только с ним считалась, только его слушалась. Галка не знала матери, а отец… С отцом у нее были какие-то неустановившиеся отношения. Виделись они редко. Алексей Семенович командовал большим грузовым теплоходом, ходившим в далекие рейсы. Два-три раза в году он ненадолго появлялся дома. Высокий, черноволосый, в отлично сшитом костюме, отец разительно отличался от коренастого белобрысого деда, носившего всегда простой темно-синий китель. От отца пахло одеколоном и душистым табаком. Он привозил Галке необыкновенные говорящие куклы с раскосыми глазами. Но куклам Галка предпочитала макеты парусников, что стояли в кабинете деда. Ей нелегко было угодить. Девчонкой все свободное время она проводила в порту: разгуливала по пристаням, где ее знали все от сторожей до капитанов пассажирских теплоходов; взбегала по шатким сходням на буксиры, где ее появлению всегда были рады; каталась на служебных катерах; загорала на бетоне Западного мола — привилегия, дарованная только мальчишкам со Второй Якорной улицы. Ее любили за общительный характер, за смелость, с которой приходилось считаться даже высокомерным юнгам, за то, что она чуть ли не с пеленок знала все типы судов. И нетрудно было понять, почему ее поступление в музыкальное училище вызвало в порту удивление. Вместе с тем нельзя было согласиться и с Сашкой Болбатом, который утверждал, что Галка сошла с ума. Сашкино мнение было слишком субъективным. Дело в том, что среди многочисленных достоинств и недостатков Галки Ортынской следовало отметить ее привлекательность. Она не была так красива, как ее отец. Отцовского в ней было немного: только черные густые волосы да матово-нежный цвет ища. А вот глаза у нее были дедовские — серые, с искорками. Такие глаза не часто встретишь. Они обладали удивительным свойством менять свои оттенки. И всегда в них метались искорки: лукавые, насмешливые, сердитые — в зависимости от настроения. Когда-то из-за таких глаз итальянская актриса Валерия Репетти бросила сцену и навсегда осталась в чужеземном городе, где говорили на таком трудном языке… Когда Галка объявила дома о своем решении, а заодно о том, что она уже зачислена в музыкальное училище, Алексей Семенович откупорил бутылку вина и выпил с дочерью за успех. Но через неделю, уходя в рейс, он сказал Галке: — В молодости твоя бабушка тоже была актрисой. Она оставила сцену не потому, что на этом настаивал дед, а потому, что не обладала большим талантом. Искусство не терпит посредственности. И она вовремя поняла это. В глазах дочери вспыхнули сердитые искорки. — Не всем же быть капитанами, — с вызовом бросила она. — Нужны и матросы. — Это хорошо, что ты не переоцениваешь своих способностей, — невесело усмехнулся отец. — Верно и то, что в искусстве должны быть свои матросы. Только я думал… Он не сказал, что думал, а Галка не стала спрашивать — ее самолюбие было уязвлено. После этого разговора Галка ходила хмурая, как море перед штормом. Бабушка — Валерия Александровна — вздыхала и жаловалась соседкам на тяжелый характер внучки. Однако дело было не в плохом Галкином характере. В то лето, когда она окончила школу, противоречивые чувства боролись в ней. Она любила море. Не ту лазурную зеркальную гладь, что манила к себе приезжих курортников, а ту неудержимую стихию, что в штормы с ревом обрушивалась на молы, яростно билась у скал Корабельного поселка, рвала якорные цепи океанских лайнеров. Девчонкой она с тайной завистью провожала уходящие в море суда. Какими хрупкими казались рыбачьи баркасы, ныряющие в провалы водяных холмов; каким мужеством обладали те, кто вел эти суденышки навстречу волнам и ветру. Подростком она сама не раз ходила с рыбаками на лов кефали. Умела обращаться с парусом и рулем, ловко гребла и никогда не укачивалась. Бывало, волна сбивала ее с ног; приходилось ей глотать и горько-соленую воду. Но она не боялась моря, и море дружило с ней… Однако с некоторых пор Галка видела сны, в которых не было ни парусов, ни моря. Притихший многоликий зал, дружный взлет смычков и яркий наряд Карменситы все чаще и чаще снились ей. Оперу она полюбила сразу, с того первого раза, когда однажды пошла с бабушкой на «Русалку». Не бессмертная музыка Даргомыжского, не прекрасный бас приезжего заслуженного артиста, исполнявшего партию Мельника, поразили в тот вечер Галку. «Русалку» она еще до этого слушала по радио, а басовые партии вообще не любила и только, в виде исключения, признавала шаляпинские грамзаписи. В тот вечер Галку пленило удивительное единение музыки и драматического содержания оперы. Было ли то высокое актерское мастерство исполнителей, или сама музыка органически сливалась с каждой фразой либретто, но девушка забыла о том, что артисты поют. Музыка была неотделима от действия, звучала в каждом слове Очарованная, девушка впервые увидела, как надо петь. Не услышала, а именно увидела… Она стала завсегдатаем городского театра. Если днем ее по-прежнему тянуло к морю, к хорошо знакомым пристаням, на бетон Западного мола, то вечерами ее влекло к торжественному, красивому зданию театра, к огням рампы, к музыке. Как раньше морякам, теперь она завидовала артистам. Они казались какими-то особенными людьми. Им было дано завидное счастье рассказывать со сцены о больших чувствах и прекрасных мечтах… В то лето, когда надо было решать — море или театр, Галка часто вспоминала дедушку: ей не хватало его совета. С отцом она не была откровенна. Бабушка ратовала бы за все, что угодно, даже за театр, о закулисной жизни которого у нее сохранились далеко не восторженные воспоминания, но только не за море, к которому она всегда ревновала мужа и сына. Галкины друзья со Второй Якорной улицы были детьми моря, и уже сама постановка вопроса «или — или?» оскорбила бы их лучшие чувства. Впоследствии сама Галка не могла толком объяснить, почему она предпочла музыкальное училище мореходному. Бабушке она сказала: — Когда я услышала Давыдову в «Кармен», то подумала, что я бездарность. Чтобы окончательно убедиться в этом, я пошла в музыкальное училище. Как ни странно, меня приняли. Сашке Болбату она сказала: — Некоторые и в море мелко плавают. А я попытаюсь на суше найти глубину. Сашка, который был мотористом портового буксира, понял это как намек по его адресу и обиделся. Осенью, когда вернулся отец, она сказала ему: — Если я не сдам сольфеджио на пять, то уйду в кораблестроительный и никогда больше не буду петь. Даже дома. Уроки сольфеджио были для Галки настоящей пыткой. Она не переносила эти бессмысленные «до», «ре», «ми», «соль», которые ей часами приходилось тянуть до изнеможения. К тому же преподаватель сольфеджио — Альберт Иванович Логунов раздражал ее. Он был такой же нудный, как его предмет. Трудно было поверить, что этот суетливый, вечно брюзжащий человек возглавлял городской театр. Но Логунов был не только директором театра. Он являлся неизменным и, пожалуй, самым неумолимым членом экзаменационной комиссии. И Галка, скрипя зубами, тянула по вечерам «ми», «ля», «до», «си»… В ту зиму она узнала, как трудно быть упрямой с самой собой. …И снова отец уходил в рейс. Накануне у Ортынских собрались гости, среди которых была молодая, нарядно одетая женщина с рыжеватыми волосами. — Нина, — запросто представилась она Галке. Нине было не больше двадцати пяти лет, но с Алексеем Семеновичем и его друзьями она вела себя как равная: многим из них говорила «ты», называла по имени. Галке она не понравилась: не понравились ее громкий, деланный смех, развинченная походка, чересчур открытое платье и свободный, даже несколько развязный тон, которым молодая женщина разговаривала с Алексеем Семеновичем. Галке было обидно, что отец не замечал этого и весь вечер не сводил с Нины глаз. Во время ужина, когда содержимое стоящих на столе бутылок уменьшилось наполовину, Нина подсела к Галке и обняла ее. — Надеюсь, мы станем друзьями. Я тоже певица. Галка вежливо, но решительно отстранилась. — Где вы поете? — спросила она Нину. — На эстраде. — А точнее — в ресторане «Прибой», — буркнул сидящий напротив старший помощник Алексея Семеновича Шахов. — Что ты хочешь этим сказать? — вспыхнула Нина. — То, что уже сказал, — отрезал Шахов. Алексей Семенович покраснел, заерзал на стуле. Галке стало неловко за него. — Разве важно, где кто работает? — вступилась она за Нину, чтобы прекратить неприятный для отца разговор. Шахов усмехнулся и, прищурясь, посмотрел на Галку. — Как сказал поэт: «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»… — Почти остроумно, — Галка громыхнула стулом и встала. Она ушла к себе в комнату и уткнулась в книгу. Вскоре к ней заглянул Леонид Борисович Гордеев — давнишний приятель отца. — Я тебе не помешаю? Там собираются танцевать, а меня это занятие не прельщает. — Заходите, дядя Леня, — пригласила Галка и, заметив, что он гасит свою трубку, сказала: — Да вы курите. Окно открыто. Гордеев сел и принялся сосредоточенно раскуривать трубку. — Нехорошо получилось, — наконец сказал он. — Нехорошо. Шахов выпил лишнее. Он посмотрел на Галку из-под густых косматых бровей, ожидая, что та скажет. Но Галка молчала. — Послушай, Галина, сколько тебе лет? Он отлично знал, сколько ей лет, но спросил для того, чтобы как-то начать разговор, ради которого — и девушка чувствовала это — зашел к ней. — Восемнадцать. — Это уже много, — подхватил он. — Это значит, что ты уже взрослая. Поэтому я буду говорить с тобой как со взрослой. Видишь ли, мы дружим с твоим отцом много лет, и эта дружба дает мне право… — Зачем так длинно, дядя Леня, — нетерпеливо перебила его Галка. — Давайте по существу. — По существу так по существу, — согласился Леонид Борисович. — Речь пойдет о твоем отце… — …и о Нине? — снова перебила его Галка. Косматые брови Гордеева сошлись на переносице. — Может, ты помолчишь немного? — Но речь все-таки пойдет о ней? — не унималась Галка. — О ней. — Она мне не нравится. — Но дело в том, что она нравится твоему отцу. — Он собирается на ней жениться? — в упор спросила Галка. Леонид Борисович несколько смутился. — Не знаю. Он не говорил со мной так определенно. — Тогда поговорите с ним вы. Скажите, чтобы он не делал этого. Нет, нет, я все понимаю. Я даже хочу, чтобы он женился. Но только не на Нине. И не потому, что она поет в ресторане, а потому, что отец лучше, понимаете, в тысячу раз лучше ее! Вы тоже так думаете — я знаю. И Шахов так думает. Все так думают! Прошу, поговорите с ним. Поговорите как секретарь партийного комитета. Он вас послушает. Гордеев невесело усмехнулся. — Во-первых, твой отец беспартийный, а во-вторых, партком такими делами не занимается. Все это не так просто, Галя. Не так просто, как тебе кажется. Но в чем-то ты права. Обещаю, когда Алексей вернется из рейса, я поговорю с ним… Но разговор не состоялся — капитан Ортынский не вернулся из рейса… Теплоход, которым он командовал, ушел в море 21 июня 1941 года. А на рассвете следующего дня Галка проснулась от страшного грохота… Стены дрожали. Что-то со звоном упало на пол. В раскрытое окно ворвалось душное облако известковой пыли. В комнате рядом испуганно вскрикнула бабушка. Галка вскочила с кровати и сразу же порезала ногу о битое стекло. Новый взрыв потряс весь дом. Тревожно завыли сирены в порту. И снова, на этот раз уже где-то внизу, в районе грузовых пристаней, один за другим ударили четыре тяжелых взрыва. На улице кто-то истошно кричал: «Дети! Там остались дети!» Этот крик подстегнул Галку. Бабушкины мольбы не удержали ее. Натягивая на бегу платье, она выскочила на улицу. Густой черный дым и ржавая кирпичная пыль, еще не осевшая после взрыва, закрыли утреннее небо. Из ворот соседнего дома выбегали испуганные полуодетые люди. Им навстречу спешили курсанты мореходного училища. Вместе с курсантами Галка вбежала во двор. Трехэтажный жилой дом был расколот сверху донизу. Весь угол и часть стены фасада рухнули бесформенной грудой, открыв изуродованные комнаты, лестницы, коридоры. В одной из таких разрубленных комнат второго этажа у самого края обвала стояла большая никелированная кровать. Постель на ней была разобрана, подушка еще хранила вмятину от головы спящего человека, но самого человека не было. Вместо него на кровати, круто выгнув спину, в оцепенении застыла кошка. Дикими остекленевшими глазами она смотрела в провал — туда, где еще несколько мгновений назад была обжитая комната и куда вместе с потолком, стенами, полом был сметен ее хозяин. Война! Галка не помнила, как у нее очутился лом и как вместе с курсантами она начала разбирать обвалившиеся стены. Из хаоса битого кирпича, балок, рваного железа и обломков дерева, бывшего недавно дверьми, мебелью, оконными рамами, извлекали людей. Большинству из них помощь уже была не нужна… Галка работала в каком-то забытьи: без отдыха, не разгибаясь. Только к девяти утра, когда последняя санитарная машина, пронзительно сигналя, выехала со двора, Галка в изнеможении опустилась на какую-то плиту. Здесь ее и нашла перепуганная Валерия Александровна. Упреки бабушки Галка выслушала молча, даже не пытаясь оправдываться. Так же молча и послушно пошла домой. А вечером к Ортынским пришел Леонид Борисович Гордеев. Он был уже в форме старшего батальонного комиссара. По тому, как секретарь парткома с трудом улыбнулся бабушке, как хмуро нависли над глазами его косматые брови, как, забыв спросить разрешения, закурил он свою короткую трубку, Галка поняла, что в их дом пришла беда. Она позвала Гордеева в свою комнату и, плотно затворив за собой дверь, спросила прямо: — Отец?.. Леонид Борисович обнял ее за плечи. — Будь мужественна… Словно чья-то рука больно, до крика сжала сердце. Но Галка не заплакала. Она только пристально посмотрела на небольшой портрет, висевший на стене. Художнице, писавшей его, удалось почти с фотографической точностью передать правильные черты лица, веселые темно-карие глаза, крепкую загорелую шею, картинно-небрежно распахнутый ворот белоснежной рубашки… И все же художница что-то упустила из виду. То ли линии подбородка — упрямые у отца — на портрете были смягчены, то ли слишком была подчеркнута внешняя франтоватость, то ли чересчур весело глядели обычно внимательные, все подмечающие глаза. Возможно, женщина видела отца таким, каким она его написала — еще молодым, красивым, элегантным моряком. Но таким ли был отец на самом деле? Не за красоту доверили ему один из лучших теплоходов пароходства, не за элегантность любила его команда, а молодость не помешала ему стать опытным капитаном… Галка поймала себя на том, что она сейчас впервые подумала об этом. А раньше? Не глазами ли той художницы смотрела она на отца? Не отрываясь от портрета, Галка жадно слушала Гордеева. — …он знал, что началась война, и уже лег на обратный курс, когда у него на траверсе всплыла вражеская подводная лодка. Безоружный теплоход был великолепным призом для фашистов. Алексей понял это и приказал открыть кингстоны. Вот последняя радиограмма с теплохода. Леонид Борисович протянул Галке сложенную вчетверо бумажку: «…Машинное отделение затоплено. Ни груз, ни судно не достанутся врагу. Подлодка расстреливает людей в шлюпках. Прощайте, товарищи. Капитан Ортынский». Буквы прыгали перед глазами. — Бабушке… не нужно, — с трудом сказала она.
* * *
Для нее война началась сразу, рухнувшим домом, последней радиограммой отца. Сразу и пришло решение. На следующее утро Галка пошла в военкомат. Она не помнила, как ей тогда удалось пробраться к военкому и что она говорила ему Уже на улице, развернув бумажку, которую ей вручили, она прочла, что Галина Алексеевна Ортынская направляется на курсы медицинских сестер. В другое бы время Галка возмутилась. Ее — в медсестры? Но минувший день заставил по-иному взглянуть на многие вещи. Этот первый день войны принес с собой новые понятия, среди которых было неумолимое — «так нужно». В этих двух словах в то время заключалось больше смысла, чем во многих пространных поучениях, какие впоследствии приходилось выслушивать Галке. Как-то сразу отошли, стали чужими театр, музыкальное училище, пляжи — все, чем она жила последний год… Галка уже занималась на ускоренных курсах медицинских сестер, когда однажды на Приморском бульваре столкнулась со своим бывшим преподавателем сольфеджио Альбертом Ивановичем Логуновым. Директор театра был в необычном для него полувоенном костюме. Он сразу узнал Галку и вцепился в рукав ее гимнастерки. — Галина Алексеевна, вы ли? Настоящий солдат. Это ужасно. Мобилизовать девушек! Что делается, что делается. У меня просто голова идет кругом. Вы знаете, пал Смоленск. Галке было неприятно слушать этот испуганный шепот, но вместе с тем ей было жалко Логунова. Несмотря на свой полувоенный костюм, который, по мнению Галки, сам по себе уже обязывал к чему-то, Логунов казался растерянным. — Мне поручили сформировать концертную бригаду для обслуживания воинских частей. Только подумайте: классическую музыку — в казармы! Ну, кому это надо? Галка согласилась с тем, что сейчас не до музыки. Она хотела еще добавить, что всех театральных работников, не исключая директоров, следует призвать в армию, однако вовремя сдержалась. Неожиданно Логунов предложил ей поступить в концертную бригаду. — Нужны эти бригады или нет — не нам решать, — торопливо убеждал он. — Но пока что вам будет неплохо — лучше, чем в каком-то госпитале. А то ведь, упаси бог, вас еще в действующую армию отправят. Все может быть. Я вам помогу. У меня есть кое-какие связи. Нет, нет, вам это ничего не будет стоить! Логунову повезло, что в это время Галку окликнул какой-то моряк. Появление моряка заставило Логунова поспешно откланяться. Галка была так возмущена, что не сразу узнала подошедшего к ней Сашку Болбата. — С кем это ты разговаривала? — поздоровавшись, спросил Сашка. — С одним гадом, — нахмурилась Галка. Сашка недоуменно посмотрел на нее. — Почему же ты раньше мне не сказала? Я бы за тебя окончил этот разговор. — Не стоило связываться. Лучше расскажи о себе. Где ты сейчас? — Не видишь, что ли! — Сашка не без гордости щелкнул по своей бескозырке. — «Военно-Морской Флот», — прочла на ленточке Галка. — Здорово! — Если интересуешься — запиши номер полевой почты, — будто между прочим сказал Сашка. Галка записала. У нее был еще час свободного времени, и они прошлись по бульвару.* * *
Фронт приближался к городу. В те редкие ночи, когда не было воздушных налетов, жители окраин слышали нарастающий гул канонады. С каждой ночью гул усиливался, подступая все ближе и ближе к Корабельному поселку. А однажды его услышали днем на Приморском бульваре. Из порта по Второй Якорной и от вокзала по Садовой улицам в направлении Западного предместья непрерывным потоком шли войска, машины, обозы, отряды женщин и подростков с лопатами и кирками на плечах. Но в один из дней движение войск по Садовой прекратилось. Вокзальная площадь и прилегающие к ней улицы, — в последние недели до отказа забитые орудийными упряжками, повозками, походными кухнями, — неожиданно опустели: немецкие танки, прорвавшись северо-восточнее города, перерезали железную дорогу. Теперь войска шли только по Второй Якорной улице из порта. Но уже от Приморского бульвара немногочисленные колонны красноармейцев растекались по трем направлениям: на запад, север и восток. Теперь только море связывало город со страной: морем шли подкрепления; морем эвакуировали раненых, детей и женщин; с моря по наступающему врагу вели огонь корабли флота. Ценою жизней десятков тысяч своих солдат фашистам удалось прорваться к городским окраинам. Но здесь их остановили, а в иных местах даже отбросили назад бригады морской пехоты. На Турецком кургане, в Корабельном поселке и Западном предместье советские моряки стояли насмерть. Гитлеровское командование бросало на штурм все новые и новые дивизии. Части, побывавшие в боях с моряками, не отводили в тыл на переформирование — некого было отводить. Но и в батальонах, оборонявших город, с каждым днем становилось все меньше бойцов. Армады «юнкерсов» день и ночь висели над морем, обрушиваясь на суда, идущие к осажденному городу. Уже давно под госпитали были отведены все уцелевшие здания школ, клубов, гостиниц. Теперь раненых размещали в опустевших магазинах, большие окна которых были наглухо заложены мешками с песком. Галка работала в госпитале вначале санитаркой, а потом медсестрой. Ежедневно по 16-17 часов — в палатах, где на узких, тесно наставленных кроватях метались в бреду тяжелораненые; в перевязочных, где все было пропитано удушливым запахом крови и лекарств; в операционных, где врачи с серыми от усталости лицами стоя засыпали на те несколько минут, за которые со столов снимали забинтованных, притихших людей, а на их место укладывали других — в окровавленных солдатских гимнастерках, в полосатых сине-белых тельняшках. Порой ей казалось, что не месяцы, а годы отделяют ее от той самоуверенной и по-мальчишески упрямой девицы, какой она была еще совсем недавно. Галка изменилась даже внешне: похудела, коротко остригла волосы; ее лицо, всегда смуглое от загара, теперь побледнело; от постоянных недосыпаний под глазами легли тени. Знакомые узнавали Ортынскую только по необычному переливчатому цвету глаз да по стройной, подтянутой фигуре: в высоко подрубленной гимнастерке, охваченной широким офицерским ремнем и начищенных до блеска сапогах. Был особенно тяжелый день. С утра небо затянуло низкими грязно-серыми тучами, с моря дул пронизывающий холодный ветер, и вздыбленные им волны сердито обрушивались на берег. Заглушая рев штормового моря, со стороны Корабельного поселка катился грохот артиллерийской стрельбы. В госпиталь на Канатной непрерывно прибывали раненые. В приемно-распределительном отделении, куда Галка пошла за бинтами для перевязочной, раненые лежали везде: на топчанах, столах, носилках, на матрацах, расстеленных прямо на полу. Кто-то хрипло окликнул ее по имени. Галка решила, что ей послышалось, но проходившая мимо сестра «приемника» дернула девушку за рукав и указала на носилки, которые несли два легкораненых матроса. — Что, певица, своих не признаешь? — с трудом приподнялся на носилках вихрастый старшина второй статьи, в котором Галка узнала Сашку Болбата. Конопатый Сашкин нос заострился, на впалых щеках зловеще разлились синие пятна. Он тяжело дышал. — Опускайте, мальчики, где стоите, — хрипло сказал он товарищам и откинулся на носилки. — Все равно мои пробоины никакая медицина не заделает. — Рано сворачиваешь паруса, Сашок, — попыталась ободрить его Галка. — Мы еще с тобой за гоночным призом пойдем. — Кончилась моя гонка… — Пять штыковых, — тихо сказал Галке сопровождавший Сашку чернявый матрос с забинтованной головой. — Думали, не довезем. — На возьми, Микола, — Сашка протянул чернявому измятую, выгоревшую на солнце бескозырку. — Ты ее вместо мичманки надень. Этих ленточек фрицы как смерти боятся… Хлопцы… — Болбату трудно было говорить: — Нельзя тех гадов в город пускать… Это наш, матросский, город, и мы в ответе за него… Сашка умолк. Потом посмотрел на Галку и слабо усмехнулся. — Вот что, певица… — Он не окончил: темная густая кровь хлынула у него изо рта. Потом два пожилых санитара привычно взяли на руки Сашкино тело и унесли. В каком-то полузабытьи Галка вышла из «приемника». В вестибюле, где находилось эвакуационное отделение госпиталя, кто-то из раненых вполголоса пел на мотив старой матросской песни:* * *
— Вы не хотите эвакуироваться с госпиталем и просите откомандировать вас в морскую пехоту? — Да. Я подала рапорт. Галка с недоумением смотрит на пожилого человека в штатском. Ей кажется, что она где-то уже видела эти прищуренные глаза. — Давно в комсомоле? — С тридцать восьмого. — За что имели выговор? Галка вспыхнула. — Выговор с меня снят. — Знаю. Но все-таки, за что вы его получили? — Это было еще в десятом классе. Меня оскорбил соученик. Я его ударила. — Чем вас обидел товарищ? — Он не был моим товарищем. — Галка хмурит брови. «Что ему надо? — сердито думает она. — Как на допросе». Но вслух отвечает: — Он назвал моего дедушку белогвардейцем. — Может, он имел в виду, что ваш дед был офицером царской службы? — Мой дед был офицером русского флота! В белой армии он никогда не служил. — Знаю. — Собеседник почему-то улыбается. — А если знаете, зачем спрашиваете?! — злится Галка. — Ого! Крутой характер. Дедовский. А вот лицом больше на отца похожа. Человек в штатском встает из-за стола и вразвалку шагает по комнате. По этой походке старого моряка Галка узнает его: Зарудный — секретарь городского комитета партии. — Простите, Иван Матвеевич. — Девушка краснеет. — Хорошо, что узнала. А то я уже думал — ты и меня, как того в десятом классе… — Комиссар госпиталя приказал мне явиться сюда, а к кому — не сказал, — смутившись, бормочет Галка. — Ну добро! — Он подходит к ней и почти силой усаживает в кресло. — Садись, садись. Разговор будет серьезный. Он говорит ей «ты», и это льстит Галке. — Я еще прадеда твоего — контр-адмирала Ортынского помню. Дедушку Семена Петровича отлично знал. С отцом твоим не раз встречался. Правильные люди были. Настоящие русские моряки! Да и ты, говорят, чести Ортынских не роняешь. Зарудный останавливается перед Галкой. — Так вот, Галина Алексеевна…Спустя три часа девушка уже шагала по малознакомой Дмитриевской улице. В широком пальто, в туфлях на низком каблуке. Вошла в подъезд трехэтажного дома. Кажется, здесь. Поднялась по лестнице и постучала в массивную дверь. За дверью шаги. Щелкает замок. — Прошу! — миловидная женщина средних лет жестом приглашает ее в комнаты. Хорошо обставленная большая квартира, навощенные полы, огромный текинский ковер над диваном. — Если не ошибаюсь, — Галина Ортынская? — А вы — Зинаида Григорьевна Адамова? — К вашим услугам. Прошу садиться. Пока Галка брезгливо разглядывает висящую на стене картину фривольного содержания, Зинаида Григорьевна извлекает из вместительного шкафа какие-то коробки, пакеты в целлофане, дамские сумочки всевозможных фасонов, на спинках стульев развешивает платья. — Примерьте этот костюм. По-моему, он будет вам впору, — говорит она Галке. — Обратите внимание — строгий английский покрой. Сейчас это модно на Западе. Галка послушно надевает костюм. — Неплохо. Здесь придется немного убрать. — В руках Зинаиды Григорьевны появляется портновский мелок. — Юбку надо укоротить. Прекрасно. Теперь оденьте это платье… Вас смущает декольте? Но это — вечерний туалет!.. Хорошо, я немного подниму вырез. — А совсем закрыть его нельзя? — Нельзя! — сердится Зинаида Григорьевна. Она говорит безапелляционным тоном избалованной заказчицами портнихи. — Файдешиновое не мерьте. Я уже знаю, как вам его исправить. Набросьте панбархатное. И снимите же, наконец, ваши допотопные туфли! Возьмите те, лаковые. — Настоящие ходули! — ужасается Галка. — Обыкновенный французский каблук, — пожимает плечами Зинаида Григорьевна. За платьями и туфлями следуют шляпы, белье, халаты, плащи. Галка еще никогда не видела столько дорогих и красивых вещей. Клейма иностранных фирм мелькают перед глазами. Но когда Зинаида Григорьевна извлекает из резной шкатулки золотой браслет старинной работы, кулоны, серьги, кольца с драгоценными камнями, — у Галки невольно срывается с языка: — Но послушайте, откуда это все у меня? — В дворянских семьях драгоценности переходили из поколения в поколение, — невозмутимо отвечает хозяйка. — Нет ничего удивительного в том, что, скажем, этот браслет когда-то носила ваша прабабушка-адмиральша. А туалеты привозил вам отец из-за границы. Ведь он бывал во многих иностранных портах. Галка краснеет — поделом ей, чтобы не задавала впредь глупых вопросов! — Но это еще не все, — продолжает Зинаида Григорьевна, кладя на стол пачки кредиток. — Вот итальянские лиры, это — рейхсмарки, а это — румынские леи. Да, да! Ваш отец был дальновидный человек. Он предвидел события. Тоскливая боль сжимает Галкино сердце. Отец! Он шел по жизни, высоко держа голову. Многие считали его гордецом, и фатом. Но он никогда не был фатом. А гордость… Он любил свой корабль, свое море, свой народ, любил жизнь. И гордость его была от этой любви. Он не склонил головы даже под прицелом торпедных аппаратов… А сейчас где-то среди полусгоревших портовых документов лежит «радиограмма» с теплохода «Казахстан»: «Команда отказалась выполнить малодушный приказ капитана Ортынского и открыла кингстоны, предпочитая гибель позорному плену. Старпом Шахов». Это неправда! Последняя, настоящая радиограмма с теплохода — та, которую однажды показал ей Леонид Борисович Гордеев, — изъята. Так нужно! «Пойми, отец, так нужно!» — шепчет Галка. Кутаясь в воротник легкого пальто, она идет против колючего холодного ветра; идет по безлюдному проспекту лейтенанта Шмидта, мимо обгоревших, разрушенных домов с пустыми глазницами выбитых окон; идет по развороченной снарядами мостовой; идет по израненному, опаленному пожарами родному городу. В ее сумочке лежат пачки иностранных денег, золотые браслеты, бриллиантовые серьги. Завтра ей домой тайком принесут модные платья, английские костюмы, французские туфли. Завтра Галка перестанет существовать. Появится внучка потомственного русского дворянина, дочь непутёвого красавца капитана, не дожившего до «лучших времен», — Галина Алексеевна Ортынская. Так нужно!
* * *
В сумерки Галка вышла из дому и долго сидела в палисаднике у самой ограды, чутко прислушиваясь к отдаленной ружейно-пулеметной стрельбе. Уже совсем стемнело, когда в конце улицы раздались шаги людей. За железными прутьями ограды Галка различила силуэты. И хотя люди шли в темноте молча, не соблюдая строя, она сразу поняла, что идут бойцы. Они шли к порту. То тут, то там вспыхивали огоньки самокруток, глухо стучали по мостовой солдатские ботинки. Звякнул чей-то котелок, кто-то зло выругался. И опять — безмолвие. Только дробный стук тяжелых ботинок по мостовой. И вдруг совсем рядом чей-то громкий шепот: — Значит, драпаем, Лева? — Иди к черту! — Нет, ты скажи, почему мы уходим? — Приказ такой. — А в приказе говорится о тех детях, женщинах и стариках, которые в городе остаются? — Да что ты, кашалот, из меня душу тянешь?! Отойди! А то по башке дам! И снова молчание. Только глухой стук шагов. Уходят… На какое-то мгновение Галке становится страшно. Уходят свои — товарищи, черноморцы, бойцы ее армии. Может быть, уже этой ночью в город войдут фашисты. «Сверхлюди» — безжалостные, наглые, опьяненные победой. Так они входили в Прагу, Варшаву, Париж… Впрочем, не совсем так. Десятки тысяч солдат в серо-зеленых мундирах навсегда остались лежать среди скал Корабельного поселка, у подножия Турецкого кургана, на подступах к Западному предместью… Галка вспоминает слова Зарудного: «Битва за город не окончена. Она продолжается там, где сражаются наши армии; там, где сейчас сподручнее бить врага. В самом городе мы тоже не складываем оружия. Ни на день, ни на час, ни на минуту оккупанты не найдут здесь покоя. И в том мы клянемся нашему народу!» Такую клятву дала и она — комсомолка Галина Ортынская.* * *
На фасаде общежития мореходного училища — приказы немецкого командования, еще влажные от клея. Крупным жирным шрифтом — обращение начальника гарнизона и порта вице-адмирала Рейнгардта. Адмирал поздравляет жителей с освобождением от «большевистского ига» и призывает население к спокойствию. Он не скупится на пышные фразы и заверяет граждан, что немецкое командование в самый короткий срок нормализует жизнь города. Чуть пониже адмиральского обращения шрифтом помельче — приказ начальника полиции. Начальнику полиции чужд высокий «штиль» адмирала — в приказе коротко и ясно говорится о мероприятиях немецкого командования по «нормализации» жизни города: всем военнослужащим Красной Армии и коммунистам в двухдневный срок явиться в помещение крытого рынка; комсомольцам в тот же срок зарегистрироваться в городской управе; евреи переселяются в гетто; в городе вводится комендантский час; все огнестрельное и холодное оружие подлежит немедленной сдаче в комендатуру; въезд и выезд из города, а также выход рыбаков в море на ловлю — только по особому разрешению; за неисполнение вышеуказанного — расстрел на месте. Несколько женщин, подросток в тельняшке под распахнутой курткой и сутулый, неопределенного возраста мужчина в старомодном сюртуке читают обращение и приказ. — Немец порядок любит, — замечает мужчина в сюртуке. — Ему главное — не прекословь. Страсть как не терпит возражений. — У Кривенков из двадцать первого дома девочку четырнадцатилетнюю солдаты испоганили, — говорит пожилая женщина в платке. — По-вашему, значит, тем солдатам тоже возразить нельзя? — Конфуз у любой власти случиться может, — поучает мужчина. — Только злить ту власть все одно не следует. Галка проходит мимо мужчины и как бы невзначай толкает его плечом. Мужчина шарахается к стене. Испуганно таращит глаза. — Пардон! — небрежно роняет Галка. — Я хочу объявление посмотреть. Женщины молча и недоуменно разглядывают девушку — в модном пальто и туфлях на необыкновенно высоких каблуках. Мужчина в сюртуке, кряхтя, потирает ушибленный бок, но тоже молчит. Галка чувствует на себе пристальные взгляды, однако делает вид, что ее интересуют только приказы. К общежитию мореходного училища подкатывает мотоциклет с коляской. За рулем — немецкий солдат, в коляске — плотный широколицый человек в темной тужурке с черными погонами. Широколицый вытаскивает из коляски ведерко с клеем, идет прямо на небольшую толпу. Все расступаются, а мужчина в сюртуке быстро срывает свою фуражку и кланяется. — Ивану Корнеевичу, наше почтение. Широколицый с достоинством кивает головой. — «Полицай» — слышит Галка шепот пожилой женщины. Под немецкими приказами полицейский наклеивает какой-то новый листок. — Распоряжение бургомистра господина Логунова, — поясняет он. — Насчет частной торговли. Значит, кто коммерцию открывать собирается — милости просим, только полицию о том известите. Худощавая женщина читает вслух: — «По распоряжению немецкого командования сего числа я назначен бургомистром города…» «Логунов?! Неужели — Альберт Иванович? — думает Галка. — Может, однофамилец?» Она уже подходила к дому, когда ее окликнул толстый, похожий на колобок мужчина. Это сосед Ортынских — Крахмалюк, бывший саксофонист из ресторанного джаз-оркестра, недавно выпущенный из тюрьмы, где он сидел за спекуляцию. Круглое безбровое лицо Крахмалюка расплывается в улыбке. — Галочка, я счастлив лицезреть вас. О, вы неотразимы в этом пальто. Какой материал! Где достали, если не секрет? Впрочем, я понимаю, вам сейчас не до этого. — Крахмалюк шумно вздохнул и прижал руки к пруди. — Поверьте, я искренне сочувствую. У меня, знаете, просто волосы дыбом поднялись, когда я прочел об этой истории. Ах, какой человек был ваш отец! Галка ничего не поняла, но болтовня Крахмалюка насторожила ее. При чем тут отец? — Как? Вы еще не читали? — Крахмалюк извлек из кармана тщательно сложенный газетный листок. Это первый номер «Свободного вестника» — двухполосной газетенки, издаваемой городской управой с дозволения оккупационных властей. — На обороте вверху. Вот здесь. — «Трагедия в море. Еще один факт большевистского изуверства», — прочла Галка заголовок небольшой статейки. — «Только теперь стали известны обстоятельства гибели теплохода «Казахстан». В архивах порта удалось обнаружить секретные документы, раскрывающие подлинную картину трагедии, разыгравшейся в открытом море. В первые же часы войны радисты немецкого военного корабля С-35 перехватили радиограмму политического отдела большевистского пароходства, адресованную капитану «Казахстана». Этой радиограммой предписывалось немедленно потопить красавец теплоход, поскольку последний находился в территориальных водах румынского королевства, объявившего войну большевикам. Немецкие моряки, узнав об этом ужасном приказе, поспешили на помощь обреченному «Казахстану» и его несчастной команде, Между тем на теплоходе разыгралась потрясающая трагедия. Капитан теплохода Алексей Ортынский, единственный сын некогда блестящего флотского офицера, павшего жертвой ЧК, разумеется, не мог выполнить приказ политического отдела и велел идти в румынский порт, чтобы спасти теплоход и команду. Однако заместитель Ортынского по политической части Шахов, выведав о приказе политотдела, с горсткой фанатиков-коммунистов ворвался в каюту Ортынского и зверски расправился с благородным капитаном. Затем Шахов обманным путем заманил команду теплохода в трюмы и запер ее там. Немецкий военный корабль опоздал всего на несколько минут. Но этого времени Шахову было достаточно, чтобы открыть люки затопления. На глазах потрясенных немецких моряков теплоход быстро погрузился под воду. Шахов пытался бежать на моторном катере…» Галка с трудом подавила желание скомкать и швырнуть газету под ноги. «Подлецы! Даже врать как следует не умеют, — мысленно негодовала она, — открытое море с территориальными водами путают; беспартийного Шахова замполитом сделали; мерзавцев, расстрелявших безоружных людей в шлюпках, спасителями представили». Она опустила глаза, чтобы Крахмалюк не заметил вспыхнувшего в них гнева. К счастью, бывший джазист не отличался наблюдательностью… Едва Галка кончила читать, как он заговорил: — Ах, Алексей Семенович, Алексей Семенович! Какой был мужчина! Бог ты мой! Помню, однажды появился он у нас в «Прибое». Высокий, красивый, в кремовом костюме чистого шевиота с золотым шитьем на рукавах. Женщины были потрясены. Нинка Пустовойтова как раз пела из «Периколы» — это, знаете, «Какой обед нам подавали!..» И вот она, увидев вашего родителя, просто одурела: вместо верхнего «ля» взяла нижнее «до»… Кстати, Нинка эта сейчас вертит Логуновым, как хочет. Говорят, она его бургомистром сделала… Галка почувствовала, как горят щеки. — Пустовойтова? — машинально переспросила она. — Ну, да — Нинка. Вы должны ее знать. Она с вашим отцом… — Да, да, — поспешно перебила его Галка, — мы знакомы с ней. А Логунов, это какой? — Боже мой, неужто вы Альберта Ивановича, бывшего директора театра, не знаете?! Между нами говоря, он совсем не подходит для роли бургомистра. Тряпка и ужаснейший трус. Поповского происхождения. В девятнадцатом году в кафешантане выступал, что потом, при большевиках, тщательноскрывал. Но немцы это за большую заслугу не считают. И только благодаря Нинке Пустовойтовой он в бургомистры попал. Она, скажу я вам, настоящий черт. Немецкие офицеры за ней целыми батальонами волочатся. И она везде успевает. Ну, да бог с ней. Вы, Галочка, послушайте разумный совет. Поскольку сейчас статья о вашем родителе появилась, вы можете получить субсидию как пострадавшая при большевиках. Я знаю Логунова и могу помочь вам. Нет, серьезно! Джентльменское соглашение: мне — 25 процентов за посредничество, и ваше дело в шляпе. Получите новенькими оккупационными марками. — Не стоит вам утруждать себя, — усмехнулась Галка. — С господином бургомистром я хорошо знакома. А за совет — спасибо.* * *
Секретарь бургомистра — молодой, рано облысевший человек — с удивлением смотрит, как девица в модном пальто бесцеремонно кладет на его стол сумочку и начинает медленно снимать перчатки. — Я — Ортынская. Доложите обо мне бургомистру, — не здороваясь, говорит она. — По какому вопросу? Галка не отвечает. Она всецело занята своими перчатками. Наконец она стягивает их и не глядя бросает на стол, почти перед самым носом секретаря. Молодой человек с лысиной как-то бочком подымается с места и, почтительно косясь на Галку, идет в кабинет бургомистра. «А что если Логунов не помнит мою фамилию?» — думает Галка. Но вот молодой человек появляется в дверях. — Прошу, госпожа Ортынская. Разрешите ваше пальто. В конце длинной комнаты — огромный письменный стол. За массивным чернильным прибором едва видна стриженая голова бывшего директора театра. У стола в глубоком кресле сидит претенциозно одетая молодая женщина. Пышный рыжеватый чуб картинно нависает над ее лбом, полные влажные губы ярко накрашены, на плечах — горностаевое боа. Галка едва узнает ее. Нина Пустовойтова и раньше не отличалась скромностью туалетов, а сейчас она напоминает героиню из легкомысленной оперетты: кружевные перчатки до локтя, сверкающие серьги в ушах, облегающее платье… В свою очередь Пустовойтова с любопытством разглядывает Галку. Логунов встает из-за стола, подходит к девушке и с чувством собственного достоинства прикладывается к ее руке. — Нина Васильевна, рекомендую мою ученицу. Великолепное меццо-сопрано. Природная постановка голоса. Пустовойтова делает вид, что только сейчас узнала Галку, вскакивает, обнимает ее. — Галя, девочка моя! Как ты повзрослела. А я только вспоминала о тебе. Ты уже читала газету? — Да. — Какое несчастье! Бедный Алексей. Шахов всегда был негодяем. — Она достает из перчатки батистовый платочек, осторожно подносит к глазам. — Я вижу, вы знакомы, — говорит Логунов. — Еще бы, — уже улыбается Нина. — Мы, можно сказать, почти родственницы. Не так ли, Галя? Галка молчит. Пустовойтова прячет улыбку. — Ну, как живешь? Рассказывай. Я тебя не видела целую вечность. Ты похорошела, стала интересной. Не правда ли, Альберт, она очень эффектна? — Я бы сказал — красива, — подхватил тот. — Ты находишь? — голос Нины черствеет. Логунов бормочет что-то невнятное. — У тебя какое-то дело? — спрашивает Пустовойтова Галку. — Я хотела просить Альберта Ивановича помочь мне зарегистрировать паспорт. В городской управе ко всему придираются. Усмешка кривит полные губы Пустовойтовой. — Ну, конечно, ты только хотела получить от новых властей вид на жительство и избежать неприятностей, связанных с твоей службой в красноармейском госпитале. — А что ты думаешь? — пытается вмешаться Логунов. — Это очень серьезно. При всем моем уважении к памяти отца Галины Алексеевны я не знаю, смогу ли помочь ей. — Он хочет, чтобы ты пришла к нему еще раз, — говорит Пустовойтова. — Желательно вечерком, когда, скажем, не будет меня. — Нина! — Помолчи-ка лучше, господин бургомистр. Или вот что. Возьми у Галины паспорт и пойди к Мюллеру, оформи, что нужно. А мы пока поболтаем о том, о сем. Логунов послушно взял Галкин паспорт и, пробормотав извинения, вышел из кабинета. Едва за ним закрылась дверь, Пустовойтова подошла к девушке и бесцеремонно начала разглядывать ее. — Строгий английский костюм, — комментирует она, — но фигура подчеркнута. А подчеркивать есть что! Прическа в меру скромна. Губки не накрашены. Да к чему их красить — мы еще так свежи! Французский каблучок, литой старинный браслет… Милая девушка из приличной и состоятельной семьи. На мужчин средних лет это действует безотказно. Браво, Галина Алексеевна! — Уверяю вас, Нина, я не собираюсь никого покорять, — пытается улыбнуться Галка. — Ой ли! Я не так наивна, чтобы поверить этому лепету о паспорте. После того как появилась статья о твоем отце, тебе не было нужды прибегать к покровительству бургомистра. Немцы не станут преследовать дочь и внучку людей, пострадавших от большевиков. И ты это понимаешь не хуже меня. Короче, зачем ты пришла сюда? Только откровенно! — Я хочу устроиться на приличную работу, — говорит Галка понимая, что с Пустовойтовой лучше не спорить. — В городе трудно с продуктами. Меня интересует паек. — И только? — И только. — Ну, если это так, то я охотно помогу тебе. Ты, кажется, знаешь итальянский язык? — Да. Я, можно сказать, на 25 процентов итальянка. Но, кроме итальянского, знаю немецкий… — Немецким владею я. Ты меня поняла? — Поняла, — невольно усмехается девушка. — Однако… — Никаких «однако». — Пустовойтова небрежно бросает на стол меховую накидку и по-хозяйски снимает телефонную трубку: — Господин Хюбе?.. Да — я… Благодарю вас… О, даже так! На это я вам отвечу несколько позже. А пока у меня к вам дело. Помните, вы просили найти переводчика для полковника Стадерини?.. Вы угадали, я нашла подходящего человека… Галина Ортынская… Нет, не жена — дочь того капитана. Да, я рекомендую ее… Значит, она может обратиться к Стадерини от вашего имени?.. Благодарю. Я еще позвоню вам сегодня.* * *
Вот уже три месяца Галка работает в итальянской комендатуре. Официально она числится переводчицей коменданта — полковника Стадерини, но фактически к ее услугам прибегают многие офицеры итальянского гарнизона. Если среди немцев немало военнослужащих, более или менее сносно владеющих русским языком, то из итальянцев только Стадерини пытается говорить по-русски. Правда, он с таким же успехом мог бы изъясняться по-японски — все равно его никто не понимает. Неудивительно, что его уважение к молодой переводчице растет с каждым днем. Комендант оказывает синьорине Галине знаки внимания: ежедневно в восемь часов утра присылает за ней свой потрепанный «фиат». Огромный, похожий на растолстевшего борца, Стадерини не прочь поухаживать за хорошенькой переводчицей, но он слишком нуждается в ее помощи и не хочет усложнять отношений. Во все свои поездки по городу полковник неизменно берет Галку. Ее рабочий день загружен до предела: Стадерини надо побывать в городской управе, где он потребует рабочих для ремонта казарм и выяснит экономическое положение близлежащих сел; его интересует курс лиры на черном рынке; ему надо непременно заглянуть во все скупочные и комиссионные магазины, прицениться к мехам — полковника они очень интересуют — ну и заодно узнать домашний адрес кокетливой продавщицы. Да мало ли у итальянского коменданта дел, в которых синьорина Галина ему нужна как воздух! Стадерини доверяет ей, — как-никак в ее жилах течет кровь славных квиритов. Он уже не раз жаловался Галке на немцев. Эти фрицы буквально игнорируют своих союзников — итальянцев: мало того, что немецкий комендант забрал всю полноту власти в городе, он еще отказывается снабжать союзников самым необходимым. Только подумайте: все заведения с девочками открыты в зоне расположения немецких подразделений, все комиссионные и скупочные магазины — там же, даже базар находится под контролем немцев. А вчера — какое свинство — эта старая галоша — адмирал Рейнгардт запретил разгружать вагоны, прибывшие в адрес итальянского гарнизона, и приказал отправить их на фронт. Какое ему дело, что большинство итальянских частей ушло на восток! Это вино следовало в адрес итальянского гарнизона и должно быть выдано ему — итальянскому коменданту… Галка сочувственно кивает головой. Но, делая вид, что слушает полковника, она думает о другом. Прошло немного больше трех месяцев, как оккупанты вошли в город, а кажется, что миновало три года. Время зимой вообще тянется медленно, а эта зима была особенной. Холодный колючий дождь сменялся липким снегом, снег — дождем. И — ветры, ветры, ветры… Остервенело воя, они врывались через разбитые окна в нетопленные квартиры, рвали обледенелые провода, сбрасывали на мостовые остатки крыш с разбитых домов. Но люди не отчаивались: весть о поражении немцев под Москвой с удивительной быстротой облетела город. Бравурный тон геббельсовских передач уже не обманывал никого. Салютом Красной Армии в день ее юбилея прогремел взрыв бензохранилища в Западном предместье. На перегонах летели под откос эшелоны с фашистскими солдатами, техникой и боеприпасами. По ночам из Старых каменоломен выходили партизаны, и тогда в Корабельном поселке до рассвета не затихала стрельба. А наутро фашисты хоронили еще несколько десятков своих солдат и офицеров. Зарудный сказал правду — оккупанты не обрели покоя в захваченном ими городе. Но именно поэтому Галка не находила себе места: ей казалось, что она стоит в стороне от борьбы. Она все чаще и чаще думала о том, что не справилась с полученным заданием — войти в доверие к оккупантам. Она хорошо помнила, как Зарудный, наставляя ее, сказал: «Постарайся устроиться в какое-нибудь учреждение, имеющее отношение к морским делам. Фашисты придают огромное значение нашему порту. Через него они надеются снабжать свои южные армии румынским бензином, без которого их хваленая техника мертва. Не исключено, что здесь будут базироваться их подводные лодки. Нам нужны свои люди в порту». И вот она — в совершенно «сухопутной» итальянской комендатуре. Казалось бы, мелочь, ерунда — встреча у бургомистра с продажной певичкой. А как все обернулось! Теперь Галка вынуждена довольствоваться ролью переводчицы полковника Стадерини. И мало толку в том, что она неплохо исполняет эту роль. Власть итальянского коменданта распространяется на небольшой окраинный сектор города. Второстепенные сведения, не представляющие особого интереса документы — вот все, что она раздобыла для подполья. Но сегодня Галка выполняла «настоящее» задание. Правда, она не знала, для чего подпольщикам понадобился «фиат» итальянского коменданта — хозяйка небольшого ателье на Дмитриевской улице не любит отвечать на вопросы, — но скрупулезность полученных указаний и сам тон, которым Зинаида Григорьевна говорила вчера с Галкой, показались девушке необычными. Первая часть задания была несложной. Шофер полковника Стадерини — плутоватый и словоохотливый Луиджи — нередко отвозил Галку домой, и просьба переводчицы не удивила его, а бумажка в десять марок положила конец его колебаниям… На одной из пыльных улиц Западного предместья Галка увидела покосившуюся водопроводную колонку и попросила Луиджи остановить машину. — Я мигом, — сказала она. — Только передам тетушке деньги и вернусь. — Знаю этот миг, — хмыкнул Луиджи. — От тетушек не так-то просто отделаться. Жду вас пятнадцать минут — не больше. Галка обещала не задерживаться и вошла во двор грязно-серого дома. Минут через десять она вернулась к машине. Еще издали она заметила, что в кабине рядом с Луиджи сидит какой-то мужчина. Когда Галка открыла заднюю дверцу, шофер обернулся. — Этот синьор просит подвезти его в город. Не возражаете? — Пожалуйста, Луиджи. Ведь это ваш заработок. — О синьорина, разве пятнадцать марок заработок! — Да, конечно, — отозвалась Галка, подумав, что шофер, наверно, взял с пассажира все пятьдесят марок. Больше пятидесяти давать не следовало — щедрость обычно настораживала, — и Галка предупредила об этом Зинаиду Григорьевну. Девушку интересовал «попутный» пассажир. Она не знала его. Ей было только сказано, что в условленном месте, куда она должна «подогнать» машину, к шоферу обратится человек в сером пальто и попросит подвезти его в город. От Галки ничего не требовалось. И все же она надеялась, что ее услуги понадобятся пассажиру. Она не могла примириться с мыслью, что ее участие в деле сведено к роли «подгонщика». Но пассажир, видимо, не нуждался в Галкиной помощи — за всю дорогу он ни разу не взглянул на девушку. Галка сразу обратила внимание на большой черный чемодан, что стоял в проходе между сидениями у самых ее ног. Чемодан был тяжелый. Она убедилась в этом, когда украдкой попыталась сдвинуть его ногой: от напряжения у нее даже затекла нога, а чемодан как будто прирос к месту. И тогда она поняла, что вся история с машиной затеяна из-за этого вот чемодана. Галка стала гадать, что может быть в чемодане. Оружие, типографский станок, рация? Галке хотелось, чтобы в чемодане оказалось оружие — это в какой-то мере примирило бы ее со скромной ролью «подгонщицы». Переброска оружия! К концу пути Галка была почти уверена, что чемодан до отказа набит гранатами. Она даже невольно отодвинулась подальше — чем черт не шутит, взорвутся еще. Но в извилистом переулке за старым рынком пассажир, выйдя из машины, довольно небрежно, хотя и с видимым усилием взял чемодан: дернул на себя и со стуком поставил на тротуар. — Вот и все, — не глядя на Галку, сказал он и на ломаном немецком языке поблагодарил шофера. «Вот и все», — повторила про себя Галка и с досады прикусила губу. Однако досада не помешала ей заморочить голову Луиджи, когда тот неуверенно выбирался из лабиринта узких улочек старой части города. Нарочно сбивая его с дороги, она направляла машину в многочисленные тупики. А когда Луиджи, чертыхаясь, наконец-то выехал на Приморский бульвар, Галка уже не сомневалась, что он не запомнил дорогу. И хотя она сделала это по собственной инициативе, досада не исчезла. Девушка не задумывалась над тем, что бы произошло, если бы по дороге из Западного предместья машину остановили патрули и поинтересовались багажом «попутного» пассажира. А ведь тогда полиция непременно дозналась бы, что никакой тетушки в Западном предместье у Галки нет и что те десять минут, которые машина стояла на пыльной улице у покосившейся воде проводной колонки, Галка разыскивала в ближайшем дворе какую-то несуществующую модистку Катю. Но девушка не думала об этом — она кусала губы: тоже называется задание! На протяжении нескольких дней ее преследовала довольно нелепая мысль, что подпольщики тяготятся ею и что Зинаида Григорьевна время от времени дает ей малозначительные задания только для того, чтобы отвязаться от нее… После работы Галка зашла к портнихе. Пришлось примерить еще одно новое платье. Руки Зинаиды Григорьевны проворно снуют среди оборок и складок. — Ты немного поправилась, — говорит она. Галка готова провалиться: в городе люди голодают, а она толстеет на итальянском пайке. И почему бы ей не поправляться — работа у нее нетрудная, безопасная. Так, наверно, думает Зинаида Григорьевна. — Ты не знаешь, — неожиданно спрашивает Зинаида Григорьевна, — почему вчера итальянские солдаты на Черноморской улице срывали немецкие приказы, а наши листовки не трогали? Галка краснеет. Она только сейчас начинает понимать, что с ее стороны было ребячеством заморочить голову молоденькому лейтенанту — начальнику патруля, которому Стадерини поручил очистить стены домов от листовок. Воззвания подпольного комитета были наклеены рядом с приказами немецкого коменданта, а для того чтобы оккупанты не сразу забили тревогу, листовки были набраны таким же шрифтом и отпечатаны на такой же бумаге, что и фашистские приказы, даже имперский орел в несколько измененном виде был нарисован на этих листовках. Не зная русского языка, по внешнему виду трудно было отличить листовку от приказа. На это и рассчитывала Галка, когда в присутствии полковника Стадерини объясняла не очень сообразительному лейтенанту, какие бумажки он должен срывать с домов, какие — ни в коем случае не трогать. Тут же для наглядности полковник вручил начальнику патруля одну листовку, и только Галка знает, каким чудом вместо листовки в кармане лейтенанта оказался приказ немецкого коменданта….. — Девчонка! — почти не размыкая губ, говорит Зинаида Григорьевна. — Не меня одну — десятки людей ты ставишь под удар. — Но они ничего не заподозрили, — пытается оправдаться Галка. — А ты уверена в этом? Думаешь, если тебя не схватили сразу, то они ничего не поняли? Дураками их считаешь! А знаешь ли, что по правилам конспирации мне сейчас из города исчезнуть надо, а тебя… — Делайте со мной, что хотите, — бледнея, говорит Галка, — но, верьте, я не подвела вас.. — Не знаю, — жестко бросает Зинаида Григорьевна и, забрав платье, выходит из кабины. Галка устало прислоняется лбом к холодному зеркалу. — Ну вот, я переставила рукав, — раздается за ее спиной голос хозяйки ателье. — Сейчас должно быть хорошо. Необходимо срочно достать медикаменты, — понижает голос Зинаида Григорьевна, расправляя складки Галкиного платья. — Йод, бинты, стрептоцид. Деньги у тебя есть. Но смотри, без всяких «художеств». Будь осторожна. Никогда еще Галка с такой охотой не примеряла платье.* * *
Легко сказать: «Достань в оккупированном городе несколько литров йоду и тысячу метров бинта». Частные аптеки отпадают. Не потому, что за ними наблюдают агенты полиции, а потому что в этих аптеках, кроме слабительного, ничего нет. На базаре у мелких спекулянтов можно купить из-под полы индивидуальные пакеты. Но три–четыре или даже десять пакетов — не решение вопроса. А что если обратиться к Крахмалюку? Через него, говорят, все можно достать. Правда, бывший джазист не задумываясь продаст и Галку, если ему побольше заплатят. Нет, к его услугам она прибегнет лишь в крайнем случае. Зинаида Григорьевна права — надо быть осторожной. Галка попыталась использовать свои знакомства среди итальянских офицеров. Риск был невелик. Не избалованные победами и трофеями, вынужденные довольствоваться подачками не особенно щедрых немецких союзников, доблестные воины дуче весьма активно занимались коммерцией, нередко пуская в оборот казенное имущество. И если солдаты продавали на рынке краденые сигареты, мыло и консервы, то офицеры «уступали» перекупщикам мошеннически списанное с учета обмундирование, спирт, бензин и даже фураж. При таких сделках, разумеется, лишние вопросы не задавались. Однако Галке не повезло. Единственный врач-итальянец, которого она знала, оказался пьяницей и жуликом. Он заверил Галку, что достанет все необходимое, взял задаток и… пропил его. На следующий день он ничего не помнил или делал вид, что не помнит. Однако именно этот забулдыга от медицины направил к Галке Вильму Мартинелли… В конце рабочего дня к Галкиному столу в приемной коменданта подошла молодая женщина в плаще; шумно сбросила мокрый капюшон — на улице только прошел дождь — и тряхнула пышными, коротко подстриженными волосами. Женщина слегка наклонилась к Галке. — Простите, я не помешаю? — Слушаю вас, синьора. — Увы, пока синьорина, — рассмеялась женщина. — Никто замуж не берет. — Разрешите вам не поверить, — невольно улыбнулась Галка. — Мужчины не долго раздумывают, когда встречают таких красивых девушек, как вы. Галка говорила искренне. Итальянка была хороша собой: правильные черты нежного лица, ослепительно белые зубы, стройная крепкая фигура. Ее немного портила твердая, почти мужская походка и многочисленные жесты, которыми она сопровождала каждое слово. — Мужчина мужчине рознь, — весело подмигнула итальянка и тут же протянула Галке руку. — Старший лейтенант Вильма Мартинелли — военный врач. Мне о вас говорил доктор Туроти из гарнизонного госпиталя. Галка обрадовалась и насторожилась одновременно. Не новая ли это афера Туроти? Но Мартинелли не походила на сообщницу старого пропойцы. — Наши офицеры, вероятно, замучили вас, — кивая на лежащие перед Галкой документы, говорила Вильма. — Но что поделаешь — итальянцам трудно осилить русский язык. Вообще у вас странная родина, синьорина. Чужеземцам здесь все дается с большим трудом — и язык, и города. Порой мне кажется, что, даже владея языком, не так-то просто договориться с местными жителями. А что делать тем, кто вообще не смыслит ни слова по-русски? Вчера в ресторане я полчаса объясняла официанту, что хочу выпить бокал сухого вина, а в итоге он принес мне наливки. Из комендатуры они вышли вместе. Немного смущаясь, итальянка попросила Галку зайти с ней в один–два магазина — с продавцами так трудно объясняться. О медикаментах девушка даже не вспоминала. Вначале Галке казалось, что итальянка хитрит, но вскоре убедилась, что та ничего не знает. Вильму интересовали только магазины. Но в отличие от полковника Стадерини, она ничего не покупала. Галка уже несколько раз замечала, как, осмотрев ту или иную вещь, Вильма с сожалением возвращала ее продавцам. — Дорого, — сказала она Галке, когда они вышли на улицу. — Но если синьорина хочет купить то платье, я могу занять ей денег, — предложила Галка. — Не люблю делать долги, — улыбнулась Мартинелли. — У меня дурная привычка — возвращать их. И прошу вас, не обращайтесь ко мне так официально. Зовите меня Вильмой. А еще лучше — перейдем на «ты». Договорились? — Договорились. — Мои старики совсем вышли из строя, — беря Галку об руку, доверительно рассказывала Вильма. — Богатства у нас никогда не было — жили на зарплату отца. Жили неплохо, пока не началась война. Ты не представляешь, как сейчас трудно в Италии тем, кто живет честным трудом. Цены растут из месяца в месяц, а пайки урезывают с каждым днем. Многие буквально голодают. Я отсылаю домой почти всю свою зарплату. А мне так хочется иметь хотя бы пару хороших платьев. Жизнь остается жизнью даже на войне. Конечно, я могла бы иметь деньги и наряды. Этот вице-осел в адмиральской попоне — Рейнгардт так и липнет ко мне. Кроме меня, никаких врачей не признает. Старая перечница! Ты не подумай, что я святая. Если мне нравится человек, то я плюю на всякие условности. Только вот беда — мне всегда нравятся те, у кого пустой карман. — Сейчас некоторые офицеры научились добывать деньги, — осторожно вставила Галка. — Ну, это наука несложная — грабить жителей и обирать пленных, — криво усмехнулась Вильма. — Ты советуешь мне следовать их примеру? — Ты меня не поняла! — вспыхнула Галка, но тут же взяла себя в руки. — Я говорю о тех, кто занимается коммерцией. Между нами говоря, кое-кто из высокопоставленных лиц, не без выгоды для себя, продает на рынке списанное с учета обмундирование, фураж и даже продукты. — Интересно, кто же этим занимается? — оживилась Вильма. — Уж не сам ли Стадерини? — Ну сам он, конечно, на базар не ездит… — Забавно! — рассмеялась Вильма. — Военный комендант в роли торговца тряпьем. Бегемот-старьевщик. Ну хорошо. Этот толстяк Стадерини может продавать залежалое обмундирование, — снова помрачнела она. — Но что продать мне? Резиновые клистиры или пипетки? — Мне как-то один человек говорил, что он купил бы йод, бинты и стрептоцид, — как можно равнодушнее сказала Галка. — На рынке эти предметы сейчас поднялись в цене. — Ты серьезно? — остановилась Вильма. — Так он мне сказал. — Где можно найти этого человека? — Я точно не знаю, — замялась Галка. — Жаль, — разочарованно вздохнула Вильма. — У меня есть несколько сот неучтенных индивидуальных пакетов. Пару литров йода я бы тоже нашла. А стрептоцидом могу целую армию обеспечить. — Но тебе может попасть, — ликуя втайне, сказала Галка. — Ерунда! Запас медикаментов у меня сверх нормы. А потом, наши ребята не так уж часто прибегают к моей помощи. — Но вас могут отправить на фронт. — Мы воюем здесь, — как-то странно усмехнулась Вильма. — Только у нас не бывает раненых. Вернее, наши раненые никогда не возвращаются на базу. Море не отдает их… Обрадованная удачей, Галка пропустила мимо ушей последние слова Вильмы. Не обратила она внимания и на то, что под небрежно распахнутым плащом на Мартинелли красовался мундир морского офицера. Потом она долго не могла простить себе эту беспечность… Итальянка не соврала ей. Вечером следующего дня во двор небольшой пекарни, что находилась в Слободском переулке, въехал юркий «пикап». В окно Галка увидела, как из кабины вышел высокий широкоплечий матрос. — Кто это? — спросила она стоящую рядом Вильму. — Сержант Марио Равера. Замечательный парень. — Пожалуй, мне лучше с ним не встречаться. — Не бойся, — рассмеялась Вильма. — Марио не из тех, кто выдает друзей. А он — мой друг. — Вы дружите с шофером? — удивилась Галка. — Марио — не шофер. Он сел за руль по моей просьбе. Для меня он готов на все… Ну, где же твой коммерсант? Прихрамывая, вошел пекарь — немолодой краснолицый мужчина. — Этот, что ли? — спросил он у Галки, показывая палкой в окно. — Степан, Федька! — крикнул он за дверь: — Пособите там господину матросу. — Я пойду скажу Марио, чтобы он выгрузил ящики, — засуетилась Вильма. Когда за ней закрылась дверь, пекарь тихо спросил: — Не продаст нас твоя италийка? — Нет. Она принимает вас за спекулянта. — Ишь, придумала, — усмехнулся пекарь. — Ты ей не очень-то верь. Красивая она больно. А красивые к обману привыкшие. Да и деньги, видать, любит. — У нее тяжелое семейное положение, — неуверенно возразила Галка. — Ну, сбрехать-то ей недолго. Галка не ответила. Она смотрела через окно, как огромный Марио, отстранив грузчиков, сам поднял два больших ящика и легко понес их в дом. Пекарь вышел, но скоро вернулся. — Не обманула покуда твоя Вильма: товар — что надо. Ну, иди. Дожидает она тебя. На улице Вильма попыталась сунуть в Галкин карман часть денег, полученных за медикаменты. А когда Галка наотрез отказалась от комиссионных, итальянка пригласила ее в ресторан. Галка уже не знала, как отделаться от новоявленной подруги. Отказаться от денег, а потом и от ресторана — не слишком ли скромно для барышни из комендатуры! Надо было найти какой-то благовидный предлог. Настроение у Вильмы заметно улучшилось, и она говорила без умолку. Они шли вдоль парапета Приморского бульвара, за гранитным барьером которого начинался крутой спуск к берегу. Перегнувшись через парапет, внизу можно было видеть пристанские сооружения и набережную, а молы и даже внутренний рейд просматривались с любого места бульвара. С тех пор как в полуразрушенном, опустевшем порту однажды появились трубы немецких мониторов и румынских транспортов, Галка старалась обходить бульвар. Она не могла видеть чужие флаги в родной гавани… И вот сейчас, чтобы не смотреть на море, Галка прислушивается к болтовне Вильмы. — Немцы всегда были заносчивы. А сейчас совсем обнаглели. Даже у нас в Италии они ведут себя как хозяева. Правда, среди них есть красивые мужчины. Пойдем в «Бристоль» — увидишь. Там часто бывает один довольно интересный майор. Но он из этих — «чистокровных», а я их терпеть не могу.
Оглушающий взрыв обрывает Вильму. Галка подбежала к гранитному парапету и застыла на месте. То, что она увидела внизу, надолго осталось в ее памяти. Один из двух румынских транспортов, стоящих под парами у девятой пристани, отпрянув от причальной стенки, медленно валился набок в сторону моря. Как гнилые нитки, лопались швартовые. Сорвавшись с креплений на палубе, какие-то машины в чехлах, сметая все на своем пути, летели за борт. С одного из этих предметов соскользнул брезент, и зоркие Галкины глаза увидели падающий в воду танк. Почти невероятным казалось небольшое облачко белого дыма, по-прежнему невозмутимо струящееся из трубы смертельно раненного судна. Истерически взвизгнула опоздавшая сирена. Еще раз. И вот уже весь воздух пронизывают воющие сигналы тревоги. Беспорядочно хлопают зенитки, хотя безоблачное предвечернее небо пусто. По набережной растерянно мечутся фигурки солдат. И вдруг тонущее судно судорожно вздрогнуло всем корпусом и разломалось почти у самой дымовой трубы. Только после этого по барабанным перепонкам ударил чудовищный грохот второго взрыва. — Котлы! Они не успели погасить котлы, и туда хлынула вода, — как сквозь вату, слышит Галка голос Вильмы. — Чистая работа! Но ты посмотри, какое нахальство — прорваться днем через заграждения в укрепленный порт и торпедировать это корыто на виду у всех. А говорили, что у русских не осталось ни одной субмарины! — Думаешь — это подводная лодка?! — взволнованно спрашивает Галка. — Конечно. Классический торпедный удар! Смотри, смотри! Начинается второе действие. Противолодочные катера пошли на охоту. Сейчас будут сбрасывать глубинные бомбы. Интересно, накроют или нет? Хочешь пари? Ставлю десять против одного за то. что немцы не выпустят лодку! Галка готова убить Вильму, но быстро разворачивающиеся события заставляют ее на какое-то время забыть об итальянке. Три немецких сторожевых корабля, словно сорвавшись с привязи, выскакивают откуда-то из-за пирса. Зарываясь форштевнями в воду, они на ходу строятся для атаки. С высоты Приморского бульвара сторожевики кажутся игрушечными, но Галка понимает, как опасны для подводников противолодочные корабли, атакующие на сравнительно небольшой, стиснутой молами акватории порта. Мартинелли от возбуждения пританцовывает на месте. Она, видимо, отлично разбирается в происходящем и с каким-то лихорадочным азартом следит за разрывами глубинных бомб. — Мимо… Мимо… Мимо… — говорит она после каждого взрыва. Несмотря на растущую неприязнь к взбалмошной итальянке, для которой все происходящее сейчас в порту всего лишь забавное зрелище, Галка не может удержаться от вопроса: — Как ты определяешь, что бомбы рвутся впустую? — Долго объяснять, — отмахивается Вильма. — Верь мне на слово. Уж в этом деле я кое-что смыслю. Между тем немецкие корабли, достигнув Южного мола, резко сбавляют ход, кружатся на одном месте, потом неуверенно поворачивают назад. Вильма смеется. — Растерялись фрицы: лодку не могут нащупать. Сейчас опять пойдут в атаку. Но боюсь, что я проиграла пари. Русские подводники, кажется, уже натянули им нос. К девушкам подходит немецкий патруль. — Предъявите документы. Вильма небрежно протягивает офицеру свое удостоверение. Подает паспорт и Галка. Проверив документы, офицер строго говорит: — В городе объявлена тревога. Фрейлейн обер-лейтенант должна поспешить в свою часть. А вы, — обращается он к Галке, — отправляйтесь домой. Здесь не театр.
Дома Галка запирается в своей комнате и, убедившись, что ставни на окнах притворены, бросается на кровать. Она переворачивается через голову, делает стойку, подпрыгивает на пружинной сетке, молотит кулаками подушку. «Получили! Получили! Получили, гады!» — вполголоса, чтобы не услышала бабушка, приговаривает она. В этот вечер Галка долго не может заснуть. В керосиновой лампе прикручен фитиль, и слабый, вздрагивающий огонек тщетно борется с темнотой — электростанция дает ток только в дома, где живут немцы. За дверью в столовой монотонно тикают стенные часы. Их стрекочущий звук лишь подчеркивает гнетущую тишину. Изредка где-то на улице приглушенно хлопает выстрел. И снова тишина… Сколько таких молчаливых, томительно долгих вечеров провела в этой комнате Галка Ортынская с тех пор, как впервые услышала на улице брошенные ей вслед хлесткие, до боли обидные слова: «Продажная девка». Соседи, за исключением Крахмалюка, не здороваются с ней. Даже бабушка перестала делиться уличными новостями. А однажды, войдя к себе в комнату, Галка увидела, что портрет отца исчез со стены. На ее вопрос Валерия Александровна сердито буркнула: «Не знаю». Но Галка поняла, что бабушка забрала портрет. Кому она могла высказать свои обиды? Хозяйке ателье на Дмитриевской улице? Но Зинаида Григорьевна была холодна со своей «клиенткой». Правда, она сказала Галке: «Ты неплохо справилась с заданием. Медикаменты доставлены по назначению». Первая похвала за все время. Однако их дальнейший разговор был, как всегда, сух и короток. Жаловаться было некому. Но сейчас Галка не думала о своих обидах. Сегодня она не чувствовала себя одинокой. Порт, ее порт, где прошло детство, где ей был знаком каждый причал, каждая свая пирса, где все напоминало о дедушке, отце, товарищах, — сегодня, после трехмесячного затишья, снова дал бой захватчикам… Галка уснула далеко за полночь. Ей снился какой-то сумбурный сон с выстрелами и артиллерийской канонадой, с воем сирен и стонами умирающих. Днем в итальянской комендатуре царило возбуждение. Младшие офицеры перешептывались в коридоре, куда они обычно выходили покурить. Табачный дым плыл сплошным туманом. Через приоткрытую дверь в приемную, где за небольшим столом в углу сидела переводчица, то и дело долетало: «…русская субмарина», «…немцы растерялись», «…на судне были танки и артиллерия…» Немцы делали вид, будто ничего не произошло. По радио без конца передавали бравурные марши, на Театральной площади на скорую руку был организован парад подразделений вспомогательной полиции, а гарнизонная газета и «Свободный вестник» на всех полосах напечатали речь фюрера месячной давности. В актовом зале бывшего Дворца пионеров состоялась торжественная церемония вручения орденов и медалей. Вице-адмирал Рейнгардт — высокий худой старик с дряблыми, отвисшими щеками — от имени фюрера вручал награды офицерам гарнизона. Вечером в ресторане «Бристоль» был устроен банкет. А ночью город был разбужен новым мощным взрывом. Взрывная волна родилась где-то внизу, в районе набережной, прокатилась над городом и, оттолкнувшись от скал Корабельного поселка, словно издеваясь над всполошенным гарнизоном, ринулась назад, к порту. Из темноты моря в ночное небо гигантским штопором врезалось пламя — горел танкер с авиационным бензином. До самого рассвета бушевал огонь, озаряя прибрежные улицы зловещим багряным светом, грозя переброситься на портовые постройки и транспорты, стоящие у соседних причалов. До самого утра в порту тяжело ухали глубинные бомбы.
* * *
Утром, как обычно, за Галкой приехал Луиджи. По дороге он рассказывал: — Русская подводная лодка снова прорвалась в порт и снова ушла невредимой. Немцы просто взбесились. Забросали весь порт глубинными бомбами, а толку — никакого. В итальянской комендатуре, уже не таясь, говорили о нападении советских подводников. Об этом говорили все, начиная от младшего писаря, кончая самим комендантом. И, конечно, спорили — южный темперамент давал себя знать. Одни полагали, что русских субмарин было две, другие — четыре, третьи называли вообще астрономическую цифру. Полковник Стадерини, который не мог отличить крейсер от тральщика, заявил с обычным апломбом, что, по его мнению, в подводной части мола есть тоннель, через который русская субмарина всякий раз проникает в порт. «Иначе, — разглагольствовал полковник, — нельзя объяснить, каким чудом русские дважды безнаказанно проходили через мощные противолодочные заграждения». Несмотря на абсурдность такого предположения, все сразу согласились с комендантом. Галка не принимала участия в разговорах. Пусть думают, что происшедшее мало интересует ее. Она лучше всех этих пехотных и артиллерийских офицеров знала флот, но и она не могла понять, почему советская подводная лодка, однажды прорвавшись в порт и благополучно избежав преследования, через сутки пошла на второй прорыв. Даже очень храбрые люди за такое короткое время в одном и том же месте не стали бы дважды испытывать судьбу.* * *
Каждый день после работы Галка заходила в хлебный магазин на Пушкинской улице, к которому были «прикреплены» те, кто работал у оккупантов. Ходить в магазин для Галки было настоящей пыткой. Прохожие — голодные люди — с жадностью смотрели на хлеб, но даже оборванные, невероятно худые мальчишки, стайками шныряющие около рынка, редко просили у магазина: сильнее голода было презрение к тем, кто продался за этот хлеб. В магазин она шла, как и всегда, через рынок — так было короче. До войны здесь царил веселый гомон южного базара. Она помнила этот базар. Все, чем было богато побережье, алело, зеленело, желтело, серебрилось на столах, прилавках, подводах, грузовиках. Но теперь базарные прилавки были пусты; все, что мог продать или купить человек, помещалось в небольших плетеных кошелках, а чаще всего — в карманах или даже за пазухой. Впрочем, сейчас купля-продажа вообще не пользовалась успехом: люди меняли. За новый костюм давали кусок сала, за буханку хлеба — часы, крупу меняли на табак, табак — на кукурузу… Какие-то молодые люди предлагали самогон в аптекарских склянках и наркотики. Нагловатого вида парень в щегольских клешах и шелковой косоворотке играл новенькими карманными часами перед носом румяного старичка в старомодном котелке. — Хватит тебе ваньку валять, — говорил ему старичок. — Давай за пачку табаку. — Что вы, господин коммерсант! Да разве это цена такому шикарному механизму! Его же в Швейцарии в тамошних знаменитых горах собирали. Понимать надо! — Знаю, где ты собирал этот механизм, — сердился старичок, — в чужих карманах! — Ша, господин фабрикант! Не будем вдаваться в историю предмета. Ведь что такое, спрашиваю вас, история? Это то, что никто из присутствующих не видел. Но ближе к делу, как говорят в столовой. Две пачки и — забирайте товар. Галка уже миновала базар, когда парень с челкой преградил ей дорогу. — Фрейлейн, только для вас! — заорал он и вытащил из кармана дамские чулки. — Прямо из Парижа, клянусь вашим здоровьем! Галка уже хотела оттолкнуть нахального спекулянта, когда тот тихо сказал: — Мы с вами, кажется, встречались в Гаграх на пляже. Это был пароль. Галка молча взяла чулки и принялась рассматривать их. Парень стоял перед ней, засунув руки в карманы, и, притопывая ногой, напевал:Прошло несколько дней. Казалось, ничего не изменилось. Каждое утро, как обычно, за Галкой приезжал «фиат» итальянского коменданта; днем она по-прежнему сопровождала полковника Стадерини в его официальных и неофициальных визитах, переводила, печатала и заученной улыбкой отвечала на комплименты дежурных офицеров. На душе было тревожно. Всеми силами она старалась держать себя в руках, но перед самой собой вынуждена была признать, что прежняя самоуверенность изменила ей. Вечерами чутко прислушивалась к малейшему скрипу калитки во дворе, а в комендатуре искоса следила за каждым немецким офицером. Порой из каких-то тайников сознания всплывала липкая, до дрожи неприятная мысль: «Что если Зинаида Григорьевна назовет мое имя?» Галка гнала эту мысль, и все же временами ею овладевало чувство беспомощности. Ни бежать, ни укрыться. Галка понимала, что иначе нельзя, что она нужна тем, кто прислал связного, и нужна именно там, где сейчас находится — в итальянской комендатуре; что люди, приславшие связного, знают — у Галки Ортынской достаточно мужества, чтобы не дрогнуть в эти дни. Она понимала все, но, возможно, поэтому ей было еще труднее. Неотступно перед ней стоял образ Зинаиды Григорьевны. Как там она? Что с ней? В один из таких напряженных, томительных дней в комендатуре неожиданно появилась Вильма Мартинелли, пропадавшая где-то в последнее время. На Вильме было нарядное шелковое платье, лоб ее прикрывала широкополая шляпа, высокие каблуки лакированных босоножек смягчали, делали плавней ее обычно твердую, почти мужскую походку. Галка вначале даже не узнала ее, а узнав, весело рассмеялась. — Вильма, да ты похожа на кинозвезду! Сама не зная почему, Галка обрадовалась Вильме. Может быть, причиной тому было штатское платье итальянки, в котором она казалась чужой здесь, в приемной коменданта, среди толпящихся патрульных офицеров. Но, вероятно, дело было не только в том, что старший лейтенант Мартинелли, наплевав на приказ об обязательном ношении формы, среди бела дня явилась в комендатуру в нарядном платье. В этой красивой взбалмошной итальянке было что-то такое, что располагало к ней. У Вильмы было много недостатков, но добрую их половину Галка прощала уже за то, что Мартинелли не любила эсэсовцев и всех, кто носил свастику. Вильма предложила пойти погулять и даже уговорила полковника Стадерини отпустить Галку пораньше. На улице обычно словоохотливая Вильма удивила Галку своей молчаливостью. Отнеся это за счет ее молниеносно меняющегося настроения, Галка шутливо спросила: — Как твои сердечные дела? Адмирал Рейнгардт по-прежнему предпочитает тебя другим врачам? Красивое лицо итальянки вдруг стало багровым, с губ сорвалось ругательство. — Вильма, что с тобой? — Со мной? — Мартинелли зло рассмеялась: — Что со мной может произойти? В худшем случае я достанусь на обед здешним рыбкам. Это не такой уж плохой конец для моряка. — Но ты врач. — Врач! Я была когда-то врачом, а сейчас, — она оборвала фразу и крепко взяла Галку за руку. — Идем в «Бристоль». Посмотришь, как я напьюсь. Непонятная нервозность спутницы насторожила Галку. Вильма чего-то недоговаривала. Именно поэтому Галка догадалась, что отнюдь не любовные домогательства престарелого начальника гарнизона и порта взволновали итальянку. О чем умалчивает обычно откровенная Вильма? Возможно, у нее неприятности на службе? И вдруг мысль о том, что Вильма не столько врач, сколько морской офицер, поразила Галку. Месяц назад, когда она познакомилась с итальянкой, ее интересовали толькомедикаменты. В другой связи она как-то не думала о Вильме. Но вот сейчас Галка вспомнила фразу, однажды оброненную Мартинелли: «…наши раненые не возвращаются на базу». Значит, в порту базируется какое-то подразделение итальянского военно-морского флота? Но за все время оккупации Галка не видела у причалов ни одного итальянского корабля. В одно мгновение Галка забыла о провале явки в ателье и о своих недавних тревогах. Теперь ее занимало только одно — подразделение, в котором служит Вильма. Галка вынуждена была признать, что, несмотря на кажущуюся беспечность, ее знакомая не любила распространяться о служебных делах. — Ну, что ж — в «Бристоль» так в «Бристоль», — согласилась Галка. Укрываясь от палящего солнца, они шли в тени развесистых каштанов. Был первый по-настоящему летний день. На углу Садовой улицы и Приморского бульвара, в каких-то ста метрах от «Бристоля», дорогу им преградили два подвыпивших эсэсовских офицера. — Эрнст, посмотри, какие красотки! — заорал кривоногий штурмфюрер с рыжими всклокоченными усиками над верхней губой. Другой — худощавый высокий блондин с угрюмым ассиметричным лицом — вразвалку подошел к Вильме и бесцеремонно ущипнул ее за подбородок. — Я давно мечтал о такой… Он не договорил. Молча и абсолютно спокойно Вильма повернулась к нему боком и коротко, по всем правилам бокса, ударила эсэсовца в лицо. Удар был так силен, что офицер упал на тротуар. — Che bestia*["41], — сквозь зубы процедила итальянка. Второй эсэсовец, отпрянув назад, рванул с пояса пистолет. Не отдавая себе отчета в том, что делает, Галка подскочила к нему и схватила за руку. Кривоногий попытался оттолкнуть ее, но с Галкой не так-то легко было справиться. А тем временем Вильма уже выхватила из сумочки маленький пистолет. — Партизаны! — не своим голосом заорал кривоногий. — Галина, отойди, я убью эту скотину! — крикнула Вильма. От «Бристоля», расстегивая на ходу кобуры, к ним бежали немецкие офицеры. У Галки засосало под ложечкой. Только сейчас она поняла, в какую историю попала… Кто-то из подбежавших рванул ее за ворот, кто-то больно ударил по щеке. На Вильму набросились два офицера. Галка с ужасом подумала, что итальянка сейчас начнет стрелять и тогда — конец. Но Вильма не выстрелила. Размахивая пистолетом, она лихорадочно оглядывалась по сторонам и вдруг, пронзительно свистнув, закричала: — Друзья, на помощь! Галка не сразу поняла, что произошло потом. Четыре офицера итальянского военно-морского флота врезались в свалку. Немцам пришлось туго, хотя численный перевес был на их стороне. Толстый обер-лейтенант, крутивший Галке руки, получил такой удар, что потом долго не мог повернуть головы. Особенно досталось двум эсэсовцам. Галка не понимала, почему немцы не стреляют. Они вообще не особенно церемонились с итальянцами, а тут еще такая драка. Но она удивилась еще больше, когда немецкий майор с рассеченной в потасовке губой сердито сказал одному из итальянцев: — Стыдитесь, капитан-лейтенант, вы ударили старшего по званию. Только то, что вы награждены высшим орденом рейха, удержало меня от применения оружия. Но я этого так не оставлю. — Вам ли говорить о стыде, господин майор, после того, как вы подняли руку на женщину! — на чистом немецком языке резко ответил итальянец. Майор, круто повернувшись, ушел. Другой немец — толстый обер-лейтенант, потирая шею, сказал примирительно, обращаясь к тому же итальянцу: — Не сердись, Фарино. Мы не знали, что это ваши дамы. — И тут же осклабил металлические зубы. — Ну и дерешься же ты, черт! — Утешьте себя мыслью, Мюллер, — рассмеялся третий немец — молоденький лейтенант в очках, — что вы получили затрещину от чемпиона мира. С кислыми улыбками немцы принесли извинения девушкам и ретировались. Пока Вильма рассказывала своим товарищам, из-за чего началась драка, Галка внимательно разглядывала итальянских моряков. Все четверо были довольно молоды: старшему из них — Умберто Фарино — не было и тридцати лет. Они, по-видимому, были боевыми офицерами — у каждого на тужурке в несколько рядов пестрели орденские ленточки, а у Фарино, кроме того, красовался немецкий Рыцарский крест. Еще раньше Галка обратила внимание на то, что все четверо были плечистыми, физически развитыми людьми… — Amici miei!*["42] — спохватилась Вильма. — Я забыла вам представить мою подругу. Это Галина Ортынская — та, о которой я говорила тебе, Умберто. Ее бабушка — наша соотечественница. Галка вмиг оказалась в центре внимания. Драка была забыта. Выслушав за минуту не менее сотни комплиментов, сыпавшихся одновременно с четырех сторон, Галка невольно рассмеялась и закрыла уши. — Синьоры, прошу пощадить мои барабанные перепонки! — О, вы прекрасно говорите по-итальянски! — Настоящая римлянка! — Наше знакомство следует отметить! — Внимание! Курс на «Бристоль». Гвидо идет в авангарде, Анастазио замыкает. Полный вперед!
* * *
Время было обеденное, но на эстраде ресторана уже играл оркестр, и пышнотелая, ярко накрашенная девица хрипло пела двусмысленные куплеты. Сидящие за столиками немецкие офицеры вяло аплодировали. Появление итальянцев было встречено настороженным любопытством. Видимо, тут уже знали о драке. — Идемте в отдельный кабинет, — сказала Вильма. — Я не могу видеть эти самодовольные рожи. Но все кабинеты были заняты. — Не желаете ли пройти в Голубой зал? — на ломаном немецком языке предложил метрдотель. — Там мало посетителей. В небольшом зале, окрашенном в лазурные тона, не было ни эстрады, ни декольтированных девиц, не было тут и немцев. Два румынских морских офицера сосредоточенно пили водку. — Мамалыжники поминают свои корыта, — усмехнулся один из итальянцев. — Я не понимаю твоей шутки, Гвидо, — заметил коренастый, крепко сбитый Анастазио. — Румыны — наши союзники, и гибель их транспортов — факт довольно печальный. — Иди ты к богу со своими наставлениями, — огрызнулся тот. — Друзья, перестаньте спорить, — вмешался старший по званию Фарино. — Мы не за этим сюда пришли. — Как хочешь, Умберто, — пожал плечами Гвидо. — Но я считаю, что русская субмарина просто классически потопила эти лохани. Надо быть объективным. — Я не уверен, что это была подводная лодка, — покачал головой Фарино. — Но прекратим этот разговор. С нами девушки, и мы можем показаться невежливыми. Подошел официант. — Мускат «Красный камень», как всегда? — К дьяволу мускат! — встрепенулась притихшая было Вильма. — Галина, скажи ему, чтобы принес водку. Только холодную. Хочу напиться! — Что с тобой? — удивился Фарино. — Синьорина Мартинелли не может забыть эту историю с госпитальным судном, — вмешался Анастазио. — Не у всех такая короткая память, как у тебя, — сердито буркнул Гвидо. — Какие нежности! Слушая вас, можно подумать, что вы святоши, а не боевые моряки. — Не много мы прибавили вчера к нашей боевой славе. — Война есть война, — вмешался Фарино. — Пора примириться с тем, что на войне убивают. — И с убийством раненых примириться тоже? — вспыхнула Вильма. — То была ошибка. — Когда встречаешься с врагом, у тебя нет времени спрашивать, залечил ли он прошлогоднюю рану, ты просто стреляешь, — хмыкнул Анастазио. — Но топить госпитальное судно подло! — крикнула Вильма. — Неужели вы не понимаете? — Мы не виноваты, — спокойно возразил Фарино, вытирая салфеткой бокал. — Немцы подвели нас. Однако хватит об этом. Синьорине Гале наскучил наш разговор. Галка едва сдерживала негодование. Она старалась не глядеть на своих новых знакомых, чтобы не выдать себя. Еще полчаса назад они казались ей простыми, симпатичными парнями, ни в какое сравнение не идущими с гитлеровскими бандитами, но теперь она поняла, что эти «симпатичные» парни недалеко ушли от своих немецких союзников. Потопить госпитальное судно! Что может быть подлей, трусливей этого омерзительного преступления? Даже Вильма с ее застольным возмущением стала неприятна Галке. И все же девушка внимательно прислушивалась к отдельным репликам офицеров. Он еще не все понимала, но то, что она слышала, было чрезвычайно важно. Итальянский военно-морской отряд все больше и больше интересовал ее. Однако разговор за столом не клеился. Было душно. Анастазио настойчиво ухаживал за Галкой. Фарино о чем-то тихо говорил с Вильмой. Гвидо сосредоточенно тянул вино. Четвертый офицер — чернявый лейтенант с франтовскими усиками — пытался рассказать какой-то анекдот, но его не слушали. — …Рейнгардт — старший по званию, и командир должен был подчиниться, — уловила Галка обрывок фразы. Фарино пытался в чем-то убедить Вильму. Та молча слушала, поглядывая на графин с водкой. — За честь знамени, за короля! — явно некстати поднял бокал четвертый офицер, имени которого Галка не запомнила. Мужчины встали. — Это девиз нашего отряда, — шепнул Галке Анастазио. — К черту! О какой чести теперь говорить! — ударила кулаком по столу Вильма. — Ненавижу этих варваров, этих убийц стариков и детей! Они и нас сделали палачами! Какая может быть честь у палачей? — Старший лейтенант Мартинелли! — надулся Анастазио. — Вы забываетесь! Я не позволю в моем присутствии… — Пойди, донеси на меня в овра!*["43] — заорала Вильма. — Вильма, ты сошла с ума, — попытался остановить ее Фарино. — Достаточно на сегодня и одного скандала. В соседнем зале немцы. Сейчас же замолчи! Тебя могут услышать. — Пусть слышат! Жаль только, что никто из этих скотов не понимает по-итальянски! — Простите, я не помешал? — на довольно сносном итальянском языке произнес кто-то за Галкиной спиной. Все обернулись. Галка увидела черный мундир, перехваченный ремнем с портупеей, серебряные молнии на бархатных петлицах и свастику на рукаве. — Позвольте представиться, — щелкнул каблуками гестаповец. — Штурмбаннфюрер Хюбе, или майор Хюбе — как будет угодно. Итальянцы быстро переглянулись. — Чем могу быть полезен, господин штурмбаннфюрер? — поднялся Фарино. Вид у капитан-лейтенанта был не особенно приветливый. — Прежде всего, — не замечая недоброжелательных взглядов, продолжал Хюбе, — от имени полиции безопасности и командования СС я приношу вам, синьор капитан-лейтенант, и вам, синьоры, извинения. Офицеры, оскорбившие ваших дам, будут строго наказаны. Штурмбаннфюрер, казалось, заискивал перед младшим по званию Фарино, и это, видимо, льстило тому. — Я и мои друзья незлопамятны, — уже добродушно сказал итальянец. — Вашу руку, майор! — Рад познакомиться, — улыбнулся Хюбе. — Я много слышал о вас, капитан-лейтенант, и даже имел честь присутствовать на церемонии вручения вам Рыцарского креста. Вы, безусловно, заслужили эту высокую награду. От души поздравляю! Фарино, пряча самодовольную улыбку, представил штурмбаннфюреру своих товарищей. Когда очередь дошла до Вильмы, она демонстративно повернулась к Галке и заговорила о каких-то пустяках. Но гестаповца смутить было трудно. — Синьорина Мартинелли, — обратился он как ни в чем не бывало, — вам и вашей подруге я приношу извинения особо. Я слышал мнение некоторых морских специалистов, что флот, в котором служит такая женщина, как вы, непобедим. Теперь я полностью разделяю это мнение. Любой моряк, встретясь с вами, должен сразу же признать себя побежденным. Если он, конечно, мужчина. — Приберегите комплименты для девчонок из соседнего зала, — ответила Вильма, но в голосе ее уже не было злости. — К тому же вы не моряк, штурмбаннфюрер, и, следовательно, вам не грозит поражение, — смягчаясь, добавила она. — Синьорина, я сегодня же подам рапорт о переводе на флот. Вильма снисходительно улыбнулась. — Если не ошибаюсь, — госпожа Ортынская? — вдруг по-русски обратился к Галке гестаповец. У девушки екнуло сердце. — Вы меня знаете? Хюбе коротко рассмеялся. — Как же мне не знать свою протеже? Правда, я рекомендовал вас полковнику Стадерини заочно, по просьбе нашей общей знакомой, но потом я интересовался вами. Галке показалось, что в последней фразе крылся какой-то намек. Она насторожилась, но ответила с беспечной, даже немного кокетливой улыбкой: — Я очень благодарна, господин майор, за ваше содействие. — Это первая благодарность, полученная мною от русской девушки. Я рад, что заслужил вашу признательность. Хюбе был сама вежливость. — Тебе он нравится? — шепотом спросила Вильма, как только Анастазио отвлек гестаповца. — Нет, — так же тихо ответила Галка. — Тогда пошли его к черту. Совет был неплохой, но, к сожалению, невыполнимый. — Господин штурмбаннфюрер, — уговаривал немца Анастазио, — выпейте с нами. Вам не мешает освежиться. — Я нахожусь при исполнении служебных обязанностей. Но ради нашего знакомства… — За фюрера и дуче! — поднял бокал Анастазио. Все выпили. Хюбе поблагодарил за угощение и откланялся. — Друзья, вы не находите, что здесь душно? — поднялась и Вильма, к которой вернулось хорошее настроение. — Не пойти ли нам выкупаться? Мужчины поддержали Вильму. Для Галки предложение Вильмы было очень кстати, но она согласилась поддержать компанию только после длительных уговоров. Был жаркий день. До войны в такую погоду на городском пляже трудно было найти свободное место. Но теперь только одинокие фигуры лежали на прибрежном песке. Возле них, как часовые, стояли тяжелые сапоги с широкими голенищами. Солдатские сапоги на песке были красноречивее вывески у входа: «Только для военных». Галка и Вильма отыскали единственную уцелевшую на пляже кабину и быстро переоделись. Их спутники уже стояли в воде. Галка не без интереса оглядела крепкие мускулистые — как на подбор — фигуры итальянских офицеров. «Должно быть, все четверо занимаются спортом», — мелькнула у нее мысль. — Друзья, посмотрите, на горизонте появился малыш Равера. Все оглянулись. Галка почувствовала, как вздрогнула стоящая рядом Вильма. — Э-гей, Марио! — крикнул Фарино. К ним подошел огромного роста сержант. Галка узнала его — он привозил медикаменты в пекарню. От нее не укрылось, что появление Марио смутило присутствующих. Сержант был невесел. — Здравствуй, малыш! — приветствовал его Фарино. — Раздевайся и идем с нами полоскаться. — Слушаюсь, капитан, — сухо ответил тот. — Марио, дружище, зачем так? Ты отлично знаешь, что я для тебя — просто Умберто. И выбрось за борт все эти переживания. В том, что произошло вчера, ты не виноват. — Оставь, Марио, — коснулась его руки Вильма. — Мы поговорим потом. А сейчас идем плавать. — Хорошо, синьорина. — Сержант стянул с себя тужурку и бросил ее на песок. — Внимание! — крикнул Анастазио. — Видите те боны, правее скал? До них не больше полумили. Победитель получает шампанское из общего пая. Девушки идут вне конкурса. Умберто дает форы. Сколько, Умберто? Фарино окинул взглядом товарищей. — Учитывая, что с вами Марио, — двести метров. — Нахал! — рассмеялась Вильма и обернулась к Галке: — Ты хорошо плаваешь? — Неплохо. — Держись за мной, — покровительственно хлопнула ее по спине итальянка. — На старт! — скомандовал Анастазио. — Приготовились. Пошли! Сильно оттолкнувшись ногами, Галка «ласточкой» врезалась в воду. Она давно не плавала, но самоуверенность итальянцев разозлила ее. Она начала заплыв быстрым кролем. Но уже через полтораста метров стала ослабевать. Не оглядываясь назад, она перешла на плавный, с виду неторопливый брасс. Однако Галка проплыла еще метров двести и только тогда почувствовала, что ее догоняют. Она снова перешла на кроль, но — тщетно: еще через пятьдесят метров кто-то из итальянцев обогнал ее. Приближались еще трое. И вдруг Галка подумала, что она пришла сюда вовсе не затем, чтобы состязаться в плавании с офицерами. Она повернулась на бок, давая отдых утомленным мышцам. Теперь ей стали видны состязавшиеся. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять, что все они прекрасные пловцы. То, что она первые четыреста метров шла впереди, было неудивительно: итальянцы рассчитывали силы на длинную дистанцию и не «рвали» с места, как она. Галка плыла на боку, внимательно наблюдая за ними. Первым, оторвавшись от товарищей метров на сто, шел Марио, за ним — трое; немного отстав от них — Вильма, а позади всех неторопливо, как бы нехотя, плыл Умберто Фарино. Но вот Фарино увеличил скорость. Быстрее, быстрее, быстрее… Вот он уже обогнал Вильму, поравнялся с тройкой. Впереди него был только Марио. Фарино сделал стремительный рывок и догнал сержанта. Однако Марио не сдавался, хотя было ясно, что Фарино намного «техничнее» его. Но за Марио была физическая сила. Бон они достигли одновременно. Вскоре туда подплыли остальные. Начался спор — кто победитель? — Друзья! — поднял руку Фарино. — Ни я, ни Марио не заслужили награды. Победила синьорина Галя. От старта на протяжении четырехсот метров она вела заплыв. Вы замечательно плаваете, Галя. У вас есть что-то от большого класса. За полгода я берусь сделать из вас мировую рекордсменку. — Синьорина Ортынская, соглашайтесь! — закричал Анастазио. — Вас будет тренировать чемпион мира по плаванию. — Экс-чемпион, — поправил Фарино и рассмеялся. — Значит, договорились: как только кончится война, я начну с вами тренинг. — Кажется, вам придется долго ждать этой счастливой минуты, синьорина, — усмехнулся Гвидо. — Кто-то из наших вышел в море! — крикнул Анастазио, успевший забраться на боны. Все оглянулись в сторону Зеленого мыса. — Идут сюда. — Нет. Мористее. — Пошли на перехват! От Зеленого мыса параллельно берегу, оставляя за кормой широкий хвост вспененных волн, быстро шел небольшой катер. Вместе со всеми Галка поплыла наперерез. Когда до катера оставалось метров сто, Фарино подпрыгнул и поднял скрещенные руки. На катере выключили мотор. — Это ребята из группы МАС, — всматриваясь в людей на катере, сказал Анастазио. — Джузеппе и какой-то новенький. Они подплыли к катеру. — Эй, Джузеппе, — крикнул Фарино, — куда это вы собрались? Рослый загорелый парень в майке перегнулся через борт. — Салют, капитан. Здравствуйте, ребята. Нам командир разрешил прогуляться к скалам Корабельного поселка. Антонио утверждает, что видел там на дне бригантину семнадцатого века. Вот мы и решили немного понырять. — У вас нет лишнего респиратора? — спросил Фарино. — Если хотите с нами, я уступлю свой. — Я с вами. — Фарино подтянулся на руках и ловко перелез через борт. — Анастазио! — крикнул он уже с катера. — Захватишь мою одежду. Я оттуда — прямо на базу. Синьорина Галя, помните наш уговор! Катер ушел, бросив на пловцов пенистую крутую волну. Когда повернули назад, Галка заметила, что нет Вильмы. Она сказала об этом плывшему рядом Анастазио. — Не беспокойтесь, не утонет, — отозвался тот. У бон решили отдохнуть — состязание утомило всех. Взобравшись на мокрые, ослизлые бревна, Галка подставила лицо солнцу. К ней подсел Анастазио и будто невзначай коснулся ее плеча. Галка стряхнула его руку, посмотрела сердито. — У вас какие-то шальные глаза, — невольно отодвигаясь, сказал Анастазио и тут же, пытаясь обратить все в шутку, стал рассказывать какую-то, по его мнению, забавную историю. Его трескотня не мешала Галке прислушиваться к разговорам других офицеров. Однако ничего интересного она не слышала — итальянцы болтали о пустяках; о потопленном госпитальном судне уже не вспоминали. Но вот до нее донесся голос Вильмы. Галка оглянулась. Вильма только выбралась из воды и сидела поодаль на бревнах рядом с сержантом Марио Раверой. Гигант что-то рассказывал ей. — …Мы вышли в полночь на «Санта Марии», — разобрала Галка. — После той неудачной атаки самовзрывающихся катеров командир решил делать ставку на нашу группу… Галка насторожилась Всплеск волны заглушил голос Раверы. — Жарко. Пойду окунусь, — сказала Галка Анастазио и соскользнула в воду. Но плавала она недолго, минуты через две девушка снова взобралась на боны, но уже левее того места, где сидела перед тем, ближе к Вильме и ее собеседнику. Галка легла ничком на бревна. Казалось, она просто загорает. Во всяком случае ни Вильма, ни Равера не обратили на нее внимания. Они сидели метрах в десяти, и девушка слышала все, что говорил Марио. — …«Санта Мария» шла все время под перископом, — рассказывал сержант. — Так приказал адмирал Рейнгардт. Ночь была лунная, и адмирал отчаянно трусил, хотя сам напросился в этот поход. Часа через два мы вошли в зону минных полей противника. Перед тем командир заглянул в минный отсек и сообщил, что лодка идет курсом на военно-морскую базу русских. Задача — атаковать стоящие на рейде корабли нашими «майяле», так как в виду сильной противолодочной охраны «Санта Мария» не сможет приблизиться к цели для нанесения обычного торпедного удара. Но дело было не в этом. Мы отлично понимали, что немецкий адмирал не зря увязался с нами. Он хотел посмотреть — это было ясно и ребенку — работу нашей группы. Сержант замолчал, и Галка услышала, как лениво плещется волна о боны. Пахло водорослями, ослизлые хвосты которых спадали с бревен в воду. — Мы пробирались через минное поле, — снова заговорил Марио. — Вдруг что-то царапнуло снаружи по левому борту. Видимо, лодка задела минреп*["44]. Командир резко отвернул вправо, и тут же какой-то предмет сильно ударил в правый борт. Возможно, то был затонувший корабль, а может, и подводный риф. Но все обошлось благополучно. В четыре тридцать командир вызвал меня и Гвидо в боевую рубку. Там же был этот Рейнгардт. Командир сказал, что примерно в десяти кабельтовых от нас на внешнем рейде стоит большой русский теплоход, который мы должны атаковать двумя «майяле». Гвидо спросил разрешения взглянуть в перископ. Когда он оторвался от трубы, лицо его было растерянным. «Командир, — сказал он, — это госпитальное судно». Адмирал Рейнгардт, видимо, понял его и стал кричать по-немецки на командира, что тот распустил своих подчиненных и позволяет им обсуждать боевой приказ. Командир сказал нам, что русские маскируют свой транспорт с авиабомбами под госпитальное судно и что об этом у адмирала имеются совершенно точные сведения. Когда командир говорил это, он не смотрел нам в глаза. Но мы поверили ему, как верили всегда. Я, Гвидо, Анастазио и Беллависта надели костюмы, респираторы и вышли через верхний люк. Когда мы осмотрели футляры на бортах, оказалось, что правый заклинило при ударе о риф. Извлечь из него «майяле» нам не удалось. Делать было нечего — я с Беллавистой пошел на второй «майяле», а Гвидо и Анастазио вернулись на лодку. Мне незачем рассказывать, вам, синьорина, как мы вышли на цель. Вы знаете, как это делается. Мы благополучно подобрались к русскому теплоходу, укрепили заряд на его боковом киле, включили часовой механизм. Разъединительная муфта не сработала. Мы решили оставить всю торпеду и возвращаться назад вплавь. Еще не достигли лодки, когда раздался сильный взрыв. Я всплыл и, чтобы лучше видеть, снял маску. Уже совсем рассвело, и мне было отлично видно гибнущее судно. Оно казалось совсем близко, хотя уже мы отплыли на пять-шесть кабельтовых. Я никогда не забуду этой минуты, синьорина. Я видел, ясно видел забинтованных, беспомощных людей на кренящейся палубе теплохода и других — в белых халатах, — которые тщетно пытались помочь раненым. Потом судно повернулось оверкиль. — Тебя обманули, Марио, — тихо сказала Вильма, — ты не виноват. — Нет, синьорина, я виноват. — Успокойся, Марио. Успокойся, мальчик. Скоро прибудет новый командир отряда. Я слышала, что он очень влиятельный человек. Увидишь, он разберется во всей этой истории. Марио не ответил. К Галке подошел Анастазио. — Синьорина Галя, проснитесь. Вы обожжете спину… Вскоре все поплыли к берегу. Полежав еще немного на пляже — поспешный уход мог вызвать недоумение, — Галка стала жаловаться на головную боль. Анастазио вызвался проводить ее. По дороге она рассеянно слушала его болтовню и морщилась от его прикосновений. Вероятно, поэтому итальянец решил, что она не на шутку заболела. Он даже хотел вернуться за Вильмой — как-никак та была врачом. Но Галка удержала его. Только около дома ей удалось избавиться от не в меру заботливого провожатого. Едва за ним закрылась калитка, Галка стремглав бросилась в дом. Среди своих платьев девушка отыскала простенькое ситцевое, в котором ходила еще в школу. Сбросив модные босоножки, одела поношенные туфли на низких, стоптанных каблуках, сняла золотой браслет, кольцо и спрятала в шкатулку. Быстро выдернув шпильки, разрушила хитроумную прическу, смочила волосы водой и расчесала их на скромный пробор. Оглядев себя в зеркале, она решила, что в таком виде не вызовет излишнего любопытства на окраинной Михайловской улице. Уже собираясь уходить, Галка заметила на тумбочке около кровати большой синий конверт с витиеватым штампом внизу. — Канцелярия бургомистра? Интересно. Она вскрыла пакет. Это была записка от Логунова. «Уважаемая Галина Алексеевна! — писал бургомистр. — Буду рад видеть вас у себя в воскресенье между десятью и одиннадцатью часами дня. У меня есть для вас интересное предложение. Какое — не буду пока говорить. Скажу только, что ваша давнишняя мечта скоро воплотится в жизнь». Галка усмехнулась. Вот уж действительно «загадка»! Весь город знает о том, что Логунов лезет вон из кожи, чтобы открыть городской театр для тех господ офицеров, которым надоели безголосые певички из ресторанов. Уже полмесяца висят афиши о предстоящем большом концерте оперной музыки. Однако в стремлении угодить оккупационным властям бывший директор театра явно переоценил свои возможности. Большинство вокалистов эвакуировалось из города, а из тех, кто остался, едва можно было составить хор средней руки. Логунов лихорадочно искал солистов. Всей его широко разрекламированной затее грозил скандальный провал. «Неужели он думает, что я буду петь в его «Новом театре»? — Эта мысль показалась Галке нелепой. Надо было торопиться. До наступления комендантского часа она должна успеть вернуться домой. Ее пропуск действителен только в итальянском секторе, а Михайловская улица находилась в противоположном конце города. Девушка почти бежала. Скорее! Надо обязательно успеть. То, что она узнала сегодня, — очень важно. Настолько важно, что она не задумываясь пошла на конспиративную квартиру, куда могла явиться только в крайнем случае. Но в доме номер семьдесят один на Михайловской улице не было никакого гравера…Часть вторая ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Галка медленно шла обратно по немощеной пыльной улице, сосредоточенно глядя себе под ноги. Самые невероятные мысли лезли в голову. Не доверяют? Решили обойтись без нее? Одна. Без связи, без задания. Кто же она теперь? Барышня из итальянской комендатуры, девица, продавшая совесть за холуйский паек?.. Молодой человек в франтовском белом костюме и соломенной шляпе, заломленной набекрень, обогнал ее. — Иди за мной. Галке показалось, что она ослышалась. Молодой человек шел впереди, небрежно помахивая самшитовой тросточкой. Что-то знакомое было в его твердой, уверенной походке. Галка пошла за ним. Сердце ее прерывисто билось. Казалось, либо оно остановится, либо выпрыгнет из груди. С моря в застоявшуюся липкую духоту вечера ворвался свежий ветер. Он стряхнул пыль с поблекших листьев акаций, загремел рваными листами железа на крыше искалеченного снарядами дома, взлохматил волосы. Ветер принес сырой запах рыбы и тяжелые капли дождя. Молодой человек в белом костюме ни разу не обернулся. Вот он свернул за угол и перешел через дорогу на другую сторону улицы. Галка не выпускала его из виду. И когда он скрылся в подъезде неказистого двухэтажного дома, она, не раздумывая, последовала за ним. В полумраке неопрятного, пропахшего сыростью подъезд она сразу споткнулась о какую-то преграду и чуть не упала. — Осторожно, — услышала она тихий голос. — Тут ступеньки. Доверясь, она пошла на этот голос дальше — в темноту. Кто-то невидимый взял ее за руку. Через несколько шагов она услышала шорох отодвигаемого засова. Приоткрылась низкая дверь, и в глаза хлынул голубоватый свет угасавшего дня. Сразу за дверью начинался замусоренный, утыканный засохшими кустами бурьяна пустырь. — Тучи прошли стороной, — как-то обыденно сказал Галкин провожатый. — Опять дождь миновал. А не мешало бы. Все кругом сохнет. И вдруг Галка узнала его. Это был тот самый парень, который предупредил ее об аресте Зинаиды Григорьевны. Только сейчас в нем не было ничего блатного: вместе с косой челкой с его лица исчезла нагловатая улыбка, а зеленые, чуть прищуренные глаза приветливо смотрели на Галку. — Растерялась? Галка хотела обидеться, но неожиданно для себя кивнула головой. — Нельзя было иначе. Ты могла «хвост» привести. Надо было проверить, не увязался ли кто за тобой. Ну, говори, зачем пришла. — Я должна видеть кого-нибудь из подпольного комитета. На море у фашистов появилось новое оружие. — Передай донесение со мной. — Донесения никакого нет. Это надо рассказать. — Расскажи мне. — Ты не запомнишь всего. Парень помедлил, а затем решительно махнул самшитовой тросточкой. — Идем. Они быстро пересекли пустырь, пролезли в дыру какого-то забора и, оглядевшись, вышли на незнакомую Галке улицу. До наступления комендантского часа оставалось двадцать–двадцать пять минут. Они находились в немецком секторе города, где Галкин пропуск был недействителен. Но связной не торопился. Не спросив разрешения, он взял Галку об руку. Они уже прошли несколько кварталов, когда провожатый неожиданно обнял Галку. Девушка отшатнулась и сильно толкнула парня. — Тише ты, сумасшедшая. Патруль идет, — шепнул он и, притянув ее к себе, сказал каким-то ужасно глупым голосом: — Стелла, умоляю, не сердись. Галка услышала за спиной тяжелый стук подкованных сапог. К ним подошли два немецких солдата. Старший — крепыш с пышными вильгельмовскими усами — сказал, четко выговаривая русские слова: — Вы должны быстро спешить домой. Сейчас не есть время для прогулки. — Мы уже уходим, господа офицеры, — заверил патрулей Галкин спутник и, воспользовавшись моментом, чмокнул девушку в щеку. Когда солдаты повернули за угол, Галка дала связному подзатыльник. — За что? — искренне удивился тот. — За нахальство. — Это же в целях конспирации! — Ну вот что, конспиратор, веди меня, куда ведешь. — Мы уже пришли. — Он кивнул на парадное большого дома, около которого они стояли. — Так чего ты мне голову морочишь? — разозлилась Галка. — А ты хотела, чтобы я при солдатах дорогу показывал? На темной скрипучей лестнице он вдруг остановился. — Сам не пойму, чего я тебя привел сюда. Поверил. А разве можно верить женщинам! — Хватит! — попыталась осадить его Галка. — Что значит — хватит? Другая оценила бы мой, скажем прямо, благородный поступок. Поцеловала бы… — Другая и поцелует. Парень сокрушенно вздохнул. — Первый раз встречаю такую женщину. Не женщина, а какая-то долговременная огневая точка. — И, помолчав, сказал уже деловито: — Идем. Он повел ее по бесконечным лестничным переходам, скрипучим верандам, нависшим над черной пропастью двора, узким, загроможденным какими-то ящиками коридорам. Наконец он царапнул ключом замочную скважину и открыл невидимую дверь. Галка осталась одна в кромешной темноте длинного коридора. Какая-то необычная притаившаяся тишина стыла в ушах. Но ей не было страшно. Исчезло то ужасное, гнетущее чувство одиночества, которое полчаса назад испугало ее. Она снова была среди своих. — Входи, — услышала Галка знакомый шепот. Свет двадцатипятисвечевой лампочки показался ей ослепительным. В небольшой комнате, единственное окно которой было завешено камуфлированной накидкой, стояла массивная кровать с многочисленными, сложенными горкой подушками. В углу — и это сразу бросилось в глаза — висела икона с коптящей лампадкой. Стол, массивные стулья, приземистый пухлый комод, покрытый накрахмаленной салфеткой, на стене, слева от входа, рядом с лубочными картинками, — пожелтевшие портреты сытых унтер-офицеров и фельдфебелей царской службы. Вся эта убогая мещанская обстановка никак не вязалась в Галкином представлении с конспиративной квартирой. — Ох, и попало мне за то, что привел тебя, — шепнул связной, показывая глазами на портьеру, скрывавшую вход в соседнюю комнату. И, тяжело вздохнув, добавил: — Вот так всегда страдаю из-за своего деликатного отношения к интересным женщинам. В ту же минуту Галка отшатнулась: в комнату вошел немолодой коренастый полицейский с окладистой, седеющей бородой и пышными закрученными усами. — За чем пожаловали, Галина Алексеевна? — строго глядя на нее из-под густых косматых бровей, спросил он. Галка растерянно обернулась к связному, но того уже не было в комнате. «Неужели провокация?» — обожгла тревожная мысль. Под усами полицейского мелькнула и спряталась в бороде до неправдоподобия знакомая усмешка. — Что же молчишь, синьорина Ортынская? Небось нашла слова, когда парня уговаривала идти сюда. Глаза под косматыми бровями потеплели и смотрели весело и немного лукаво. Галка задохнулась. — Леонид Борисович? Дядя Леня! — Тихо ты, подпольщица. Но Галка уже повисла на шее Гордеева.
* * *
— Нет, дядя Леня, это не смертники. Хотя, надо сказать, людей они подобрали не робких. Отряд состоит из подразделения самовзрывающихся катеров и группы управляемых торпед. Водители торпед в легководолазных костюмах скрытно ведут свои «майяле» к кораблям, стоящим на рейде. Прикрепив к килю судна зарядное отделение, которое затем освобождается от торпеды, водители на той же торпеде, а иногда вплавь — они все прекрасные пловцы, — возвращаются на «матку». Насколько я понимаю, в отличие от подводной лодки, эти «майяле» невозможно засечь приборами поиска, а в отличие от обычных торпед они не оставляют на воде следа, так как водители по мере надобности могут замедлить ход, погрузиться на глубину и подвсплыть. — Где их база? — На Зеленом мысе. — Вот оно что! — Гордеев даже присвистнул. — Теперь ясно, что это за отряд МАС. Кстати, не знаешь, что обозначает это название? — Сокращенно от мотоскафо антисоммерджибиле — противолодочные катера. — Почему только катера? Ты говорила, что там есть и управляемые торпеды. Не путаешь ли? — Управляемые торпеды в составе отряда появились недавно, — разгорячилась Галка. — Это очень опасное оружие. Гордеев встал, прошелся по комнате, забрав в кулак бороду, слегка подергал ее. — Не так страшен черт, как его хотят представить. Управляемые торпеды — капризные штуки. Действовать ими можно только на рейдах, да и то в хорошую погоду. К тому же все это рассчитано на неожиданность. На психику, так сказать, давят — Он усмехнулся. — Ну, теперь мы им этот расчет поломаем. — Вот видите, значит, не напрасно я разыскивала вас. А вы еще связного отругали. — Ты смотри, еще одна защитница у него нашлась! — весело рассмеялся Гордеев. — Что, понравился? — Не очень. — Да ну?.. А он многим девушкам нравится. — Я сразу поняла, что — многим. — Ах, вот ты какая! — не то шутя, не то уже серьезно протянул Леонид Борисович. — Ну хорошо. Однако все же учти на будущее: когда проваливается явочная квартира, все, кто был с ней связан, должны либо переменить документы и местожительство, либо, как говорят подводники, уйти на глубину и отлежаться. Иными словами — прекратить всякую нелегальную работу. Дело не только в том, что ты, сама того не ведая, можешь привести на новую явку гестаповских ищеек, а в том, что, взяв тебя под надзор из-за пустяковых подозрений, гитлеровцы могут затем поймать тебя на каком-нибудь серьезном деле. Поэтому тебе сейчас, как никогда, надо быть осторожной. Ни одного ложного шага, ничего, что бы могло показаться странным в поведении «синьорины» Ортынской. Понятно? — Понятно. Но вы мне до сих пор не сказали, что произошло с Зинаидой Григорьевной. Гордеев нахмурился. — Она поддерживала связь с нашими людьми в порту. Есть подозрение, что ее выдал провокатор. Ее забрали. В ней я уверен — она ничего не скажет, но ухо держать востро не мешает. Вот так-то. Леонид Борисович потушил трубку, сунул ее в карман, потом надел поверх мундира широкий ремень с кобурой и взялся за фуражку. — Пошли. Я провожу тебя. Однако им пришлось задержаться. Кто-то постучал в дверь. Гордеев молча указал Галке на соседнюю комнату. Девушка быстро юркнула за портьеру и притаилась в темноте. Прошло несколько томительных минут. Потом до нее донесся приглушенный разговор. Галка разобрала только отдельные фразы: — …Он не пришел. — Ты заходил к нему? — Он не разрешил мне появляться в кофейне… Что-то там неладно. — Почему ты решил? — Последние два дня в кофейню почти никто не заходит. А музыка играет вовсю. Будто полным-полно посетителей. — Ну, добро. Я проверю сам. Прошло еще несколько минут, и Гордеев окликнул девушку. — Пошли. Поздно уже. Улицы были залиты причудливым серебристым светом. Полная луна неподвижно стояла над городом. В безоблачном ночном небе вспыхивали светлячки звезд. К запаху ночных фиалок примешивалась гарь пожарищ. За Турецким курганом полыхали зарницы. — Староконстантиновская горит, — скрипнул зубами Гордеев. — Ее еще утром фельджандармы подожгли. За то, что жители раненных красноармейцев укрывали. Большая была деревня. Вон до сих пор полыхает. Несколько раз их останавливали румынские и немецкие патрули Но вид и документы «старшего полицая» не вызывали подозрений. Был субботний вечер. Чем ближе к центру города, тем больше на пути баров, пивных, кофеен, где веселились подвыпившие немецкие егеря, румынские унтер-офицеры, свободные от дежурств полицаи. Из-за прикрытых светомаскировочными шторами окон на улицу доносились пьяные солдатские песни, надтреснутый хрип патефонов, звон разбитой посуды, повизгивания женщин. Комендантский час для военнослужащих сегодня был отодвинут к полуночи. — Дядя Леня, — шепотом спросила Галка, — вы не боитесь, что вас узнают в городе? — Ты же не узнала. — Борода, усы, прическа вас очень изменили. Но голос тот же. — Что тебе сказать, девочка? Узнать, конечно, могут. Но что делать? Портовых людей, рыбаков, матросов здешних никто лучше меня не знает. А люди в нашем деле — главное. На углу Канатной улицы и Соборного переулка Гордеев неожиданно остановился. — Вот что, Галина, пойдем-ка так. — Он кивнул в сторону Соборного переулка. — Надо мне кое-что посмотреть. Сейчас кажется, самое подходящее время. В Соборном переулке их укрыли длинные ночные тени. Гордеев замедлил шаги. Он пристально разглядывал небольшой двухэтажный особняк на противоположной стороне улицы, откуда доносилась веселая тирольская песенка. Серебристый свет падал на разрисованную вывеску, которая приглашала прохожих в кофейню «Веселая пучина». Галка знала этот особняк с причудливым балконом и высокой остроконечной крышей. Особняк был стар, массивен и неуклюж. Когда-то здесь размещалось правление артели «Водник», а теперь обосновался греческий подданный Георгиос, которому — по слухам — этот дом с принадлежал еще до революции. Георгиос открыл кофейню, пользовавшуюся большим успехом у любителей черного кофе и хороших вин. В «Веселой пучине» играл рояль, насвистывала флейта. Кто-то довольно прилично пел под их аккомпанемент. Гордеев втолкнул Галку в какую-то подворотню, откуда хорошо была видна кофейня. Девушка уже догадалась, что Гордеева почему-то интересует эта кофейня, что именно о ней, перед их уходом, говорил Леониду Борисовичу неожиданный посетитель. Узкая подворотня была стиснута обгоревшими стенами двух разбитых домов. Здесь за глыбами обрушившегося камня можно было считать себя в надежном укрытии. Прошло около получаса, но ничего особенного на противоположной стороне Галка не заметила. Немного странным казалось только то, что за это время никто не зашел и не вышел из «Веселой пучины». В других даже менее привлекательных заведениях в этот вечер не закрывались двери. Но вот со стороны Второй Якорной улицы к кофейне подошли три румынских офицера. При лунном свете, заливавшем противоположную сторону, Галка даже разглядела кавалерийские портупеи и шпоры. Два офицера вошли в дверь, а третий, попыхивая сигарой, рассеянно оглядывался по сторонам. Потом и он, бряцая шпорами, скрылся в кофейне. — Пустое, — наконец сказал Леонид Борисович. — А в чем дело? — В том, что не надо задавать лишних вопросов, — сердито сказал он и взял Галку об руку. — Пошли домой, синьорина. Но только они вышли из подворотни, как в особняке напротив раздался крик. Этот крик отбросил их назад. Едва они успели спрятаться среди развалин, как в кофейне загремели выстрелы. Гордеев отыскал небольшую пробоину в стене и через нее наблюдал за улицей. Галка осторожно пробралась к нему. — Уходи, — шепнул ей Леонид Борисович. — В глубине двора есть проход на соседнюю улицу. Но Галку было нелегко спровадить. В особняке с треском вылетела оконная рама. А потом девушка увидела, как на балкон выбежал человек в форме румынского офицера и, не раздумывая, прыгнул вниз через перила.
— Разбился! — вскрикнула девушка. Однако беглец не разбился. Он быстро поднялся на ноги и, не целясь, выстрелил вверх — в солдата, выскочившего следом за ним. Гитлеровец упал на перила. Но уже трое других выбежали из дверей кофейни. Румынский офицер быстро отскочил за толстый ствол каштана. Сухо и резко хлопнули пистолетные выстрелы. Еще один немец упал на тротуар. Остальные гитлеровцы, укрывшись за невысокой оградой, открыли огонь из автоматов. Из особняка выскользнули еще несколько фашистов. Галка заметила, как один из них, прячась в тени домов, стороной перебежал дорогу. Спустя несколько секунд девушка совсем близко услышала его крадущиеся шаги. На какое-то мгновение темный силуэт немца показался в проломе стены и тут же исчез. — Заходит в тыл румыну, — пробормотал Леонид Борисович.

Неожиданно грохот автоматов смолк. «Боятся подстрелить своего», — догадаласьГалка и тут же увидела, как из-за каштана метнулся через дорогу румын. Хлопнул запоздалый выстрел, но беглец был уже на противоположной стороне в густой тени, отбрасываемой стеной полусгоревшего дома. Немцы у кафе, вероятно, потеряли его из виду, но Галка из своего укрытия видела румына. Остановившись в каких-то двух шагах от пролома, он резко обернулся назад и вытянул руку с пистолетом. Раздался беспомощный металлический щелчок. Кончились патроны. Румын с каким-то остервенением отшвырнул ставшее ненужным оружие, и тут же откуда-то сбоку надвинулся силуэт подкараулившего его гитлеровца. — Хенде хох! — скомандовал немец. Румын обернулся и, пятясь, стал медленно поднимать руки. Он как-то сразу обмяк, сгорбился, словно в нем лопнула какая-то пружина. Гитлеровец злорадно хихикнул. Но он рано торжествовал победу. Обманутый покорной позой, он шагнул вперед и чуть опустил ствол автомата. И тогда уже поднятая над головой рука беглеца вдруг описала стремительный полукруг. В воздухе пронесся блестящий предмет. Немец, издав свистящий хрип, выронил автомат и тяжело грохнулся на колени. Еще какое-то мгновение его пальцы судорожно царапали ворот мундира, но вот, дернувшись всем телом, он упал ничком на выщербленные плиты тротуара. Все это произошло настолько быстро, что Галка даже не успела заметить, куда скрылся румынский офицер. От кофейни через дорогу бежали солдаты. Наткнувшись на труп товарища, они остановились, растерянно потоптались на месте, а потом, разделившись на две группы, бросились на поиски румына. — Быстро уходить! — сказал Гордеев.
* * *
К Галкиному дому они подошли нескоро. Через проходной двор, о существовании которого Галка даже не подозревала, Гордеев вывел ее на какую-то улицу, оттуда — снова через проходные дворы — прямо во двор общежития мореходного училища. Там уже девушка сориентировалась сама: через дыру в забое пролезла в соседний двор. Гордеев не отставал от нее. Не выходя на улицу, они преодолели еще два забора и, наконец, очутились в саду Ортынских. Галка устало опустилась на скамейку. Происшествие в «Веселой пучине» захватило ее воображение. То, что произошло в кафе, не было похоже на обычную потасовку пьяных офицеров. Слишком уж энергичные средства были пущены в ход: пистолеты, автоматы. Кроме того, румынские кавалеристы не был пьяны. Галка могла бы поручиться за это, хотя видела их мельком и даже не разглядела лиц. Во всяком случае, тот, который прыгнул с балкона, был абсолютно трезв. Не были пьяны и немцы, преследовавшие его. Нет, то была не простая драка. Похоже, что гестаповцы поджидали румын. Засада? Пожалуй, так. Тогда кто, же эти три в румынской форме? — Вот что, Галина. — Гордеев поймал в кулак бороду и слегка дернул ее. — Если что услышишь о Георгиосе, постарайся запомнить. — Хорошо. — Но учти, никто не должен догадываться, что ты интересуешься судьбой хозяина «Веселой пучины». Ты меня поняла? — Да. Только у меня есть один вопрос. — Спрашивай. — Георгиос — партизан? — Нет. — А кто же? Гордеев внимательно посмотрел на нее из-под косматых нависших над глазами бровей. Потом сказал тихо: — Он выполнял специальное задание нашего командования. — А те трое в румынской форме? — Понятия не имею, — пожал плечами Леонид Борисович. — Георгиос не считал нужным информировать нас о своих действиях, а его людей мы вообще не знали. Но все это тебя не касается, — вдруг рассердился он. Он встал и затянул на мундире ремень. — Через три-четыре дня я загляну к тебе.* * *
Человек в форме румынского офицера бежал через парк. Он не выбирал дороги. Ветви кустов хлестали его по лицу, торчащие, казалось, отовсюду сучки невидимых в темноте деревьев рвали одежду, шпоры сапог путались в высокой, ни разу не кошенной за лето траве. Человек спотыкался о корни, скользил по настилу прошлогодних листьев и уже дважды падал, рискуя разбить лицо, сломать руку, выколоть глаз, но, поднявшись, снова бежал напролом. Разноголосый лай рвущихся с поводков собак преследовал его. Человек тяжело дышал. Он бежал уже долго, перелезая через какие-то попадавшиеся на пути заборы, ныряя в проломы стен разбитых домов. Несколько раз ему казалось, что он наконец-то оторвался от погони, но не успевал отдышаться, как лай идущих по следу собак настигал его вновь. Неожиданно деревья расступились, и человек ткнулся в решетку парковой ограды. За оградой была видна широкая улица. Не раздумывая, человек подтянулся на руках, на какое-то мгновение поднялся над острым частоколом решетки и спрыгнул на тротуар. Предательски звякнули шпоры. Человек прижался спиной к ограде и быстро огляделся по сторонам. Несмотря на второй час ночи, на улице было достаточно светло — полная луна стояла над самой головой. На перекрестке в каких-то пятидесяти шагах от себя человек увидел полицейских — двух парней в черных картузах с немецкими автоматами за плечами. Человек тихо выругался. Проклятая луна! Стоит только отойти от ограды, как полицаи заметят его. А собаки уже совсем близко. Человек скрипнул зубами. Если бы у него было хоть какое-нибудь оружие. Он прикинул расстояние, отделяющее его от противоположной стороны улицы. Эх, была не была! Сердито ворча, мимо проехал восьмитонный «бюссингман», за ним — другой, третий. А что если?.. Человек сжался, как заведенная до отказа пружина и, едва несуразно большой крытый брезентом кузов последнего грузовика поравнялся с ним, метнулся к машине. Подпрыгнув, он ухватился за борт, уперся во что-то ногами, рванул край брезента и, царапая руки, ударяясь о какие-то ящики, протиснулся в кузов. Только он успел это сделать, как грузовик повернул вправо, обращая задний борт к стоящим на перекрестке полицейским. Те проводили машину равнодушными взглядами. Кузов подбрасывало на ухабах, и ящики в высоких штабелях двигались словно живые, грозя обрушиться на голову, но человек в кузове не обращал на это внимания. Он стоял, прислонившись спиной к какому-то брусу и, устало закрыв глаза, чему-то улыбался. А когда колонна неуклюжих «бюссингманов» повернула в узкий, темный переулок, человек отбросил брезент и спрыгнул на дорогу. Примерно через полчаса в тот же переулок неслышно проскользнула юркая легковая машина. Бросая на мостовую тусклый свет маскировочных фар, машина остановилась у подъезда аляповатого дома с колоннами. Из подъезда к машине, семеня ногами, выбежал высокий худощавый парень с каким-то свертком в руках. — Получай свой марафет, — просовывая сверток в кабину, развязно сказал он, но тут же, смущенно хихикнув, поздоровался: — Гутен нахт, герр гауптман. Пардон, как говорится, не приметил вас сразу. — Чего орешь, идиот? — не очень любезно, спросил кто-то из машины. Разговор перешел на шепот. Впрочем, говорили недолго. Вскоре машина тронулась, а высокий парень, оставшись на тротуаре, с довольной ухмылкой сунул в задний карман толстую пачку денег. — Ауфвидерзейн вашей маме! — хихикнул он и дурашливо помахал рукой вслед машине. — Кокаин загнал или опий? — негромко спросил голос за его спиной. Парень вздрогнул, съежился и не оглядываясь быстро сунул руку в карман. — Ну, это уж напрасно, — все так же негромко произнес голос. Парень почувствовал, как чьи-то руки сильно сжали его локти, и выронил пистолет. Когда же ему наконец удалось повернуть голову, он увидел позади себя широкоплечего здоровяка в форме румынского офицера. — А пистолетик-то дрянь, — критически заметил офицер, поднимая оружие. — Разве что слабонервных пугать. Но, но, но! — погрозил он пальцем. — Без фокусов. — Г-господин офицер, — с трудом выдавил из себя парень, — с чего вы в-взяли, что я торгую марафе... то есть, простите, наркотиками? — Зайдем в парадное — поговорим, — удерживая его за локоть, сказал офицер. В подъезде офицер коротко приказал: — Раздевайся!Единственная, полностью уцелевшая стена разрушенного дома бросала густую тень на громоздящиеся у ее подножия обломки камня, груды битого кирпича, штукатурки и пепла. Водопроводные трубы мертвыми змеями свисали со стены. Судя по всему, дом был большой — его руины занимали добрую половину квартала. У каменной полуарки, оказавшейся при ближайшем рассмотрении пролетом рухнувшей лестницы, человек в мундире румынского офицера остановился. Перебросив через уцелевшие перила гражданский костюм, который он до того держал на руке, и достав из-за пазухи полуботинки, человек стал переодеваться. Туфли пришлись ему впору, зато пиджак чуть не лопнул в плечах. Поневоле пришлось сгорбиться. Человек вспомнил заплетающийся лепет бывшего владельца костюма и брезгливо поморщился. Он попытался убедить себя в том, что у него не было другого выхода, но это мало помогло — на душе остался какой-то неприятный осадок. Человек вытащил из кармана уже отслужившего свое мундира резиновый бумажник, открыл его и наощупь проверил находящиеся в нем документы. Все в порядке. Теперь можно подумать о дальнейшем. Капитана кавалерии Радолеску больше нет. Под каким же именем он выйдет утром отсюда? Документы, которыми его снабдили, позволяют делать выбор. На чем остановиться? Аусвайс немецкого колониста? Но он не очень чисто говорит по-немецки. Итальянским владеет лучше. В бумажнике лежит удостоверение итальянского моряка. Но где раздобыть форму? А может, использовать третий, наиболее надежный, но наименее удобный для действий документ? Надо хорошо подумать. До утра еще много времени. Он уже успел зарыть в кирпичном мусоре под лестницей атрибуты румынского кавалериста, когда услышал шум отдаленной стрельбы. Человек прислушался. Вскоре он уже различал частую дробь станковых пулеметов, сухой треск автоматов, ухающие взрывы гранат. Звуки ночного боя неслись с противоположного конца города, из района Старых каменоломен. «Партизаны», — догадался человек. Он подумал, что на худой конец можно будет податься в каменоломни, но тут же отогнал эту мысль. Пока еще рано думать об этом. Надо попытаться сделать то, ради чего он пришел в город. Он отдает себе отчет в том, что затевает почти безнадежное дело: его двое товарищей, с которыми он перешел линию фронта, погибли, а он сам едва ушел от погони. Но хуже всего, что немцы узнали о кофейне. И все-таки он не отступит. Он еще не знает, что предпримет, не знает даже, где проведет следующую ночь; но он должен сделать все, что сможет, а может он не так уж мало. Он не верит в предчувствия, но какой-то голос говорит ему, что гестаповцы не докопались до главного, что им ничего не известно о Большом гроте…
* * *
Новому секретарю городской управы Крахмалюку понадобилось теплое белье. Не пара и не две, а сразу тысяча двести двадцать пять комплектов — вся партия, прибывшая в адрес итальянского гарнизона. Крахмалюк полагал, что рано или поздно наступит зима и что, по мере понижения температуры, рыночные цены на теплые вещи будут соответственно возрастать. В отличие от него полковник Стадерини не хотел заглядывать так далеко: полковник считал, что к тому времени, когда наступят холода, война окончится и итальянские солдаты вернутся на свою родину, где можно обойтись и без теплого белья. Сделка была заключена после осмотра товара, хранившегося в пакгаузе 15-й пристани. Стороны остались довольны друг другом. В город возвращались в машине итальянского коменданта, Галка сидела впереди — рядом с Луиджи. На заднем сидении Крахмалюк, развалясь и что-то насвистывая, фамильярно похлопывал ухмыляющегося Стадерини по колену. Луиджи вел машину по Второй Якорной улице вдоль глухой каменной ограды, за которой тянулись портовые склады. У Луиджи было великолепно развито чувство самосохранения: когда раздались выстрелы, он резко затормозил машину и нырнул под баранку. Галку бросило вперед, и она едва не ударилась о лобовое стекло. Выстрелы гремели где-то совсем рядом, однако она не сразу поняла, откуда стреляют. Но вот Галка увидела, как впереди через пролом в ограде выскочил и, пригибаясь к мостовой, побежал к Баркасному спуску коренастый парень в белой парусиновой робе. Вслед за ним на улицу выпрыгнул солдат с черными бархатными петлицами, перечеркнутыми змейками молний. Эсэсовец, не целясь, дал очередь из автомата. Парень в робе пробежал еще несколько шагов и, будто нечаянно споткнувшись, упал на одно колено. До него было метров пятьдесят, и Галка хорошо видела, как от боли судорожно вздрагивала спина раненого. Через пролом в ограде на улицу выбежали еще два солдата. От Баркасного спуска, стреляя в воздух из карабинов, спешили молодчики из вспомогательной полиции. Автоматчики с одной, а полицаи с другой стороны уже приближались к упавшему парню, когда он вдруг отчаянным рывком поднялся на ноги и повернулся к набегавшим эсэсовцам. Галка едва сдержала крик — она узнала связного, который два дня назад привел ее к Гордееву. Когда эсэсовцы были уже рядом, а подбегавшие сзади полицаи заносили приклады, парень что-то крикнул, отбросил со лба волосы и… швырнул себе под ноги гранату. Взрыв подстегнул Луиджи: он вцепился в баранку, и машина, рванувшись с места, юркнула в ближайший переулок. Стадерини, обретя дар речи, ругал шофера последними словами, Крахмалюк испуганно всхлипывал, а Галка, откинувшись на спинку сиденья, неподвижно смотрела вперед. Она думала о разбитном парне — связном. Как его зовут? Она даже имени его не знала, хотя дважды встречалась с ним Кем он был? Матросом? Рыбаком? Курсантом «мореходки»? Или у него была какая-нибудь сухопутная профессия? Но разве это важно? Он был бойцом подполья, молодым, бесстрашным, и это главное. Это то, что останется в памяти тех, кто знал его. Кончится война, и его имя станет известно всему городу, а возможно и всей стране. О нем напишут в газетах, а быть может, даже сложат песню — мужественную и грустную, похожую на песню об Орленке. О его геройской смерти будут говорить с трибун в день Победы; теплыми летними вечерами у ярких пионерских костров прославленные партизаны будут рассказывать притихшим ребятам о его подвиге. Уже дома, у себя в комнате, Галка расплакалась. В воскресенье Галка, убирая в своей комнате, увидела на подоконнике письмо из городской управы, о котором совсем забыла. Она еще раз прочла послание бургомистра и возмутилась. Неужели Логунов думает, что она будет петь в его холуйском театре? Однако на всякий случай она посмотрела на часы. Назначенное ей время «аудиенции» прошло. Тем лучше! Пусть за нее с бургомистром объясняется полковник Стадерини. Галка была уверена, что итальянский комендант не пожелает расстаться со своей единственной переводчицей. И она не ошиблась. Стадерини и слышать не хотел об ее увольнении. Он даже покраснел от возмущения и стал похож на обиженного борова. — Сакраменто! — ревел он, потрясая волосатыми кулаками. — Этот идиот — мэр воображает, что может распоряжаться сотрудниками моей комендатуры! Я проучу его. Передайте, что я вытрясу из него душу — если она у него есть — и заставлю его жевать собственные уши! Скажите ему… Нет, остальное я сам ему скажу. Идите работайте, синьорина, и выбросьте из головы эти танцы. — Пение, — сдерживая улыбку, поправила Галка. — Все равно! — рявкнул полковник. — Я вас никуда не отпущу. — Мне очень приятно, синьор, что вы так цените мои услуги. Но я, право, не знаю, как быть. Мэр может обидеться. — Предоставьте этого проходимца мне! Галка была довольна. Теперь ей решительно наплевать на Логунова и его театр. Вообще ей здорово повезло в тот день: она разузнала о некоторых небезынтересных событиях, предшествовавших схватке в кофейне «Веселая пучина». Тому способствовали два обстоятельства. Во-первых, немцы после безрезультатных поисков бежавшего из кофейни румынского офицера решили наконец посвятить в это дело своих союзников — итальянцев, которым они вообще-то не очень доверяли. Во-вторых, полковник Стадерини в тот день прислал за своей переводчицей машину на час раньше обычного — надо было срочно перевести какую-то официальную бумагу, — и Галке довелось присутствовать на утреннем инструктаже патрулей. Проходя через просторную приемную, где уже собрались старшие нарядов, Галка обратила внимание на то, что инструктаж проводит не дежурный офицер — как обычно, а подполковник Вицини из фашистской охранки. Это заинтересовало ее и, войдя в кабинет Стадерини, она не прикрыла за собой дверь. Склонясь над документом, Галка внимательно прислушивалась к доносящемуся из приемной зычному голосу Вицини. — …Помимо награды, отличившиеся получат месячный отпуск. Вместе с тем должен предупредить, что бежавший — опасный преступник. Он одинаково хорошо владеет пистолетом и ножом. Достаточно сказать, что брошенный им с расстояния десяти метров кинжал вошел в горло бедняге штурмфюреру по самую рукоятку. Если при упоминании о награде и отпуске в зале одобрительно загудели, то последнее заявление было встречено гробовым молчанием. — Синьор подполковник, — неуверенно спросил кто-то, — каковы особые приметы этого румына? — Он такой же румын, как и мы с тобой, лейтенант, — хмыкнул Вицини. — К тому, что я сказал, добавить нечего. Наши немецкие друзья не располагают другими данными. — Но они почти держали его в руках. — Почти — не считается. Ты, как старый бильярдист, должен это знать. Немецким контрразведчикам не удалось разглядеть его физиономию. Двое унтер-офицеров, которые пытались это сделать, были вчера похоронены на военном кладбище. — Излишнее любопытство не приличествует солдату, — заметил кто-то из патрулей. — В этой стране безопасно разглядывать только мертвых. — За мертвого награда наполовину меньше, — возразил подполковник. — Но больше шансов на то, что ее получишь. — Поступайте, как найдете нужным, — согласился Вицини. Днем, прислушиваясь к разговорам начальников патрулей, заходивших в приемную коменданта, Галка узнала следующее. В ночь, когда в порту был подорван второй транспорт, вахтенный немецкого сторожевого корабля заметил непонятный световой сигнал с берега. Было установлено, что сигнал подавался в сторону моря из развалин старой крепости на Турецком кургане и был виден только в ограниченном секторе семнадцатой пристани, где стоял уже обреченный танкер. Надо отдать должное оперативности немецких контрразведчиков: уже через 20–25 минут эсэсовцы оцепили старую крепость. Но их старания не увенчались успехом — в крепости никого не оказалось. И только случайно в ту ночь агент вспомогательной полиции на одной из узких улочек, примыкающих к подножию Турецкого кургана, заметил подозрительного человека. Человек этот, несмотря на темноту, хорошо ориентировался в лабиринте старой части города. Агент проследил его до кофейни «Веселая пучина», о чем тотчас же донес начальству. Но как раз в это время в порту гигантским факелом вспыхнул танкер с авиабензином, и всполошенному начальству было не до агентурного донесения. Только спустя несколько часов о нем узнали в морском отделе гестапо. В кофейню ворвались гитлеровцы. Им не удалось взять Георгиоса живым. При обыске в особняке были найдены радиопередатчик и сигнальные фонари морского образца. Подполковник Вицини полагал, что Георгиос своими сигналами ориентировал советскую подводную лодку, направляя ее к месту стоянки танкера. В кофейне оставили засаду. В течение недели всех посетителей — а их было немало — задерживали до выяснения личности. Но все они оказывались солдатами или офицерами местного гарнизона. Гестаповцы уже стали терять надежду, когда в среду вечером явились трое в форме румынских офицеров. На приказ сдать оружие и предъявить документы «румыны» ответили выстрелами. В завязавшейся перестрелке двое из них были убиты. Третьему удалось бежать.* * *
События в кофейне «Веселая пучина» все больше и больше волновали Галку. То, что Георгиос имел какое-то отношение к потоплению фашистских транспортов, было для нее неожиданным. Она предполагала все, что угодно, только не это. До конца рабочего дня Галка не переставала думать о Георгиосе. Она сидела за своим столом в приемной коменданта и машинально перебирала какие-то бумаги. Ее мысли были далеко. Она даже не заметила подошедшего к ней офицера. — Вы чем-то расстроены, Галина Алексеевна? — участливо спросил офицер. Она ответила односложно, полагая, что это кто-то из патрульных. Но вдруг до ее сознания дошло, что офицер говорит по-русски. Галка недоуменно подняла глаза и увидела Хюбе. — Я заходил к своему итальянскому коллеге — подполковнику Вицини, а заодно решил проведать вас. Галка насторожилась и на всякий случай улыбнулась гестаповцу. — Мне надо благодарить синьора Вицини. Если бы не он, вы, вероятно, и не вспомнили бы о моем существовании, — кокетничала Галка, с удивлением отмечая про себя, что у нее это неплохо получается. — Мне почему-то казалось, — улыбнулся Хюбе, — что мой визит не очень обрадует вас. — Радость — довольно редкое чувство в наше время, господин майор. Но вас мне приятно видеть. — Благодарю. Признаюсь, я думал, что вам гораздо приятнее видеть масовцев. — Масовцев? — изобразила удивление девушка. — Кого вы имеете в виду? — Друзей синьорины Мартинелли из отряда МАС. — Ах, вон оно что! — рассмеялась Галка. — Они неплохие ребята, эти итальянские моряки. Хотя драчуны отчаянные. По лицу штурмбаннфюрера пробежала тень — намек на потасовку у «Бристоля» был явно неприятен ему. Но в следующее мгновение губы его снова растянулись в улыбке. — А вы не так просты, как я думал. — Я и не старалась казаться наивной. — Наивность? — Хюбе рассмеялся, показывая белые ровные зубы. — Насколько мне известно, вы не страдаете этим недостатком. То есть я хотел сказать, что вы неглупая девушка, — тут же поправился он. — Это тоже недостаток? — Наоборот — достоинство и притом редкое у женщины. Стенные часы пробили шесть. — Ваше рабочее время кончилось? — Да. И слава богу. Сегодня такая духота, что я устала, будто весь день носила тяжести. — Хотите, я отвезу вас домой? У меня открытый лимузин, а мой шофер мастер создавать ветер даже в самую тихую погоду. Предложение не было навязчивым. Но Галка уже знала, что отклонить его нельзя. Хюбе зашел к ней неспроста. Она догадалась об этом сразу, а после того как он упомянул о масовцах, уже не сомневалась. Неужели она допустила какую-то ошибку? Или, быть может, Зинаида Григорьевна, не выдержав пыток, назвала ее? Неприятный холодок прошел по спине. Отгоняя тревожные мысли, Галка закрыла свой стол и встала. — Я с удовольствием прокачусь в открытой машине. На широком проспекте шофер включил третью скорость. В лицо хлынула освежающая струя воздуха. — Хорошо! — невольно вырвалось у Галки. — Люблю быструю езду. — А вы не из трусливых. — Это достоинство? Хюбе улыбнулся. — Чем ближе я узнаю вас, Галина Алексеевна, тем больше восхищаюсь вами. Мне кажется, что ваших достоинств хватило бы на полдюжины женщин. Вчера я узнал от господина Логунова, что вы — ко всему прочему — еще и талантливая певица. — Бургомистр преувеличивает мои способности. — Не думаю. В создаваемом им театре нет особой нужды в женских голосах. Однако Логунов, насколько мне известно, предпочитает вас многим опытным актрисам. Он даже заинтриговал старика Рейнгардта. Адмирал большой меломан, и ему не терпится услышать девятнадцатилетнюю певицу, о которой бургомистр прожужжал ему уши. Галка растерянно посмотрела на Хюбе. — Полковник Стадерини не отпускает меня, — нерешительно сказала она и тут же сама удивилась наивности этого довода. Хюбе отрывисто рассмеялся. — Вы полагаете, что желание или нежелание итальянского коменданта имеют какое-то значение? — Да, но… Гестаповец пристально взглянул на нее. — Странно, — сказал он, откидываясь на кожаные подушки сиденья. — У меня создается впечатление, что вы сами не очень-то стремитесь в театр. О чем же — разрешите спросить — вы думали, когда поступали в музыкальное училище? Галка рассеянно улыбнулась. Она не была готова к этому, казалось бы, простому вопросу. И только сейчас поняла свою беспечность. Хюбе прав. Она должна была мечтать о театре. — Я буду откровенна, господин майор. Опера — моя давнишняя мечта. Но за последнее время меня слишком часто постигает разочарование. Я боюсь, что затея бургомистра не принесет удачи ни ему, ни мне. Господин Логунов приложил много усилий, чтобы создать Новый театр. Но собранная им труппа напоминает дом без крыши. Ни одного приличного тенора! Ну, скажите, о каком более или менее серьезном концерте — я уже не говорю о постановке оперы — может идти речь? Без тенора нет оперы. А коль так, то очень быстро все сведется к эстрадным выступлениям, к шантанным песенкам. Нет, увольте! — Должен вас огорчить, Галина Алексеевна. Логунов нашел тенора, и, говорят, неплохого. Галка поняла, что отступать поздно. Хотел того штурмбаннфюрер или нет, но он заманил ее в ловушку. — Огорчить? Почему? Я очень рада. — Не думаю, что это редкое в наше время чувство вдруг овладело вами, — усмехнулся Хюбе. — Теперь вам надо придумывать какой-нибудь новый предлог, чтобы отказать Логунову. — Я не понимаю вас. Появление тенора меняет положение. — Стало быть, вы принимаете предложение бургомистра? — Конечно! Но я прошу объяснить, господин майор, чем вызвано такое недоверие? — Откровенность за откровенность. Я полагал и сейчас еще не совсем разубежден в этом, что работа в итальянской комендатуре почему-то вас устраивает больше, чем все прочее. Галка опять почувствовала неприятный холодок на спине. — Что же, по-вашему, меня интересует? — с вызовом спросила она. — Расположение частей итальянского гарнизона, бланки пропусков на право хождения по городу ночью или секреты подполковника Вицини? Это была уже наглость. Именно то, о чем она говорила, не так давно действительно интересовало ее. — Почему вы молчите, Хюбе? Не думаете ли вы, что я партизанка? Штурмбаннфюрер рассмеялся. — Дислокация итальянских частей известна в городе каждому мальчишке. Да и потом это все дела сухопутные, а меня с некоторых пор интересует только море. — Почему же вы заинтересовались моей особой? — не отступала Галка. — Я-то не имею никакого отношения к морским делам. Хюбе сделал знак шоферу остановить машину и повернулся к Галке. — Разве только итальянским офицерам разрешено интересоваться вами? Или вы считаете меня женоненавистником? — Вы как-то странно начинаете ухаживать, — возразила она, удивляясь той ловкости, с которой Хюбе всякий раз ускользал от ответа. Она не верила ни одному его слову. — Каждый ухаживает, как умеет. Но если хотите услышать банальное признание, то я скажу, что вы мне нравитесь. Сегодня вы особенно хороши. Вам так идет это платье. Кстати, кто вам шил его? Видимо, человек с большим вкусом. Как ни хитрил Хюбе, как ни запутывал разговор, но этот вопрос не застал Галку врасплох. «Вы полагаете, господин штурмбаннфюрер, — мысленно усмехнулась она, — что я стану отрицать знакомство с владелицей ателье?» — О, вы уже начинаете интересоваться деталями, — почти весело и немного лукаво сказала она. — Хорошая портниха — это секрет модницы. — Галка выдержала паузу и, уловив краем глаза торжествующую ухмылку гестаповца, сказала с притворным вздохом: — Но вам, гак и быть, я дам адрес моей костюмерши. Дмитриевская улица, дом девятнадцать, ателье госпожи Адамовой. — Зинаиды Григорьевны? — А вы ее знаете? — Мне пришлось с ней познакомиться. — Вы говорите это так, словно она чем-то огорчила вас. Хюбе в упор посмотрел на Галку. Девушка выдержала его взгляд и даже недоуменно вскинула брови. Но это кажущееся спокойствие далось ей с трудом. Она улыбнулась, а в голове билась мысль: «Неужели Зинаида Григорьевна назвала меня? Неужели конец?» Хюбе снова откинулся назад. — Признаюсь, ваша приятельница доставила мне немало хлопот, — сказал он, протягивая Галке портсигар. — Спасибо, я не курю. Адамова никогда не была моей приятельницей. Я не дружу с теми, кому плачу деньги. К вашему сведению, господин майор, я родилась и выросла в семье русского дворянина. Хюбе, прикрывая ладонями зажигалку, пытался закурить на ветру. Когда это ему удалось, он сказал будто между прочим: — Однако дворянское происхождение не помешало вам в свое время вступить в комсомол. — На моем месте вы, вероятно, пытались бы вступить в большевистскую партию. Хюбе расхохотался. — Вы начинаете мне нравиться всерьез. Но вернемся к госпоже Адамовой, — сказал он, резко обрывая смех. — Что вы можете сказать о ней? — Что она хорошая портниха. — И только? А как человек она вам нравится? — Как-то не задумывалась над этим. По-моему, она неплохая женщина. — Вы бы огорчились, если бы с ней произошла какая-нибудь неприятная история? — Конечно. В городе лучше ее никто не шьет. — Я не об этом. Ну, представьте себе, что она попала в беду. Вы бы помогли ей? — Если бы это зависело от меня. — Так вот, госпожа Адамова арестована полицией безопасности. — За что?! — удивление, изображенное Галкой, было почти естественным. — Есть кое-какие подозрения. Я познакомился с Зинаидой Григорьевной уже по долгу службы. Она производит хорошее впечатление. Интеллигентная и довольно еще интересная женщина. И, представьте себе, совершенно одинока. После ареста ни один человек не поинтересовался ее судьбой. Как будто она и не жила в этом городе. Вчера мне даже стало жаль ее. Вот я и подумал, что было бы неплохо, если бы кто-нибудь из ее заказчиц, коль нет у нее родных и близких, проявил о ней небольшую заботу. Ну, скажем, передал бы ей посылочку или даже повидался бы с нею. Я могу устроить свидание. — Вы хотите, чтобы этой заказчицей была я? — Галина Алексеевна, я не настаиваю. Просто мне хотелось чем-то помочь госпоже Адамовой. В уголках Галкиного рта легли упрямые складки. — Когда я смогу увидеться с ней? Хюбе, — словно он только этого и ждал, — поспешно вынул карманные часы. — Пожалуй, можно сейчас. Он сделал знак шоферу, и машина тронулась с места. — А передача? Мне неудобно явиться к ней с пустыми руками. Хюбе недовольно сморщился. — Да, да, конечно. По дороге мы заедем в магазин.* * *
Галка давно не была в порту, и, когда машина свернула вниз к морю, она, едва сдерживая волнение, невольно подалась вперед. Вот сейчас за поворотом откроется хорошо знакомая набережная: гладкие большие плиты мостовой, морской вокзал, клуб моряков, а немного дальше — длинное белое здание управления порта… Шофер круто повернул баранку и тотчас же затормозил возле больших железных ворот. Раньше здесь была людная улица с узкими тротуарами, суетливая днем и неугомонная ночью. Но сейчас улицу преграждали тяжелые ворота, на которых белела аккуратная надпись: «Вход гражданскому населению воспрещен». Угрюмые, почерневшие дома с двух сторон молча смотрели на Галку пустыми глазницами выбитых окон. «Где же люди, которые жили здесь и там ниже — на набережной?» — невольно подумала она. Громыхнул засов, и тяжелые створки медленно, как бы нехотя, открылись, пропуская машину. Обгоревшие стены, выбитые окна, деревянные козлы с колючей проволокой, пулеметы на перекрестках… Около чудом уцелевшего клуба моряков большая группа изможденных, оборванных людей молча выстраивалась в колонну. По обеим сторонам колонны стояли немецкие солдаты. Толстый неповоротливый унтер-офицер с хлыстом в руке кричал на кого-то, путая немецкие и русские слова. — Шнель, русише швайн! Я буду учить тебя торопиться! Капо надо сажать ин карцер дизер шмуциг скотина. — Это военнопленные, — сказал Хюбе, искоса посматривая на Галку. — Мы используем их на подсобных работах. — А тот мальчишка в синей куртке тоже военнопленный? — Конечно, — даже не взглянув на мальчишку, кивнул гестаповец. — Но ему не больше пятнадцати лет. — Это вам показалось. Потом Галка увидела рейд. Совсем близко. Торчащие из воды ржавые трубы и верхушки мачт, разбитые пирсы, вздыбленную корму полузатопленной баржи, а дальше — в районе грузовых пристаней — незнакомые силуэты транспортов. И все же то был ее порт. Разбитый, загаженный, пленный, но — ее. В груди поднялась и подступила к горлу, грозя прервать дыхание, жгучая волна гнева. Ногти сами собой впились в ладони, но она не чувствовала боли. Они подошли к большому серому зданию. На фронтоне его угадывались плохо затертые буквы: «Сберегательная касса». В вестибюле дежурный офицер встретил их лающим криком: «Хайль Гитлер!» Хюбе небрежно поднял руку. Коридоры были наполнены стрекотом пишущих машинок. Люди в черных мундирах со свастиками на рукавах деловито бегали из одной двери в другую. У всех были какие-то папки, бумаги, канцелярские книги. Галке показалось, что она попала в большую контору, где люди заняты только тем, что весь день пишут, щелкают на счетах и печатают длинные инструкции и доклады. При встрече с Хюбе чиновники в черных мундирах почтительно прижимались к стенам и, задрав вверх выбритые подбородки, заученным жестом вскидывали руки. Штурмбаннфюрер не обращал на них внимания. Впрочем, он сказал Галке: — Посмотрите на этих людей. Что в них особенного? Обыкновенные тыловые крысы. У вас, русских, принято все преувеличивать. «Ах, гестапо! Ох, гестапо!» Но вот вы находитесь в гестапо. Что здесь ужасного? Они свернули в боковой полутемный коридор, где по обеим сторонам тянулись похожие друг на друга невысокие, обитые толстым войлоком двери. Здесь было тихо. Ковровая дорожка скрадывала шаги. Хюбе взял Галку об руку и продолжал: — Единственная наша вина заключается в том, что мы пытаемся навести порядок среди деморализованного населения и обезвредить фанатически настроенные элементы… Пронзительный, истошный крик прорвался через обитую войлоком дверь. В этом стынущем в ушах крике не было ничего людского. Грудь не могла исторгнуть такой дикий, такой протяжный звук; он родился где-то в утробе обезумевшего от ужаса и боли человека. Срываясь на высокой ноте, крик перешел в хрипящий вой и вдруг оборвался. Галка схватила Хюбе за рукав. — Нервы у вас, Галина Алексеевна, не в порядке. — усмехнулся он. — Я не думал, что вопль какого-то болвана так напугает вас. Он открыл одну из дверей и через небольшую приемную провел Галку в кабинет. Кабинет был похож на гостиную. Огромный ковер на полу, полумягкие кресла, широкий диван, рядом ломберный столик, в углу радиола, в другом — полированный книжный шкаф. И только стоящие в ряд на письменном столе телефоны да большой портрет Гитлера на стене придавали комнате несколько официальный вид — Здесь редко бывают гости, — сказал Хюбе, снимая фуражку и приглаживая аккуратно зачесанные светлые волосы. — Ваш визит для меня целое событие. Но, судя по всему, вам здесь покажется скучно. Я не умею быть занимательным, не умею — как вы уже заметили — ухаживать за девушками. Идемте, я познакомлю вас с одним презабавным человеком. Галка понимала, что Хюбе паясничает, но не могла понять что ему нужно от нее. Почему он не ведет ее к Зинаиде Григорьевне? — После того я смогу уйти отсюда? — спросила она. — Если вам будет угодно, — в голосе штурмбаннфюрера звучала насмешка. В кабинете была еще одна дверь — невысокая, окрашенная под цвет стен и потому сразу неприметная. Хюбе пропустил Галку вперед. Перешагнув порог, девушка невольно остановилась. Огромный высокий зал со стеклянным потолком, через который струился тусклый дневной свет, открылся перед ней. Окон в зале не было. Справа в стене было вырезано несколько ниш, в которых прятались двери. Выложенный узорчатым кафелем пол упирался в чугунную балюстраду. Тяжелая многоярусная люстра свешивалась с потолка. — Когда-то, еще до первой мировой войны, здесь помещался операционный зал франко-русского морского банка, — с любезностью гида пояснил Хюбе. — В подвалах этого дома хранились многочисленные ценности. Видите балюстраду? За ней — спуск в бывшие банковские хранилища. Галка прошла туда и, перегнувшись через массивные перила, заглянула вниз. Она увидела глубокий каменный колодец, на дне которого тускло горела электрическая лампочка. Лепясь к стенам колодца, вниз крутой спиралью спускалась железная лестница. — Вы тоже храните там драгоценности? — наивно спросила Галка. — Увы, мы вынуждены там держать более прозаический, но не менее беспокойный материал, — усмехнулся гитлеровец. Одна из дверей, выходящая в зал, открылась. Грохоча по кафелю сапогами, вошли два рослых солдата. Они волокли под руки окровавленного человека в изодранной рубахе. Голова человека безжизненно свешивалась на грудь, а босые ноги тащились по полу. Заметив штурмбаннфюрера, солдаты остановились. — Подследственный номер четыреста девятнадцать, — доложил старший из них. — Находился на допросе у гауптштурмфюрера Рейнмайера. Хюбе жестом велел солдатам следовать дальше. Те поволокли заключенного к лестнице, ведущей на дно каменного колодца. — Вы видели одного из фанатиков, который пытался пробраться в охраняемую зону порта, — кивнул им вслед Хюбе. — При задержании оказал сопротивление. Мы не церемонимся с такими. Но вообще я не сторонник крайних мер. В основу нашей работы положен метод психологического воздействия. Вы убедитесь в этом, когда познакомитесь с моим помощником доктором Норте. Помощник штурмбаннфюрера оказался маленьким щуплым человечком. Он едва доставал Галке до плеча. Большой у него была только голова с оттопыренными розовыми ушами. — Доктор философии Август Норте. В прошлом доцент кафедры психологии Геттингенского университета Георгии Августы, — поднимаясь на носки, отчеканил он звонким детским голосом. Галка подумала, что он весь похож на болезненного, обиженного ребенка, которого, шутки ради, заставили притворяться взрослым. — Август, — обратился к нему Хюбе, — госпожа Ортынская интересуется работой отдела. Расскажите ей в общих чертах о наших методах. Большеголовый человечек нисколько не удивился. Он выпятил узкую птичью грудь и, заложив руку за борт мундира, прошелся по комнате, смешно расставляя тонкие ноги. У него были повадки завзятого лектора. — Вы спросите меня: что общего между наукой о психических явлениях и деятельностью полиции безопасности? Вы смущены? Значит, я угадал ваш вопрос! Он сделал замысловатый пируэт и назидательно поднял палец. — Изучить психологию противника, а тем более противника тайного, значит наполовину победить его. Но изучить мало, надо определить уязвимость его психических свойств и соответствующим образом использовать это. Здесь важен индивидуальный подход. Приведу несколько примеров. Я вижу, что подследственный трусит, но тем не менее продолжает упорствовать. В этом случае к нему можно применить демонстрацию расстрела. Справа и слева от него падают казненные. Его страх достигает апогея, и он начинает давать показания. Другой пример. Добропорядочный обыватель, как правило, сентиментален и привязан к семье. Он может быть очень упрямым человеком, но когда угроза активной репрессии нависает над кем-то из его близких, он обычно пасует. Дальше. Некоторые молодые дамы и девушки страдают болезненной стыдливостью. Стоит отвести их в заведение для солдат и пригрозить оставить там, как они становятся разговорчивее. Учтите, все это делается без какого-либо физического воздействия. Однако все это академические примеры. Мы их относим к методам первой степени. В работе иногда сталкиваешься с более сложными явлениями. — Август, вы прекрасный лектор, но плохой хозяин, — воспользовавшись паузой, заметил Хюбе. Норте непонимающе уставился на штурмбаннфюрера. — Вы стали скрягой, милый доктор. Или у вас кончился запас шоколада? Норте засуетился. Он открыл небольшой шкафчик, и перед Галкой появились красочная бонбоньерка с шоколадными конфетами, ваза с фруктами и бутылка вина. — Прошу извинения, — расшаркался маленький гестаповец, придвигая к девушке фрукты. — Я был так польщен вашим вниманием, что забыл обо всем. Вначале Галка хотела отказаться от угощения, но, заметив, что Норте, явно жадничая, не торопится открывать бонбоньерку, решительно придвинула конфеты к себе. Норте даже переменился в лице. — Продолжайте, Август, — пряча улыбку, сказал Хюбе. Он подошел к столу, взял несколько конфет и, подмигнув Галке, вернулся на диван. Маленький Норте снова засеменил по комнате, искоса бросая на девушку тревожные взгляды. Бонбоньерка пустела с удивительной быстротой. — Э… э… э… На чем мы остановились? Ах, да! Последнее время нам приходится сталкиваться с фанатически настроенными элементами. Как правило, эти люди с поразительным хладнокровием относятся к своей участи. Вместе с тем у них, как это ни странно, чрезвычайно развито чувство собственного достоинства. Они им прикрываются как щитом. Выбейте этот щит, и они станут мягкими, как воск. Методы первой степени здесь бессильны. Мой коллега — гауптштурмфюрер Рейнмайер полагает, что к таким субъектам следует применять метод чисто физического воздействия. Но я стою на иной точке зрения. Безусловно, Рейнмайер специалист нашего дела, однако его методы несколько рискованны. Я не буду останавливаться на них. — Зачем вы мне все это говорите? — спросила Галка. — Вы хотели познакомиться с нашей работой, — хмыкнул за ее спиной Хюбе. — Я ничего не хотела. Но Норте не слушал ее или сделал вид, что не слышит. Он продолжал: — В отличие от Рейнмайера, я применяю методы, которые мы относим ко второй степени. Эти методы не исключают применения умеренного физического воздействия, однако здесь основным моментом является опять-таки воздействие психологического порядка. Вот один из примеров. Подследственного сажают в невысокий ящик, в котором он может расположиться только на четвереньках. В одной из боковых стенок делаются отверстия, в которых неподвижно крепятся голова и кисти рук. После трех–четырех дней пребывании в таком положении подследственный становится безразличным ко всему, кроме еды. Если этого недостаточно, то через равные промежутки времени, скажем, через каждые два часа, ему наносят серию ударов средней степени. Тут опять-таки главное не сама боль, а ожидание ее. Это ожидание усугубляется тем, что перед подследственным стоят часы с громким ходом. Тик-так, тик-так. Каждая секунда приближает очередную экзекуцию… Галка не слышала, как за ее спиной открылась и закрылась дверь.Ковер скрыл медленные шаги. — Ортынская рассказала о вашей деятельности, госпожа Адамова, — услышала она вкрадчивый голос Хюбе. Галка резко обернулась и увидела Зинаиду Григорьевну. В тот же миг ваза с фруктами упала на пол. Девушка успела заметить, что вазу опрокинул Норте. Но только позже она поняла, что гестаповец сделал это умышленно, сделал так, чтобы со стороны казалось, будто вазу опрокинула растерявшаяся Галка. Норте не зря хвастал своим «психологическим» методом. Он учел все: и беззвучно открывшуюся дверь, и опрокинутую вазу, и даже конфету, застывшую в Галкиной руке. Гестаповцы, видимо, не надеялись, что очная ставка поколеблет упорство «хозяйки ателье», они только хотели проверить свои подозрения. Одно слово измученной десятидневной пыткой женщины решало Галкину участь. Достаточно было Зинаиде Григорьевне на какую-то долю секунды поверить в ее предательство, достаточно было негодующего взгляда арестованной — одного только взгляда — и Галка уже бы не вышла отсюда. — Ортынская просила уволить ее от встречи с вами, — глядя на Галку, продолжал штурмбаннфюрер. — Но мы были вынуждены прибегнуть к очной ставке. Надеюсь, Галина Алексеевна извинит нас. У Галки пересохло в горле. Она хотела что-то сказать, но язык не поворачивался. Она не могла отвести взгляда от Зинаиды Григорьевны, от ее осунувшегося, необычно бледного лица с глубоко запавшими воспаленными глазами. — Вы повторяетесь, Хюбе, и довольно неудачно, — тихо, но уверенно сказала Адамова. — Эта девчонка — не лучший ваш агент. Я ей не верила с самого начала. Не пойму, зачем вам было приставлять ко мне второго шпика. Первый вполне справился со своей ролью. Не в пример этой девке, он был прекрасным артистом. До самого ареста я даже не подозревала, что старый крановщик… — Молчать!!! — Маленький Норте подскочил к Адамовой и, подпрыгнув, ударил ее кулаком в лицо. — Конвой! — взвизгнул он. — Отвести ее к Рейнмайеру! Вбежавший на его крик рослый унтер-офицер схватил Адамову за руки. — Вы, кажется, боитесь, что я убегу? — слабо усмехнулась Зинаида Григорьевна. Норте рассмеялся ей в лицо. — Отсюда вы можете убежать только на тот свет. Шарфюрер, отпустите эту гусыню. Она желает проследовать на живодерню своим ходом. Укажите ей дорогу. Зинаида Григорьевна выпрямилась и медленно вышла из кабинета. Хюбе, который безучастно наблюдал за всей этой сценой, поднялся с дивана. — Норте, мне неприятно делать вам замечание в присутствии гостьи, но все же я должен заметить, что вы невыдержанны. Разве можно так пугать подследственных? Галина Алексеевна подумает, что мы действительно собираемся пытать Адамову. Маленький гестаповец непонимающе уставился на своего начальника, — Вам недостает чувства меры, милый доктор, — паясничал Хюбе. — Галина Алексеевна приняла все за чистую монету… Выстрел за дверью заставил вздрогнуть всех троих. Хюбе прыжком выскочил в зал. Норте вытащил из кобуры пистолет и неуверенно засеменил за начальником. Галке казалось, что все это происходит в каком-то кошмарном сне. В висках гулко стучала кровь, а перед глазами плыл туман. Возможно, это был просто дым — Хюбе порядком накурил в комнате, — но ей казалось, что все вокруг покрыто пеленой липкого тумана. Через непритворенную дверь, как сквозь вату, она услышала быстрый топот сапог, ругательства и дрожащий от ярости голос Хюбе. — Скотина! Я с тебя сдеру шкуру! Кто-то заикаясь оправдывался: — Я н-не думал, что она б-бросится вниз. Она к-как к-кошка п-перемахнула через п-перила. — Насмерть, — сказал третий. — Внизу железобетонный пол. Дверь захлопнулась, и Галка больше ничего не услышала. Она сидела одна в большом мрачном кабинете. У ног ее на ковре лежали раздавленные персики и осколки разбитой вазы. Но ей казалось, что перед ней зияет пропасть каменного колодца, на дне которого горит электрическая лампочка. И туда вниз, оторвавшись от перил, летит тело… Галка утратила представление о времени. Прошло пять или десять, а может и тридцать минут. В кабинет вернулся Хюбе. Внешне он казался спокойным. Он даже улыбнулся. Но его улыбка была похожа на гримасу. — Галина Алексеевна, я должен извиниться. Признаюсь, хотел разыграть вас. Но шутка получилась очень глупой. Норте оказался гораздо большим болваном, чем я предполагал. Он хотел только припугнуть Адамову, но, как говорится, переборщил. Не придавайте значения тому, что говорилось здесь. Галка молча глядела себе под ноги. Хюбе подошел и заглянул ей в лицо. — Прошу вас, забудьте о том, что видели и слышали здесь, так будет лучше в первую очередь для вас самой. — Голос его стал жестким. — И еще. Ваша дружба с итальянскими моряками у многих вызывает недоумение. Это не те карты, на которые в вашем положении следует ставить. Мой совет: ищите друзей в другом месте.* * *
Валерия Александровна ждала Галку у калитки. — Явилась наконец, — сердито начала она, но тут же испуганно всплеснула руками: — Что случилось? На тебе лица нет. — Ничего, бабушка. Просто я плохо себя чувствую. Должно быть, простудилась. Они вошли в дом, и Валерия Александровна чуть ли не силой уложила Галку в кровать и заставила принять какие-то горькие порошки. Галка послушно приняла лекарство, выпила стакан горячего чая с засахаренным вареньем — ее действительно знобило, но уснуть не могла. Она только притворилась спящей. А когда бабушка тихо вышла из комнаты, Галка села в кровати и обхватила руками коленки. Она до каждой мелочи старалась припомнить все, что видела и слышала в гестапо. И тот страшный крик в коридоре, и окровавленного человека в зале, и приторно-вежливую улыбку Хюбе, и угасший, но спокойный взгляд Зинаиды Григорьевны… Сегодня она поняла, что все рассказы о гестапо, которые она слышала, были, пожалуй, слишком осторожны. Теперь она уже точно знала, что такое гестапо, знала, что ждет ее, если она попадет в руки Хюбе. Раньше она представляла все это слишком уж отвлеченно. Боится ли она Хюбе? Галка уже несколько раз задавала себе этот вопрос. Сейчас, наедине с собой, она могла не кривить душой и не храбриться. Ну, откровенно, честно! Нет, штурмбаннфюреру не удалось ее запугать. Она не обманывает себя, не пытается успокоиться. Она не может бояться Хюбе и его подручных, всех этих самоуверенных негодяев с молниями в петлицах потому, что она ненавидит их, и эта ненависть вошла в ее кровь, в мозг, в каждую клетку тела; потому что она должна отомстить им. Не только Хюбе и кривоногому Норте за тот страшный крик, за окровавленного человека в зале, за Адамову, а им всем — за горе и страдания, которые они принесли ее стране, ее народу. Немного успокоившись, Галка откинулась на подушку и закрыла глаза. Так она пролежала несколько минут и, вдруг вспомнив, что сегодня может прийти Гордеев, вскочила с кровати. Босиком вышла в столовую, подкралась к двери бабушкиной комнаты и прислушалась. Тихо. Бабушка, наверно, уже спит. Галка выскользнула в прихожую и, стараясь не звенеть ключами, открыла парадную дверь. Потом бегом возвратилась к себе и, не снимая халата, зарылась в постель. Только сейчас она почувствовала, как устала за день, как ломит спину, как стучит кровь в висках. Она уже начала дремать, когда тихий скрип заставил ее встрепенуться. Галка села, в темноте нащупала коробок и чиркнула спичкой. — Не надо. Потуши, — услышала она знакомый хриплый голос. Луч карманного фонаря скользнул по комнате и замер на коврике у кровати. Гордеев взял стул, придвинул его к Галкиной кровати и сел. — Какие новости, синьорина? — Георгиос убит при задержании. Его выследили, когда он подавал какие-то сигналы в сторону моря. — В кофейне что-нибудь нашли? — Рацию и сигнальные фонари. — И все? — Как будто — все. — Н-да… — Гордеев достал трубку и, не зажигая ее, сунул в рот. — А что известно о румынских офицерах? — Двое погибли, один бежал… Дядя Леня, кто они, эти трое? — Они шли на подмогу Георгиосу. Оттуда — из-за линии фронта. — А почему вы не предупредили их? — «Почему», «почему», — проворчал Гордеев. — Я сам узнал об этом только позавчера. Ты лучше скажи, что говорят о том, которому удалось скрыться. — За его поимку обещана большая награда. Но даже в тайной полиции сомневаются в успехе. Этот «румын», безусловно, перестал быть румыном и, очевидно, уже стал на якорь в надежном месте. — Боюсь, что в городе для него не приготовлены надежные стоянки. — Вы что-нибудь знаете о нем? — встрепенулась Галка. — Даже те, кто его послал, не имеют о нем никаких сведений. Ну, хватит об этом. Теперь расскажи, куда ты ездила с начальником морского отдела гестапо. — Откуда вы знаете? — Весь базар уже знает об этом. — Дядя Леня, они убили Зинаиду Григорьевну. — Что?! — Гордеев вскочил, но в темноте натолкнулся на тумбочку, чертыхнулся, снова сел, достал спички и, не спросив разрешения, закурил трубку. Пока Галка рассказывала о встрече с Хюбе, о гестапо, о плюгавом палаче с оттопыренными ушами, Гордеев молчал. Только в темноте сердито мигал огонек его трубки. Но когда девушка подошла к очной ставке, он перебил ее: — Теперь подробнее. Вспомни все, что говорила Адамова. Галке не нужно было напрягать память. Наверно, и через десять лет она бы смогла повторить все, что сказала Зинаида Григорьевна, слово в слово. — Ты не ошиблась? — снова перебил ее Леонид Борисович. — Она так и сказала: «старый крановщик»? — Да. Как только она это сказала, Норте ударил ее по лицу. — Старый крановщик, — пробормотал Гордеев. — Старый крановщик Федор Плющев. Теперь понятно, почему связные не возвращались из порта. Галка вздрогнула — она вспомнила парня-связного, его веселую улыбку, его гордую смерть… Гордеев потушил трубку, спрятал ее в карман, поднялся, скрипнув стулом. — Надо немедленно восстановить связь с портом и предупредить товарищей о предателе. Сделаешь это ты.Часть третья МЕСТО В СТРОЮ

До войны Галка мечтала о том дне, когда она впервые через служебный ход войдет в театр, бросив седобородому швейцару короткое: «На репетицию», а потом, миновав пахнущий клеем, струганым деревом и красками закулисный хаос декораций, ступит на непривычно просторную сцену и, пока режиссер будет о чем-то спорить с высоким худощавым дирижером, в первый раз с высоты подмостков посмотрит в пустой полутемный зал. К ней подойдут молодые артисты; знакомые поздравят ее, а незнакомые приветливо улыбнутся. Потом дробный стук дирижерской палочки, и сердитый голос помощника режиссера разгонит всех по местам… «Внимание. Начали!..» Конечно, это могло выглядеть и по-другому. Скажем, никто не стал бы ее поздравлять и улыбаться ей, и вообще на первых порах пришлось бы петь в хоре… Она была готова и к этому. Но никогда Галка не думала, что ее первый день в театре будет таким мучительным. И хотя она убеждала себя, что так нужно, что у нее, собственно, нет другого выхода, — на душе было отвратительно. Работа в итальянской комендатуре тоже не из приятных. Но там по крайней мере ее не оскорбляли. А тут первый же полупьяный офицер из тех, что на правах меломанов шатались за кулисами во время репетиций, смерил ее оценивающим взглядом и двусмысленно хмыкнул. К этому надо было привыкнуть. Шеф театра — бургомистр Логунов разглагольствовал о высоком искусстве, дух которого, по его мнению, принесли с собой представители «новой цивилизации». Это бесило Галку. Может быть, некоторые офицеры понимали и любили музыку, но большинство приходило в театр, чтобы посмотреть на полуголых балерин или напиться в антракте у буфетной стойки. Стараясь угодить вкусам «широкой публики», Логунов превратил фойе в пивной бар, а девушек из кордебалета заставил рядиться в чересчур откровенные наряды, даже когда это было совсем не к месту. После каждого спектакля «меценаты» из главной комендатуры прямо на сцене устраивали кутежи. Наутро уборщики с трудом приводили в порядок загаженное фоне и заплеванную сцену… Таким ее встретил «Новый театр».
На сцене под аккомпанемент рояля кто-то пел «Элегию» Масснэ. Галка прислушалась. Красивый сильный баритон. Певец пел свободно, легко и… бесстрастно. Казалось, он любовался модуляциями своего голоса, позабыв о содержании произведения. — Великолепно! Не правда ли? — обратилась к Галке появившаяся откуда-то Пустовойтова. Девушка отлично помнила их последнюю встречу в кабинете бургомистра и решила быть осторожной. Пустовойтова взяла Галку под руку и предложила: — Идем, я тебя познакомлю. — С кем? — С Кулагиным, конечно. Это он поет. Неужели ты еще не слышала о нем?! Кулагин — талантище. Великолепный драматический тенор. Поет и баритональные партии. Интересный мужчина. Можно влюбиться. Говорит, что холост. Логунов подобрал его, можно сказать, на улице… Болтая без умолку, Пустовойтова чуть ли не силой вытащила Галку на сцену. У рояля стоял молодой человек лет двадцати семи–тридцати. Модный черный костюм, лакированные туфли, галстук «бабочка» и выступающие из рукавов накрахмаленные манжеты делали его похожим на манекен с витрины большого универсального магазина. Подчеркнуто вежливая улыбка, с которой он слушал сухопарого старика в морской форме, только усиливала это сходство. — Кулагин, — шепнула Пустовойтова. — А рядом с ним начальник гарнизона и порта адмирал Рейнгардт. Адмирал — настоящий меценат. Не пропускает ни одной репетиции. После первого же концерта мы все получили от него презенты. И какие! Кулагину он подарил дом. Совершенно целый и довольно симпатичный особнячок. От Рейнгардта зависит все. Кстати, Логунов хочет прослушать тебя в его присутствии. Пользуйся моментом. Если сумеешь как следует показать себя, считай, что твоя карьера обеспечена. Логунов предложил Галке спеть арию Кармен. Это была ее любимая ария. Девушка решила, что будет петь, не входя в роль. Она не собиралась показывать себя немецкому адмиралу и его фаворитам из Нового театра. Если эти господа разочаруются в ней, тем лучше. Она даже подумала, что было бы хорошо провалиться: нарочно сфальшивить на первой же ноте. Но страстная, полная огня музыка сразу же захватила ее, и Галка запела в полный голос. На мгновение исчезли Рейнгардт Пустовойтова, Логунов, тенор с самодовольно-скучающим лицом, — осталась только стремительная, задорная мелодия. Она не слышала, как старый адмирал говорил Логунову: — Господин бургомистр, вы открыватель талантов. Какой темперамент! Настоящая цыганка! Да и голос недурен. Неплохая партнерша для Кулагина. Она не видела, как Пустовойтова закусила ярко накрашенную губу, а Кулагин удивленно вскинул брови. В другое время можно было бы считать, что Галке повезло. В кабинете директора театра адмирал Рейнгардт церемонно поцеловал ей руку и сказал, что рад поздравить новую примадонну и что он обещает ей свое покровительство. Затем Логунов, который оставил за собой руководство театром, положил перед Галкой контракт. Пустовойтова с наигранным радушием поцеловала ее, и девушка поняла, что ресторанная певичка никогда не простит ей сегодняшнего успеха. Кулагин снисходительно хлопнул Галку по плечу и посоветовал взять у Логунова аванс. Кто-то предложил поехать в ресторан «обмыть» новую солистку. На душе у Галки было отвратительно. Сразу же после ухода адмирала она незаметно выскользнула из директорского кабинета и быстро направилась к выходу. Мимо театра вели пленных. Изможденные лица, окровавленные, грязные бинты, изодранная одежда, разбитая обувь бредущих по мостовой людей рассказывали о страшной, выжженной солнцем дороге, о сводящей с ума жажде, о выстрелах в спину и ударах в лицо… Непонятно было только, почему этих измученных, обессиленных людей плотным кольцом окружали рослые, вооруженные до зубов конвоиры, почему позади колонны эсэсовцы вели сторожевых собак, почему руки матросов были связаны. Прохожие останавливались и молча смотрели на пленных. Молчали конвоиры, не отрывая рук от автоматов. Молчали стоящие вдоль тротуаров полицаи. Молчали и пленные. И вдруг это молчание сотен людей нарушил звонкий, срывающийся от волнения голос. — Граждане, не верьте им! Они вам через нас слабость Красной Армии показать хотят! Брешут! Красная Армия живет и бьет их, сволочей, насмерть! Эти слова выкрикивал матрос с багровым от кровоподтеков лицом. Конвоиры бросились к нему, но пленные как по команде сгрудились вокруг матроса, заслонив его своими телами. Посыпались удары. Несколько человек упало на мостовую, но кольцо тел вокруг матроса стало еще плотнее. Колонна остановилась. И вот уже один из конвоиров со стоном отлетел к тротуару, сбитый ударом тяжелого матросского ботинка. Угрожающе клацнули затворы. Толпа на тротуаре вздрогнула и подаюсь вперед, тесня заслон полицейских. Конвоиры направили автоматы на толпу. От головы колонны, размахивая парабеллумом, бежал высокий эсэсовский офицер с крестом на мундире. — П-п-прекратить! От-т-ставить! — заикаясь, кричал он. — П-по местам! Раздались отрывистые слова команды. Но пленные заняли свои места в колонне только тогда, когда убедились, что их товарища не тронули. Галка стояла на ступенях театрального подъезда. Она видела все. — Черт знает что! — услышала она приглушенное бормотание за своей спиной. — Какие-то фанатики. Это, наверно, те самые — из десанта. Видимо, комиссары. Но откуда их столько? Как вы думаете, Сергей Павлович? Галка оглянулась. В глубине подъезда у самых дверей стояли Логунов и Кулагин. Несмотря на жаркий день, шея тенора была повязана шарфом. Бургомистр же мял перчатки, с которыми последнее время не расставался. — Не похожи они на комиссаров, — лениво отозвался Кулагин. — С виду обыкновенные красноармейцы и матросы. — Но откуда у них — обыкновенных — упорство такое? Ведь Красная Армия разбита! — Выходит, не разбита, коли так упорствуют. Только Галка с ее слухом могла расслышать шепот Логунова. — Думаете, не одолеют немцы к зиме? — А я, уважаемый Альберт Иванович, ничего не думаю. Осенью сорок первого думал, этой весной думал, а теперь думать перестал. В наше время самое лучшее — поменьше думать. — Ну, а если… — Логунов не договорил. Кулагин криво усмехнулся. — Плохо нам с вами будет, если не одолеют. От таких, — он кивнул вслед пленным, — не убежишь.
* * *
У себя дома Галка застала Вильму Мартинелли. Молодая итальянка мимоходом зашла проведать подругу и теперь что-то рассказывала Валерии Александровне, возбужденно размахивая руками. Галке показалось, что бабушка не очень рада ее визиту и слушает Вильму только из вежливости. Потом, когда они пили кофе и Вильма стала рассказывать о Неаполе, откуда Валерия Александровна была родом, глаза старой женщины потеплели. Но как только гостья ушла, бабушка сказала: — Мне теперь стыдно признаваться, что я итальянка. Говорю всем, что я — русская. Да оно, наверно, так и есть. Итальянка не может ненавидеть своих соотечественников. А я их ненавижу. — Разные есть итальянцы, — возразила Галка. — Нельзя обвинять целый народ. Валерия Александровна сердито посмотрела на внучку, хотела что-то сказать, но, махнув рукой, промолчала. На следующий день Галка, как условились, встретилась с Вильмой в городе. — Идем выпьем по бокалу вина, — предложила Вильма. — В следующий раз. К четырем я должна быть на репетиции. В моем распоряжении только час. Ты сможешь провести меня в порт? Мне надо зайти в сапожную мастерскую. — Я же обещала тебе. Правда, там сегодня целая кутерьма, но как-нибудь пройдем. В порту сейчас наши ребята. Умберто будет ждать нас у главных ворот. — А что там случилось? — В пятнадцати милях от берега русские торпедировали большой транспорт, который шел сюда из Варны. Спасательные суда подобрали часть людей, но многие погибли. Этим транспортом к нам должен был прибыть новый командир отряда. — Ему повезло, что не попал на этот транспорт, — заметила Галка. — Ему не повезло, — невесело усмехнулась Вильма. — На транспорт он попал, но не попал в число спасенных. Галка сочувственно вздохнула. — Ты знала его? — Никогда не видела, но много слышала о нем. У ворот, что преграждали дорогу в порт, их встретил Фарино. — Какие новости о дель Сарто? — спросила его Вильма. — Никаких. Сейчас запрашивают соседние порты и рейды. Но, думаю, что это уже не имеет смысла. У клуба моряков Фарино оставил их. Пока все шло хорошо. Предлог для посещения порта был выбран удачно. Для Вильмы во всяком случае он звучал убедительно. Большой порт — это не только пристани, пирсы, пакгаузы — это целый район, протянувшийся вдоль берега на несколько километров. Немало в порту пивных, всевозможных ларьков, магазинов, мастерских. Здесь порой можно купить то, чего не достанешь в городе. Однако Галку меньше всего интересовали покупки, хотя в одном из портовых магазинов ей пришлось уплатить изрядную сумму за маленький флакончик контрабандных духов. Это была, так сказать, вынужденная жертва… Сапожная мастерская размещалась в одной из уцелевших пристроек морского вокзала. За барьером на низких табуретах сидели, согнувшись над сапожными лапами, мастера. Разнобойный стук молотков, шуршание дратвы, наждака и сердитая дробь швейной машины сопровождали их работу. Воздух был пропитан запахами кожи, махорки и сапожного вара. На грубосколоченных стеллажах, протянувшихся вдоль стен, попарно стояли отремонтированные сапоги, матросские ботинки, щегольские офицерские туфли. У стола со старыми журналами сидел разутый немецкий капитан второго ранга. Завидев девушек, он спрятал ноги под стол. — Я долго еще ждать мой туфля?! — крикнул он за барьер. — Айн момент, господин офицер, — отозвался кто-то из мастеров.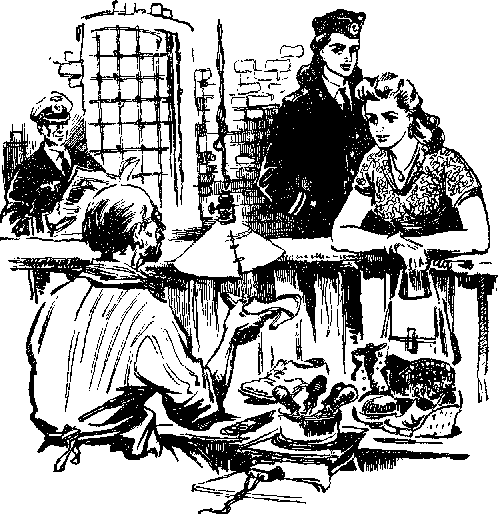
Держась за Вильму, Галка проковыляла к барьеру. Толстый немец-приемщик вперевалку направился к девушкам. Но Галка опередила его. Быстро оглядевшись, она нашла того, кто был нужен. На рабочий стол перед одним из сапожников упал модный дамский туфель со сломанным каблуком. — Прибейте, — коротко бросила Галка и улыбнулась подошедшему приемщику. — Не беспокойтесь, герр мастер. Всего только отскочивший каблук. Облокотись о барьер, Галка искоса наблюдала за «своим» сапожником — очень худым человеком с болезненным румянцем на впалых щеках. В его печальных, глубоко запавших глазах нельзя было прочесть ничего, кроме усталости и безразличия. Галка с тревогой подумала, что он не заметил сделанного ею знака. Но вот сапожник встал и, подойдя к барьеру, молча протянул девушке отремонтированный туфель. И тотчас же она почувствовала в руке какой-то небольшой предмет, на ощупь напоминающий хлебный шарик. Тогда, почти не размыкая губ, одним дыханием она сказала: — Плющев провокатор. Берегитесь. Галка успела заметить, как сузились, стали вдруг колкими запавшие глаза. Она небрежно бросила сапожнику деньги и кивнула немцу-приемщику. — Данке шен, герр майстер. Девушки вышли на пристань. У пакгаузов солдаты перетаскивали какие-то ящики. Портальный кран выуживал из трюм баржи связки пузатых мешков. Группа рабочих ремонтировала дорогу. Неказистый пароходик под немецким флагом швартовался у седьмого причала. К его борту задним ходом подъезжали четыре грузовика. Кто-то кричал по-немецки: «Немедленно приступайте к выгрузке!» Здесь, на пристани, все были заняты своим делом и на девушек не обращали внимания. Теперь надо побыстрее убраться отсюда. Однако Вильма не спешила уходить. — Пойдем разыщем наших ребят, — предложила она. — Кажется, сегодня придется выпить за упокой еще одной души. Это никак не входило в Галкины планы. — Мне надо идти. Итальянка обиженно скривила рот. — Я была нужна только как провожатый? Галка взяла ее под руку. — Вильма, мне небезопасно оставаться здесь. Помнишь того гестаповца, что подходил к нам в «Бристоле»? — Майора Хюбе из портовой охранки? — Да. Последнее время он преследует меня. — Вероятно, влюбился. Это не так уж страшно. — Он — скотина. Понимаешь? — Так пошли его к черту. Я тебе однажды уже советовала это сделать. — Не равняй меня с собой. Что просто для тебя, для меня — невозможно. Ты — офицер итальянской армии, а я… Я — «оккупированная» девица, с которой можно поступать, как заблагорассудится. — Но ты — дворянка! — Вильма, не смеши меня. Разве они считаются с этим? — Сволочи… — Мартинелли витиевато выругалась. — Они всегда были сволочами. Но, пожалуй, ты права — надо уходить. Они были уже у ворот, когда Вильму окликнул сержант Равера. — Синьорина Мартинелли, Фарино просил подождать его. Вильма остановилась, достала портсигар и закурила. — Ничего не поделаешь, — вздохнула она. — Без Умберто мы не выйдем отсюда. — Да, конечно, — механически ответила Галка. — «Как глупо получается, — думала она. — Сейчас, когда задание, по сути дела, уже выполнено, когда осталось несколько шагов, чтобы покинуть территорию порта и быстро свернуть в одну из боковых улочек, я должна стоять здесь, на виду у всех». — Куда пропал Умберто? — спросила Вильма сержанта. — Пошел к седьмому причалу. Только что пришвартовался пакетбот из Констанцы. Фарино надеется, что, быть может, это судно подобрало дель Сарто. Правда, прошло уже десять часов, как затонул транспорт. Но говорят, дель Сарто — классный пловец. — Говорят… А разве ты не знал его? — Мы прибыли в Ливорно, когда его там уже не было. Из наших ребят его никто не знает в лицо. — А Умберто? — И Умберто не знает. Галка плохо понимала, о чем говорит Равера. Мимо нее, исчезая и появляясь в воротах, проходили офицеры. На некоторых были черные мундиры гестаповцев. Прошло пятнадцать, потом двадцать минут, а Умберто все не появлялся. Как глупо, как глупо получается… Из-за угла вышла и направилась к воротам группа военных. Галке показалось, что среди них Фарино. Наконец-то! Но почему Вильма сжала ее локоть? Что ей надо? Итальянка показала глазами в сторону клуба моряков. — Сюда идет Хюбе. Он уже заметил тебя…
* * *
Хуже нельзя было и придумать. Галка понимала, что ей не бежать объяснения с Хюбе. Но что она скажет ему? Еще неделю назад она могла бы сочинить более или менее убедительное объяснение своему пребыванию в запретной зоне: каприз-интрижка с моряком, прогулка с подругой-итальянкой, у которой в порту какие-то свои дела… Да мало ли что могло взбрести в голову легкомысленной девице, избалованной вниманием офицеров! Но после «эксперимента» в гестапо, после гибели Адамовой, после недвусмысленного предупреждения Хюбе, разбитная девица, какой она старалась казаться, должна была бы поумерить свой пыл и обходить порт за три версты. Нет, Хюбе не провести. Теперь даже Вильма и ее друзья не помогут. Ну что ж! Главное она сделала — товарищи в порту предупреждены. А эстафету, переданную ей сапожником, можно проглотить. Только незаметно. Впрочем, не надо торопиться. Возможно, еще удастся выкрутиться. Адмирал Рейнгардт обещал свое покровительство. Если гестаповец задержит ее, Вильма позвонит Рейнгардту. — Как вы сюда попали? — не здороваясь, обратился к Галке Хюбе. — Через ворота, — сделав вид, что не поняла вопроса, ответила девушка. Смело глядя прямо в глаза штурмбаннфюрера, она пыталась угадать, видел ли он ее у сапожной мастерской. — Я уговорила синьорину Ортынскую сопровождать меня, — поспешила вмешаться Вильма. Однако штурмбаннфюрер даже не удостоил ее взглядом. — Я спрашиваю вас, Галина Алексеевна. Зачем вы явились в порт? Вильма вновь попыталась вмешаться, но Хюбе оборвал ее. — Обер-лейтенант Мартинелли, отправляйтесь в свою часть и доложите командиру, что я приказал арестовать вас на трое суток. — С каких пор немецкие полицейские отдают приказания командирам итальянских частей? — спросил кто-то рядом. Хюбе обернулся. Через его плечо Галка увидела рослого человека в матросском плаще без знаков различия. — Кто вы такой? — едва сдерживая гнев, спросил гестаповец. — Охрана, задержать его! От ворот к ним бросились часовые. Человек в матросском плаще усмехнулся. — Не утруждайте своих людей, господин штурмбаннфюрер. Я — капитан первого ранга дель Сарто. — Князь Виктор дель Сарто?! — Совершенно верно. Несмотря на свое далеко незавидное положение, Галка с интересом рассматривала дель Сарто. Для капитана первого ранга он был, пожалуй, молод — ему не больше тридцати лет; для аристократа несколько грубоват — под плащом угадывались широкие сильные плечи. Хюбе жестом отослал охранников. — Кто может удостоверить вашу личность? — окидывая взглядом матросский наряд дель Сарто, сдержанно спросил он. — Здесь — никто. Но я полагаю, что незачем прибегать к свидетельским показаниям, когда имеются документы. Гестаповец недоверчиво прищурился. — Каким образом вам удалось их сохранить? Ведь если не ошибаюсь, вы около десяти часов пробыли в воде. — Восемь с половиной, — уточнил итальянец. — А документы я имею обыкновение хранить в этом портмоне. — Он отогнул полу плаща и достал из кармана плотно закрытый резиновый футляр. Хюбе взял его бумаги. По мере того, как он читал, настороженное выражение исчезало с его лица. Возвращая дель Сарто документы, он щелкнул каблуками. — Прошу, прощения, экселенц. Но согласитесь сами, что ваше, я бы сказал, не совсем обычное появление в порту должно было вызвать и вызвало некоторые вопросы, которые я уже задал. — Надеюсь, ответы вас удовлетворили? — Вполне. — Тогда разрешите спросить мне. Что за инцидент произошел у вас с этими девушками, одна из которых, как я вижу, является итальянским военно-морским офицером? Хюбе перевел взгляд на Галку и несколько мгновений смотрел на нее. Потом, натянуто-вежливо улыбнувшись, сказал: — Я считаю инцидент исчерпанным. Уже в воротах Галка услышала, как Хюбе говорил: — Рейхсмаршал Геринг сегодня дважды запрашивал о вас, экселенц.Неожиданное появление дель Сарто, которого считали погибшим, его заступничество и отповедь, данная им гестаповцу, ошеломили Вильму. Она даже на время утратила дар речи. Только Приморском бульваре итальянка открыла рот и уже не закрывала его до самого театра. Излив для начала поток проклятий на голову Хюбе, Вильма, захлебываясь затем от восторга, начала говорить о дель Сарто. Как поняла Галка, его имя было широко известно в Италии. На флоте он слыл первоклассным подводником — на счету капитана первого ранга было несколько потопленных английских кораблей. В аристократических кругах его знали как человека, стоящего близко к королевской семье — княжеский род дель Сарто считался одним из древнейших в Италии. В мире финансистов и дельцов он пользовался неограниченным кредитом — кто мог отказать в займе сыну вице-председателя «Банка д’Италия». Вильма даже удивилась, что Галка до сих пор ничего не слышала о нем. Впрочем это не удивительно. Дель Сарто большой оригинал: он ненавидит сенсации, газеты и фоторепортеров. — Он очень, очень влиятельный человек, — заключила Вильма. Она остановилась, видимо пораженная какой-то мыслью, и вдруг хлопнула себя по бедрам. — Галина, мне пришла в голову великолепная идея! Хочешь избавиться от приставаний этой свиньи — Хюбе? Галка только вздохнула. — Нет, ты послушай, что я придумала, — затормошила ее итальянка. — Надо устроить так, чтобы дель Сарто остановился у тебя в доме. Тогда Хюбе не посмеет и прикоснуться к тебе. Галка неопределенно пожала плечами. Хорошо, что Вильма еще не догадалась о характере «приставаний» гестаповца. Никакой дель Сарто, — будь он трижды князь, — не оградит ее от гестапо. Однако мысль поселить нового командира масовцев в своем доме показалась ей заманчивой. Если даже половина того, что наговорила о нем Вильма, соответствует действительности, то этот капитан первого ранга должен заинтересовать подполье. Хюбе сказал, что о нем беспокоился сам Геринг. Значит, дель Сарто и в самом деле важная персона! — Но согласится ли князь остановиться в нашем доме? — Не сомневаюсь. Я слышала, что он любитель комфорта, а у нас в отряде довольно убогое помещение. Кроме того, ему будет приятно жить в семье русских аристократов, где говоря по-итальянски и где, ко всему прочему, молодая хозяйка очень хороша собой. Вильма рассмеялась и потрепала Галку по щеке. Они расстались у театра. Переговоры с дель Сарто Вильма обещала взять на себя.
* * *
После долгих споров решили готовить оперу «Паяцы». Логунов, конечно, хотел, чтобы премьера была поставлена на чисто немецкий сюжет: дать хотя бы того же «Фауста». Однако он понимал, что собранная им разношерстная труппа не осилит большую оперу. Не было в театре и приличного баса. А что стоит «Фауст» без Мефистофеля? Постановка же одноактных «Паяцев» не вызывала особых затруднений, а партия Канио была как бы специально написана для Кулагина. На Кулагина Логунов делал главную ставку. Галке дали роль Неды. Первая репетиция продолжалась недолго — дольше ждали Кулагина: он явился, как подобает восходящей знаменитости на час позже. Во время репетиции он капризничал, спорил с Логуновым, делал замечания дирижеру. К Галке Кулагин отнесся покровительственно: хлопал ее по плечу, давал советы, как тянуть, как сокращать звук. Надо признать, советы были дельными, но развязный тон, которым они давались, раздражал девушку. Даже шарф, которым Кулагин постоянно кутал шею, действовал ей на нервы. Галка злилась, но молчала. Она хотела одного: поскорее уйти. В сквере на Пушкинской улице ее должен ждать Гордеев. Она едва дождалась конца репетиции. Но у выхода из театра артистов задержал полицейский. — Господа, советую подождать. В городе неспокойно. Из вестибюля через разбитое стекло Галка видела, как по безлюдной улице на мотоциклетах промчался отряд немецких солдат. Где-то неподалеку ударило несколько выстрелов. Потом мимо театра проехала вереница крытых брезентом грузовиков. Из-под брезента слышались приглушенные крики, детский плач, причитания женщин. — Что там происходит? — спросил кто-то из артистов. — Немецкие власти акцию проводят. Облаву, стало быть! — охотно пояснил полицейский. — Как в порту пароход подорвался, так они стали людей на приморских улицах хватать. — Какой пароход? — спросил подошедший Логунов. — Что ты врешь? — Никак не вру, господин бургомистр! Сущая правда. Разве вы не слыхали, как ударило? Час назад. Наверно, вам музыка, звук заглушила. В помещении оно, конечно, меньше чувствуется. — Говори толком, что случилось? — Немецкий пароход с боеприпасами потопили. Только начали его разгружать, а тут как рванет. — Разве был налет? Почему воздушную тревогу не объявляли? — Какой там налет! Говорят, партизаны мину подбросили. Диверсия, стало быть. Логунов чертыхнулся. Пустовойтова торопливо перекрестилась. Кутая горло шарфом, подошел Кулагин. Узнав, в чем дело, он удивленно присвистнул. Галка не верила своим ушам. Как?! Взорван тот самый пакетбот, который она видела днем в порту; тот самый, что подобрал в море дель Сарто? Странно. Если это диверсия, то партизаны тут ни при чем. Гордеев предупредил бы ее: ведь он знал, что она сегодня идет на связь. Случись этот взрыв немного раньше, Хюбе ни за что бы не выпустил ее из порта.* * *
Облава кончилась, но улицы по-прежнему оставались безлюдными — жители не решались выходить из домов. Ждет ли Гордеев в сквере? Она уже опаздывает на полчаса. Галка ускорила шаг. Туфли вязли в расплавленном асфальте. Над морем собирались низкие серые облака, обещая дождь. — Галочка, погодите! Кулагин? Что ему надо? — Галочка, нам с вами по пути. Разрешите, как говорят в вашем городе, пришвартоваться? Он бесцеремонно взял ее об руку. — Если вам не трудно, называйте меня Галиной Алексеевной, — отстранилась Галка. — Простите, — опешил Кулагин. — Если те несколько советов, что я дал на репетиции, обидели вас, то я обещаю впредь воздерживаться от каких бы то ни было наставлений. — Возможно, ваши замечания были уместны. Однако это не основание для фамильярности. — Ах, в-о-он оно что-о! — протянул Кулагин. — Я совсем забыл, что имею честь говорить с дворянкой земли русской! Простите великодушно. Я человек простой и не обучен благородным манерам. — Не обязательно быть дворянином. Достаточно не быть хамом! — вспыхнула Галка. — «Она обожгла его негодующим взглядом и удалилась, гордо подняв голову», — наигранно продекламировал он. — Не будьте идиотом, Кулагин. — Постараюсь. Что еще прикажете? — Еще постарайтесь подбирать выражения, когда разговариваете с девушкой. — С девушкой из театрализованного кабаре, — разозлился Кулагин. Галка не выдержала. Повернувшись к тенору, она ударила его по щеке. Второй раз ударить не удалось: Кулагин перехватил ее руки и сильно сжал их в запястьях. — Я не люблю, когда мне делают больно, — неожиданно спокойно сказал он. Но Галка уже не могла остановиться. — Слушайте вы, примадонна в брюках! Женщину можно сделать потаскухой, но холуями бывают только мужчины. Такие, как вы! — Галина, успокойтесь. Мы на улице. — Отпустите сейчас же мои руки и убирайтесь! — Отпущу, но обещайте выслушать меня. — Не хочу слушать ваши оправдания! — А я не собираюсь оправдываться. — Вот как? Тогда я могу подумать, что вы решили извиниться передо мной. Не роняйте остатки самолюбия. Перед кем извиняться? Перед девкой из кабаре. — Галина, еще одно слово, и я отколочу вас. — Холуй! Ну что же ты не бьешь меня? Она видела, как дрогнули, опустились книзу уголки его рта, как вздулась и лихорадочно забилась синяя жилка на виске. «Сейчас ударит», — подумала Галка и невольно отшатнулась. Но Кулагин только слабо усмехнулся и отпустил ее руки. — Предположим, вы правы: я малодушный человек, у меня не достало мужества сдохнуть от голода в чужом городе. Но вы стреляете из пушки по воробью. Я пошел в театр из-за хлеба, я только артист. На тему о холуйстве вам лучше поговорить с господином Логуновым. Он резко повернулся и, не простясь, зашагал прочь. Галка недоуменно посмотрела ему вслед, но тут же улыбнулась. «Это хорошо, что он обиделся. Значит, совесть заговорила», — подумала она, довольная тем, что сумела задеть его за живое. В тот же день у нее были еще две встречи: одна — в сквере на Пушкинской улице с Гордеевым, другая — с итальянским капитаном первого ранга дель Сарто, который явился к Ортынским в сопровождении Вильмы и своего нового адъютанта — сержанта Марио Раверы. За Валерией Александровной замечался один грешок: она была неравнодушна к титулованным особам. Не жизненные наблюдения — в молодости она знавала немало прощелыг дворянского происхождения, — а любимые ею романы Дюма внушили ей уважение к отживавшей свой век геральдической мишуре. Поэтому, несмотря на свое неприязненное отношение к оккупантам, Валерия Александровна была польщена визитом князя. В узком офицерском мундире рядом с огромным Раверой дель Сарто выглядел не таким большим, каким показался Галке в порту. Ничто не выдавало в нем южанина: правильные черты лица, прямые, тщательно зачесанные волосы, скупые размеренные жесты скорее делали его похожим на англичанина. Впрочем, это было только первое впечатление… Галка вошла, когда дель Сарто рассматривал альбом семейных фотографий, Вильма шепталась с бабушкой, а Марио был всецело поглощен изучением такелажа миниатюрного фрегата, украшавшего старый буфет. Завидев внучку, Валерия Александровна смутилась. — Галя, вот познакомься с синьором капитаном. Он просит сдать комнату. — Мы почти знакомы. Синьор капитан выручил меня сегодня, за что я ему очень благодарна. — Вы просто обезоруживаете меня, — улыбнулся дель Сарто. — Мне бы не хотелось злоупотреблять благодарностью. А я, как вы уже слышали, пришел просить о большой услуге. — В России говорят: долг платежом красен. — А если бы не этот случай в порту? — У нас большая квартира. Все равно кого-нибудь поселили бы, — уклончиво ответила Галка. — Я думаю, мы уступим синьору кабинет, — вмешалась Валерия Александровна, но тут же осеклась и виновато посмотрела на внучку. Девушка нахмурилась. Кабинет считался в доме заветной комнатой — там жил дедушка, а потом отец. — Синьору капитану будет удобнее наверху, в мезонине, — сухо сказала Галка. — Мезонин мне подходит, — неожиданно по-русски сказав итальянец. — Мы, моряки, народ непритязательный. — Вы неплохо говорите по-русски, — заметила Галя. — Одно время я работал помощником нашего военно-морского атташе в Москве. Когда итальянцы ушли, договорившись, что дель Сарто завтра же переедет к Ортынским, Валерия Александровна сказала внучке: — Я боюсь ошибиться, но этот князь не похож на фашиста. Когда он говорит приятное, веришь, что это у него не только от хорошего воспитания. В наше время его можно назвать странным человеком.* * *
Просторный кабинет, казалось, едва вмещал огромную тушу бригаденфюрера Макса Клоцше. Это впечатление усиливалось, когда Клоцше начинал метаться от стены к стене, сотрясая воздух отборными ругательствами. Хюбе, как заводная игрушка, поворачивался то в одну, то в другую сторону, стараясь все время стоять лицом к шефу. Было хуже, когда Клоцше забегал ему за спину, при повороте кругом Хюбе ощущал резкую боль в бедре — прошлогодняя рана еще напоминала о себе. Толстая, начинающаяся чуть ли не от лысеющей макушки шея бригаденфюрера из розовой стала багровой. Хюбе покосился на стенные часы. Клоцше бесновался уже семнадцать половиной минут. Хюбе забеспокоился, хотя его приятное, чисто выбритое лицо по-прежнему не выражало ничего, кроме уставного внимания. Этот Думмеокс*["45], как тайком называют Клоцше его подчиненные, сегодня, пожалуй, может осуществить свои угрозы. Одного его росчерка достаточно, чтобы от человека остался только послужной список в архивном отделе. С бригаденфюрером Клоцше надо быть чрезвычайно осторожным. Его власть почти так же беспредельна, как и его глупость. Говорят, что еще в двадцатые годы он состоял в личной охране Гитлера и что именно фюрер как-то в шутку дал своему телохранителю ту не особенно лестную кличку, которая так прочно пристала к Клоцше. Думмеокс! Действительно, он сейчас напоминает взбесившегося быка. Устав,Клоцше тяжело плюхнулся в кресло. — Что мне с тобой делать? — почти нормальным голосом спросил он Хюбе. — Нет, ты скажи, что с тобой делать?! — снова заревел он, но это уже были последние раскаты проходящей грозы. Хюбе понял, что опасения были напрасны. «Ну, конечно, — подумал он, — если б Клоцше собирался расправиться со мной, он не прилетел бы сюда специальным самолетом». Хюбе шагнул вперед, скупым, рассчитанным движением выдернул из кармана и протянул бригаденфюреру аккуратно сложенный листок бумаги. — Прошу откомандировать меня на фронт. Вот рапорт. — Это был рискованный ход, но Хюбе не пожалел, что сделал его. Квадратная челюсть Клоцше отвисла, отворяя длинную щель рта, глаза его полезли из орбит. — Ты что, спятил? — тихо, почти испуганно спросил он, но тут же вскочил, подбежал к Хюбе и заглянул ему в лицо. Клоцше был близорук. — Я понимаю тебя, мой мальчик, — с неожиданным надрывом заговорил он. — Ты хочешь быть там, где в горниле очистительной войны утверждается величие третьего рейха, где куется история новой цивилизации, где… Около пяти минут он без передышки сыпал газетными фразами, а потом доверительно сообщил: — Весной я был на приеме у фюрера. Он вызвал к себе всех руководителей полиции безопасности и СД. Речь шла о борьбе с партизанами. Ох, и досталось же нам от него! Я-то хорошо знаю Адольфа, но таким его никогда не видел. Потом Гитлер подошел ко мне и взял меня под руку. Вот так! — Клоцше схватил Хюбе за рукав и показал, как его взял фюрер. — «Мой старый товарищ, — сказал мне Адольф, — я знаю, как вам тяжело там. Но мне здесь еще труднее». — Клоцше потрогал пальцем вертикальную полоску своих усов и сокрушенно вздохнул. — Вот и я говорю сейчас: трудно тебе, мой мальчик, знаю. Но мне не легче. Хюбе понимающе наклонил голову, а про себя подумал: «Ну, конечно, сейчас тебе трудно. Месяц назад, когда ты готовил для Берлина доклад о ликвидации диверсионной группы Георгиоса и аресте Адамовой, тебе было гораздо легче, — ты просто скопировал мое донесение и поставил под ним свою подпись. Обо мне ты даже не упомянул. А теперь, когда в порту снова взрываются транспорты, когда Адамова покончила с собой, не выдав ни одного человека, ты не знаешь, как выпутаться из этой истории». — Необходимо принять самые решительные меры, — говори Клоцше. — Никакой жалости! Ты слышишь, мой мальчик, это говорю тебе я, а мне сказал фюрер! Надо взять за горло это славянское отребье и крепко сжать пальцы. Вот так! — Он показал, как надо сжать пальцы. — Вокруг порта создать мертвую зону! Береговой концлагерь ликвидировать! Всех, кто содержится в нем, — уничтожить: погрузить на баржи, вывести в море и утопить. Как котят! Тебе нравится такой план? — План неплохой, — отозвался Хюбе. — Но кто будет работать на строительстве береговых укреплений, в доках, на разгрузке судов? Клоцше недоуменно посмотрел на него — видимо, этот вопрос застал его врасплох. — Кх-гм! — он сморщил низкий лоб и потер переносицу. — Мобилизуйте население, — неуверенно сказал он. — Неужели в городе нельзя набрать три–четыре тысячи работоспособных единиц? — Сомневаюсь. Но если мы и сможем это сделать, то такая замена надолго приостановит работы в порту. Клоцше длинно выругался. — Тогда расстреляйте в лагере каждого второго! — Думаю, что и это не даст ничего, кроме тех затруднений, о которых я уже сказал, — снова возразил Хюбе. — К тому же практика показала, что среди тысячи взятых наугад заложников попадается не более пяти–шести активных деятелей. — Что же ты предлагаешь, черт возьми! — Я просил отпустить меня на фронт. — Хюбе понимал, что он нужен бригаденфюреру, и набивал себе цену. — Дезертир! — взвизгнул Клоцше. — Ты хочешь сбежать отсюда в момент, когда здесь куется успех решающего наступления нашей армии! Ты хочешь оголить ее тыл! Именем фюрера!.. — Он осекся, видимо не зная, что же сказать дальше, и беспомощно заморгав белесыми ресницами, вдруг примирительно заворчал: — Ну, ну, оставим это. Я прошу тебя помочь мне. Скажи, что тут можно сделать? Хюбе едва сдержал самодовольную улыбку. Теперь он мог уже не тянуться перед шефом. С удовольствием сгибая и разгибая задеревеневшие ноги, Хюбе прошелся по комнате, не спеша открыл застекленный до половины шкаф и достал бутылку с яркой этикеткой. — Хотите коньяку, господин бригаденфюрер? — Ты пьешь эту клоповную настойку? — фыркнул Клоцше. — Это настоящий «мартель»! Мне прислал брат из Франции. — Ерунда! Лучше русской водки ничего нет! Ну, ну, не убирай! Так и быть, выпью! Когда Клоцше допивал вторую рюмку, Хюбе заговорил; — Я склонен думать, что местные партизаны и так называемый подпольный городской комитет большевиков непричастны к диверсиям в порту. Тщательное исследование одежды, подложных документов и оружия диверсантов, которые попали в засаду в кофейне «Веселая пучина», позволяет утверждать, что эти люди были заброшены сюда русской армейской разведкой. Это обстоятельство, а также некоторые выводы наших морских специалистов убедили меня в том, что мы имеем дело с особой, самостоятельно действующей группой водолазов-подрывников. — Но при чем тут эта проклятая кофейня?! — Она, видимо, служила диверсантам для связи, — ответил Хюбе. — Во всяком случае, их база была где-то в другом месте. — «Была»! — яростно хмыкнул Клоцше. — Лучше скажи «есть»! Но где? Не знаешь? А как они пролазят в порт, тоже не знаешь?! — Скорее всего со стороны моря, через какой-нибудь подводный лаз в молу. — Так почему же ты до сих пор не отыскал эту дыру? — Это не так просто. Штаб подводного флота выслал сюда специальных водолазов с автономным снаряжением. Они исследуют всю гавань, в том числе и молы. — А почему ты не используешь итальянцев из отряда МАС? Они, насколько мне известно, имеют это самое автономное снаряжение. — Мы привлекали их к обследованию взорванных кораблей. Но, откровенно говоря, я не очень-то доверяю им. — Значит, ты будешь сидеть и ждать, когда приедут наши водолазы? — С сегодняшнего дня принимаются все меры к охране судов, становящихся на внутреннем рейде. Помимо заградительных сетей, установки подводных прожекторов и периодического обследования корабельных днищ, я посоветовал вице-адмиралу Рейнгардту дать приказ сторожевым кораблям время от времени сбрасывать глубинные бомбы. — Глубинные бомбы? — переспросил Клоцше. — Это неплохая мысль. Он вылил в граненый стакан остатки коньяку, понюхал, сморщился и одним глотком выпил все. — Глубинные бомбы — это хорошо, — повторил он, вытирая платком рот. — У тебя еще есть коньяк? Давай. — Он закурил сигарету и, щурясь от едкого дыма, одним глазом посмотрел на Хюбе. — Ну, а что ты будешь делать с мерзавцами из берегового концлагеря? — Я приказал не трогать их. — Чт-о-о?! — Группа, которую мы обнаружили, является только частью нелегальной организации. Многое нам еще неясно, — спокойно сказал Хюбе. — Разве ты не умеешь развязывать языки? — Умею. Но преждевременные аресты насторожат всю организацию. Это может испортить дело. Ведь у них звеньевая структура: Иванов знает Петрова, но не знает Сидорова, который связан с Петровым, и так далее. В общем, если мы поторопимся, вместо всей цепи у нас в руках окажется всего лишь несколько звеньев. — Что же ты предлагаешь? — Нащупать их связного. Не просто перехватить, а проследить за ним, и, если удастся, завербовать. Это надо сделать очень осторожно. — Ты уже, насколько я помню, пытался это сделать, — хмыкнул Клоцше. — Вы имеете в виду Плющева? — Я не знаю, как его звали, знаю только, что эти мерзавцы быстро раскусили его. — Не надо было торопиться с арестом Адамовой. Я же говорил тогда… — «Не надо, не надо», — передразнил его Клоцше. — Теперь вы все умные! Ну да ладно, выкладывай остальное. — Лагерная организация была связана с городским подпольем. После ареста Адамовой эта связь оборвалась. Но, оборвав цепь, мы потеряли ее. Теперь надо все начинать сначала. Однако, как говорят сами русские, нет худа без добра. В настоящее время как лагерные заговорщики, так и городские подпольщики всеми силами стараются восстановить связь между собой. Причем характерно, что связные подполья сейчас пытаются непосредственно проникнуть в порт, тогда как раньше их связь осуществлялась через фильтрующую явку на Дмитриевской улице. Если нам теперь удастся проследить их связного, то мы уже сумеем добраться и до руководящего ядра лагерных смутьянов и до самого подпольного горкома. Кое-что я уже предпринял в этом направлении. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что после ряда неудач главари подполья решили послать в порт одного из своих наиболее ловких и, я бы сказал, наиболее удачливых агентов. — Они собираются сделать ход конем? — заинтересовался Клоцше. — Думаю, что королевой, — усмехнулся Хюбе. — Ты говоришь так, словно лично знаком с этим агентом. — Боюсь, что я действительно хорошо знаком с ним. Клоцше даже привстал. — Мой мальчик, ты идешь по правильному пути. Я не стану вмешиваться — делай как знаешь. Я даже не буду больше задавать вопросов… «Чтобы в случае неудачи всю вину свалить на меня», — подумал Хюбе. — …Только скажу, — продолжал Клоцше, — что если ты провернешь это дело, твоя карьера будет обеспечена. Поверь мне — Максу Клоцше, которого фюрер называет своим быком. «Положим, не своим, а глупым», — мысленно поправил его Хюбе, а вслух сказал: — Я постараюсь оправдать ваши надежды, господин бригаденфюрер. — Не сомневаюсь, что ты оправдаешь их, — осклабился Клоцше и своей громадной ручищей хлопнул Хюбе по плечу. — Ну, хватит на сегодня. У меня уже голова трещит от всего этого. Надо отдохнуть и немного развлечься. Надеюсь, ты познакомишь меня со своими девочками. — У меня их нет, господин бригаденфюрер. — Та-та-та, так я тебе и поверил. Можешь не стесняться, я не святоша. — Я не стесняюсь, господин бригаденфюрер. У меня действительно здесь никого нет. Но вам я могу дать адрес одной дамы… — Почему — одной? А как же ты? Нет, нет! Мы поедем вместе. Макс Клоцше любит компанию. — Я плохой компаньон для такого дела. Может, это покажется странным, но я до сих пор верен своей жене. — Не говори глупости! — рассердился Клоцше. — Верным можно быть только фюреру! Поехали!* * *
— Странный, говоришь? — Гордеев достал трубку и не спеша раскурил ее. — Что же в нем странного? — Многое. — Например?.. — Хотя бы его появление в порту. — Не вижу ничего особенного в том, что человека с погибшего судна подобрало другое судно. — Его подобрали почти у самого берега, тогда как транспорт, на котором он находился, был потоплен миль на пятнадцать мористее. — Ты же сказала, что он хороший пловец. — Но он словно предвидел, что будет тонуть: документы в резиновом бумажнике хранил. — Моряк на войне должен быть готовым ко всему. — Однако все это… — Все это не должно морочить тебе голову. Сейчас не время для фантазий. То, что дель Сарто живет у вас, — хорошо. Меньше подозрений. Но особо заниматься его персоной нет нужды. — А масовцы? — С ними все ясно. Сейчас у нас с тобой другая задача. Товарищи, действующие в порту, сообщили, что сведения, которые уже давно интересуют наше командование, они смогут раздобыть в конце месяца. Кстати, об этом они сообщили в эстафете, которую доставила ты. Как видишь, вся связь с портом зависит теперь от тебя. В общем, через две недели ты должна снова увидеться с сапожником. Знаю, что второй раз тебе будет трудно проникнуть в порт. И все же у тебя больше шансов на удачу, чем у других. Галка вспомнила свою последнюю встречу с Хюбе и зябко повела плечами. Но тут же на память пришло другое: погоня на Второй Якорной улице, длинная, захлебывающаяся автоматная очередь и упавший на мостовую связной. Да, у нее было больше шансов на успех, чем даже у того отчаянного парня. И Галка не рассказала Леониду Борисовичу о своем столкновении с штурмбаннфюрером Хюбе у портовых ворот. Она боялась быть неправильно понятой, боялась, как бы Леонид Борисович не подумал, что она струсила. Гордеев вышел на кухню. Вернулся он с тарелкой, на которой лежали румяные, вкусно пахнущие пирожки. — Угощайся. С яблоками. Еще свежие. Недавно принесли. Галка не хотела есть, но для приличия взяла один пирожок. Скользнув взглядом по портретам усатых фельдфебелей царской службы, она принялась разглядывать икону в углу комнаты. И вдруг спросила: — Дядя Леня, что слышно о румыне, который тогда вырвался из «Веселой пучины»? — Ничего. Как в воду канул. А почему ты спрашиваешь? Девушка смутилась. — Да нет, это я просто так поинтересовалась…* * *
Галка не просто уважала Гордеева. После гибели отца он стал для нее, пожалуй, самым близким человеком. Он был другом отца, его сослуживцем, его соратником. Порой, слушая Леонида Борисовича, она невольно сравнивала его с отцом. Внешне разные, они были людьми одного склада, одной соленой морской закалки, одной веры — гордой веры в свой народ. Слово Гордеева было для Галки законом. Но на этот раз она ослушалась Леонида Борисовича. Она не могла согласиться с тем, что итальянский капитан первого ранга не представляет собой интереса для подполья. «Леонид Борисович не прав, — думала она, — дель Сарто — необычная среди оккупантов фигура». Вот уже больше недели дель Сарто живет у Ортынских наверху, в комнате со стеклянной дверью, выходящей на балкон. По вечерам к нему приходят офицеры из отряда, и дель Сарто играет с ними в бильярд, который он купил на следующий день своего пребывания в городе. Бильярд с разрешения Валерии Александровны установили за домом в саду. Там же соорудили небольшую, но изящную беседку, где дель Сарто угощает своих гостей вином и кофе, который готовит собственноручно. Порой его навещают какие-то важные чиновники из рейхскомиссариата, приехавшие в город на недельку–другую подышать морским воздухом. Тогда дель Сарто просит Валерию Александровну приготовить настоящий итальянский обед с неизменными спагетти. Обед подается, конечно, в столовую, где гости, неумело выуживая из тарелок длинные макароны, ведут неторопливые разговоры о довольно мирных вещах: акциях, кредите, конъюнктуре. Обедом обычно кончаются хлопоты Валерии Александровны: приезжие гости предпочитают рестораны и загородные прогулки, куда они отправляются вместе с дель Сарто на комфортабельных машинах. Вообще князь ведет себя так, словно приехал на отдых. Восстанавливая свой гардероб, он шьет костюмы одновременно у трех портных. Комната в мезонине очень скоро стала напоминать магазин ковров и антикварных безделушек. Однако за всем этим барством Галка очень скоро разглядела в дель Сарто неглупого и, пожалуй, осторожного человека. А однажды ей пришлось убедиться, что капитан первого ранга находится в курсе многих событий, происшедших в городе и порту за последние полгода. Как-то под вечер, когда Галка поливала цветы перед домом, в калитку вошел сержант Марио Равера. Хмуро поздоровавшись, гигант спросил о дель Сарто. — В саду, — кивнула Галка, не опуская лейки. — С кем он? — Один. Играет в бильярд. Равера направился в сад. Галка поставила лейку. По одному только виду Раверы можно было догадаться, что в отряде что-то произошло. Соблазн подслушать его разговор с дель Сарто был настолько велик, что Галка, не задумываясь, быстро вошла в дом и проскользнула в отцовский кабинет. Из кабинета в сад выходило окно, обрамленное снаружи диким виноградом. Прижимаясь к стене так, чтобы ее не заметили, девушка осторожно подняла шпингалеты и приоткрыла окно. Она услышала неторопливый стук бильярдных шаров и взволнованный голос Раверы. Подавшись немного вперед, Галка увидела дель Сарто, целившегося в шар. Казалось, князь не слушал, что говорил ему адъютант. — …они натолкнулись на противоторпедные сети, — докладывал Равера. — Атака сорвалась. Я уверен, что русские осведомлены о наших «майяле». Дель Сарто послал шар в угол, но не попал. — Этого следовало ожидать, — заметил он, начищая кий мелом. — Сыграем партию? Равера вспыхнул. — Простите, экселенц, но мне не до игры. Дель Сарто собрал шары в деревянный треугольник. — Не пойму, Марио, чем вы расстроены? Все наши вернулись на базу. — Их забросали глубинными бомбами. Двое контужены. Но не в этом дело. Люди начинают сомневаться в эффективности штурмовых средств. Два месяца назад русские расстреляли группу самовзрывающихся катеров, а теперь они знают, как бороться с управляемыми торпедами. Дель Сарто удачно разбил пирамиду — левый крайний шар упал в лузу. — Дорогой Марио, вы переоценили наши возможности и, что хуже, — недооценили русских. Мы имеем дело с очень серьезным противником. Будьте готовы и к противоторпедным заграждениям с электрической сигнализацией, и к глубинным бомбам. Кстати, те два русских водолаза, чьи трупы обнаружили на дне были убиты глубинными бомбами? — Да. Дель Сарто забил еще один шар. — Когда это произошло? — спросил он. — Месяца полтора назад. За день до этого в порту был подорван сухогрузный транспорт. Взрыв второго корабля кое-кому показался странным. Адмирал Рейнгардт приказал нашему командиру обследовать потопленные корабли. Характер пробоин и место их расположения натолкнули нас на мысль, что корабли были подорваны подвесными зарядами с часовым механизмом. Я сам спускался на дно и в полкабельтовых к норд-весту от места гибели танкера натолкнулся на трупы, облаченные в легководолазные костюмы. Дель Сарто отложил кий и взял адъютанта под руку. — Нам предстоит обследовать останки еще одного судна. Речь идет о немецком пакетботе, пущенном ко дну на прошлой неделе. Я должен это сделать, чтобы не показаться неблагодарным — как-никак этот самый пакетбот подобрал меня в море. — Слушаюсь, экселенц! Кого прикажете готовить к спуску? — Никого. Мы пойдем с вами вдвоем. На завтра синоптики обещают полный штиль. — Но завтра в тринадцать тридцать — поход. — Надо успеть до полудня. Адмирал Рейнгардт лично просил меня об этом. — Адмирал считает, что пакетбот подорван водолазами? — спросил Равера. — А вы как думаете? — Перед тем как я обнаружил трупы русских водолазов, немецкие контрразведчики выследили человека, который подавал сигналы в сторону моря. Это был грек — хозяин одной из здешних кофеен. Он наводил водолазов на цель направленными световыми сигналами — они действовали ночью. Немцы убили грека. Водолазы, как я вам уже говорил, погибли в тот же день. После этого взрывы в порту прекратились. Однако спустя некоторое время в кофейню того грека явились трое неизвестных. Они, видимо, ничего не знали о случившемся и наскочили на засаду. Двое из них были убиты, но третий ушел. — Пока не вижу связи между вашим рассказом и взрывом пакетбота, — улыбнулся дель Сарто. — Русские водолазы — подрывники и их сигналист-корректировщик погибли задолго до прихода немецкого пакетбота. — Погибли не все. — Вы имеете в виду одного из румын, который ушел от немецких контрразведчиков? — Он ушел от погони, но не ушел из города. — Полагаете, что один человек без чьей-либо помощи способен проникнуть в тщательно охраняемый порт, спуститься на дно и минировать подводную часть судна? — Тот человек, который ушел от погони, способен на многое, экселенц. — Вы судите по тому, что он убивает ножом на расстоянии? — Так вы уже знаете о нем? — Кое-что. Чтобы лучше слышать, Галка подалась вперед. Оконная рама предательски скрипнула. Дель Сарто повернул голову и, прежде чем Галка успела отпрянуть в глубь комнаты, встретился с ней взглядом. Она инстинктивно бросилась прочь из кабинета, но уже в дверях овладела собой. «Спокойнее, — говорила она себе. — Дель Сарто уже не видит меня. Спокойнее. Кажется, я сделала очередную глупость, не следовало высовываться из окна. Но сейчас уже поздно об этом говорить. Надо что-то придумать. В конце концов я у себя дома, а капитан первого ранга — мой квартирант. Частная квартира не место для служебных разговоров. Да, я любопытна. Это некрасиво? У каждого свои пороки. Кроме того, рассказ сержанта Раверы очень заинтересовал меня. Весь город только и говорит об этих таинственных взрывах в порту…» Они встретились в столовой. На князе был новый форменный костюм. Он стоял у буфета, пытаясь рассмотреть себя в небольшое зеркало. — Кажется, неплохо. Как вы считаете? — спросил он Галку. — Портной не внушал мне доверия — я имел неосторожность после первой примерки дать ему бутылку рому. Потом думал, что примеркам не будет конца. Галка вежливо улыбнулась. Она демонстративно вертела в руках садовые ножницы. — В кабинете все окно заросло виноградом, — смело начала она. — Я хотела подрезать ветки… — Разрешите, я помогу. Это было так неожиданно, что Галка совершенно машинально протянула ему ножницы. В кабинете дель Сарто сбросил тужурку и полез на окно, заявив, что все палаццо его отца оплетено диким виноградом; в детстве он всегда помогал садовникам стричь виноград, это было его любимое занятие. Через минуту подоконник и пол у окна были усыпаны листьями и ветками, а еще через минуту дель Сарто упавшим голосом сказал, что он, кажется, перерезал ту ветку, от которой все начинается. Сконфузившись, он спрыгнул на пол. Галке стало весело. Князь напоминал напроказившего мальчишку, но главное было то, что он не придал никакого значения ее появлению в окне. А может, он просто не заметил ее? — Я должен возместить, причиненный мною ущерб, — между тем говорил дель Сарто. — Во что вы оцениваете этот виноград? — Если вы имеете в виду деньги, то этот виноград нам ничего не стоил. Его посадил и вырастил мой дед. — В таком случае, как же мне искупить вину? — А разве вину искупают деньгами? — Я готов понести любое другое наказание, — улыбнулся он. — Оставим это, князь, — нахмурилась девушка. — Галина Алексеевна, не называйте меня князем, — уже серьезно попросил он. — Хорошо? — Почему? Вам неприятен ваш титул? — В наше время мало кто принимает его всерьез. Даже в королевской Италии прежде всего интересуются не вашим титулом, а вашим текущим счетом в банке. Учтите это на всякий случай. — Поверьте, синьор дель Сарто, ваш счет меня не интересует. — А вдруг я окажусь банкротом и не смогу расплатиться за квартиру? — Я не обеднею. — О, даже так! Стало быть, работа в театре приносит вам немалый доход. Галка искоса посмотрела на него — шутит или говорит всерьез? Его трудно было понять. — Я пошла в театр не ради денег, — уклончиво ответила она. — Понимаю. Я тоже люблю театр, особенно оперу. Кстати, говорят, ваш театр ставит «Паяцы»? Любопытно послушать. — Не думаю, что вы получите большое удовольствие. После «Ла Скала» наш театр покажется вам жалкой самодеятельностью. — Не говорите так, — живо возразил он. — Однажды мне довелось слушать самодеятельную труппу, которой позавидовала бы и парижская Гранд-Опер. — В таком случае наш театр следует сравнить с третьесортным кабаре. — Галка вспомнила недавний разговор с Кулагиным. Дель Сарто рассмеялся. — Представляю, что у вас сделали с «Паяцами». Неда, вероятно, выходит в одних чулках и поет шансонетки… — Партию Неды пою я. — Простите. Я не хотел обидеть вас. — Пустяки. Мне не привыкать к обидам. — Черт побери! Я же повторяю, что вовсе не имел в виду вас! Можете считать меня идиотом, но… — Не надо ругаться, синьор дель Сарто, — остановила его Галка. — С меня достаточно той брани, которую я ежедневно выслушиваю в театре. — Простите еще раз. Мы, моряки, привыкли к крепким словам. Они нам кажутся убедительнее. — Почему вы стали моряком? — спросила Галка, чтобы переменить тему разговора. — Надо же было кем-то стать. Если бы я был летчиком или танкистом, вы, вероятно, задали бы тот же вопрос. — Но есть и мирные профессии. — В наши дни нет мирных профессий, — покачал головой итальянец. — А что вы будете делать после войны? — Если останусь жив, займусь выращиванием дикого винограда. — Дель Сарто как-то странно посмотрел на Галку. — Однако мне пора. Иногда надо и работать. Передайте Валерии Александровне, что я буду отсутствовать два дня. Прощайте. — Почему — прощайте? У нас обычно говорят — до свидания. — Я неплохо знаю русский язык. И все же — прощайте. Это не значит, что я не вернусь. Но, как говорится, все в руках божьих.* * *
Дверь открыл Леонид Борисович. Он не пригласил в комнату — разговаривали в коридоре. — Зачем пришла? Тон, которым был задан этот вопрос, нельзя было назвать приветливым. — Завтра в тринадцать тридцать масовцы выходят в море. — Знаю. Галка опешила. — Откуда?.. — Не твое дело. Что еще? — Итальянцы подозревают, что пакетбот взорвал тот самый румын, который был в «Веселой пучине». — И это я знаю. Все? — Все. — А теперь скажи, кто тебе разрешил совать нос не в свои дела? Кто тебе разрешил приходить сюда, когда вздумается? — Дядя Леня, я… — Ты теперь связная. Все остальное тебя не касается. Заруби это себе на носу. — Уже зарубила, — обиженно буркнула Галя. Собственно, обижаться можно было только на себя. Еще неделю назад Гордеев предупредил, чтобы она оставила в покое дель Сарто. Он оказался прав — разве, мягко говоря, не оконфузилась она при попытке подслушать разговор князя со своим адъютантом? Еще хорошо, что все кончилось благополучно.Часть четвертая ДВОЙНАЯ ИГРА

Когда опустили занавес и в зале раздались аплодисменты, Галка подумала, что публика издевается. Девушка была убеждена, что премьера провалилась. Началось с того, что Кулагину не понравился наспех сшитый клоунский наряд Канио. Костюм показался тенору недостаточно пышным. Ему непременно хотелось выйти на сцену в кружевном жабо. Пришлось срочно отыскивать в театральном гардеробе испанский костюм XVII столетия и отпарывать от него воротник. Затем, уже во время действия, Кулагин поругался с гримером и решил гримироваться сам. На сцену он вышел разукрашенный во все цвета радуги. Но это было еще полбеды. Хуже, — что в каждый свой выход он неизменно становился у суфлерской будки и пел, не сходя с места, глядя куда-то вверх. Ни о какой игре не могло быть и речи. Все попытки Галки — Неды и артиста Семенцова, исполнявшего роль Тонио, обратить на себя внимание Кулагина, не увенчались успехом. В паузах Семенцов ругался нехорошими словами. Конечно, Галке было наплевать на сидящих в зале немецких, итальянских и румынских офицеров, но Кулагин сбивал ее с толку. Правда, пел он, с точки зрения канонов вокального искусства, безукоризненно, но стоял как столб. Только отчаянными усилиями Галки и Семенцова удалось создать какую-то видимость действия. Тем не менее публика устроила Кулагину настоящую овацию. Его вызывали пять раз. Восторг публики стал Галке понятен, когда она взглянула на центральную ложу. Начальник гарнизона и порта вице-адмирал Рейнгардт вытирал платком глаза, а его адъютант нес к сцене большую корзину цветов… За кулисы прорвался целый отряд подвыпивших офицеров. Кулагина поздравляли, трясли ему руки, тянули в буфет. К Галке подошел Марио Равера. Он был в офицерском парадном мундире со всеми регалиями. Одна рука его висела на повязке, другую он спрятал за спину. — Синьорина Галина, вы очень, очень хорошо пели, — сказал он, вытаскивая из-за спины букет. — Это просил передать вам капитан первого ранга. А это, — он придержал букет забинтованной рукой, извлекая здоровой из кармана флакон духов, — от синьорины Мартинелли. Они не могли прийти и просили меня поздравить вас. — Спасибо, Марио, — улыбнулась Галка, принимая подарки. — Спасибо, что пришли. Вас тоже надо поздравить — вы уже офицер. — О синьорина, для меня это небольшое счастье. Я простой рыбак, и все это не по мне. — Что у вас с рукой? — Ушиб. Синьорина Мартинелли дала мне освобождение на целую неделю. Откуда-то из-за декораций вынырнул Логунов. — Галина Алексеевна! Вы заставляете себя ждать. Боже мой, она еще не переоделась. Скорее, машины у подъезда. — Кто меня ждет? Какие машины? — Разве вам Кулагин не говорил? Ну вот, пожалуйста. Называется пригласил всех! Быстренько собирайтесь. — Я прошу сказать, в чем дело? — Ах, боже мой! — всплеснул руками Логунов. — Неужели не понятно — традиционный банкет после премьеры. Все расходы за счет главной комендатуры. Кроме того, Кулагин справляет новоселье. Кстати, тоже не за свой счет. В общем собираемся у него. — Боюсь, что я не смогу присутствовать на банкете. — Не говорите ерунды. Там будет Рейнгардт и офицеры из главной комендатуры. Они знают, что приглашены все артисты, в том числе и вы. О вас уже спрашивали. — Я не поеду. — Галина Алексеевна, не сходите с ума. Галка колебалась. Она не хотела ехать на этот банкет, где, как видно, предстояла пьяная оргия. Но вместе с тем соблазн попасть в общество высокопоставленных чиновников из главной комендатуры был велик. Вино развязывает языки, и не исключено, что на банкете ей удастся собрать ценную информацию. Конечно, никто не давал ей такого задания. Но ведь и масовцами ей не поручали заниматься. А разве не важные сведения узнала она, пробыв полдня в компании подвыпивших итальянских моряков? — Галина Алексеевна, я жду, — торопил ее Логунов. — Хорошо, — согласилась она. — Я поеду. Но только со своим другом — лейтенантом Раверой. Марио, — по-итальянски обратилась она к гиганту, — прошу вас сопровождать меня. — Слушаюсь, синьорина, — улыбнулся тот. — На кой черт вам этот макаронщик! — зашипел ей в ухо Логунов. Галка отодвинула бургомистра плечом. — Я поеду с ним или вовсе не поеду, — твердо сказала она.
Легковые машины остановились у какого-то дома. Было совсем темно, и Галка никак не могла определить, где она находится. Затянутое с вечера грозовыми тучами иссиня-черное небо сливалось с непроглядным мраком ночных улиц. Над морем, где-то очень далеко, вспыхивали зарницы. Просторная прихожая дома была затемнена, и только в следующей, непомерно большой комнате, напоминающей танцевальный зал, горел ослепительно яркий, режущий глаза свет. Прямо из комнаты на второй этаж поднималась лестница с резными дубовыми перилами. Вдоль стен тянулись столы, заставленные многочисленными бутылками. Окна были закрыты плотными шторами. У столов хлопотали солдаты в белых куртках. Галке казалось, что она уже когда-то была здесь. И странно, это чувство возникло у нее еще на улице, когда, выходя из машины, она скорее угадала, нежели рассмотрела в темноте очертания небольшого двухэтажного особняка с тяжеловесным балконом. Комната наполнилась гостями. В основном это были немецкие старшие офицеры от майора и выше. Несколько чиновников городской управы почтительно жались в углу. Артисты сгрудились у лестницы, ведущей наверх. Они чувствовали себя неуверенно, особенно женщины. Этого нельзя было сказать о Пустовойтовой. В длинном, облегающем платье с большим вырезом, она вела себя как хозяйка дома: громко смеялась, заговаривала то с одним, то с другим офицером, охотно протягивала для поцелуя полную руку в кружевной перчатке, ободряюще подмигивала притихшим артистам, снисходительно кивала чиновникам из управы. Заметив Марио и Галку, она подошла к ним. — Где ты отыскала этого малыша? Познакомь меня. — Лейтенант Равера — адъютант князя дель Сарто. Марио, поняв, что речь идет о нем, вежливо поклонился. — Ах, вон оно что, — разочарованно протянула Пустовойтова. — Оказывается, это всего лишь телохранитель. Но сумеет ли он сохранить то, что ему поручено? — Не беспокойся за меня. — А я не беспокоюсь. Беспокоится, видимо, твой князь. Не зря же он приставил к тебе этого медведя. Кстати сказать, дель Сарто не такая уж большая птица, как тебе кажется. Есть более солидные объекты, и у тебя сегодня будут кое-какие шансы. Я мешать не стану… — Спасибо за совет. И скажи, что это за дом. Я до сих пор не пойму, где нахожусь. — Это особняк, подаренный Кулагину адмиралом Рейнгардтом. — А что здесь было раньше? — Кафе какого-то пиндоса. Галка вздрогнула. Это же бывшее кафе Георгиоса! — Но при чем тут Кулагин? — быстро овладев собой, спросила осторожно она. — Ему понравился этот домик. У него губа не дура. Рейнгардт не мог отказать. Адмирал вообще ни в чем не может отказать Кулагину. Он считает его новым Карузо. Тебе нравится здесь? — Не очень. — Конечно, это не палаццо итальянского князя, — усмехнулась Пустовойтова. Оживленный шум гостей смолк. Все повернулись к двери Офицеры вытянулись. В комнату вошел Рейнгардт в сопровождении адъютанта и коренастого капитана третьего ранга. Лающее приветствие отозвалось звоном посуды. Пустовойтова неожиданно выхватила у Галки преподнесенные Раверой цветы и бросилась вперед, расталкивая гостей. Такой наглости Галка не ожидала. Она растерянно смотрела, как ресторанная певичка, пробившись к Рейнгардту, протянула ему розы. — Артисты приветствуют вас, господин адмирал. Гости вежливо зааплодировали. Рейнгардт передал букет адъютанту, приложился к руке Пустовойтовой и небрежно кивнул в сторону лестницы. — Благодарю, господа. Однако где же главный виновник торжества? Кулагин подошел к нему нетвердой походкой. Тенор был уже навеселе и отчаянно коверкал немецкие слова. — Ваше превосходительство… Мой дом… Я счастлив… Галку передернуло. Шут балаганный! За столом она оказалась между Раверой и коренастым капитаном третьего ранга, длинную фамилию которого так и не запомнила. У капитана были бесцветные неприятные глаза. Он в упор разглядывал девушку, говорил пошлости и косился на немецкий орден, приколотый к тужурке Марио. Среди гостей был и Хюбе. Галка заметила его уже за столом. Он рассеянно кивнул ей и отвел взгляд. Рядом с ним сидела Пустовойтова. Тосты не отличались оригинальностью, но число их угрожающе росло. Гости быстро пьянели. Галку выручал Марио: каждый раз он наливал в ее рюмку безобидный лимонад. Капитан третьего ранга заподозрил обман и устроил скандал. Он требовал, чтобы Марио пересел на другое место. Галка сказала, что она все равно не будет пить, так как бережет голос. — Не слушайте ее, капитан, — крикнула через стол Пустовойтова. — Она просто ломается. От вина не теряют голос. Я вот пью со всеми. — Ну, тебе-то терять нечего, — вспыхнула Галка. Ей не следовало говорить это. На лице Пустовойтовой через слой пудры выступили багровые пятна. На другом конце стола кто-то постучал вилкой о стакан. — Господа! — не вставая с места, обратился к гостям Рейнгардт. — Я предлагаю выпить за тех, кто, претворяя в жизнь веления фюрера, ведет победоносные бои на юге, — за нашу армию, авиацию и флот! Кто-то крикнул «Ура!» Десяток глоток подхватило этот крик. Офицеры вскочили, но адмирал не встал. — Господа, — продолжал он, — это лето принесло нам ряд выдающихся побед. Судьба Кавказа предрешена. Армейская группировка генерала фон Паулюса не сегодня–завтра форсирует Волгу и выйдет в тыл большевистской столице. Наше наступление неудержимо. Второго чуда под Москвой не будет. Конечная цель близка! В эти исторические дни фюрер и нация требуют от нас последнего напряжения сил. Здесь, в тылу, мы должны раз и навсегда покончить с террористическими бандами, действующими на наших коммуникациях. Только недавно нам стало известно, что в районе порта вот уже несколько месяцев орудует отряд советских подводных диверсантов. — Кажется, этот отряд состоит из одного человека, — пробормотал Марио. Но никто, кроме Галки, его не услышал. — В борьбу с диверсантами должны включиться все, — говорил Рейнгардт, — от русской полиции — вы слышите, господин бургомистр, — до командиров частей гарнизона и кораблей, стоящих в порту. — Этого еще недоставало, — пьяно усмехнулся капитан третьего ранга. — Мой эсминец не корыто, которое можно продырявить перочинным ножом. Плевал я на всех диверсантов. Адмирал, видимо, услышал и недовольно посмотрел в его сторону. — Я уверен, — Рейнгардт наконец поднялся, — что мы в ближайшие дни ликвидируем враждебные вылазки в городе и порту. За нашу победу, господа! Гости уже вставали из-за стола, когда к Галке подошел артист Семенцов. — Галина Алексеевна, — наклонясь к ней, тихо сказал он, — немедленно уходите отсюда. Я слышал разговор Пустовойтовой с гестаповским майором. Они готовить вам какую-то пакость. Галка поблагодарила его. Ей не пришлось уговаривать Марио. — Я давно хотел предложить вам уйти, — сказал итальянец. — Мне здесь не нравится. В другом месте я бы научил вежливости кое-кого из присутствующих. Равера недобро посмотрел в сторону капитана третьего ранга. Тот стоял к ним спиной, преграждая путь к двери, и разговаривал с двумя морскими офицерами. Казалось, он не обращал внимания на Галку и ее спутника. Но девушка была уверена, что капитан стал там нарочно, чтобы не дать ей выйти из узкого прохода между столами и стеной. Это, видимо, понял и Равера. Побледнев, гигант рванулся к капитану, но Галка удержала его. — Марио, не затевайте ссоры. — Я ему сверну голову! — Только не здесь. Сейчас начнут танцевать, и мы выйдем. Галка видела, как к капитану третьего ранга подошла Пустовойтова и стала что-то говорить. Капитан хмыкнул и кивнул головой. Галка прислушалась, но Пустовойтова уже отошла. — Господин капитан, как вам удалось провести корабль по Дунаю? — продолжая прерванный разговор, спросил один из офицеров. — О, это было нелегко. Пришлось снять все вооружение и стать на поплавки. — Правда, что вы представлены за это к Железному кресту? — А вы полагаете, что только итальяшки могут получать немецкие боевые ордена? Равера сжал кулак здоровой руки. Заиграла радиола. Капитан повернулся к Галке. — Фрейлейн, я танцую с вами. — Я обещала этот танец моему другу, — возразила Галка, беря Марио под руку. — Вот как! — капитан подошел к ней. Он был изрядно пьян. — Вы полагаете, что этот молокосос лучше меня? Послушай, лейтенант, оставь девчонку, она не для тебя. К тому же, насколько я понимаю, она из тех, которые любят, чтобы их держали двумя руками, а у тебя действует только одна. — Он громко рассмеялся. Прижав к груди перевязанную руку, Марио здоровой ударил его в подбородок. Немец грохнулся на стол, ломая посуду, и опрокидывая бутылки. Музыка оборвалась. Несколько офицеров бросились на помощь капитану, но, разглядев огромную фигуру итальянца, остановились на полпути. Гости встревоженно перешептывались. Капитан неподвижно лежал на столе среди грязных тарелок и разбитых бокалов. Прошла минута, другая. Наконец вперед вышел адъютант Рейнгардта. — Лейтенант Равера, явитесь к адмиралу. Он ждет вас в соседней комнате. Госпожу Ортынскую тоже приглашают туда. В боковой, сравнительно небольшой комнате на диване сидел Рейнгардт. Адмирал курил длинную сигару, пуская дым причудливыми кольцами. — Лейтенант Равера, вы недостойно вели себя, — медленно проговорил он. — Господин адмирал… — Молчать! Я повторяю, вы вели себя неподобающим образом и должны понести наказание. Я уточню степень вашей вины и приму решение. А сейчас отправляйтесь домой, вы пьяны. — Я не пьян, господин адмирал. — Молчать! Убирайтесь отсюда. — Господин Рейнгардт, — вступилась Галка. — Лейтенант не виноват. Капитан третьего ранга оскорбил его. — Расскажите, как было. Да вы садитесь, садитесь, милая Неда. — Адмирал указал на стоящее в стороне кресло. Галка оглянулась — Марио в комнате уже не было. Какое-то тревожное предчувствие охватило ее. Но делать нечего — она села и принялась рассказывать о скандале. Рейнгардт пускал кольца дыма и задавал незначительные вопросы. Галке показалось, что он нарочно затягивает разговор. В комнату вошел адъютант. — Господин адмирал, некоторые гости уходят. — Кто именно? — В основном русские. — Отлично. Галка поднялась. — Мне тоже надо идти. — Нет, нет. Банкет продолжается. Я еще должен выпить за ваш успех, милая Неда. В зале снова включили радиолу. Рейнгардт встал. — Разрешите пригласить вас. Галке пришлось идти с ним танцевать. Она заметила, что в зале остались только немецкие офицеры и несколько девушек-хористок. Солдаты в поварских куртках убирали грязную посуду и ставили на столы новые бутылки. Краем глаза она увидела, как в стороне мелькнуло платье Пустовойтовой. Галка вдруг подумала, что скандал за столом, уход части гостей, подозрительное перешептывание ресторанной певички с офицерами и этот нескончаемо долгий танец со старым адмиралом имеют какую-то связь. Надо было что-то предпринять. Но Галка не знала, откуда надвигалась опасность. — Господин адмирал, у меня кружится голова, — обрывая танец, сказала она. — Здесь очень жарко. — Я же вам говорила, — раздался голос Пустовойтовой. — Так она всегда начинает. Галка оглянулась. Подвыпившие офицеры обступили ее. Среди них была и певичка. — Господа! — крикнула она. — Сейчас Галина Ортынская исполнит ариозо и танец Русалки из одноименной оперы. — Только и всего! — разочарованно протянул подполковник с маленькими черными усиками над вздернутой губой. — О, это очень пикантный номер! — усмехнулась Пустовойтова. — Ортынская исполняет его в костюме русалки. Офицеры загоготали. Галка отшатнулась. — Господин адмирал, это провокация. Рейнгардт, хихикая, попятился от нее. — Милая Неда, не скромничайте. Говорят, вы в таком виде уже танцевали перед итальянскими моряками. — Это неправда! — Она, как всегда, ломается, — подзадоривала офицеров Пустовойтова. — Хочет, чтобы ей помогли раздеться. Кто-то, давясь от смеха, крикнул: — Шульц, помогите ей! Подполковник с маленькими усиками подскочил к Галке и дернул ее за ворот — платье затрещало. Девушка толкнула подполковника в грудь. Но ее схватили за руки, стали срывать платье. Комната поплыла перед глазами: столы, бутылки, пьяные физиономии офицеров, хихикающий старик-адмирал — все завертелось в каком-то неистовом круговороте. — Господа, что здесь происходит? — донесся до нее встревоженный голос. — Не мешайте, господин тенор. Так будет лучше для вас. Прямо перед собой Галка увидела Кулагина, взъерошенного, без галстука, в измятойрубашке, забрызганной вином. Кулагин оттолкнул от нее офицеров. Они угрожающе зашумели. — Он злоупотребляет положением хозяина! — Актеришка, как ты посмел толкнуть меня! — Ганс, убери этого идиота. — Господин адмирал, — побледнев, обратился Кулагин к Рейнгардту, — я требую прекратить это безобразие. — Требовать здесь могу только я! — взвизгнул Рейнгардт. — Не забывайтесь! А потом, какое вам дело до Ортынской? Кулагин посмотрел на Галку так, словно он видел ее впервые, и отступил на шаг. Порыв негодования угасал. — Пусть лучше убьют… — прошептала девушка. Какая-то тень пробежали по лицу тенора. Он решительно повернулся к адмиралу. — Я требую, чтобы Галину Ортынскую оставили в покое и извинились перед ней, — твердо сказал он. — Она — моя невеста. Недовольный гул голосов смолк. Наступила тишина. Из-за спин опешивших офицеров вышел Хюбе. Не в пример другим, он твердо держался на ногах. — Что я слышу, Галина Алексеевна, вы — невеста? Галка еще не пришла в себя, она не совсем ясно представляла смысл происходящего, но понимала, что надо ответить утвердительно. — Да. Хюбе улыбнулся, показывая свои ровные зубы. — А вы не находите, Сергей Павлович, что ваша нареченная ведет себя по меньшей мере странно, — обратился он к Кулагину. — Сюда она явилась с итальянским офицером, в то время как вы… — Это мое дело, господин майор, — оборвал его Кулагин, но тут же, словно испугавшись своей резкости, улыбнулся. — До свадьбы мы предоставили друг другу относительную свободу действий. — А после свадьбы? — Господин майор!.. — Прошу прощения. Но скажите, если не секрет, когда вы собираетесь венчаться? — Через неделю, — выпалил Кулагин. — О, неделя — большой срок. За это время многое может измениться, — усмехнулся Хюбе. — Вот именно, — подхватил коренастый капитан третьего ранга. Он уже оправился после взбучки, полученной от Марио, и даже успел залепить пластырем разбитую скулу. — Я должен получить какую-то компенсацию за то, что защитил вашу невесту, господин певец, от итальянского орангутанга. Черт побери, я хочу погулять на русской свадьбе! — Через неделю… — начал Кулагин. — К черту вашу неделю! Мой эсминец завтра выходит в море. Ради меня вы сегодня же должны сыграть свадьбу! Пошлите за священником. Я готов быть посаженным отцом. Предложение понравилось офицерам. Все разом зашумели. — Венчать артистов! — Ганс, иди за попом! — Где я его найду ночью? — Гестапо должно находить кого угодно и когда угодно. — Смотри, не приведи по ошибке раввина. Галка смутно помнила, что было дальше. Два гестаповских офицера привезли перепуганного католического священника. Немного оправившись от испуга, он сказал, что не может венчать православных. Ему пригрозили пистолетом, и обряд начался. У лестницы, ведущей на второй этаж, выстроился гарнизонный оркестр, поднятый по тревоге адъютантом Рейнгардта. Толстый интендант из главной комендатуры привез ящик французского коньяка в дополнение к батареям бутылок, стоящим на столе. Галке казалось, что она сходит с ума. Кулагин вначале чувствовал себя неуверенно, но после венчания перед наспех сооруженным из водочных ящиков алтарем стал быстро пьянеть. Правда, он еще успел шепнуть «невесте»: «Не забудь, что меня зовут Сергеем». Но затем совершенно охмелел: чмокал Галку в щеку и говорил, что возьмет ее с собой в турне по Европе. Потом, обняв посаженного отца — капитана третьего ранга, — запел какую-то унылую песню. Капитан бил себя в грудь и говорил, что еще покажет себя, что максимум через месяц он получит Рыцарский, а вся его команда — Железные кресты. В боковой комнате для сотрудников главной комендатуры и гестапо Пустовойтова исполняла танец русалки. Армейских офицеров туда не пустили — не хватило мест. Кулагин с капитаном чуть ли не силой заставили Галку выпить полный стакан коньяку. Пьянея, она вдруг подумала о дель Сарто. Если б он был с ней, ничего подобного бы не случилось.
* * *
Обер-лейтенант Вольфингаген решил спуститься под воду рано утром. Несколько предыдущих спусков, во время которых он со своей легководолазной группой выборочно обследовал молы, убедили его в том, что разгадку таинственных взрывов надо искать в другом месте. Однако он не торопился сообщать об этом начальнику гарнизона и порта. Вице-адмирал Рейнгардт, напуганный последней диверсией, требовал от Вольфингагена сплошного осмотра подводных оснований всех молов и скал, ограждающих акваторию порта. Но обер-лейтенант, прокорпев два дня над гидрографическими картами и планами портовых сооружений, решил действовать по-своему. Он имел на то особые полномочия. Стоящая перед ним задача была необычной — методы и сроки решения ее не предусматривались никакими инструкциями, а потому Вольфингаген целиком положился на свою интуицию разведчика и водолаза. Автономное водолазное снаряжение имело один существенный недостаток — человек, ушедший в нем под воду, терял всякую связь с поверхностью. Вольфингаген перед спуском попросил оповестить вахтенных начальников, стоящих на внутреннем рейде судов, о начале водолазных работ. Такая предосторожность была нелишней: весть о непрекращающихся диверсиях в порту с непостижимой быстротой проникала на заходящие в гавань суда, порождая среди их команд нервозность. В общем-то неплохая идея периодической подводной бомбежки на некоторых кораблях была доведена до абсурда — при малейшем всплеске вахтенные минеры сбрасывали за борт глубинные бомбы, рискуя подорвать свой же корабль и глуша в воде все и вся… Море, остывшее за ночь, было холодным. Вольфингаген предусмотрительно надел костюм из губчатой резины. Солнце только что показало свою красную макушку, и его лучи косо скользили по воде, едва проникая на глубину пяти метров. Но Вольфингаген нарочно выбрал этот ранний час. Вместо тяжелых свинцовых ботинок, удерживающих водолаза на дне, он укрепил на ногах резиновые ласты, позволяющие сравнительно быстро передвигаться. Однако Вольфингаген не спешил: опустившись на несколько метров, он поплыл вдоль линии причалов, медленно работая ногами. Время от времени он переворачивался на спину и тогда прямо над собой видел колышущуюся пленку поверхности. Стоящие на якорях корабли казались ему огромными скалами, возвышающимися на фоне неба. Когда скалы-корабли надвигались слишком близко, Вольфингаген забирал в сторону. Низко осаженный бесконечно длинный корпус эскадренного миноносца, словно глухая монастырская стена, вырос перед ним. Отсутствие сетевого заграждения удивило Вольфингагена, и он вспомнил самоуверенное лицо командира эсминца, которого видел вчера в кабинете начальника порта. «Надо будет сказать Рейнгардту, — подумал он. — Беспечность — не лучшее качество моряка. Но пока что осмотрю киль этого франта — не подвесили ли ему «сюрприз» с часовым механизмом?» Достигнув носа корабля, он лег на спину и включил сильный аккумуляторный фонарь. Течение неторопливо несло его к корме Луч света скользил по гладкому, еще не успевшему обрасти ракушками килю. Когда до кормы осталось не больше пяти сажен, неожиданно, оглушив водолаза, загромыхал двигатель корабля. Вольфингаген отпрянул в сторону и быстро заработал ногами, стараясь отплыть как можно дальше. Но на его счастье огромные лопасти гребного винта даже не дрогнули. Через несколько секунд двигатель смолк. «Холостой пуск. Опробывают машины», — понял Вольфингаген и облегченно выругался про себя. Он с удовольствием сделал бы это вслух, но рот был плотно закрыт резиновыми загубниками. Обер-лейтенант уже поворачивал обратно — пусть эти болваны на эсминце сами беспокоятся о себе, — когда ему показалось, что в блеклой полумгле, где-то под самым винтом, мелькнула тень большой рыбы. «Повезло нам с тобой, рыбешка, — подумал Вольфингаген, — этим болванам ничего не стоило провернуть винт, и тогда из нас получился бы фарш». Однако уже через полчаса он забыл об этом эпизоде, целиком уйдя в работу, ради которой спустился под воду. Солнце, поднимаясь над горизонтом, все глубже погружало свои лучи в толщу воды. Можно было уже работать на дне, и Вольфингаген занялся обследованием подводных оснований тех причалов, которые соприкасались с береговыми породами. Одна мысль, мелькнувшая еще в Берлине, когда он только узнал о здешних событиях, за последние дни все чаще и чаще приходила на ум. Своим предположением Вольфингаген не делился ни с кем, так как осознавал, что оно может показаться странным и даже несколько несерьезным… Основание причальной стенки 15-й пристани было покрыто слоем водорослей, наростами темного подводного мха, колониями разнокалиберных моллюсков-прилипал; в глубоких, разъеденных морем щелях, между большими грубо отесанными камнями диорита прятались маленькие сердитые крабы. Вольфингаген ощупывал кладку, просовывал руку в узкие щели и даже кое-где счищал водоросли. Казалось, в его поисках не было никакой системы: он то подолгу задерживался на одном месте, осматривая какую-нибудь незначительную выемку в стене или скобля кинжалом камень; то плыл дальше, не обращая внимания на подозрительные углубления в основании причала. Так прошло некоторое время. Вольфингаген не обнаружил ничего. Но тем не менее он был доволен осмотром. Он и не надеялся так вот, сразу, найти то, что искал. Он только хотел еще раз на месте убедиться в обоснованности своего предположения. Результаты обследования превзошли все ожидания. Здесь, у основания 15-й пристани, напористая морская вода в некоторых местах расширила зазоры между глыбами диоритовой кладки и, устремляясь дальше, пробила в пласте берегового ракушечника своеобразные галереи. Галереи были узкими только в начале, — там, где твердый диорит неохотно уступал дорогу морю, а дальше, где залегали податливые береговые породы, вода вымывала целые пещеры. Можно было возвращаться. Но перед тем как подняться на поверхность, Вольфингаген обдумывал предстоящий разговор с начальником гарнизона и порта. Полномочия полномочиями, но ссориться с адмиралом пока не стоит. Все-таки полной уверенности в успехе нет. Неподалеку от основания причальной стенки среди ржавого железного хлама, покрывавшего дно, обер-лейтенант отыскал большую чугунную болванку, неизвестно как попавшую сюда, и присел. Во всей строго размеренной конструкции своих рассуждений он видел один пробел. Допустим, что подводные диверсанты используют одну из выдолбленных морем подземных галерей. Но тут невольно всплывает вопрос — как далеко может углубляться такая галерея в берег. На 50, 100, 150 метров? При любом из этих вариантов галерея должна оканчиваться где-то на территории порта. Если принять во внимание, что в зону порта никого, кроме военнослужащих, не допускают, — заключенных специального концлагеря можно смело сбросить со счетов, — то надо предположить, что в диверсиях замешан кто-то из своих. Это-то и не укладывалось в голове обер-лейтенанта. Ну кто из немцев пойдет на такое? Однако, почему он думает только о немцах? В порту ежедневно шатаются союзные моряки — итальянцы, румыны. От них можно ожидать любой пакости. Взять хотя бы тех же итальянцев из отряда МАС. Кто-кто, а они-то отлично знают водолазное дело. Штурмбаннфюрер Хюбе говорил, что среди них немало подозрительных типов. Хюбе можно верить. У него есть чутье… Размышления Вольфингагена были прерваны. Что-то насторожило его. Вначале он даже не понял что. Блекло-серая масса воды, обступавшая его со всех сторон, по-прежнему казалась застывшей, и только проворные мальки ставриды нарушали величественный покой шестнадцатиметровой глубины. Но вот слева на мутно-темном фоне причального основания мелькнула какая-то тень. Обер-лейтенант инстинктивно сжал рукоять кинжала. «Рыба, — попытался успокоить он себя, пристально вглядываясь в толщу воды. — Просто большая рыба, та, что крутилась под винтом эсминца». Вольфингагену даже показалось, что в расплывчатой полумгле он различает тупую морду и большие плавники. Но уже в следующее мгновение он вздрогнул и, быстро соскользнув с чугунной болванки, присел на корточки. В каких-то десяти метрах от себя он совершенно отчетливо увидел фигуру человека в легководолазном костюме. Ошибки быть не могло. Никто из портовых водолазов не спускался под воду. К тому же наметанный глаз обер-лейтенанта сразу отметил незнакомую конструкцию кислородно-дыхательного прибора. Человек остановился у причального основания, коснулся рукой его облицовки и, не отрывая ладони, словно лаская камень, пошел вдоль стены. Через какое-то мгновение он уже расплылся в полумгле. Не раздумывая, Вольфингаген рванулся следом. Он рассчитывал нагнать неизвестного водолаза за несколько секунд: тот, как обер-лейтенант успел заметить, был обут в неуклюжие, со свинцовым грузом ботинки. В такой обуви далеко не уйдешь. Что есть сил работая ластами, Вольфингаген быстро плыл вдоль причального основания, поднявшись метра на четыре над песчаным дном. Под водой, как в воздухе, лучше всего нападать сверху, а обер-лейтенант готовился к нападению. Вольфингаген не сомневался в исходе предстоящей схватки. За него было все: высота, скорость, внезапность; он в совершенстве владел приемами рукопашной борьбы и прекрасно ориентировался под водой. Однако схватка не состоялась: неизвестный водолаз, так неуклюже и медленно передвигавшийся по дну в своих тяжелых ботинках, исчез. С быстротой торпеды Вольфингаген проплыл метров сто, вернулся назад, опустился ниже и снова проделал тот же путь, но водолаз как будто растворился. Обер-лейтенанту стало по себе. С каким-то неприятным, пугающим чувством, с которым человек обнаруживает у себя опасную болезнь, он подумал о галлюцинации. Но вдруг на песке у подножия причального основания он заметил неглубокую, полуовальную лунку, стираемую на глазах давлением воды. Вольфингаген едва не вскрикнул. След! Позабыв об осторожности, он зажег фонарь. След водолазного ботинка! Это не была галлюцинация — пальцы ощупали хрупкую кромку вмятины. Но почему след упирается в каменную кладку? Перед мысленным взором немца возник силуэт неизвестного водолаза и отдельно — его рука, скользящая по глыбам диоритовой кладки. Вольфингаген, словно притянутый магнитом, припал к стенке. Раня ладони об осколки ракушек, он лихорадочно ощупывал камни. «Где-то здесь! Это должно быть где-то здесь!» — твердил он про себя. Вольфингагена тряс озноб. То, что он испытывал, трудно было назвать одним словом — охватившее его чувство можно сравнить только с чувством охотника, много часов идущего по следу олененка и вдруг столкнувшегося с великолепным лосем. Радость большой удачи, азарт погони, предвкушение победы — все это одной хмельной волной ударило в голову. Открытия следовали одно за другим: шляпка стального болта, обнаруженная среди водорослей между диоритовыми глыбами, оказалась ключом; один из больших камней кладки ушел в глубь стены, открывая лаз в заполненную водой галерею, или, вернее, подводный тоннель, не очень просторный, но достаточно широкий, чтобы мог туда вплыть человек с кислородными баллонами на спине. Стены и низкий потолок тоннеля — только и следи, чтобы не ударить голову, — были неровны, но в иных местах рука нащупывала следы инструментальной обтески. Кромешная темнота, обступившая со всех сторон, подействовала на Вольфингагена отрезвляюще. Он решил выбраться из тоннеля. Безрассудство не есть храбрость. Через час он вернется сюда со своими водолазами, и тогда можно будет без особого риска распотрошить эту нору. Но обер-лейтенанта ждал неприятный сюрприз — пока он исследовал горловину тоннеля, огромная глыба диорита, движимая скрытым механизмом, стала на свое место, наглухо закрыв выход. Вольфингаген долго искал ключ потайного замка, — все было напрасно. Он оказался в каменном мешке, наполненном водой. Однако Вольфингаген не растерялся. За свою жизнь, богатую приключениями, он не раз встречался с опасностью и при этом всегда проявлял удивительное хладнокровие. «Будем считать, что я не менял своего решения и не возвращался назад», — успокоил он себя. Вольфингаген не мог точно определить, какое расстояние проплыл в темноте, осторожно ощупывая стены и едва шевеля ластами, однако был уверен, что тоннель выходит за пределы набережной. Припоминая расположение береговых построек в районе 15-й пристани, он пришел к выводу, что тоннель должен кончиться где-то под пакгаузами итальянского интендантства. Этот вывод перекликался с другим, к которому обер-лейтенант пришел несколько ранее. «Теперь-то я уже готов держать пари, — по привычке подумал Вольфингаген, — что в том деле замешан кто-то из итальянцев или человек, который выдает себя за такового…» Тоннель расширился — руки уже не дотягивались до стен. Проплыв еще несколько метров, Вольфингаген попытался достать потолок, но, даже встав на ноги, не смог сделать этого. Вскоре он наткнулся на стену. Она закруглялась, и обер-лейтенант, идя вдоль нее, вернулся на то место, откуда выплыл, — он угадал его по резко снижающемуся каменному своду, о который больно ударился в темноте. Тогда, отступая назад, он слегка оттолкнулся ото дна и осторожно начал всплывать, выставив перед собой одну и подняв над головой другую руку. Вольфингаген уже понял, что тоннель окончился небольшим, но довольно глубоким водоемом. Он благополучно вынырнул из воды, но ничего не увидел — на поверхности было так же темно, как и внизу. Бесшумно работая ластами, обер-лейтенант поплыл к берегу, но берег оказался все тем же нависающим над головой сводом из пористого ракушечника. «Кажется, я попал в грот. Здесь где-то должен быть выход». Следующая попытка выбраться из воды увенчалась успехом: сделав несколько гребков, он снова ощупал отвесный берег и примерно на высоте полуметра над поверхностью водоема обнаружил каменный карниз. Едва взобравшись на карниз, он сорвал с себя маску и вдохнул сырой затхлый воздух подземелья. Почувствовав легкое головокружение, прислонился к шершавому выступу свода. Впрочем, отдыхал он недолго. Уже через минуту он расстегнул ремни и, стараясь не шуметь, снял с себя ненужные теперь баллоны и ласты. Постоял, прислушался. В гроте было так же тихо, как и темно. Но Вольфингаген не поверил этой тишине. Он вытащил из ножен кинжал и, осторожно ступая, каждое мгновение готовый отпрянуть назад, двинулся по узкому карнизу. Идти пришлось боком, прижимаясь спиной к стене грота. Темнота таила угрозу. Протяжный стонущий скрип заставил его вздрогнуть. Рука с кинжалом взметнулась над головой. Но тревога оказалась напрасной — просто карниз перешел в дощатый настил, который скрипел и гнулся под тяжестью тела. Откуда-то сверху упала тяжелая капля. Нога уперлась в деревянную ступеньку, а рука нащупала перила. Начался подъем по ветхой, вздрагивающей при малейшем движении лестнице. Выход был где-то близко. Обер-лейтенант приободрился. Он не был трусом, но безмолвная темнота грота все же действовала на нервы. Однако теперь можно было считать, что он уже выбрался из этой чертовой ловушки. Вольфингаген подумал, что в общем-то все получилось не так уж плохо. Если даже диверсант успел улизнуть, его карты все равно биты. Конечно, было бы хорошо схватить его сейчас, без этого триумф обер-лейтенанта Эрнста Вольфингагена будет неполным. Но эту часть успеха, видимо, придется разделить с штурмбаннфюрером Хюбе — засады относятся к его компетенции. Прогнившая ступенька треснула под ногой. Вольфингаген едва удержался на лестнице. Черт возьми, в последнюю минуту тут можно сломать себе голову! Уже не таясь, он включил фонарь. Сноп света выхватил из темноты купол каменного свода, в котором зияло отверстие коридора. Наконец-то! Обер-лейтенанту даже показалось, что где-то в глубине коридора маячит отблеск дневного света. Перемахнув через две ступеньки, Вольфингаген очутился на небольшой площадке, прилепившейся чуть ли не под самым потолком грота, у входа в довольно высокий коридор. Он уже занес ногу, чтобы переступить с шаткой, ненадежной лестницы на каменный пол коридора, когда внезапно ощутил чье-то присутствие. Он не услышал ни единого звука — в гроте по-прежнему стояла глухая, давящая тишина, — и тем не менее Вольфингаген готов был поручиться, что за его спиной стоит человек. Совсем рядом. Обер-лейтенант даже почувствовал на затылке его дыхание… Если бы Вольфингаген задумался над тем, как мог стоящий позади человек неслышно следовать за ним в темноте по узкому, осыпающемуся карнизу и скрипучей, прогнившей лестнице, он, возможно бы, усомнился в достоверности своих ощущений, равно как и в самом существовании преследователя. Но Вольфингагену некогда было думать. Даже не погасив фонарь, он, почти без размаха, резко повернувшись телом, изо всей силы ударил кинжалом туда, где, ему казалось, стоит человек. Но кинжал только рассек воздух. Потеряв равновесие, обер-лейтенант попытался откинуться назад, чтобы упасть в коридор, грохнулся затылком о стену и потерял сознание. Он не услышал отчаянного треска рушившейся под ним лестницы, не услышал и всплеска воды, принявшей его тело…* * *
Галка очнулась на кровати в незнакомой комнате. Голова болела тупой ноющей болью, но девушка сразу вспомнила, что произошло на банкете. Отвращение к самой себе было ее первым чувством. Руки инстинктивно скользнули вдоль тела. Нет, она одета, а кровать — Галка только сейчас поняла — не разобрана. Это немного успокоило. Галка даже попыталась подняться, но тело, налитое какой-то гнетущей тяжестью, не слушалось ее. Она едва приподняла голову и тотчас же уронила ее на подушку. Однако она успела заметить, что в комнате никого нет. Налево от окна, за которым брезжил рассвет, ей была видна невысокая, до половины застекленная дверь. Через матовое стекло, комнату пробивался электрический свет. За дверью журчала вода. «Ванная, — догадалась она. — Кулагин приводит себя в чувство после вчерашней попойки. Жених! Нет — уже муж… Как глупо получилось!.. Кулагин…» Вот уж о ком она никогда не думала. Конечно, он меньше всего виноват в том, что произошло. Он даже, можно сказать, спас ее. Зачем он напоил ее?.. Голова раскалывается на части… Кулагин — бездарный артист… Что она скажет бабушке? А Гордееву?.. Турне по Европе… Смешно… Его надо теперь звать Сергеем, Сережей… Мысли путались. Тошнило. Предметы плыли перед глазами, то уменьшаясь, то увеличиваясь в объеме. Ей показалось, что высокая изразцовая печь движется по комнате. Потом Галка забылась тяжелым сном. Разбудил ее какой-то шум. Было совсем светло. Она повернула голову и увидела Кулагина. Он стоял к ней спиной у раскрытого настежь окна. Свежий, пахнущий морем воздух порывами врывался в комнату. На Кулагине были шерстяной свитер и неизменный шарф. «Горло боится застудить», — невольно усмехнулась Галка. За окном тяжело ударило, будто лопнула огромная лампа. И тогда Галка поняла, что это взрыв — второй взрыв, первый разбудил ее. Она вскочила и подбежала к окну. Кулагин посторонился. — Война не забывает этот город, — медленно, словно в раздумье, сказал он. Галка не ответила, даже не взглянула на него. Из окна далеко вокруг было видно море: белые барашки волн и низкие серые тучи, простертые до самого горизонта. Шел дождь. Но все это она заметила потом, а первые несколько минут Галка видела только одно — вставший на дыбы и быстро погружающийся в воду немецкий эсминец. Коренастый капитан третьего ранга с бесцветными глазами успел всего лишь на полмили отойти от берега. Ему уже не суждено было получить вожделенную награду. Ни ему, ни его команде… В порту истошно завыла сирена. Кулагин решительно отстранил Галку и закрыл окно. — В наше время опасно быть любопытным, — заметил он, морщась, словно от зубной боли. — А вы не из храбрых, Кулагин, — насмешливо сказала Галка. — Достаточно, что я играю героев на сцене. — И, надо сказать, играете их отвратительно, — Приятно это слышать от молодой жены. Галка покраснела. — Ну вот что, Кулагин. Я благодарна вам за вчерашнее. Но надеюсь, вы не приняли всерьез ту отвратительную комедию, в которой нам пришлось играть. — Кому — как, а мне вчера досталась роль дурака. Галка вспыхнула. — Вы уже раскаиваетесь? — Конечно. Мне не следовало вмешиваться в эту историю. У Галки от обиды задрожали губы. Ей очень хотелось ударить его по лицу, как тогда на улице. — Вы… ты… — Она не сразу даже нашла нужные слова. — Ты жалеешь, что помешал тем скотам надругаться надо мной?! Кулагин пожал плечами. — Я жалею только себя. Один мой приятель говорил, что певец должен беречься двух напастей: ангины и женитьбы. Теперь я понимаю, что он был прав. Галка вскипела. — Неужели ты думаешь, что я действительно стану твоей женой?! Да ты мне просто противен! Что-то дрогнуло в его лице. Галке даже показалось, что Кулагин немного покраснел. Но вот он снова усмехнулся знакомой ей невеселой усмешкой. — Благодарю за откровенность. Замечу только, что я тоже не в восторге от нашего брака. — Что ж, тем лучше, — сказала Галка и, сделав над собой усилие, примиряюще добавила: — Будем считать, что ничего не произошло. — Но будут ли так считать адмирал Рейнгардт и все те, кто был вчера здесь? — возразил он. — Не посчитают ли они себя одураченными? Галка не нашла, что ответить. Про себя она должна была признать, что Кулагин прав. — Коль вчера уж так получилось, — продолжал Кулагин, — давай договоримся: перед людьми ты будешь себя вести, как моя жена. Не в моих, да и не в твоих интересах распространяться о действительном положении вещей. Галка винила только себя. Зачем она поехала на этот проклятый банкет! Что за дикий вздор пришел ей вчера в голову. Хорошо, что все так кончилось. Впрочем, до конца еще далеко. Не велика радость быть — пусть даже только в глазах людей — женой человека, за которым утвердилась репутация немецкого прихлебателя, пьяницы и пошляка. Что она скажет бабушке? Галка тяжело вздохнула. Вот уже больше двух часов она бродила по городу, не решаясь идти домой. Раньше дурная слава не особенно тревожила ее. Конечно, ей было нелегко, она была уверена, что рано или поздно бабушка, соседи, знакомые узнают правду. Но вот историю своего скоропалительного замужества она, пожалуй, никогда не сможет объяснить. А если и сможет, то вряд ли ей поверят, что все было так. Вспомнив, что ей сегодня надо быть на репетиции, девушка с облегчением подумала, что разговор с бабушкой можно отловить до вечера.В вестибюле театра она встретила Кулагина. — Галя, — сказал он. беря ее об руку, — сейчас нас будут поздравлять и все прочее… Надеюсь, ты помнишь уговор? — Я все помню, Кулагин. — Ну и отлично. Да, еще одна деталь. Вот, надень. — Он протянул ей обручальное кольцо. — Оно золотое? — Нет, бутафорское. — Не злись, Кулагин. Меня просто интересует, сколько оно стоит. Я ведь понимаю, что ты вынужден был его купить. Я тебе верну деньги. Кулагин недобро посмотрел на нее и сухо сказал: — К мужу принято обращаться по имени. Напоминаю, что меня зовут Сергеем. А кольцами я не торгую. — Ну что ж, тогда я возвращу его тебе, — делая вид, что не замечает плохо скрытого раздражения Кулагина, сказала Галка. — Не сейчас, конечно, но верну, — Дело твое.
Во время репетиции к Галке подошел старичок швейцар. — Вас спрашивает какой-то господин, — улучив момент, тихо сказал он и подал визитную карточку. «Рудольф фон Береншпрунг. Экономический советник рейхскомиссариата», — прочла Галка. — Вы уверены, что это мне? — Вам, Галина Алексеевна, — прошептал швейцар, косясь в сторону Кулагина, который в пяти шагах от них разговаривал с дирижером. — Он дожидает в вашей уборной. Говорит, что только приехал и очень желает видеть вас. Галка недоуменно пожала плечами, но все же пошла за кулисы. В ее уборной на кушетке, прикрывшись журналом, сидел представительный мужчина в роговых очках. У него были пышные, начинающие седеть усы. На туалетном столике лежали его толстая трость с костяным набалдашником и мягкая шляпа. — Вы хотели меня видеть, герр Береншпрунг? — спросила Галка. Мужчина опустил журнал и кивнул на дверь. — Закрой. Если бы не голос, Галка, пожалуй, не узнала бы Гордеева. Она нарочно долго возилась у двери, готовая сгореть от стыда при мысли, что вот сейчас должна рассказать Леониду Борисовичу о том, что произошло вчера на банкете. — У меня мало времени, — негромко начал Гордеев. — Да и тебе неприлично задерживаться с посторонним мужчиной. Даже если этот мужчина — экономический советник рейхскомиссариата. Правда, говорят, твой муж не очень ревнив… — Дядя Леня! — В голосе Галки слышалось отчаяние. — Не перебивай. Обстоятельства сложились так, что я должен срочно уходить из города. В другое время я бы потребовал, чтобы из города ушла ты. Ты наделала много глупостей, в числе которых твое замужество занимает не последнее место. — Но я была вынуждена это сделать! — А кто тебя принуждал ехать на банкет? — Я думала… Но так получилось… Кулагин хотел выручить меня… — не глядя на Гордеева, бормотала Галка. — Как получилось, мне уже известно. Возможно, Кулагин поступил так из хороших побуждений. Возможно — по другой причине. Не знаю. Как бы то ни было, но я жалею, что поручил тебе связь с портом. — Вы не доверяете мне? — отшатнулась Галка. Она побледнела, губы вдруг стали сухими. — К сожалению, сейчас заменить тебя некем, — сухо проговорил Гордеев. — Но после того как ты встретишься с сапожником, а это надо сделать не позже понедельника, ты немедленно покинешь город. — Значит, я пойду на связь? — Да. Теперь насчет доверия. В той эстафете, которую передаст тебе сапожник, будут сведения, добытые ценою отчаянного риска, быть может, даже ценою жизни многих людей, сведения, крайне необходимые нашему командованию. Речь идет о немецкой линии береговых укреплений в районе города и порта. — Я не подведу, — тихо сказала Галка. — Ты эти дни будешь жить у Кулагина? — оставляя без внимания ее заверение, спросил Гордеев. — Не знаю. — Значит, у него. — Да, так, наверно, будет лучше. Но, поверьте, дядя Леня, это фиктивный брак. — Меня не интересуют интимные подробности. Где живет Кулагин? — Соборный переулок, девять. — Бывшее кафе Георгиоса? — Да. — Г-м. Интересное совпадение. — Гордеев встал и прошелся до комнате. Он взял со столика шляпу и трость, неторопливо натянул перчатки и, отрываясь от каких-то своих мыслей, спросил: — Ты хорошо знаешь Корабельный поселок? — Неплохо. Правда, я давно там не была. — Да, там многое изменилось за это время. Ты помнишь, где была грязелечебница? — Около лимана. — Правильно. Ее уже нет — сожгли. Но если считать от этого места по левую сторону лимана, — шестой дом. Когда получишь эстафету, отыщешь этот дом. Спросишь Петра Отрощенко. Скажешь, что ты от меня. Эстафету отдашь ему. У него останешься на пару дней. Потом он переправит тебя куда надо. — Куда, дядя Леня? — Он знает куда.
К концу репетиции приехал Логунов. Он пригласил Галку и Кулагина в кабинет директора, где, считая, что подготовил приятный сюрприз, вручил «молодоженам» свидетельство о браке. Как ни странно, этот документ, на котором стояла круглая печать, подействовал на Галку удручающе. Покончив с официальной частью, Логунов достал из шкафа бутылку водки и рюмки. — После вчерашнего не мешает опохмелиться, — подмигнул он. — Можно, — согласился Кулагин. От водки Галка отказалась. Кулагин и Логунов выпили. — Провели вы меня, ей-богу, провели, — подмигивая одновременно обоими глазами, говорил Логунов. — Вот уж не думал, что вы симпатизируете друг другу. Что ж, рад, очень рад за вас. Надеюсь, что брачный союз пойдет на пользу союзу творческому. Вам есть чему поучиться друг у друга. — Чему я должен учиться у своей жены? — прищурясь, спросил Кулагин. — Сергей Павлович, вы только не обижайтесь. Поймите, дорогой: не каждый раз в зале будут присутствовать такие ценители чистого вокала, как господин Рейнгардт. Публика попроще требует от певца игры. А у вас с этим — согласитесь — не все в порядке. — Что же делать, если я такой бесталанный? — усмехнулся Кулагин. — Боже вас упаси, я такого не говорил, — замахал руками Логунов. — Адмирал Рейнгардт, да и мы все в восторге от вашего голоса. Но ваши акции поднялись бы много выше, если бы вы владели актерским мастерством так, скажем, как владеет им ваша супруга. Попробуйте, Сергей Павлович, играть. Уверяю вас — получится. Стоит только захотеть. — По-вашему, я не хочу? — Я этого не говорил. Но, признаться, у меня сложилось мнение, что у вас имеется какое-то своеобразное, я бы сказал, нигилистическое отношение к актерскому искусству. Появляясь на сцене в наряде Канио, вы остаетесь все тем же Кулагиным. И мне кажется, что вы нарочно сдерживаете себя, словно боитесь перестать быть самим собой. — Ну, знаете ли! — вспылил Кулагин. — Если хотите избавиться от меня — скажите прямо. — Что вы, что вы, Сергей Павлович! — испугался Логунов. — Я счастлив, что вы работаете в созданном мною театре. Но поймите, вам, начинающему певцу, надо завоевать признание широкой публики, равно как нашему, еще неокрепшему театру утвердить свое реноме. Мы должны учитывать различные вкусы. Вот я сейчас — поверите ли — ломаю голову над тем, как привлечь на спектакли солдат гарнизона. Да, да, солдат. Потому как на одних офицерах с нашим небогатым репертуаром сборы не сделаешь. Не исключено, что мы дадим пару спектаклей в воинских частях. А вы представляете, что значит ставить оперу на грубо сколоченном деревянном помосте, почти без декораций, без занавеса? Галка, до сих пор безучастно слушавшая разговор, насторожилась. — Можно было бы использовать клуб моряков. Там хорошая сцена, — еще не веря в удачу, как будто невзначай сказала она. — В районе порта, должно быть, много воинских частей. Логунов удивленно посмотрел на нее и вдруг всплеснул руками. — Галина Алексеевна, вы — молодец! Как я раньше не подумал о клубе моряков! Мы сделаем там прекрасный сбор. Я сегодня же доложу начальнику гарнизона об этой идее.
К немалому удивлению Галки, Валерия Александровна выслушала ее сбивчивый рассказ довольно спокойно. — Хорошо, что нашелся порядочный человек, — сказала она. — Надеюсь, на этом ты успокоишься? — Бабушка, зачем так! Ты ведь ничего не знаешь! — Где мне знать твои дела! — нахмурилась Валерия Александровна, но тут же, смягчаясь, спросила: — Он хоть нравится тебе? — Нравится, — вздохнула Галка. Что другое она могла сказать? — Дай бог. Ну, приглашай его в дом. И не делай, пожалуйста, удивленное лицо — я же видела, как он зашел во двор. В прихожей обычная самоуверенность оставила Кулагина. — Ты обо всем бабушке рассказала? — удерживая Галку, спросил он. — Она знает, что ты мой муж. Кулагин поморщился, словно от зубной боли, и, одернув пиджак, шагнул в столовую. Галка не предполагала, что он может смущаться. Знакомясь с Валерией Александровной, он неуверенно переминался с ноги на ногу и извинялся за то, что, мол, так получилось, что, не спросив ее согласия и даже не предупредив, он так вот взял и женился на ее внучке. И хотя Валерия Александровна ответила сердито, что, дескать, сейчас не принято спрашивать согласия родных, а извиняться перед ними — тем более, Галка видела, что Кулагин произвел на бабушку хорошее впечатление. Как только Валерия Александровна вышла на кухню, Галка заметила не без ехидства: — Ты был сама почтительность. Я все ждала, что ты вот-вот шаркнешь ножкой. Кулагин посмотрел на нее так, как смотрят взрослые на дерзкого ребенка — строго, но без обиды. Ничего не ответив, он отошел к стене, на которой висели портреты в тяжелых рамах, и принялся рассматривать их. — Кто этот моряк с трубкой? — спросил он. — Мой дед. — А тот — другой? — Отец. — Тоже моряк? — Был капитаном теплохода «Казахстан». — Он умер? — Надо читать местную газету! — неожиданно заорала Галка, подошла к окну и облокотилась о подоконник. Она была зла на Кулагина, а так как для этой злости не было видимых причин, злилась еще и на себя. Недавно она презирала его, как презирала всех, кто по своей охоте работал на оккупантов. Но если для девушек из кордебалета и хора, отдававших большую часть своего горького пайка голодным семьям, она еще могла найти слова оправдания, то такие люди, как Логунов, Пустовойтова, Крахмалюк, вызывали у нее только брезгливое чувство отвращения. К последним она сперва относила и Кулагина. Однако уже вскоре должна была отметить, что Кулагин в отличие от тех сохранил какую-то элементарную порядочность, чувство собственного достоинства. И все же она не видела большой разницы между ним и тем же Логуновым. Так было до вчерашнего злополучного банкета, до той самой минуты, когда Кулагин неожиданно вступился за нее. Теперь она обязана ему — человеку, которого еще вчера ни во что не ставила. Возможно, это и злило ее. Галка подняла сброшенную на пол книгу и, в который раз за день, тяжело вздохнула. Но тут же подумала, что напрасно все усложняет, что не ей судить Кулагина, что — как бы то ни было — он вправе требовать от нее если не благодарности, то во всяком случае, более любезного обращения. За обедом Галку словно подменили: она ухаживала за Кулагиным, как могла: подливала в его тарелку суп, уговаривала съесть еще одну котлету и даже подняла оброненную им салфетку. Кулагин настороженно косился в ее сторону, опасаясь подвоха. Валерия Александровна тоже обратила внимание на необычное поведение внучки, но, объяснив его по-своему, дружелюбно улыбнулась Кулагину. То, что бабушка принимает все всерьез, Галка поняла, когда на столе появилась бутылка старой мадеры, извлеченная Валерией Александровной из тайников буфета. Эта бутылка была припрятана давно и береглась для особого случая. Галка готова была убить себя за обман. Кулагин тоже чувствовал себя неловко. Он выпил рюмку густого маслянистого вина, но от второй отказался. Вторую рюмку Валерия Александровна выпила сама. Ее потускневшие, обрамленные печальными черточками морщин глаза потеплели, и она стала рассказывать о тех давно минувших днях, когда с итальянской оперной труппой приехала в Россию. — В афишах я значилась солисткой, — вспоминала Валерия Александровна. — Но петь мне больше приходилось в хоре. У меня было приятное, но несильное сопрано. Оркестр заглушал меня. Должно быть, поэтому я любила камерное пение. Особенно нравились мне романсы. Однажды в морском собрании, куда мы были приглашены, я впервые услышала романс «Выхожу один я на дорогу…» Пел его, аккомпанируя себе на гитаре, молодой флотский офицер. Пел он, конечно, по-русски, а я тогда знала не больше десятка русских слов. Но офицер пел так задушевно, с такой неподдельной грустью, что мне вдруг захотелось плакать. — Ну, не такой уж хороший голос был у дедушки, — заметила Галка. Ей было неприятно, что бабушка рассказывает Кулагину то, что, по Галкиному мнению, можно рассказывать только очень близким людям. — Много ты понимаешь! — рассердилась Валерия Александровна. — У него был великолепный голос и абсолютный слух. В двадцать первом году он получил первую премию за исполнение русских песен. Она встала и, не обращая внимания на знаки, которые ей делала Галка, пошла к себе в комнату и тотчас же вернулась, неся в руках гитару с черным облупившимся грифом. — Вот, посмотрите. — Она протянула Кулагину гитару так, что он сразу увидел витиеватые буквы дарственной надписи: «С.П.Ортынскому за лучшее сольно-вокальное выступление на любительском концерте, посвященном Международному дню солидарности трудящихся — 1 Мая. От ПУР Ч. М. Флота». — Тогда премии присуждались всем залом, — с вызовом сказала Валерия Александровна. — Все присутствующие, а не отдельные авторитеты судили певца. Семен Петрович специально пению не учился, и голос у него был не отработан, но ему аплодировали дольше и сильнее, чем профессионалам. — Это намек по моему с Сергеем адресу? — впервые назвав Кулагина по имени, спросила Галка. — Глупости! — прикрикнула на нее бабушка и настороженно посмотрела на Кулагина — не обиделся ли. — Я говорю о певцах, которые в те годы, прикрываясь крикливыми афишами и дипломами консерваторий, разъезжали по провинциям в погоне за длинным рублем. Так что ты напрасно принимаешь это на свой с Сергеем Павловичем счет. Вы еще не избалованы рекламой, да и консерваторий не кончали, — пытаясь обратить все в шутку, заключила Валерия Александровна. — Ошибаешься, — усмехнулась Галка. — Сергей учился в консерватории. — Но не окончил, — спокойно заметил Кулагин. — Да и учился я рывками — с большими перерывами. — Почему так? — поинтересовалась Валерия Александровна. — Работал, а работа у меня была связана с разъездами. По полгода в Ленинграде не бывал. — Вы ленинградец? — Да. — Немцы передавали по радио, будто они Ленинград захватили. — Брехня! — не сказал — отрубил Кулагин. Галка удивленно посмотрела на «мужа». Он сидел, отодвинувшись от стола, и, пробуя пальцами струны, настраивал гитару. Галка только сейчас заметила, что сегодня он одет проще, чем обычно, а его всегда тщательно приглаженные волосы непослушно падают на лоб. Валерия Александровна открыла окно, и тотчас же в комнату проник аромат спелых яблок. Вместе с запахами сада в комнату вошла разморенная тишина августовского дня. Мелодичный, тающий звон стенных часов только подчеркнул эту необычную тишину. «Будто и нет войны», — подумала Галка. — Сергей Павлович, — обратилась к нему Валерия Александровна, — вы играете на гитаре? — Играл когда-то, — сдержанно ответил тот и осторожно тронул струны. «Семейная идиллия, — усмехнулась Галка. — Не хватает еще самовара и мурлыкающей песни под собственный аккомпанемент». И словно назло ей Кулагин негромко запел. Но она не узнала его обычно ровного, маловыразительного голоса. Она даже не смогла бы ответить, произнес он или пропел первую фразу романса, потому что уже эта фраза поразила ее какой-то необычно убедительной интонацией.
Небо блекло, растворяя дневную лазурь свою в багряных лучах заката. Жара уходила вместе с солнцем, уступая место вечерней прохладе. В городском парке было немноголюдно: молоденький немецкий лейтенант в новом, видимо, недавно надетом светло-сером мундире не спеша прогуливался по центральной аллее. Ему доставляло удовольствие подчеркнуто-небрежно отвечать на автоматически четкие приветствия солдат. У заколоченного киоска, на котором еще сохранилась вывеска «Пиво–воды», две химические блондинки отчаянно кокетничали с румынскими летчиками. Возле бездействующего фонтана мальчишки сосредоточенно играли в «орлянку». Стоящий неподалеку розовощекий парень в форме вспомогательной полиции с живейшим интересом наблюдал за игрой. Свернув на боковую аллею, Галка и Кулагин вышли к дощатому павильону, прилепившемуся к живописным развалинам средневековой башни. Отсюда открывался вид на море. Какой-то предприимчивый ресторанщик расставил вокруг башни несколько столиков, между которыми сновали проворные официантки. Они сели за свободный столик под развесистой акацией. Кулагин заказал бутылку сухого вина. Официантка поставила перед ними два бокала и тарелку с ломтиками овечьего сыра. — За что будем пить? — спросил Кулагин, наливая себе и Галке золотистого вина. — Обычно молодожены пьют за счастье. За что же другое мы можем пить? У нас все есть, даже собственный особняк. Остановка только за счастьем. Значит — за счастье! — и Галка залпом осушила бокал. — Странно… — чему-то улыбаясь, сказал Кулагин. — Странно, — повторил он. — Что тебе кажется странным? — То, что произошло с нами. — Он взял бутылку, повертел ее, разглядывая пеструю этикетку, и вдруг спросил: — Случалось ли тебе идти по улице, на которой раньше никогда не бывала, и вдруг увидеть чем-то знакомый дом? И если ты заходила во двор или парадное этого дома, то не случалось ли тебе убеждаться, что в доме все так, как ты ожидала, вплоть до винтовой лестницы с певучим скрипом? А еще, бывает, встретишь впервые человека, посмотришь на него, и покажется тебе, что ты уже когда-то видел его, что тебе знакома его улыбка, голос, что ты уже ощущал теплоту его рук… — Мистика какая-то, — пожала плечами Галка. Кулагин покачал головой. — Нет. Это случается иногда и с трезвыми, далекими от мистики людьми. — Если ты причисляешь себя к ним, то ссылка на трезвость звучит неубедительно. — Ты считаешь, что я много пью? — Так считают все. Кулагин улыбнулся одними зеленоватыми, чуть прищуренными глазами. — Первая семейная сцена. Проработка мужа-забулдыги. — Послушай, Сергей, — Галке вдруг захотелось поговорить с ним по-товарищески, — почему ты стараешься казаться хуже, чем есть? — В чем именно? — Во всем. Даже в работе. Я, например, только сегодня узнала, как ты можешь петь. А ведь я тебя слышала до этого много раз. Логунов прав, — в театре ты сдерживаешь себя, нарочно обесцвечиваешь голос, сковываешь свои движения. Я не могу понять, почему ты так делаешь. Тебя тяготит работа в «Новом театре»? Поверь, мне тоже не доставляет удовольствия петь господам немецким офицерам. Но когда я выхожу на сцену, то заставляю себя забыть о них, иначе я вообще бы не смогла петь. — Мы разные люди, Галя, — невесело усмехнулся Кулагин. — Я никогда не забываю о тех, для кого пою.
* * *
Море было спокойным. Залитое ярким утренним солнцем, оно сверкало мириадами веселых искр. Но вблизи море не слепило глаз: чистое и гладкое, оно было окрашено снизу темно-синим, а в иных местах — густо-зеленым цветом глубин, из которых то тут, то там всплывали белые комки студенистых медуз. Ревя, как идущий в пике самолет, четырехместный катер рвался, высоко задрав острый удлиненный нос. Казалось, что он вот-вот выпрыгнет из воды. До берега было больше мили, и панорама раскинувшегося на холмах города просматривалась на всем ее протяжении. С моря дома казались белыми, даже те, которые были закопчены гарью прошлогодних пожаров, и потому особенно четко на фоне выгоревшего бледно-голубого неба рисовались остовы разбомбленных зданий, зияющие проломы стен, вздыбленные балки, оборванные крыши. Их было много, этих искалеченных домов, так много, что уцелевшие здания терялись среди них. В самом городе разрушения не так бросались в глаза — в тесноте улиц можно было увидеть одновременно два-три разбитых дома — не больше, но с моря они были видны все разом… — Проклятая война, — пробормотала Вильма и, зябко поведя плечами, спрятала лицо в поднятый воротник тужурки. Галка не отозвалась. Она думала о том, как, должно быть, гадко выглядит со стороны изящный прогулочный катер, несущийся мимо полумертвого города, и о том, какими взглядами провожают их рыбаки, чьи лодки теснились у Песчаной косы — в единственном месте, где немцы разрешали лов. И все же Галка не жалела, что согласилась на эту прогулку. Та настойчивость, с которой сегодня приглашал «молодоженов» заехавший за ними дель Сарто, была вызвана — и Галка почувствовала это — не одним желанием приятно провести время в их обществе. Тут было что-то другое… Смутное подозрение, уже однажды взволновавшее ее, сегодня утром снова напомнило о себе… То была странная прогулка: за всю дорогу от Зеленого мыса до скал Корабельного поселка не было сказано и двух фраз. Вильма, нахохлившись, прятала лицо в воротник тужурки и молчала. Молчал сидевший впереди за штурвалом дель Сарто. Молчал и Кулагин. Вспомнив, с какой неохотой он собирался утром, Галка вдруг подумала, что Кулагин дуется на нее за эту прогулку. «Уж не ревнует ли он меня к дель Сарто?» Это предположение на какой-то миг даже позабавило ее. «Чудак!» Захлебываясь ревом, катер описал большую дугу и, оставляя на воде расходящийся клином пенистый след, пошел наискось к берегу. Миновав наполовину скрытые за дюнами приземистые домики Корабельного поселка, дель Сарто резко сбавил ход. Рев мотора перешел в глухое ворчание. Приближались скалы. Собственно, это были даже не скалы, а причудливо обточенные морем громадные камни-валуны, в иных местах нагроможденные друг на друга, в иных — разбросанные по песчаному берегу, в иных — торчащие прямо из воды. Здесь было опасно приставать даже при полном штиле. Дель Сарто, держась за штурвал и перегнувшись через борт, внимательно всматривался в дно. Лавируя среди подводных камней, он умело направлял катер к невысокой плоской скале, вдававшейся одним концом в море, другим упиравшейся в нагромождение береговых валунов. Скала изобиловала трещинами. В одну из таких трещин был вбит обломок ржавого рельса. Мотор совсем умолк и катер двигался по инерции. — Сергей Павлович, — обратился дель Сарто к сидящему рядом Кулагину, — не рискнете ли прыгнуть? Одному мне не пришвартоваться. Кулагин молча встал на сиденье и, улучив момент, выпрыгнул на скалу. — Держите конец! — крикнул ему дель Сарто, бросая канат. — Привяжите за рельс. Кулагин поймал канат и быстро привязал его к рельсу. Галка и Вильма взобрались на скалу. Вслед за ними поднялся дель Сарто. — Пошли загорать, — потянула Галку Вильма, махнув рукой мужчинам. — Мы недолго. За горбатым, похожим на спящего верблюда валуном Галка сняла платье, аккуратно сложила его и села на песок, обхватив руками коленки. Вильма, думая о чем-то своем, медленно раздевалась, бросая вещи куда попало. — Тебя могут увидеть, — предупредила ее Галка, косясь на чересчур открытый купальник подруги. Итальянка усмехнулась и пошла к морю. Поболтав ногой в воде, она неторопливо вернулась за камень. — А что такое стыд? — посмотрела Вильма на Галку. И тут же, не дав ответить, заговорила быстро, энергично жестикулируя: — Убивать людей стыдно или нет? Я спрашиваю, потому что убивала. Правда, не здесь — на Средиземном море, но это все равно. Люди везде — люди. Мне говорили, что убивать в бою не стыдно, что это даже считается геройством. Нас учили убивать так, как учат серьезному нужному ремеслу — обдуманно, толково. И никому не было стыдно. Неужели стыд — это только нагое тело? Почему стыдно дать человеку жизнь, но не стыдно оборвать ее? Что ты так смотришь на меня? Тебя удивляют мои рассуждения? Год назад я тоже бы удивилась — нет, возмутилась бы, услышав такие слова. Год назад моя голова была набита бредом, который называется военной романтикой. «За честь знамени! За короля!» Не правда ли, красиво звучит? «Итальянские спортсмены, на вас смотрит нация!» Ерунда! Никто не смотрел на нас, когда, надев респираторы и повесив к поясам подрывные заряды, мы выходили из люков субмарин, прокравшихся к английским рейдам. Взрывы, рвущие на куски корабли и людей, звучали для нас бравурным маршем. Потом, вернувшись на базу, мы пили шампанское, празднуя успех, а на краю стола стояли бокалы тех, кто не вернулся из похода. Так требовала традиция. Но с каждым разом число бокалов на краю стола росло, и вскоре от этой традиции пришлось отказаться… Вильма легла на песок рядом с Галкой и закинула руки за голову, подставляя лицо солнцу. — Нас баловали. — Голос Вильмы стал тише, размереннее. — Во время отдыха нас поселяли в шикарных отелях, где нам в кровати подавали шоколад со сливками. Адмиралы запросто жали нам руки и называли нас по именам. А потом мы шли в новый поход… Небольшая прозрачная волна лениво плеснула на берег и зашелестела песком. Вильма вздрогнула, быстро села и потянулась к зонтику. — Солнце припекает… Можно обгореть. Она открыла возле себя зонтик и снова легла. — Из первого состава отряда сюда прибыло десять человек, — после долгой паузы снова заговорила Вильма. — Через три месяца нас осталось только четверо: Умберто, Гвидо, Марио и я. А вчера нас стало трое — умер Умберто. Он был самым отчаянным и самым удачливым из нас. Вчера он сделал то, что уже долго не удавалось нашим ребятам, — подорвал на Туапсинском рейде русский транспорт, а затем сделал то, что вообще не удавалось еще никому, — раненный, с поврежденным респиратором, вернулся на матку. Но вернулся для того, чтобы умереть. Он умер уже здесь — на базе, через час после того как пришла радиограмма о награждении его «Савойским крестом» — орденом, которым награждают только высших офицеров. Для него было сделано исключение. Умберто был тщеславен. Я думала, это известие приободрит его. Но он смял радиограмму и бросил в таз с грязными бинтами. А потом подозвал меня. «Вильма, — спросил он спокойно, будто речь шла о чем-то обычном, — за что я умираю?» Я залепетала о долге. «Нет, — сказал он, — я никому не должен. Разве только матери, давшей мне жизнь. Но ведь не она послала меня в Россию». Когда он умер, мне стало страшно. Я вдруг подумала, что никто из нас не вернется отсюда. Вильма повернулась к Галке, и та увидела ее широко раскрытые лихорадочно блестевшие глаза. — Понимаешь — никто! — крикнула итальянка, вскакивая на ноги. — Нас всех убьют потому, что нас здесь ненавидят, потому что слишком много зла принесли мы с собой! Она села и, подобрав осколок большой ракушки, стала чертить им на песке какие-то узоры. — У меня будет ребенок, — вдруг тихо сказала она. Галка растерялась, не зная, что ответить на это неожиданное признание. — Поздравляю! — наконец сказала она. — Не с чем, — криво усмехнулась Вильма. — Я решила иметь ребенка, чтобы уехать домой. Для меня это единственный способ бежать отсюда. Меня вынуждены будут отправить в Италию. — Во-от как! — протянула Галка, обескураженная такой откровенностью — А кто отец ребенка, если не секрет? — Нет, не секрет. Но это не имеет значения. — Ты не любишь этого человека? — А ты хотела, чтобы я любила его? — с неожиданной злостью крикнула Вильма. — Чтобы я уехала домой, оставив его здесь — в этом аду, чтобы я, ожидая его с войны, дождалась похоронной? Она отшвырнула обломок ракушки и стерла начерченный на песке узор. — Тебя можно понять, — сказала Галка. Она искренне жалела Вильму и вовсе не хотела ее обидеть. Но она сказала неправду — понять поступок итальянки она не могла. Не могла понять, почему эта неробкая и физически сильная женщина испугалась своего прозрения. — Врешь! — вскипела вдруг Вильма. — Ты не можешь понять меня! Ты считаешь меня развратной девкой! — Я этого не говорила, — возразила Галка. — Но ты так думаешь — я знаю. Я давно это знаю! Ты осуждаешь меня! — Нет, я не осуждаю, — все так же спокойно сказала Галка. — Опять врешь! — Вильма яростно тряхнула головой, так что ее волосы упали на лицо, закрыли глаза. — Ты не можешь не сравнивать меня с собой. Ты чистенькая. Ты ухитрилась не замараться, хотя грязь была вокруг тебя. Ты стала актрисой, вышла замуж. Искусство! Муж! Тебе плевать на войну, на миллионы смертей! Тебя это не коснулось. — Ты напрасно так думаешь, — удивляясь своей выдержке, ответила Галка. — Все это меня коснулось, и не меньше, чем тебя. Вильма снова усмехнулась, откинула назад волосы, встала, подобрала свои вещи и, ничего не сказав, пошла к катеру. Немного помедлив, Галка натянула платье и последовала за ней. Прямо на скале, у которой был ошвартован катер, дель Сарто и Кулагин готовили завтрак: резали колбасу, сыр, хлеб, вскрывали консервы и бутылки. Вильма уже успела присоединиться к ним и стелила на небольшом возвышении скатерть. Итальянка старалась не глядеть на Галку и с какой-то неестественной оживленностью кокетничала с Кулагиным. Объяснялись они по-немецки, так как Вильма не знала русского языка, а Кулагин итальянского. — Говорят, у вас замечательный голос, — болтала Вильма. — Я обязательно приду послушать. Когда вы выступаете? — В воскресенье, в клубе моряков. — О, как долго ждать. А сегодня можно вас услышать? — Боюсь, что сегодня не смогу петь. Я немного простужен. — Я вас вылечу. Ведь я врач. Больной, покажите горло! Она бесцеремонно взяла Кулагина за плечи. Дель Сарто как бы невзначай подошел к Галке и тихо сказал по-русски — он говорил с Галкой только на ее родном языке: — Ваша подруга, кажется, переходит границы дозволенного. — Я не умею ревновать, синьор дель Сарто, — ответила Галка, а про себя подумала, что Вильма нарочно ведет себя так, чтобы досадить ей. Завтрак прошел вяло. Место, выбранное для стола, находилось на самом солнцепеке. Даже охлажденное в морской воде легкое вино не освежало. Вильма предложила искупаться. Она достала из катера резиновые ласты и, надев их на ноги, подошла к краю скалы. — Сергей, — позвала она Кулагина, — вы хорошо плаваете? — Неплохо, — отозвался Кулагин, смахивая со лба струившийся пот. Он покосился на Галку, но та не смотрела в его сторону. — Имейте в виду, здесь глубоко. Ну, вы идете со мной или уже испугались? — Вильма шлепнула ластом о край скалы. — Я не из пугливых. — Кулагин встал и, еще раз взглянув на Галку, направился к итальянке. — Догоняйте! — озорно крикнула Вильма и, прогнувшись в красивом прыжке, исчезла за краем скалы. Кулагин прыгнул за ней. — Почему вы не пошли купаться? — спросил Галку дель Сарто. — А вы? — Я это успел сделать, пока вы с синьориной Мартинелли загорали, а сейчас хочу побродить по берегу с фотоаппаратом. Тут красивые места. Пойдемте со мной, — неожиданно предложил он. Они шли по берегу, обходя валуны. Дель Сарто уже не раз нацеливался объективом фотоаппарата на Галку, но она закрывала лицо. — Не надо. — Почему? — спрашивал он. — Мне не нужны мои портреты. Не нужны они и вам. Потом они шли молча, а когда надо было преодолеть нагромождение камней, дель Сарто взял Галку за руку и помог перебраться через остроконечный валун. — Галина Алексеевна, — спросил он, когда препятствие осталось позади, — имею ли я право на вашу откровенность? — Спрашивайте, синьор дель Сарто. — Просто — Виктор. — Хорошо — Виктор. — Я знаю, что произошло на банкете. Не будем пока говорить о режиссерах этого спектакля. Несомненно, что Кулагин поступил благородно, хотя, думаю, им руководило не одно благородство. Уверен — вы небезразличны ему. У меня есть основания утверждать это. Но я хочу спросить о другом. У вас есть к нему иное чувство, кроме вполне понятного чувства благодарности? Галина Алексеевна, я задаю этот вопрос не из праздного любопытства. Галка покраснела — она только теперь сообразила, что после того, как они перебрались через валун, дель Сарто не выпускал ее руки. — Я не имею права настаивать, — продолжал он. — Я не обо всем могу говорить сегодня, но скоро я скажу вам то, что недосказал теперь. Вначале Галка была смущена настойчивостью итальянца. Затем ей — откровенно говоря — польстило полупризнание этого красивого, располагающего к себе человека. Но его последняя фраза вдруг насторожила ее, заставила забыть обо всем другом. Взволновавшая ее при этом мысль уже не раз будоражила Галкино воображение. Но только сейчас она завладела девушкой целиком. Галка сразу припомнила историю необычного появления дель Сарто в городе, столкновение с гестаповцем у ворот порта и многое другое, что было или казалось странным в поведении нового командира масовцев. Они прошли еще несколько шагов. Дорогу им вновь преградили большие, отполированные морем валуны. — Надо возвращаться, — сказала Галка. Но в это время где-то совсем рядом прозвучал тонкий мальчишеский голос: — Дед Федорченко, ну, а дальше, дальше что сталось? — Не тяни, дед, рассказывай, — подхватил ломающийся юношеский басок. — Тихо вы, огольцы, рыбу распугнете. Клюет, кажись, — проворчал в ответ хриплый голос. — То рябь от ветра. — А-а, чтоб ты сгорела, проклятая! — выругался старик. — Даже рыба, и та подлая стала — рачка, предательская душа, не берет. — Проглушили ее всю бомбами, — солидно заметил молодой басок. — Той осенью ужасть сколько ее тут кверху брюхами плавало; по всему берегу дохлая лежала. Вонища хуже чем от фрицевской помойки была. — Много ты понимаешь, оголец, — разозлился старик. — Да разве можно всю рыбу в море бомбами побить? Ни в жисть! Галка подошла к большому ноздреватому валуну и, поднявшись на носки, заглянула за его гребень. Сразу же за валуном она увидела выступающий в море ветхий помост. Видимо, это был старый, брошенный еще до войны рыбацкий причал. Море изъело его деревянные, облепленные хвостатыми водорослями сваи, сорвало добрую половину досок настила. Причал держался на честном слове. На чугунной тумбе лицом к морю сидел сутулый старик в мятой брезентовой куртке и таких же брюках. Рядом с ним на уцелевших досках расположились двое ребят: один — совсем мальчишка, белокурый и щуплый, другой — паренек лет пятнадцати, лохматый и черный от загара. Дель Сарто подошел к Галке и тоже заглянул за камень. Старик выбирал из воды перемет. На одном из крючков билась серебристая скумбрия. — Есть! — торжествующе крикнул старик и, отцепив с крючка рыбу, бросил ее в небольшое ведерко. Потом он снова забросил перемет, не спеша вывернул карман куртки и осторожно вытряхнул на ладонь крошки табака. — Ну, досказывай, дед, — снова попросил белокурый мальчуган. Старик аккуратно свернул тонкую цигарку, достал кресало и долго высекал искру. Наконец он затянулся, с видимым удовольствием пустил вверх дым и только тогда начал говорить. — Обернулось, значит, дело плохо, — голос старика стал мягче, медлительнее. — Штормило так, что подмогу десанту доставить было невозможно. Воевали моряки до последнего заряда, а без зарядов — известное дело — сражаться нельзя. Фрицы с Гансами тогда и навалились. Подхватили всех, кто был живой. Захватили и того главстаршину. — А я бы не сдался! — вдруг выпалил белесый мальчишка. — Я бы кинжалом дрался. — Понимаешь ты много. «Кинжалом», — передразнил его дед. — С кинжалом на танку не попрешь. — Не мешай, Гошка, а то по шее дам, — прикрикнул на мальчишку его вихрастый приятель. — В общем повязали моряков тех цепями, — продолжал старик, — и окружили конвоями. А у каждого конвоя собака-людоед при себе. Довели фрицы моряков до города и по улицам среди дня повели, чтоб люди видели, как они самых геройских бойцов в плен забрали. Особо хотели фрицы главстаршиной похвастать. Ведь он больше всех ихнего брата побил. Доводят моряков до центра, а там все фрицевское начальство стоит, смотрит на них и насмешки строит. Самый главный немец говорит конвою… — Это адмирал Рейнгардт, что ли? — спросил вихрастый паренек. — Он самый, — быстро подтвердил старик. — Говорит, значит, тот немец-адмирал конвою: «А покажите мне этого моряка-главстаршину, что цельный полк наших эсэсов побил. Хочу, говорит, на его богомерзкую рожу посмотреть». А старшина сам выходит вперед и отвечает немцу-адмиралу: «Я, — отвечает, — нехорошая твоя фрицевская душа, еще не один полк эсэсов изничтожу». И снимает он с себя цепь да цепью по морде того адмирала. Адмирал враз кровью умылся. Опомнились тут конвои и на главстаршину, а тот раз-з — и через забор. Только его видели. Старик, обжигая пальцы, сделал последнюю затяжку и с сожалением загасил о тумбу огонек догоревшей цигарки. — С того дня, значит, и началось это, — немного помолчав, продолжал он. — Как станет в порту какое фашистское судно с важным грузом, так вскорости на нем взрыв происходит. Под ногой дель Сарто хрустнул песок. Галка искоса посмотрела на него. Он стоял рядом, облокотясь на ноздреватый валун, который едва доставал ему до плеча, и внимательно прислушивался к рассказу. Ему были хорошо видны сидящие на причале ребята и старик. Галке же, чтобы видеть их, приходилось все время подниматься на носки. — И что только не делали эсэсы, — рассказывал старик, — и охрану на всем берегу день и ночь держали, и водолазов своих кругом кораблей порасставляли — ничего не помогает. Взрываются ихние корабли в порту — и все тебе. — А при чем тут главстаршина? — спросил старший паренек. — «При чем, при чем», — заворчал дед. — Неужто не ясно? Его это работа! Люди сказывают — он до войны лучшим водолазом на всем флоте был. — Ты же раньше говорил, что он минер, — опять перебил его паренек. — Не говорил я этого. — Говорил, дед, я слышал, — подтвердил белобрысый мальчишка. — Не говорил! — рассердился старик и топнул ногой о настил. — Ишь, моду взяли старшим перечить! Не говорил — и все. Водолаз он, а не минер. Дель Сарто наступил на ракушку, и она громко треснула. Вихрастый парнишка обернулся и, заметив возвышающуюся над валуном форменную фуражку, испуганно толкнул старика. — Тикаем, дед! Фрицы! — Пожалуй, пора возвращаться, — сказал дель Сарто, отходя от камня. — Синьорина Мартинелли и ваш супруг, вероятно, уже ищут нас. Галка едва сдерживала охватившее ее волнение. Рассказ старика, во многом путанный и щедро разбавленный нехитрой фантазией, напомнил ей события, невольной свидетельницей которых она была не так давно: короткую схватку в греческой кофейне, бегство человека в форме румынского офицера, рьяные, но безуспешные поиски его; а спустя некоторое время — новые взрывы в порту и приглушенные разговоры о таинственных водолазах-подрывниках. Все эти события Галка уже пережила однажды, и само по себе упоминание о них, конечно, не взволновало бы ее сейчас, если бы не… Она пристально посмотрела на идущего рядом дель Сарто и снова — уже второй раз за последние полчаса — попыталась вспомнить все подробности его появления в городе. Когда же это было? Ну, да! В тот день, когда после двухмесячного затишья в порту был взорван транспорт, который незадолго перед этим подобрал дель Сарто в море. — Что вы так смотрите на меня? — спросил дель Сарто, и ей показалось, что эту фразу он произнес без обычного акцента, к которому она успела привыкнуть. — Пытаюсь угадать, какое впечатление произвел на вас рассказ старика. — Вы не угадаете. Я сам еще не пойму, чем привлекла меня эта легенда. Вероятно, тем, что мы присутствовали при ее рождении. Ведь события, о которых она повествует, в действительности еще не имеют конца. — А вы хотели бы знать, чем они кончатся? — быстро спросила Галка. — О, я бы дорого за это дал, — почему-то усмехнулся дель Сарто. Кулагин встретил их быстрым взглядом — поднял и тотчас же опустил глаза. Он сидел на берегу в тени большого камня и читал прихваченный из дому томик Шекспира. Шагах в десяти от него, подложив под голову ласты, лежала Вильма. Галка смутилась. Ей почему-то стало неловко перед Кулагиным, хотя никакой вины за собой она не чувствовала. Ведь ничего предосудительного в их прогулке с дель Сарто не было, если не считать… Впрочем, она не обязана отчитываться перед Кулагиным. Тем более, что он сам предпочел общество Вильмы. — Вы далеко плавали? — вызывающе спросила она Сергея. — Метров на восемьсот. — И уже вернулись? — Двадцать минут — нормальное время для полуторакилометрового заплыва. — Кулагин, прищурясь, смотрел на нее. — А по берегу это расстояние можно покрыть и в более короткий срок. Намек был слишком понятен. Галка вспыхнула и чуть было не наговорила «мужу» дерзостей, но в этот момент дель Сарто окликнул их. Он уже взобрался на скалу, где они недавно завтракали. — Идите сюда. Я хочу сфотографировать вас на фоне тех камней. Получится великолепный снимок. Галка отказалась. — У меня ужасный вид. Волосы растрепались, и нос обгорел. Не хочу. Подошла Вильма и, подбоченясь, стала перед объективом. — Синьор каперанг, сфотографируйте меня. У меня тоже ужасный вид, но на лучший я в ближайшее время не рассчитываю. Затем она взяла у дель Сарто аппарат и, разбежавшись, ловко перепрыгнула на соседнюю конусообразную скалу. Быстро взобравшись по крутому склону на самый верх, она выпрямилась, едва удерживаясь на остроконечном выступе. — Вильма, слезай! Упадешь! — испугавшись за нее, крикнула Галка. — Падшие женщины теперь в моде, — откликнулась Вильма. — Станьте ближе друг к другу. Начинаются съемки с птичьего полета. Она попыталась направить объектив вниз, но, покачнувшись, взмахнула руками. При этом дельсартовский аппарат вырвался из руки, и, описав в воздухе дугу, полетел в море. Вильма подогнула колени и отвела руки назад. — Синьорина Мартинелли, не смейте этого делать! — предостерегающе крикнул дель Сарто. Но было поздно — Вильма прыгнула вслед за аппаратом с десятиметровой высоты. Дель Сарто, Галка и Кулагин подбежали к воде. Скала, на которой они стояли, поднималась над поверхностью моря сравнительно невысоко — метра на полтора, зато ее подножие едва угадывалось в темно-голубой толще воды. Вильма прыгнула удачно. Было видно, как она, быстро работая ногами, опускается на дно. Галка машинально отсчитывала секунды. 30… 35… 40… 50… Здесь было очень глубоко. Искаженное изломанным светом тело итальянки где-то далеко внизу метнулось испуганной рыбой и стремительно понеслось вверх. Вильма вынырнула на поверхность и судорожно глотнула воздух. — Чертова прорва! — тяжело дыша, сказала она. — Вот где надо строить порт. Глубина метров пятнадцать, если не больше. И это у самого берега. Я видела аппарат. Лежит прямо здесь, подо мной. Но мне не хватило воздуха. Попробую еще раз. — Не надо, синьорина Мартинелли, — остановил ее дель Сарто. — Это опасное упражнение. К тому же вы ставите в дурацкое положение двух здоровых мужчин, которые вынуждены безучастно наблюдать за вашими рискованными попытками. — Синьор дель Сарто прав, — поддержал его Кулагин и неожиданно для всех прыгнул со скалы.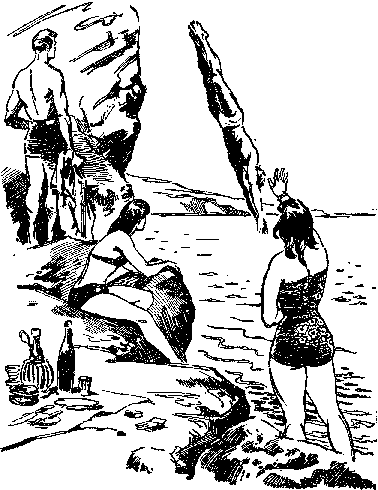
Галка только пожала плечами. Ей даже стало неловко за него. Она была уверена, что Сергей не достигнет дна. Трудно было предположить, что ему удастся то, что не удалось такой опытной пловчихе, как Вильма. Но все же Галка принялась отсчитывать секунды. 20… 25… 30… 40….. Она видела, как Сергей идет ко дну. Потом он вдруг исчез. Очевидно, его скрыл подводный выступ скалы. 50… 55… Галка начала волноваться. 60… 65….. Она встревоженно посмотрела на дель Сарто. Тот уже разделся и стоял на краю скалы, готовый к прыжку, но его остановил крик Вильмы. — Идет! Секунды через три из воды показалась голова Кулагина. Он, как недавно Вильма, жадно вдохнул воздух и поплыл к скале, В руке у него был дельсартовский «Кодак». — Ты с ума сошел! — набросилась на него Галка. — Действительно, Сергей Павлович, зачем вы это сделали? Бог с ним, с аппаратом, — подхватил дель Сарто, помогая Кулагину взобраться на скалу. — Хотел доказать, что я все-таки мужчина, — усмехнулся тот, в свою очередь помогая Вильме выбраться из воды. Дель Сарто рассмеялся. — Но вы лишили меня возможности доказать то же самое. Однако без шуток должен сказать, Сергей Павлович, что из вас получился бы отличный ловец жемчуга. Я вот смотрю по часам: не прошло и минуты, как у вас восстановилось нормальное дыхание. — Не забывайте, что я певец, — добродушно улыбнулся Кулагин. — У нас, певцов, легкие тренированы, пожалуй, не хуже, чем у профессиональных водолазов. — Теперь я убедился в этом. Стали собираться обратно. Улучив минуту, Галка сказала Кулагину: — Ты что, хотел продемонстрировать свое мужество? — Предположим. — Перед кем? Перед Вильмой? — Почему перед Вильмой? Может — перед тобой. — Очень глупо. — Возможно, глупо, — согласился он, но тут же спросил: — А ты всегда поступаешь умно?
Налетевший с моря легкий бриз поднял невысокую, но крутую волну. На обратном пути катер то и дело подпрыгивал и шумно шлепался днищем о воду. Рев мотора заглушал все иные звуки. Только у входа в бухту Зеленого мыса дель Сарто сбавил обороты, и завывающий рев перешел в мерный рокот. Вильма, всю дорогу жавшаяся к борту, придвинулась к Галке и нерешительно тронула ее за плечо. — Не сердись на меня. Я сама не знаю, что делаю и говорю последние дни. Порой мне кажется, что я начинаю сходить с ума. — Я не сержусь. — Галка повернулась к ней. — Но там, за камнем, я хотела тебе сказать, что от войны нельзя убежать. Она найдет тебя и в Италии, в твоем доме. Вильма удивленно подняла черные, красиво очерченные брови. — Странная ты, Галина, — сказала она. — Не пойму я тебя. — А ты сначала себя пойми, — буркнула Галка, досадуя, что не может сказать итальянке все то, что само просилось на язык. Катер подходил к базе итальянского отряда. На темном фоне высоких, круто обрывающихся в воду скал, что с двух сторон стискивали бухту, можно было различить силуэт большого гидроплана. За пирсом торчали радиомачты торпедных катеров. На берегу их встретил Равера. Дель Сарто приказал отвезти гостей домой. Стали прощаться. Дель Сарто сказал, что обязательно придет в воскресенье в клуб моряков. Вильма протянула Галке руку, но затем вдруг порывисто обняла ее. — Вечером в воскресенье я улетаю домой. Возможно, мы с тобой не увидимся. Прощай. Еще раз прошу — не сердись на меня. Поверь — я желаю тебе добра. Пусть бог — если это еще зависит от него — пошлет тебе счастье. Я буду просить его об этом. — Приходи на спектакль, — пригласила ее Галка. — Мы играем в воскресенье днем. Ты успеешь. — Спасибо, но я не приду. У меня в воскресенье много дел. — Она поцеловала Галку. Прощаясь с Кулагиным, Вильма протянула ему ласты. — Когда мы плавали, вы сказали, что хотели бы иметь эти лягушечьи протезы. Берите. Это за фотоаппарат. Берите, берите. Они мне уже не понадобятся…
Часть пятая МОРЯК ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

Человек шел по дну. Он шел, наклоняясь вперед, раздвигая воду плечом, сильно отталкиваясь ногами, обутыми в тяжелые ботинки с толстой свинцовой подошвой — шестнадцатиметровая глубина давала о себе знать. Лицо человека было скрыто резиновой маской с большими, как консервы, очками. От маски за спину к баллонам со сжатым воздухом тянулась гофрированная трубка. Такая же трубка, но покороче, шла к укрепленному на груди окислительному патрону. Кроме ботинок и респиратора, на человеке были купальные трусы и широкий, туго обхватывающий бедра пояс. К поясу был прикреплен кинжал и два небольших, но плотно набитых мешка. Человек часто останавливался, оглядывался по сторонам. Высоко над его головой, где-то у самой поверхности моря, причудливо ломаясь в воде, весело играли солнечные лучи, но внизу человека окружал полумрак. Останавливаясь, человек отыскивал взглядом очередной ориентир: сорванный с цепи и полузарытый в донный песок разлапистый якорь; оброненную в воду чугунную болванку — противовес плавучего крана; облепленный ракушками остов баржи, затонувшей еще в прошлую войну; разорванный пополам огромный корпус сухогрузного транспорта. У человека в легководолазном костюме не было недостатка в ориентирах. Скорее он мог запутаться среди них: война щедро рассыпала по дну большого порта останки судов, грузов, сметенного с кораблей вооружения; обрушила в воду арматуру береговых сооружений; воткнула в грунт зловещие сигары неразорвавшихся авиабомб. Временами человек подносил к очкам часы со светящимся циферблатом. Он торопился: часы показывали, что запас воздуха в одном из двух баллонов подходит к концу, а цель еще не достигнута. Дно было неровным. Оно то поднималось, то круто обрывалось вниз. Маленькие рачки-отшельники врассыпную разбегались перед человеком. Сплюснутая, точно раздавленная прессом, одноглазая камбала оказалась храбрее: она подпустила человека почти вплотную, быстро отскочила назад и снова уставилась на него, лениво колыхая плоским, похожим на полотенце, телом, словно хотела сказать: «Ну, что, поймал?» Но человеку было не до игры с рыбой. Впереди в расплывчатом полумраке он заметил паутину отвесно спущенной на дно сети. Человек подошел ближе и остановился. Сеть преграждала дорогу. Конечно, можно было просто приподнять ее, но человек знал, что этого делать нельзя. Сеть была защитная — противоторпедная. Она ограждала какой-то большой корабль, тень которого виднелась впереди. Возможно, эта сеть с сигнализацией, возможно — она таит другие ловушки, а то можно просто запутаться в ее крепких многорядных петлях, и тогда не поможет даже нож. Человек пошел вдоль сети, считая шаги, чтобы знать, насколько он отклоняется от намеченного маршрута. Он открыл вентиль второго баллона с воздухом — первый был уже опорожнен. Но вот сеть кончилась, и человек рванулся вперед. Большая продолговатая тень наплыла откуда-то сбоку. Человек остановился и поднял голову. Вверху слева темнела сигарообразная громада. От нее вниз раскосо тянулись якорные цепи. Человек прислушался. Он уловил глухой отрывистый удар, потом другой, третий прозвучал четко и громко, так, что даже ушам стало больно. Наверху шли работы. Ошибки быть не могло. Здесь, у причала Северного дока, ошвартован только один корабль — крейсерская субмарина «Фатерлянд». О том, что гитлеровцы собирают в порту мощный подводный рейдер, части и узлы которого доставлялись из Германии по железной дороге, человек знал уже тогда, когда только готовился к переходу через линию фронта. Собственно, из-за этого рейдера он и два его товарища были заброшены во вражеский тыл. Товарищи погибли в самом начале. Он остался один. Человек машинально взглянул на часы. Во втором баллоне осталось три четверти его содержимого. Если сейчас повернуть назад, воздуха может еще хватить на обратную дорогу. Но человек отогнал эту мысль. Он слишком долго ждал сегодняшнего дня, слишком долго носил маску: не эту резиновую, а другую — невидимую, но такую же непроницаемую, за которой скрывал свои чувства: гнев, ненависть, презрение. Что иное он мог питать к людям, среди которых жил последнее время? Эти люди были ему враги, они залили кровью его родину, убили его товарищей, долгие дни травили его самого, пока он не надел ту невидимую маску… Нет, если б даже у него сейчас не оставалось ни одного шанса на возвращение, он все равно бы не повернул назад. Человек не спеша вытащил из ножен кинжал, разрезал веревки, удерживающие свинцовые подошвы ботинок, — они были уже не нужны, — отстегнул от пояса туго набитые взрывчаткой мешки и сильно оттолкнулся от грунта. Акулообразный корпус «Фатерлянда» рос на глазах. Вот он уже заслонил собою всю поверхность. Стало совсем темно, и человек поднял вверх руки, чтобы не удариться головой о бронированное днище подводной лодки…
* * *
В ночь на воскресенье Галка долго не могла заснуть. Старый диван, на котором она лежала, нельзя было назвать удобным: его полезная площадь напоминала пересеченную местность, где бугры-возвышенности последовательно чередовались с провалами-впадинами. Ворочаясь с боку на бок, она мысленно ругала Кулагина, который спал в соседней комнате на великолепной кровати. Галка считала, что с Сергеем ничего бы не случилось, если бы они поменялись местами. Просто свинство заставлять ее мучиться на этом дурацком диване. Однако дело было не только в диване. Уснуть Галке мешал пестрый рой мыслей, и вскоре она, позабыв о неудобствах, стала думать о том, о чем не могла не думать в эту ночь. Завтра днем ей предстоит выполнить последнее и, пожалуй, самое ответственное задание Гордеева, после чего она должна будет уйти из города. Леонид Борисович прав — ей пора уходить, она стала слишком заметной. Нет такого офицера в разношерстном немецко-итало-румынском гарнизоне, который бы не знал ее в лицо. Для связной это плохо. Но еще хуже, что начальник морского отдела гестапо штурмбаннфюрер Хюбе последнее время не выпускает ее из виду. Ну, что ж! Завтра она еще раз поспорит с ним. Галка вспомнила, как ловко натолкнула Логунова на мысль поставить «Паяцы» в бывшем клубе моряков, и невольно улыбнулась в темноте. Спектакль состоится завтра, а это значит, что завтра она снова будет в порту. На этот раз Хюбе не станет придираться. Остается только придумать убедительный предлог для посещения сапожной мастерской, что находится как раз напротив клуба в полуразрушенном здании морского вокзала. Может, оторвать ремешок туфля? Мелкий, но необходимый ремонт. Убедительно? Вполне. Довольна собой, Галка свернулась калачиком и подивилась тому, что пружины больше не упирают в ребра и что на старом диване не так уж плохо лежать. Ей вдруг захотелось есть. Вечером она отказалась от ужина и сейчас пожалела об этом. Она вспомнила, что на письменном столе Кулагин оставил тарелку с грушами. Галка осторожно соскользнула с дивана и в темноте неуверенно двинулась по комнате. Сделав несколько шагов, она больно ударилась о стул, который тут же с грохотом упал. Девушка опрометью бросилась назад и юркнула под одеяло. Массивная резная дверь, ведущая в соседнюю комнату, открылась, и в полосе хлынувшего оттуда электрического света показался Кулагин. — Галя, что случилось? Она не отозвалась, хотя притворяться спящей было глупо. Кулагин вошел в комнату, поднял опрокинутый стул, опустил на окне маскировочную штору и зажег небольшую лампочку на письменном столе. — Захочешь есть — в левом ящике найдешь колбасу и булку, — сказал он. Галка снова промолчала, но, едва Кулагин ушел к себе, встала и на цыпочках подошла к столу. В одном из ящиков письменного стола — ох, уж эти мужчины! — она нашла полкруга копченой колбасы и булку; прихватив заодно и пару груш, она погасила лампу и бегом вернулась на диван. Быстро покончив с едой, Галка до подбородка натянула одеяло и подумала, что Сергей все-таки неплохой человек. Последние дни ей казалось, что она начинает понимать его. Нет, она не оправдывала его. Что значит «попал в чужой город?» Ведь в этом городе живут свои — русские люди. Что значит штатский человек? Человек, способный держать в руках оружие, не может быть сейчас штатским. Растерялся? Так надо честно признаться в этом. И в первую очередь самому себе. Галка вдруг подумала, что его напускной цинизм, нарочитая скованность на сцене, принимаемая всеми за артистическую бездарность, и показное фанфаронство за кулисами — все это от растерянности. Но вместе с тем она готова была поручиться, что Сергей не трус. Взять хотя бы вчерашний случай с фотоаппаратом. Что ни говори, надо иметь смелость, чтобы нырнуть на такую глубину. Конечно, это было мальчишество, но на его месте онапоступила бы так же. Дель Сарто — хотел он того или нет — задел его самолюбие. В присутствии женщин это граничило с вызовом. Вообще между дель Сарто и Сергеем установились довольно странные отношения. Внешне они любезны друг с другом, но за этой любезностью Галка угадывала какую-то настороженность. Не она ли тому причина? Галка сердито отмахнулась от этой мысли, но не думать о дель Сарто уже не могла: слишком часто за последние дни этот человек тревожил ее воображение. Галка села на диване и обхватила руками колени. Кто он такой? Если действительно итальянский князь и капитан первого ранга, то как объяснить некоторые его поступки? Она снова и снова вспоминала свои немногочисленные встречи с Виктором дель Сарто, непринужденные и вместе с тем полные скрытого смысла разговоры с ним. И вдруг память воскресила одну фразу, оброненную сержантом, а теперь уже лейтенантом Марио Раверой в тот день, когда итальянские моряки ожидали прибытия командира отряда. Равера сказал тогда, что никто из масовцев не знает нового командира в лицо…* * *
С первых дней оккупации в клубе моряков разместилось подразделение портовой охраны. И хотя перед спектаклем, по распоряжению адмирала Рейнгардта, все клубные помещения были освобождены и приведены в прежний вид, в зале и за кулисами остался тяжелый запах пота, дешевых сигарет, ваксы и ружейного масла. В артистических уборных стены были испещрены непристойными рисунками; на месте больших венецианских зеркал — Галка хорошо помнила эти старинные зеркала — зияли пустоты; с мягких кресел была аккуратно содрана добротная кожа… Галка и Кулагин приехали в клуб за час до начала спектакля — Рейнгардт прислал за ними свою машину. Однако Логунов сумел опередить их. Он уже метался по лестницам, покрикивая на рабочих, сгружавших декорации, поминутно заглядывал в кассы и, наверно, уже в двадцатый раз спрашивал какого-то угрюмого фельдфебеля, послан ли за артистами штабной автобус и дано ли указание охране пропустить их в порт. Галка решила привести в исполнение свой план до начала спектакля. Собственно, значительная часть этого плана была уже выполнена. Оставалось только попасть в сапожную мастерскую. Для этого достаточно было пересечь неширокую площадь, отделявшую клуб от полуразрушенного здания морского вокзала. Незаметно для Кулагина Галка оторвала ремешок на одной туфле. — Будь вы неладны! — Кого ты, ругаешь? — спросил Кулагин. — Вот, полюбуйся. Неделю назад купила туфли, а они уже разваливаются. — А ну покажи. Да это пустяк. В два счета пришить можно. Я сейчас разыщу нитки, а иголка у меня есть. Он уже направился к двери, но Галка остановила его. — Не беспокойся. Я пойду к сапожнику. Где-то здесь неподалеку есть мастерская… — Но… — начал было Кулагин. — За эти туфли я заплатила 300 марок и портить тебе их не дам, — перебила его Галка. Кулагин пожал плечами. Галка вышла в коридор и, миновав кулисы, где рабочие в грубых брезентовых робах возились с декорациями, через сцену направилась в фойе. Все шло отлично. Однако именно это слишком уж благоприятное стечение обстоятельств и насторожило ее. Во всяком случае она не растерялась, когда в пустом фойе неожиданно столкнулась с Хюбе. Штурмбаннфюрер посторонился, уступая ей дорогу, и, вежливо поздоровавшись, сказал: — Говорят, идея постановки спектакля в порту принадлежит вам. Адмирал Рейнгардт находит ее очень удачной. У меня на этот счет свое мнение. Во всяком случае не рассчитывайте на большой успех, Галина Алексеевна. — Он сделал паузу, подчеркивая последние слова, и, слегка усмехнувшись, добавил: — Вас могут здесь не понять. Он поклонился и отошел. Галка заставила себя спуститься в вестибюль — не поворачивать же сразу назад, — но на улицу не вышла. Двусмысленный намек гестаповца сбил ее с толку. Что крылось за его ловко расставленными словами? Угроза? Предостережение? А может, то был один из его «психологических» приемов — так сказать, — выстрел наугад? Как бы то ни было, здравый смысл говорил, что ей сейчас надо оставить даже мысль о встрече с сапожником. Автобус с артистами еще не прибыл. Галка заглянула в кассу — поинтересовалась, сколько продано билетов, ведь надо было как-то объяснить свое появление в вестибюле. Внешне она оставалась спокойной, но в голове, до боли в висках, билась лихорадочная мысль: «Что делать? Что делать?!» Ничего не придумав, она вернулась в уборную. Кулагин сидел на одном из ободранных кресел, подстелив под себя газету, и скучающе листал растрепанные ноты. — Ты уже? Так быстро? — спросил он, небрежно бросая ноты на туалетный столик, и, не дождавшись ответа, спросил уже о другом: — Наши еще не приехали? — Нет. — Галка пытливо посмотрела на него. «А что если…» — мелькнула неожиданная мысль. — Я не была в сапожной мастерской, — многозначительно добавила она. — Ты говоришь это так, словно тебя обидели, — улыбнулся Кулагин. Галка все еще колебалась. Но когда он подошел к ней и, тронув за локоть, участливо спросил: — Галя, что с тобой? Ты чем-то расстроена? — она сказала, уже уверенная в том, что имеет на это право: — В мастерскую пойдешь ты. Нет, туфель не бери. — Но мои туфли ремонтировать не надо. — Он снова улыбнулся, полагая, что она шутит. — А в глаза людям тебе смотреть надо? — выведенная из себя его безмятежной и, как казалось ей, самодовольной улыбкой, вскипела Галка. — Тем, кто рано или поздно вернется сюда, и тем, кто оставался здесь, но не продавался за холуйский паек? Кулагин опешил. Он даже отступил назад. — Галя… — он хотел что-то сказать, но не находил слов. — Молчи. Слушай меня. Ты сейчас пойдешь в сапожную мастерскую. Тут недалеко — через площадь. Там несколько мастеров. Обратишься к тому, который работает у окна. Он такой высокий, очень худой, чернявый. Скажешь, что ты от Леонида, и возьмешь то, что он передаст. Все. Иди. — Галя… — Кулагин изумленно глядел на нее, словно увидел в ней что-то новое, незамеченное раньше, а сейчас вдруг поразившее его. — Боишься? — прищурилась Галка. — Я тебя успокаивать не стану. Если схватят — в лучшем случае расстреляют. Он шагнул к ней и снова взял ее за локти, но на этот раз так крепко, что ей даже стало больно. — Я сейчас боюсь только одного — потерять тебя. Галка почувствовала, что краснеет. То не была краска стыда — жгучая, разом охватывающая все лицо — тепло, которое она ощутила, поднималось медленно от щек к ушам и лишь слегка коснулось щек. Когда он вышел, она посмотрела в зеркало и удивилась своей совершенно, как ей казалось, неуместной улыбке. Девушка не заметила, как за ее спиной приоткрылась и тотчас же закрылась дверь из коридора, но она увидела, как, отскочив от стены, на туалетный стол упал бумажный шарик. Осторожно, словно в скомканной бумаге таилась какая-то опасность, она развернула шарик. На грязном клочке тетрадного листа торопливым почерком было написано: «По старому адресу не ходите. Сегодня в 15 часов у общежития мореходки. Курите сигарету. У вас спросят спички. Привет Леониду». Галка порвала записку и бросилась к двери. Но за дверью никого не было, только в конце длинного коридора четверо рабочих, тяжело ступая, несли рояль. «Кто-то из них», — поняла Галка и сейчас же подумала о Сергее. Решение пришло сразу, и в следующее мгновение, рискуя сломать каблуки, Галка пулей пронеслась по коридору; по служебной лестнице взлетела на галерею и, едва не сбив с ног испуганного билетера, выбежала на антресоли. Она понимала, что привлекает всеобщее внимание, но иначе поступить не могла, — надо было во что бы то ни стало задержать Сергея. Перегнувшись через перила балкона, Галка увидела его. Он уже миновал фойе и спускался в вестибюль. Навстречу ему поднимались только что приехавшие артисты, в фойе были люди, но все это не остановило ее. — Сергей! Кулагин! — громко позвала она. Словно по команде все, кто был внизу, подняли головы. Десятки глаз недоуменно разглядывали девушку на балконе. — Сергей!.. Кулагин оглянулся и, заметив на антресолях Галку, нерешительно остановился. — Куда ты пошел? Вернись! — необычно тонко, даже как-то визгливо крикнула она. Внизу засмеялись. Кулагин топтался на месте. — Иди сюда, сейчас же! — не унималась Галка. Кулагин смущенно улыбнулся окружающим, словно хотел извиниться перед ними за эту чисто семейную сцену, и повернул назад. Они встретились возле артистических уборных и хотя в коридоре, кроме них, никого не было, Галке показалось, что как только подошел Кулагин, одна из соседних дверей слегка приоткрылась. Чуть-чуть, на какие-то полсантиметра. — Куда ты пошел? — не дав Сергею раскрыть рта, набросилась она. — Я же просила тебя не выходить, пока я не вернусь. Болван, ты хотя бы запер уборную! У меня пропал браслет. Я оставила его на туалетном столе. Ищи теперь где хочешь! Галка орала на весь клуб. Но когда они зашли в уборную, она быстрым шепотом сказала: — Как только ты вышел, меня предупредили, что в мастерской появляться нельзя. И тут же снова закричала, косясь на полуоткрытую дверь: — Это ты виноват! Ты! Ты!! Ты!!! Нужно быть круглым идиотом, чтобы оставить в незапертой комнате сумку жены! В клубе полно солдатни. Я не сомневаюсь, что браслет украли. — Галочка, мне казалось, что я запер дверь, — сдерживая улыбку, громко сказал Кулагин. — Когда перед началом спектакля примадонна устраивает истерику, веришь, что ты находишься в настоящем театре, — раздался надтреснутый голос Рейнгардта. Постучавшись, адмирал вошел в уборную. Следом за ним семенил Логунов. — Милая Неда, кто огорчил вас? — целуя Галке руку, спросил Рейнгардт и, повернувшись к Кулагину, погрозил ему пальцем. — Имейте в виду, Серж, я не дам ее в обиду даже вам. — У меня украли браслет, — плаксиво пожаловалась Галка. Рейнгардт нахмурился. — Курт! — позвал он стоящего за дверью адъютанта. — У Госпожи Ортынской пропал браслет. Найти! А пока, — он снова обратился к Галке, — разрешите, милая Неда, частично возместить вам эту утрату. Он достал из кармана небольшой футляр и извлек из него кулон на черной бархатной ленте. — В знак моего восхищения вашим талантом. Вы позволите? — Он двумя пальцами взял бархатную ленту кулона. Краем глаза Галка видела, как Кулагин сердито сжал губы. Она и сама едва сдерживала брезгливую дрожь, когда холодные пальцы немца коснулись ее шеи. — Вечером я пришлю за вами машину, — зашептал ей Рейнгардт. — Надеюсь, вы найдете, что сказать супругу. — О да, господин адмирал. Благодарю, — кокетливо улыбнулась Галка, думая о том, что вечером она уже будет далеко отсюда. После ухода Рейнгардта Сергей несколько раз порывали заговорить с ней, но ему мешали. С приездом труппы началась обычная закулисная суматоха; в уборную к Кулагиным то и дело заходили люди: помощника режиссера сменял костюмер костюмера — гример, гримера — театральный парикмахер. И только перед третьим звонком, когда они наконец остались одни, Сергей сказал: — Мне нужно с тобой поговорить. — Не сейчас и не здесь, — быстро возразила Галка. — Хорошо, — согласился он. — Тогда после спектакля поедем сразу ко мне. — Нет. У меня есть дело в городе. — Галя! — он заглянул ей в глаза. — Можешь рассчитывать на меня… Она улыбнулась и поправила кружевное жабо его костюма. — Спасибо, Сережа. В дверь протиснулся помощник режиссера. — Галина Алексеевна, Сергей Павлович — на выход. Начинаем!Галка еще успела заглянуть в зал. Среди публики было много солдат и матросов, но первые ряды партера и бельэтажа занимали офицеры. В глубине директорской ложи она различила сухощавую фигуру Рейнгардта. Адмирал разговаривал с высоким моряком, лицо которого Галка не могла разглядеть. Только когда началась увертюра и Рейнгардт со своим собеседником сели в кресла, девушка узнала дель Сарто. И хотя в тот день Галка меньше всего думала о том, как пройдет спектакль, присутствие в зале дель Сарто несколько смутило ее. Невольно краснея, она представила, с каким недоумением встретит он по явление на сцене вычурного, безжизненного Канио–Кулагина, и ей стало неловко за Сергея, а потом почему-то и за себя. И если до поднятия занавеса у нее еще была надежда, что на этот раз Сергей откажется от своей нарочито скованной манеры игры, которая сбивала ее, да и других артистов, то уже первый его выход рассеял эту надежду. Кулагин остался верен себе: он пел, а в необходимых случаях делал то или иное движение в сторону своих партнеров, но при этом выражение его ярко нагримированного лица почти не менялось. Это была какая-то пародия на игру. Галка вначале злилась, а потом махнула рукой — черт с ним, со спектаклем. Стоит ли переживать еще из-за этого! И без того ее нервы напряжены до предела — чего стоил только один трюк с истерикой на антресолях. А встреча с Хюбе в фойе? А записка? Она ни на минуту не забывала о ней. В паузе между выходами Галка попросила у Семенцова сигарету и спички. Семенцов знал, что Галка не курит, но просьба не удивила его. — С таким партнером, — он кивнул в сторону Кулагина, без всяких эмоций певшего в тот момент известную арию, — не только закуришь, запьешь, пожалуй. Галка пробормотала что-то невнятное и незаметно спрятала сигарету и спички за вырез платья. Перед заключительной сценой в зале началось какое-то движение. Вглядевшись в полумрак партера, Галка заметила, что многие офицеры пробираются к выходу. Директорская ложа была пуста. Рейнгардт и дель Сарто покинули театр, не дождавшись конца спектакля. Галка ожидала скандала. Однако и на этот раз все обошлось благополучно. Оставшаяся в зале публика даже аплодировала артистам, правда, не с большим энтузиазмом, но все же… Логунов ограничился очередными упреками по адресу Кулагина и пространными рассуждениями об актерском мастерстве, сборах и неблаговидных финансовых перспективах. В заключение он доверительно сообщил, что в порту объявлена тревога и что только этим объясняется преждевременный уход Рейнгардта со спектакля. Автобус, который должен был отвезти их в город, запаздывал. Но, возможно, артистов задерживали умышленно — в порту царило какое-то тревожное оживление: урчали моторы покинувших стоянки сторожевых кораблей, перекликались свистки аварийных буксиров, мимо клуба к пристаням промчались санитарные автомобили. Никто толком не знал, что произошло. Но Галке было не до этого. Она нервничала. Сообщенное в записке время встречи с посланцем портовой организации неумолимо приближалось. Если бы можно, она ушла бы из клуба пешком, но об этом нечего было и думать — одну ее просто не выпустят из порта. Она не могла себе простить, что из лишней осторожности отказалась от предложенной адъютантом Рейнгардта машины. Беспокоило ее и другое — из головы не выходили слова, сказанные Хюбе в фойе перед началом спектакля. Что имел в виду гестаповец? Необходимо принять меры предосторожности. Но время шло, а она вынуждена была сидеть сложа руки в артистической уборной и с притворным вниманием слушать разглагольствования Логунова о «новом» искусстве. Когда наконец подали автобус, до условленного в записке часа оставалось пятьдесят минут. Галка понимала, что теперь все будет зависеть от ее расторопности и… выдержки. Она не могла терять больше ни одной минуты, а вместе с тем должна была делать вид, что ей некуда спешить. Пока автобус натужно полз вверх по крутому Баркасному спуску, она до мельчайших деталей обдумала каждый предстоящий ей шаг. На Пушкинской улице Галка попросила шофера затормозить и, обернувшись к Сергею, сказала: — Сойдем здесь.
Прошедший недавно короткий грозовой дождь остудил нагретый солнцем асфальт, заполнил выбоины тротуаров хлюпающей под ногами водой, смыл запорошенные пылью густые кроны каштанов Легкий ветерок стряхивал с деревьев на прохожих крупные капли. Сергей нечаянно ступил в лужу, и разлетевшиеся веером брызги облепили Галкины ноги, осыпали юбку. — Нельзя ли поосторожнее, — сердито сказала она, отряхивая юбку. — Это я… Прости, пожалуйста. — Сергей полез в карман за носовым платком. — На вот, вытри. В сущности, ничего особенного не произошло: оступился человек и смутился, огорченный своей неловкостью. В другое время Галка, возможно, только улыбнулась бы, глядя на его виноватое лицо, ставшее сразу каким-то совсем мальчишеским. И сейчас в груди вдруг поднялась, хлестнула в сердце и разлилась по всему телу горячая хмельная волна незнакомого ей чувства, и, чтобы заглушить его, она рассердилась. Но в следующее мгновение Галка поняла, что ей уже не отмахнуться, не уйти от него; что не сейчас — вдруг, — а уже много дней назад нежданно-негаданно родилось это новое и, по правде говоря, пугающее ее чувство. На углу Пушкинской и Садовой улиц возле неказистого кинотеатра, где ежедневно с утра крутили немецкую хронику, Галка остановилась и повернулась к Сергею. «Почему он?» — мысленно спрашивала она себя, глядя в его зеленоватые, слегка прищуренные глаза. Почему он, а не Сашка Болбат и даже не тот отчаянный парень-связной, который обнимал ее на улице возле явочной квартиры?.. Она смотрела на Сергея, не таясь, внимательно и пытливо. Он по-своему понял ее взгляд. — Можешь мне верить. Но Сергей мог не говорить ей это. Она знала, что ему можно верить, иначе бы не было этого неуемного, отдающего в виски тревожного и радостного стука в груди! — Пойдем в кино, — громко сказала Галка, а тихо, чтобы слышал только он, добавила: — Надо проверить, не увязался ли кто за нами. Сергей понимающе кивнул. На Галкином месте трудно было придумать более удачный, а главное — более быстрый способ проверки «тыла». В театре кинохроники не было перерыва между сеансами, а потому зрители могли в любое время входить в узкий и длинный, похожий на госпитальный коридор зрительный зал и в любое время выходить из него, но уже в другую дверь в противоположном конце. Выход был удобен еще и тем, что он через подъезд жилого дома вел на Садовую улицу, тогда как вход в кинотеатр был с Пушкинской. Галке некогда, да и незачем было рассказывать обо всем Сергею; она только шепнула, когда они вошли в полутемный зал, дрожащий от грохота ползущих через экран танков: — Стой здесь и смотри, не пойдет ли кто за мной. Я иду сразу на выход. Буду ждать тебя в подъезде. Вглядываясь в ряды кресел, будто отыскивая свободное место, Галка неторопливо прошла через весь зал, но, едва поравнявшись с выходом, быстро юркнула за дверь В подъезде дома, к которому примыкал кинотеатр, была лестница, ведущая на верхние этажи. На площадке второго этажа Галка, не подходя к перилам, остановилась, достала из сумочки пудреницу и зеркало. Делая вид, что пудрится, она слегка повернула зеркало вниз и одновременно вбок так, чтобы ей был виден весь подъезд. Следующие пять минут показались ей вечностью. За это время из кинотеатра вышло несколько человек, но Сергея среди них не было. Звеня пустыми бидонами, на лестницу поднялись две женщины. Одна из них — маленькая худенькая старушка в выцветшем ситцевом платке, — проходя мимо, смерила Галку пристальным колючим взглядом. — Видала кралю? — услышала девушка ее скрипучий голос. — Наверно, лейтенанта немецкого, что квартирует у Зворыкиных, поджидает, — отозвалась ее соседка. Женщины уже скрылись за поворотом лестничной клетки, но Галка расслышала, как маленькая старушка сказала зло: — И носит же земля, прости господи, таких потаскух. Галка вспыхнула и до боли прикусила губу, но в это время увидела выходящего из кинотеатра Сергея. Она подождала, пока он поравняется с лестницей, и сбежала вниз. — Идем, — быстро беря его под руку, сказала она. На улице Сергей шепнул ей: — Все в порядке. Галка благодарно сжала его руку. — А теперь иди домой, — сказала она. — Я постараюсь вечером зайти к тебе. — Почему — «постараюсь»? Ты обещала. Нам надо поговорить. — Не все зависит от меня, Сережа, — невесело улыбнулась Галка. — А завтра? Галка промолчала. Какое-то тревожное предчувствие неожиданно сжало ее сердце. — Ты придешь завтра? — настаивал Сергей. — Если я не приду сегодня вечером, не жди меня и завтра, и послезавтра не жди. — Галя! — он взволнованно посмотрел на нее. — Я пойду с тобой. — Нет, Сережа, дальше я пойду одна.
* * *
Было три минуты четвертого, когда Галка, сделав большой крюк, повернула на свою — Красноармейскую улицу. Встреча с посланцем портовой организации была назначена у общежития мореходного училища, расположенного по соседству с домом Ортынских. Это место, видимо, было выбрано не случайно, как не случайно среди рабочих, сгружавших сегодня декорации, оказался человек, знавший, что, кроме спектакля, привело в порт молодую примадонну городского театра. Галка не сомневалась в достоверности полученной записки — слишком много было известно ее автору: имя связной, явка в сапожной мастерской, пароль… Девушка сразу же отбросила мысль о провокации. Подходя к общежитию мореходки, Галка достала из сумочки выпрошенные у Семенцова сигарету и спички и осторожно закурила, стараясь не вдыхать дым. На ее счастье, улица в тот час была почти безлюдна — солнце после дождя пекло особенно немилосердно, и редкие, разморенные жарой прохожие спешили укрыться в тени. Со двора 21-го дома, сгорбившись под тяжестью коромысла с ведрами, вышла босоногая девчонка лет четырнадцати. Не обратив на Галку внимания, она перешла через дорогу и исчезла за дверью грязно-серого одноэтажного дома. Возле общежития немец-шофер сосредоточенно копался в моторе грузовика. Навстречу Галке, отдуваясь, шла не по возрасту расфранченная толстуха со свертками в обеих руках. Неумело опираясь на костыли, проковылял инвалид в старой, грубо заплатанной гимнастерке. Девушка бросила на него выжидающий взгляд, но инвалид даже не посмотрел на нее. «Не он!» — поняла Галка и замедлила шаги. Неужели она опоздала? Ведь только пять минут четвертого Она уже миновала общежитие, когда шофер стоящего у бровки тротуара грузовика — немолодой немец с ефрейторскими погонами и нашивкой за ранение — окликнул ее. — Я очень извиняюсь, фрейлейн, — с сильным баварским акцентом произнес он. — Но у меня испортилась зажигалка. Я прошу дать мне прикурить. Большими заскорузлыми пальцами он неуверенно мял дешевую сигару. Галка поперхнулась дымом и остановилась, словно натолкнулась на невидимое препятствие. Она оторопело смотрела на немца. Мимо, скрипя шинами, проехал камуфлированный лимузин, обдав их гарью выхлопных газов. И тогда Галка почти машинально достала из сумки и протянула немцу коробок спичек. Он зажег спичку и, пряча в огрубелых ладонях огонь, прикурил. На его руке она заметила обручальное кольцо. Истертое и потускневшее, оно, видимо, было надето много лет назад и с тех пор не снималось. Кольцо успело прочно врасти в палец и даже цветом своим слилось с кожей рук — желто-серой от въевшихся в поры крупинок металла и машинного масла. — Данке шен, — сказал он, возвращая спички. Его рука со старомодным кольцом слегка дрожала. И Галка поняла, что он действительно немецкий солдат, не переодетый, а настоящий немец. Но она поверила ему, поверила его рукам. Такие руки не могли лгать. Галка, не глядя, положила спички в сумочку. Она уже знала, что немец вернул ей другую коробку: у той, которую она ему дала, была продавлена крышка, а эта, возвращенная им, была целой. Она уже прошла несколько шагов, как ее вдруг охватило почти непреодолимое желание оглянуться и еще раз посмотреть на немца — запомнить его лицо, лицо человека, посмевшего нарушить присягу фюреру, но пронесшего через ад фашизма, через черные годы поражений, террора и националистического дурмана верность другой присяге — священной присяге своему классу, своей партии — партии расстрелянных, замученных в застенках, заживо сожженных, но не покорившихся Гитлеру людей, — партии Тельмана. И все же Галка не оглянулась, она только крепче сжала в руке свою сумочку, в которой лежал с виду ничем не примечательный коробок спичек… За ее спиной, хрипло ворча, разворачивался грузовик. Ему с противоположного конца улицы откликнулся другой такой же ворчливый, но более мягкий и приглушенный звук: от Приморского бульвара навстречу Галке медленно катил камуфлированный лимузин. Девушка уже поравнялась с оградой своего дома, когда лимузин, тормозя, неприятно — так, что мурашки забегали по спине, — скрипнул шинами, и Галка узнала этот заляпанный большими желтыми кляксами маскировки «хорьх». Несколько минут назад, когда она стояла с немцем-шофером, этот самый «хорьх» проехал мимо них к Приморскому бульвару. Теперь он возвращался назад. Еще не делая выводов, только мельком заметив, что в машине сидят гестаповцы, Галка метнулась к калитке и толкнула ее. Калитка не поддалась. «Бабушка ушла. Она в это время за хлебом ходит», — подумала девушка и прислушалась к удалявшемуся ворчанию грузовика. «Скорее. Скорее. Ну, газани же и сразу — за поворот», — мысленно просила она, слыша, как, скрипнув шинами, тронулся с места и, набирая скорость, рванулся вслед за грузовиком пятнистый «хорьх». И почти тотчас же позади нее раздались шаги — неторопливые, уверенные. Галка просунула руку между железными прутьями калитки, нащупывая щеколду, хотя понимала, что это теперь не имеет смысла. Звук шагов приближался. Ближе, ближе, ближе! Вот уже совсем рядом. Человек остановился за ее спиной, а щеколда все не поддавалась. — Вам помочь? — насмешливо спросил знакомый голос.
Галка не ответила — ей наконец удалось отодвинуть щеколду. Она толкнула калитку и, не оглядываясь, шагнула в палисадник. — А вы не очень любезная хозяйка, — входя следом за нею, сказал Хюбе. Галка поняла, что это конец. Но все же она решила сделать последнюю попытку. — Ах, это вы, господин штурмбаннфюрер! — поворачиваясь к гестаповцу, сказала она. — А я приняла вас за уличного донжуана. — Не надо, — поморщился Хюбе. — У вас сейчас плохо получается. Как говорят режиссеры, вы вышли из образа. Это не упрек. Я понимаю, любому самообладанию есть предел. Но как бы то ни было, пора опускать занавес, Галина Алексеевна. — Я вас не понимаю… Галка еще крепче сжала сумочку и сделала шаг назад, мысленно прикидывая расстояние до забора в глубине сада. «Метров, сто, если не больше. Далеко. Половину этого расстояния придется бежать по открытому месту. Но за домом в саду будет уже легче. А там забор — можно перемахнуть». Но Хюбе опередил ее. Он зашел сбоку, отрезая Галке дорогу в сад и тесня ее к калитке. — Галина Алексеевна, — он говорил не повышая голоса, — не делайте глупостей. Я считаю вас умной женщиной и верю, что мы найдем общий язык. Мне не хотелось бы применять к вам физическое воздействие. Ни сейчас, ни в дальнейшем. Не упрямьтесь. Неожиданным рывком он выхватил у нее сумочку и негромко рассмеялся. — Ну, вот и все. Будем считать, что сумку и ее содержимое вы передали мне добровольно. Не отдавая себе отчета в том, что она делает, Галка бросилась на Хюбе. Гестаповец, продолжая смеяться, спрятал сумку за спину, словно хотел подразнить девушку, но одновременно перехватил ее правую руку. Галка вскрикнула от боли. — Я же просил вас, Галина Алексеевна, не делать этой глупости, — уже серьезно сказал Хюбе. — Успокойтесь и станьте, пожалуйста, здесь, у калитки, лицом ко мне. Вот так… Следя за каждым Галкиным движением, он открыл сумку, не ища, извлек из нее спичечный коробок. — Это была одна из ваших ошибок, — сказал он, подбрасывая коробок на ладони. — Вы же не курите, Галина Алексеевна, и спички в вашей сумочке сразу бросаются в глаза. Он, не открывая, положил коробок в карман и самодовольно улыбнулся. — Надеюсь, вам будет интересно узнать и о другой своей ошибке. — Хюбе выжидающе посмотрел на Галку, но так как девушка молчала, продолжал: — Записки, подобные той, что вы получили сегодня, следует сжигать, а не рвать на мелкие клочки. Ведь клочки можно собрать, если даже они разбросаны по всему коридору. Как видите, Галина Алексеевна, я не собираюсь хитрить. Лично я против вас ничего не имею. Я готов даже пойти на то, чтобы не арестовывать вас. Я понимаю, что связная знает немного. Но много я и не требую. Наша беседа происходит без свидетелей и может окончиться здесь, у этой калитки. Все останется между нами. Ваши друзья узнают — и я позабочусь о том, — что полиция безопасности перехватила эстафету у шофера. Да, да. Вы будете ни при чем. Подумайте об этом. Но Галка думала только о том, что в этом страшном провале виновата она одна, что она не оправдала доверия Гордеева, что из-за ее небрежности до командования Красной Армии не дойдут важные сведения, что гестаповцы, перехватив эти сведения, легко установят круг людей, добывших их, что из-за нее будет схвачен, и, верно, уже схвачен немецкий коммунист — немолодой ефрейтор с нашивкой за ранение и большими огрубевшими руками рабочего-металлиста. И еще она подумала, что лучше сейчас умереть — сделать так, чтобы гестаповец выстрелил в нее. Но тут же, вытесняя эту мысль, в висках забилась другая: «Надо любой ценой отобрать у Хюбе эстафету и уничтожить ее. Это спасет товарищей из порта — тех, кто занимался сбором сведений. Хотя бы их». Захваченная этой мыслью, Галка уже ни о чем другом не думала. Она понимала, что у нее почти нет шансов на успех, но это не остановило ее. Слегка наклонившись, она с неожиданной силой оттолкнулась от калитки и рванулась вперед, норовя ударить Хюбе головой в лицо. Рывок был так силен и стремителен, что, если бы удар достиг цели, гестаповцу пришлось бы плохо. Но Хюбе ловко отпрянул в сторону, успев подставить девушке ногу. С размаху Галка грохнулась на посыпанную крупным гравием дорожку и растянулась во весь рост. Оглушенная падением, она только потом почувствовала тупую, ноющую боль в коленке, а первые несколько секунд неподвижно лежала, уткнувшись в нагретый солнцем гравий. Но и потом, уже придя в себя, Галка не подняла головы. Она не хотела, чтобы Хюбе видел, как она плачет. Галка не всхлипывала, не вздрагивала телом, как это делают иные женщины, она плакала беззвучно, сжав зубы и закрыв глаза. Она плакала потому, что была бессильна что-либо предпринять, и еще потому, что в эту минуту ненавидела себя ничуть не меньше, чем стоящего рядом гестаповца. Галка почувствовала, что ее голова отрывается от земли и запрокидывается назад, но только когда увидела наклонившееся к ней чисто выбритое лицо Хюбе, она поняла, что тот приподнял ее за волосы. И хотя ей было больно, — она не встала. Тогда Хюбе, не отпуская ее, присел на корточки и сказал, стараясь не повышать голоса, но ежесекундно сбиваясь на шипящий фальцет: — Я не буду сдирать с тебя кожу, тебя даже не будут бить. Я только отправлю тебя в публичный дом, нет — в казарму штрафной роты. Я прикажу заснять тебя на срамные открытки и эти открытки распространить по городу. Но все это будет потом, а сперва мы сообщим в печати, что ты выдала группу подпольщиков. Вчера мы арестовали в порту несколько человек, оказавшихся партизанскими агентами. Их выдачу мы припишем тебе. Галка рванулась из последних сил, но Хюбе крепко держал ее за волосы. Она не сразу поняла, что произошло потом. Скрипнула калитка, Хюбе обернулся через плечо и, отпустив девушку, быстро выпрямился. Галка видела, как гестаповец рванул из кобуры пистолет и как тут же, нелепо взмахнув рукой, выронил оружие. Одновременно она услышала странный клокочущий хрип и заметила, что Хюбе валится навзничь. В ту же секунду Галка не раздумывая вскочила на ноги и кошкой метнулась к нему. Но только когда коробок с эстафетой снова очутился у нее, она посмотрела в лицо гестаповца. После всего, что произошло с ней, казалось бы, уже ничто не могло взволновать ее, и все же, взглянув на лежащего Хюбе, Галка вздрогнула: над самой кромкой воротника эсэсовского серо-зеленого мундира торчала рукоять ножа. Хюбе был мертв. Торопливый хруст гравия заставил ее оглянуться. Она увидела подбегавшего дель Сарто. Итальянец был без фуражки, в расстегнутой форменной тужурке. — Скорее в дом! Ко мне в комнату, — быстро проговорил он. Все еще не веря в свое спасение, намертво зажав в кулаке драгоценный коробок, Галка молча повиновалась; прихрамывая — болело расшибленное колено — сделала несколько шагов по направлению к дому. Дель Сарто догнал ее и, прежде чем она успела возразить, легко поднял на руки. — Не надо. Я сама дойду. — И собаки по вашему следу приведут полицию в мою комнату? — не опуская ее, сказал дель Сарто. — Нет уж, благодарю. Галка виновато улыбнулась. Только теперь она поняла, что спасена, что произошло чудо, о котором она даже не могла мечтать. Но то, что ее спасителем оказался дель Сарто, не удивило Галку. Девушка уже давно подозревала, что итальянский капитан первого ранга — вовсе не тот человек, за которого себя выдает. Теперь же она уверилась в этом. Она вспомнила ночной Соборный переулок, яростную схватку в греческой кофейне, силуэт беглеца, мелькнувший в проломе стены, и его преследователя, упавшего с ножом в горле… Дель Сарто с Галкой на руках почти бегом поднялся по лестнице, толкнул дверь, внес девушку в свою комнату и осторожно, словно она была серьезно ранена, опустил на широкий, покрытый большим ковром диван. Затем, ни слова не говоря, вытащил из кармана плоский браунинг и шагнул к открытому окну. Девушка удивленно посмотрела на него, но он знаком приказал ей молчать и, подняв пистолет, три раза подряд выстрелил в окно. — Сидите тихо, — бросил он Галке и выбежал из комнаты, захлопнув за собой дверь. Его шаги быстро простучали по лестнице, и через несколько секунд в палисаднике перед домом — там, где лежал убитый Хюбе — прогремели еще два выстрела. Затем стало так тихо, что Галка услышала, как внизу в столовой неторопливо перезванивают большие стенные часы. Этот, знакомый с детства мерный перезвон, помог ей окончательно прийти в себя, собрать разбежавшиеся мысли. Она наконец поняла замысел дель Сарто, но поняла и то, что смерть Хюбе не избавила ее от опасности — камуфлированный лимузин должен был вернуться с минуты на минуту. Однако не встревожилась: то ли все силы были уже исчерпаны, то ли она полностью положилась на дель Сарто. Осторожно обтерев носовым платком расшибленное колено, она поудобнее уселась на диване и принялась разглядывать комнату. Яркие ковры, глубокие кресла, причудливый письменный столик с инкрустированными гнутыми ножками, бархатные портьеры, дорогие безделушки подавляли своей роскошью. Все это было незнакомое, чужое, и только старый, обитый медью сундук по-прежнему стоял на своем месте в углу. Тяжелый и грубоватый, он, казалось, не замечал всего этого сонма кричаще-красивых вещей. Внизу под окном раздались голоса. Галка прислушалась. Говорили по-немецки, но она узнала голос дель Сарто. — …Я увидел штурмбаннфюрера и внучку моей хозяйки, — рассказывал кому-то дель Сарто. — Они стояли в палисаднике у калитки. Мне показалось, что госпожа Кулагина чем-то взволнована. Стоя у окна, я не мог слышать, о чем они говорили, но видел, как штурмбаннфюрер отобрал у нее сумку. — Она сопротивлялась? — По-моему, нет. Но как раз в это время во двор ворвались двое мужчин и бросились на вашего шефа. Сообразив, что это нападение, я кинулся к столу, где лежал мой пистолет, но, к сожалению, все решилось быстрее, чем можно было предполагать. Когда я снова подбежал к окну, штурмбаннфюрер был уже мертв. — Однако вы стреляли несколько раз. — Да. Но это было уже тогда, когда те двое и Кулагина пробегали мимо дома. Я выстрелил им вслед и, кажется, ранил одного из мужчин. — Следует ли понимать, что вы не хотели стрелять в женщину? — спросил высокий, срывающийся от возбуждения голос. — На этот вопрос я не отвечу. Он просто глуп, — отрезал дель Сарто. — Вы оскорбляете немецкую полицию! — взвизгнул голос. — Нет, только одного из ее представителей, — спокойно возразил дель Сарто. — Вы пожалеете об этом! — захлебывался голос — Возможно, в Италии принято так разговаривать с представителями власти, но здесь мы такого не потерпим. Вы еще узнаете, кто я! — Я знаю. У русских есть очень выразительное слово — хам. Оно как нельзя лучше подходит к вам, господин гауптштурмфюрер. А теперь убирайтесь к чертовой матери! — гаркнул дель Сарто. — Объяснение по поводу случившегося я дам начальнику гарнизона. — Мы вынуждены осмотреть дом и сад, — дипломатично вмешался кто-то третий. — Это наш долг, господин капитан первого ранга. — Осматривайте что хотите, но потрудитесь оставить меня в покое. Желаю успеха, господа полицейские!
* * *
Галка встретила дель Сарто благодарным взглядом. Он ободряюще подмигнул ей, тщательно запер за собой дверь и, подойдя к окну, задернул портьеру. В комнате стало темнее. Дель Сарто подошел к дивану и присел на край рядом с Галкой. — Они перевернут весь дом, — сказал он. — Однако сюда не сунутся. Со двора доносились отрывистые возгласы, хриплый лай собак, позвякивание цепей. Галка подумала о том, что было бы, если б дель Сарто не догадался сбить собак с ее следа. При этой мысли она зябко повела плечами и отодвинулась в глубь дивана. Сделав неловкое движение, она задела больное колено и негромко вскрикнула. — Что с вами? — спросил дель Сарто. — Я расшибла ногу. — Простите, я забыл об этом. Разрешите, я посмотрю? — Нет. Не стоит. Пустяк, — смутилась Галка. — Больная нога у человека, который спасается бегством, — не пустяк. Он открыл один из ящиков стола, достал какие-то пузырьки, вату, бинт. — Как всякий моряк, я кое-что смыслю в медицине. Он опустился перед Галкой на колени, довольно ловко вытер ее ушибленное колено спиртом, смазал йодом ссадины. — Не больно? — спросил он, осторожно сгибая и разгибая ее ногу. — Не очень. — Перелома нет. Можно даже не накладывать повязку. Но пару дней вам придется полежать. Холодные компрессы, усиленное питание и покой, — стараясь придать своему голосу безапелляционный тон, проговорил он. Галка улыбнулась. Чувство благодарности к этому необыкновенному в ее представлении человеку снова охватило ее. — Спасибо, Виктор. Я давно знала, что вы такой… хороший. — Она провела рукой по его волосам. Это почти бессознательное движение было вызвано все тем же чувством благодарности. Но дель Сарто по-своему понял его. Он наклонился к ней, и Галка уловила запах дорогих дамских духов и вдруг почувствовала, как его рука скользит по ее ноге. Галка отшатнулась, но он другой рукой обхватил ее, привлек к себе. — Не надо, — прошептала она, упираясь ладонями в его плечи. — Это нечестно… — При чем здесь честность? — он дышал ей прямо в лицо. — Я люблю вас. — Виктор, пустите. Сейчас не время говорить об этом, — трудом сдерживая его, просила Галка. — Именно сейчас самое время сказать все. — Он стал целовать ее в губы, шею, глаза. — Виктор, это нехорошо. Ведь я замужем. «В самом деле, — говорила она себе, — ведь я замужем. Пусть вначале это был фиктивный брак. Но сейчас я люблю Сергея, я полюбила его. Тогда почему же я не могу оттолкнуть этого человека? Почему его прикосновения, его поцелуи не вызывают во мне отвращения? Ведь мне должно быть гадко…» Дель Сарто становился все настойчивее. — Твой брак легко расторгнуть, — говорил он, чувствуя, как слабеет упор ее рук. — Ты была вынуждена… Я спасу тебя… И уедешь отсюда… Я возьму отпуск, и мы поженимся. Твое прошлое не имеет для меня значения… Мне наплевать на все это… Я отправлю тебя в Италию… В доме моего отца ты будешь в полной безопасности… Галка вздрогнула. Только сейчас до нее стал доходить смысл его слов. Только сейчас она сообразила, что последние сплетающиеся фразы он произнес по-итальянски. Она едва держала крик. — Пустите меня. Галка попыталась вырваться, но дель Сарто силой удержал ее. — В конце концов я имею на это право. Я заработал его сегодня, — с нескрываемым раздражением сказал он. И тогда она обеими руками толкнула его в грудь. — Негодяй! Отброшенный, он снова рванулся к ней, но, увидев ее сразу побледневшее лицо и ненавидящие, широко открытые глаза, остановился. — Галя, я не понимаю, в чем дело? Какая муха вас укусила? — без особого усилия овладев собой, уже по-русски спросил он. — Негодяй, — повторила Галка. Он недоуменно пожал плечами и отошел к столу. Ломая спички, он пытался раскурить красивую трубку. Галка раньше не видела у него этой трубки и вообще не замечала, что он курит. Трубка не загоралась. Он швырнул ее на стол и повернулся к Галке. — Простите, я потерял голову. Я люблю вас, и этим объясняется все. — Кто вы такой? — перебила его Галка. Она задала этот вопрос потому, что ей было страшно признать свое заблуждение, порожденное скорее необычным стечением обстоятельств, нежели игрой воображения, а возможно тем и другим. Дель Сарто непонимающе посмотрел на Галку, а затем усмехнулся. — На этот вопрос нелегко ответить. — Он снова взял со стола трубку, выбил пепел, наполнил ее табаком и закурил, пуская густые клубы дыма. — Я сам порой задумываюсь над этим. Кто я такой? Люди, считающие себя моими друзьями, ответили бы вам, что я честолюбец и немного авантюрист. Это верно, но только наполовину. Подобную характеристику в нашей армии можно услышать довольно часто, в особенности когда речь заходит о старшем командном составе. В той опасной игре, что зовется войной, люди, от которых зависит ход пусть даже незначительных событий, должны обладать всеми этими качествами. Солдатам можно предложить абстрактные лозунги и вполне конкретные пулеметы, направленные им в спины. Для офицера это не годится. Офицер должен видеть перед собой вполне определенную цель: будь то слава со всеми вытекающими из нее последствиями, или обещанное поместье на завоеванных землях или другое значительное, по его масштабам, вознаграждение, которое он надеется получить. Но меня эти сомнительные блага не интересуют. Я достаточно богат. Военная же слава слишком эфемерна. Я принял участие в игре ради самой игры. Вначале это была дань молодости, но и сейчас я не боюсь проигрыша, хотя бы потому, что не могу проиграть. Смерть не в счет — я фаталист. — Вы так уверены в вашей победе? — спросила Галка. Она уже пришла в себя, но все еще не решалась переосмыслить происшедшее. Слушая дель Сарто, она только пыталась понять этого человека. — Напротив. Я почти не сомневаюсь, что Гитлер и Муссолини сядут в лужу. — Вы говорите это в товремя, когда ваши армии подошли к Волге? — Галка не могла постичь ход его мыслей. Дель Сарто снова усмехнулся. Он сел в глубокое кресло, откинулся в нем, попыхивая трубкой. — Они могут даже перейти ее, но это по существу ничего не изменит. Вчера я смотрел по оперативной карте линию фронта. Она растянута на тысячи километров. Не намного меньше протяженность коммуникаций, соединяющих наши армии с основными тылами. Ближайшие тылы дезорганизованы небывалыми по масштабам и активности действиями партизан. Разрекламированное летнее наступление союзных войск локализировано на юге. Это уже не то, что было в прошлом году. Не тот размах, да и темпы не те. Стратегические резервы Германии и Италии истощены. При создавшейся ситуации мощный контрудар большевиков, — а я думаю, они способны его нанести, — поставит союзные армии в положение человека, поймавшего медведя. Человек уже согласен оставить медведя в покое, да тот не пускает. Я уж не говорю, что американцы по существу еще не вступили в войну, хотя юридически они воюют с нами десять месяцев. А ведь открытие второго фронта в Европе означало бы для Гитлера начало конца. Для Муссолини конец наступил бы сразу — наш полуостров слишком удобен для десантов. Галка впервые слышала такое от офицера вражеской армии. — Вы непоследовательны, — сказала она. — Убеждены, что Италия проиграет войну, и вместе с тем говорите, что вы лично ничего не потеряете. — Это звучит парадоксально, но это так. — Он встал и зашагал по комнате. — Капитан первого ранга дель Сарто в случае поражения Италии потеряет все; аристократ дель Сарто, рухни при той же ситуации королевская власть, лишится дворянских привилегий, но сын вице-председателя «Банка д’Италия», акционер и наследник акционера учредителя компании «Фиат», — Виктор дель Сарто в худшем случае останется при своих. Войны проигрывают правительства и армии, банкиры и промышленники не разделяют их судьбы. — Он отрывисто рассмеялся. Галка смотрела на него ненавидящим взглядом. То, что он говорил, было, пожалуй, страшнее, циничнее садистского откровения плюгавого гауптштурмфюрера, в кабинет которого она однажды попала и чей голос слышался сейчас за окном. — Я не пойму только одного, — вздохнула Галка. — Почему вы убили Хюбе? — Я?! — дель Сарто остановился и в упор посмотрел на Галку. На его лице можно было прочесть недоумение. — Если б я не был уверен в искренности вашего вопроса, я бы подумал, что вы шутите, — после паузы сказал он. И вдруг чему-то усмехнулся. — Почему вы считаете, что штурмбаннфюрера Хюбе убил я? Должен вас разочаровать. Я не убивал его. — Видя, что Галка молчит, он снова рассмеялся. — Ну подумайте, для чего мне было убивать его? Чтобы таким образом спасти вас? Но тогда мне пришлось бы убить и того хилого гауптштурмфюрера, что бродит сейчас вокруг дома, и полицейских, что приехали с ним, и всех других, кто отныне становился бы на вашем пути. — Но разве не вы пришли мне на помощь? — все еще не понимая, спросила Ортынская. — Разумеется. Я увидел из окна вас и Хюбе, увидел, как он вырвал у вас сумку и что произошло потом. Я понял, что вы угодили в неприятную историю, и поспешил к вам на выручку. Однако пока я сбегал по лестнице, кто-то успел всадить Хюбе нож. — Вот как… — растерянно проговорила Галка, припоминая теперь, что Хюбе, почувствовав опасность, повернулся лицом к калитке, а дель Сарто появился с противоположной стороны. — Вот как, — повторила она, окончательно путаясь в своих мыслях. — Но каким же образом вы хотели помочь мне? — Довольно примитивным — предложить Хюбе деньги. — Купить меня? — Нет — Хюбе. — А вы знаете, почему он задержал меня? — Догадываюсь. — Я опасная преступница, — Галка усмехнулась. — Хюбе не взял бы денег. — Он не взял бы только в том случае, если бы я предложил ему мало. — Сколько же вы хотели ему дать? — Это несущественно. — А все-таки, — настаивала Галка. — Двести тысяч. — О, вы высоко цените меня! — Это цена Хюбе. Если бы мне пришлось иметь дело с Рейнгардтом, я дал бы в два раза больше, только чтобы спасти вас. — Спасти или заполучить? — не унималась Галка. Дель Сарто пожал плечами. — Если хотите — и то, и другое. — Но вам повезло — я досталась вам задаром. — Об этом еще рано судить. Тихо зажужжал зуммер полевого телефона. Дель Сарто поднял трубку. — Да… Слушаю… Когда?.. Ну что ж, продолжайте наблюдение… Я надеюсь на вас… Пока он говорил по телефону, Галка пыталась привести в порядок свои мысли и трезво оценить создавшееся положение. Ее заблуждения, признания дель Сарто и даже загадочное убийство Хюбе следовало отодвинуть на задний план. Сейчас важно было одно — доставить эстафету по назначению. Но эта завершающая часть задачи, еще полчаса назад казавшаяся Галке простой, теперь, когда гестаповцы искали ее по всему городу, переросла в почти неразрешимую проблему. Девушка встала с дивана, слегка хромая, подошла к окну и осторожно заглянула за портьеру. В палисаднике у калитки прохаживался немецкий солдат с автоматом. — Отойдите. Вас могут увидеть, — строго сказал дель Сарто, положив телефонную трубку. Галка отошла от окна и присела на широкий подлокотник кресла. — Виктор, — сказала она, пытаясь заглушить растущую неприязнь к этому красивому итальянцу, — помогите мне выбраться отсюда. — Я думаю, как это сделать! — отозвался он, листая у стола толстую книгу. Галке был виден тисненный переплет, и она машинально прочла заглавие «Справочник корабельного состава Азово-Черноморского бассейна. Советские ВМС». — Может быть, за деньги… — неуверенно сказала Галка. Дель Сарто захлопнул книгу и весело улыбнулся. — Я вижу, вы начинаете верить во всесилие этого фетиша. Но сейчас это исключено, — серьезно добавил он. — По крайней мере до тех пор, пока смерть Хюбе перестанет быть злободневным событием. — А если выйти ночью? Дель Сарто отрицательно покачал головой. — Через час мне надо будет отлучиться по делам службы. Оставаться вам здесь одной нельзя. Я не уверен, что господа полицейские не сунутся в мою комнату, как только я выйду из нее. — Значит, ничего сделать нельзя? — Не надо отчаиваться. У меня есть одна идея, но вы должны дать слово, что выполните все мои указания. — Я согласна на все, — сказала Галка, у нее не было другого выхода. Дель Сарто снова снял телефонную трубку. — Семьдесят седьмой… Дежурный? Лейтенант Равера не вернулся? А синьорина Мартинелли в отряде?.. Когда она собирается ехать?.. Пригласите ее к телефону. Или вот что. Пускай она позвонит мне на квартиру из моего кабинета….. — Что вы задумали? — спросила Галка. — Сейчас узнаете. — Он не отходил от стола, ожидая звонка Мартинелли. А когда та позвонила, Галка услышала довольно странный разговор. Собственно, она слышала только то, что говорил дель Сарто. — Синьорина Мартинелли, я прошу вас о большом одолжении. Дело касается лично меня. Вы сможете задержаться на один день? Завтра на Ливорно уходит наш гидроплан. Пилот захватит вас… Благодарю… Сейчас должен подъехать Марио. Садитесь к нему в машину и приезжайте ко мне. У вас найдется лишний форменный костюм?.. Захватите его с собой… Да, пусть Марио тоже зайдет. Он положил трубку и повернулся к Галке. — Кажется, все будет в порядке. — Вы думаете, что я смогу выйти отсюда в платье Мартинелли? Дель Сарто утвердительно кивнул. — Военная форма меняет облик людей, в особенности женщин. Кроме того, вы одного роста и примерно одинакового сложения с Вильмой. Скоро наступят сумерки, что еще больше облегчит нашу задачу. — Но в дом войдет одна женщина, а выйдут… — И выйдет одна, — перебил ее дель Сарто. — Мартинелли останется здесь. — А если гестаповцы после вашего ухода вскроют комнату и застанут тут Вильму? Они ведь сразу поймут, что их обманули. — Это уже не будет иметь значения. К тому времени вы успеете сесть в машину, а выйдете из нее уже на территории моего отряда, куда ни один полицейский не сунется. — Это невозможно! — вырвалось у Галки. Дель Сарто пожал плечами. — Это единственный выход.Новенький мерседес мягко катил по асфальту Приморского бульвара. Машину вел Равера. Рядом с ним сидел дель Сарто, Галка сидела позади, откинувшись на пружинные подушки, полузакрыв глаза. Она чувствовала себя совершенно разбитой — нервное напряжение, достигнув предела, вдруг как-то сразу ослабило ее, наступило безразличие. Все произошло так, как рассчитал дель Сарто. Вильма беспрекословно отдала Галке свой форменный костюм. Итальянка ни о чем не спрашивала — телефонный разговор с дель Сарто, присутствие во дворе гестаповцев и бледность Галки объяснили ей многое. Даже когда мужчины — дель Сарто и Равера — вышли на лестницу, чтобы Галка смогла переодеться, и девушки остались одни, Вильма не проронила ни слова. Только уже прощаясь, спросила с укоризной: «Почему ты раньше не сказала мне об этом?» Но, видимо, тут же поняв наивность своего вопроса, невесело усмехнулась. Из дома Галка в парадном мундире и пилотке вышла в сопровождении дель Сарто и Марио. До самой калитки итальянцы старались по возможности заслонять ее от бесцеремонных взглядов гестаповцев. Машину слегка подбросило. В шоферском зеркале Галка увидела лицо Раверы. Молодой моряк украдкой наблюдал за ней. Галка подумала, что ее судьба, наверное, не безразлична этому огромному парню и что она, пожалуй, может рассчитывать на его помощь. Но о чем просить его в присутствии дель Сарто? А если бы даже не было дель Сарто? Чем Марио смог бы помочь ей? Отвезти ее в Корабельный поселок к домику над лиманом, где, вероятно, уже ждут эстафету из порта? А не привела бы она туда за собой гестаповцев, которые — кто знает! — может, уже сейчас следят за машиной? Нет, ей нельзя появляться на конспиративной квартире. Это должен сделать кто-то другой… Мысль, пришедшая затем в голову, поразила ее. И тотчас же исчезла гнетущая усталость. А когда машина миновала Театральную площадь, Галка уже знала, что делать. Подавшись вперед, Галка тронула дель Сарто за плечо. — Виктор, я должна заехать к мужу. Дель Сарто не ответил. — Марио, — по-итальянски обратилась она к Равере, — поверните сейчас налево. Соборный переулок, девять. — Нет, — возразил дель Сарто. — Мы едем прямо в отряд. Равера в нерешительности сбавил скорость, поглядывая то на Галку, то на своего командира. — Послушайте, Виктор, — наклоняясь к дель Сарто, тихо сказала она, — я имею право проститься с мужем. Дель Сарто повернул голову и внимательно посмотрел на нее. — Эта церемония будет неприятна вам обоим, — сказал он. — К тому же вы подвергаете себя лишнему риску. — Мне необходимо взять кое-что из вещей, — попыталась схитрить Галка. — Я пошлю за ними. — Я должна это сделать сама, — настаивала Галка. Разговор шел по-русски, но Марио, видимо, понял, о чем идет речь. Поравнявшись с Соборным переулком, он затормозил машину. — Езжайте в отряд, — приказал дель Сарто. — Марио, подождите! — крикнула Галка и, волнуясь, сжала плечо дель Сарто. — Виктор, я соглашусь на все, только исполните эту просьбу. Я не могу уехать, не повидав Сергея. Не ответив, дель Сарто резко щелкнул дверной ручкой, вышел из машины и, открыв заднюю дверцу, очутился рядом с Галкой. — Вы любите Кулагина? — отрывисто спросил он. Галка показала глазами на сидящего впереди Раверу. Дель Сарто небрежно махнул рукой. — Не обращайте внимания. Поймав в шоферском зеркальце хмурый взгляд Марио, Галка отрицательно покачала головой. — Я не могу так. — Что ж, попытаюсь говорить шепотом, — усмехнулся дель Сарто и, понизив голос, повторил свой вопрос. — Ну, предположим, что люблю… Это что-нибудь меняет? — поинтересовалась Галка. — Если вы действительно любите его, то откажитесь от этого свидания. Поверьте — оно будет тягостным. — Ну, это уж мое дело. — Подумайте еще. Если вы не жалеете себя, пощадите хотя бы его. У меня есть основания утверждать, что ему будет во много раз труднее, чем вам. — Я уже обо всем подумала. — Что ж, я предупредил.
Уже совсем стемнело. Небо снова затянуло тучами. Моросил мелкий дождь. Мерседес остановился у особняка Кулагина. Галка вышла первой, и тотчас же из темноты к ней метнулись какие-то люди в шуршащих плащах. — Берегитесь! — предупредил ее дель Сарто. Но прежде, чем он втащил ее обратно в машину, между Галкой и теми, кто бежал к ней, выросла огромная фигура Раверы. — Стой! Буду стрелять! — крикнул он, выбрасывая навстречу бегущим руку с пистолетом. Галка уж успела нырнуть в машину, когда вдруг услышала довольно мирный разговор. Говорили по-итальянски. Это удивило, но вместе с тем и успокоило ее. «Патрули полковника Стадерини, — решила она. — Ну, с этими-то можно договориться». Тем временем дель Сарто вышел из машины, поздоровался с каким-то коренастым человеком и отошел с ним в сторону. Лицо коренастого Галка не разглядела. Она придвинулась к дверце и осторожно опустила боковое стекло. Напрягая слух, пыталась разобрать, что говорил дель Сарто коренастому, но мешал стоящий неподалеку Марио, который переругивался с другими подошедшими к машине людьми. — И ты записался в жандармы? — с издевкой спрашивал Равера. — Дурак, — огрызнулся кто-то, — ты ничего не понимаешь. — По мне лучше быть дураком, чем служить в охранке. — Ты что — спятил? Когда я служил в охранке? — Например, сейчас. — Джузеппе, скажи ему ты. Что он ко мне привязался? — А что я ему скажу? — отозвался кто-то третий. — Он прав. Не наше это дело. Спор у машины затих, и тогда Галка расслышала, как стоящий в стороне дель Сарто вполголоса спросил своего собеседника: — Когда они приезжали? — Час назад. — Считайте меня своим должником. — О, пустяки, экселенц! Я обязан вам гораздо большим. Галке показалось, что она узнала голос Анастазио. Когда Галка снова вышла из машины, она не увидела людей в клеенчатых дождевиках, но доносящиеся из темноты шорохи говорили о том, что они находятся где-то поблизости. Однако дель Сарто был абсолютно спокоен. — Вас это не касается, — сказал он Галке, предупреждая ее вопрос. — Идемте. Тяжелые ставни на окнах не пропускали ни крупицы света, и потому особняк казался нежилым. В сгустившейся темноте едва угадывались его контуры. Дома ли Сергей? При мысли о том, что она может не застать его, Галка похолодела. Она пыталась открыть парадную дверь, но то ли от волнения, то ли с непривычки не могла попасть ключом в замочную скважину. — Разрешите мне. — Дель Сарто взял у нее ключ и легко открыл дверь. — Прошу. Он пропустил Галку вперед.
* * *
В гостиной никого не было. — Его здесь нет, — заглядывая в соседнюю небольшую комнату, сказал дель Сарто. — Вы проявляете столько усердия, будто не мне, а вам нужен Кулагин, — усмехнулась Галка. — Вы не ошиблись, он мне нужен. — А вы, Марио, тоже интересуетесь моим супругом? Гигант покраснел. За него ответил дель Сарто: — При встрече, которая нам предстоит, должно присутствовать хотя бы одно незаинтересованное лицо. — Вот как! — снова усмехнулась Галка. — Значит, я смогу говорить с мужем только при свидетелях? — Вы правильно поняли меня. — Что ж, тем хуже для вас! — зло крикнула Галка. В два прыжка она очутилась у лестницы и стремительно взбежала наверх. Пинком распахнув дверь комнаты, в которой жила последние дни, Галка столкнулась с Сергеем. Он словно ждал ее. — Галя, ты?! Что за маскарад? Почему на тебе этот мундир? — На, спрячь, — задыхающимся шепотом сказала она, передавая ему спичечный коробок с эстафетой, и, услышав на лестнице торопливые шаги, обняла Сергея. — Молчи и слушай! — в самое ухо зашептала она: — Корабельный поселок, Лиманная, шесть, Петр Отрощенко. Скажешь, что ты от Гордеева, и передашь то, что я дала тебе. Запомнил? В комнату вошли дель Сарто и Равера. — Что вам угодно? — довольно неприветливо встретил их Кулагин. — Мне угодно оградить вашу жену от серьезных неприятностей, — в тон ему ответил дель Сарто. — Что случилось? — Не будем играть в прятки, Сергей Павлович. Вы прекрасно знаете, что случилось. Час назад здесь были гестаповцы. Они разговаривали с вами. Не так ли? Кулагин поморщился, словно от зубной боли. Он не ответил дель Сарто, но сказал Галке: — Иди в спальню, переоденься. — Она не должна снимать форму, — возразил дель Сарто. — Пока опасность не устранена, эта маскировка не помешает. — Галя, выйди, — повторил Сергей. — Я хочу поговорить с синьором дель Сарто. — Нет, — снова возразил итальянец. — Ваша жена останется здесь. Говорите в ее присутствии. — Послушайте, — вскипел Кулагин, — не слишком ли много вы позволяете себе?! — Сережа, не надо спорить, — вмешалась Галка. Она передала эстафету и теперь хотела поскорее уйти отсюда — развязать Сергею руки. А еще — если говорить откровенно — она боялась, как бы Сергей не подумал о причинах, побудивших дель Сарто принять столь деятельное участие в ее судьбе. — Синьор дель Сарто обещал укрыть меня в надежном месте. Он, по сути, уже спас меня, — скороговоркой продолжала она. — Мне грозит арест. Но теперь все в порядке. Обо мне не беспокойся. Мы скоро увидимся. — Я сомневаюсь, что вы встретитесь еще раз, — остановил ее дель Сарто. — В ближайшее время это исключено совершенно. А впоследствии, думается, исчезнет необходимость такой встречи. — Любопытно узнать — почему? — недобро прищурился Кулагин. — Это долгий разговор. — У меня есть время его выслушать. Дель Сарто почему-то посмотрел на Галку и усмехнулся. — Что ж, тем лучше. Может быть, сядем? Галка присела на старый диван, стараясь не глядеть на Сергея. Она была уверена, что будут говорить о ней. Но разговор был о другом. — Я был сегодня на спектакле в клубе моряков, — достав из кармана трубку и неторопливо набивая ее табаком, начал дель Сарто. — И если бы не одно событие, которое заставило меня срочно покинуть зал незадолго до финала, наш разговор произошел бы раньше. Кстати, думаю, вам, Сергей Павлович, будет интересно узнать, что этим событием была гибель недавно спущенной на воду немецкой крейсерской субмарины «Фатерланд». Предполагают диверсию. — Поверьте, мне сейчас не до чужих бед, — сказал Кулагин. — А вам, Галя? Галка вздрогнула и ненавидяще посмотрела на дель Сарто. Ей казалось, что он издевается над нею, что весь этот разговор затеян с одной целью — унизить ее. — Я очень рада, что это произошло, — вызывающе ответила она, решив про себя, что ей уж нечего терять. — Но вместе с подлодкой погибло много людей. — Сколько? — Больше сорока человек. — Жаль, что так мало! — А вы жестоки. На лодке были не только немцы. Ее командир пригласил на ходовые испытания союзных офицеров. Только случай удержал меня сегодня на берегу. — А чем вы лучше тех, кто был на этой лодке? — вдруг разозлилась Галка. — Вы такой же… — Галя, прекрати! — перебил ее Кулагин. — Это я виноват, — снисходительно усмехнулся дель Сарто. — Я уклонился от темы нашего разговора. Оставим пока «Фатерланд». С чего я начал? Ах, да — со спектакля. Должен вам сказать, Сергей Павлович, я был удивлен, услышав вас сегодня в «Паяцах». Возможно, я слишком строг. «Паяцы» — моя любимая опера, но, мне кажется, то, что вы сделали с Канио — просто кощунство. Вы выхолостили из этого образа основное — жизнь. Я уже не говорю об игре, но ваш голос был мертв. — Надеюсь, вы пришли не за тем, чтобы сказать мне это? — Как знать? — улыбнулся дель Сарто, выпуская изо рта густое облако дыма. — Может и за этим. Сегодня, слушая вас, я вспомнил лучшего Канио, какого мне довелось видеть и слышать. Говорят, что лучшие теноры мира рождаются в Италии. Но тот Канио, о котором я говорю, был русским. И пел он не в знаменитой Миланской опере, а на клубной сцене. Было это за несколько лет до войны. В ту пору я подвизался в СССР на поприще помощника итальянского военно-морского атташе. — Дель Сарто выбил пепел в чугунную пепельницу и снова набил табаком трубку. — Однажды мне случилось быть на торжественном вечере, посвященном годовщине революции. После официальной части был дан концерт силами самодеятельности Балтийского флота. Слушатели высшего военно-морского училища давали «Паяцев» на итальянском языке. Признаться, я вначале отнесся довольно скептически к постановке оперы непрофессиональными артистами. Но когда подняли занавес, я забыл, что на сцене любители, я оставил без внимания плохой итальянский язык солистов, я вообще забыл, что передо мною сцена. И виной тому был артист, исполнявший роль Канио. Он был необычен во всем — в игре, в гриме, в костюме. Это не был знакомый мне Канио в пышном шутовском наряде, над которым не один час потели театральные костюмеры, — провинциальный клоун в нехитром, видавшем виды костюме; скупо и грубо наложены краски на усталом немолодом лице; обожженные солнцем морщины проступали сквозь его грим. Нищий странствующий паяц. У него ничего нет, кроме последней, уходящей любви… И я понял: таким, только таким видел Леонкавалло своего Канио. — Дель Сарто слишком глубоко затянулся и поперхнулся дымом. Но это не смутило его, откашлявшись, он продолжал: — У того артиста был великолепный голос, и он в совершенстве владел им. К тому же он обладал редким чувством образа и свой голос целиком подчинял этому чувству. Когда он плакал, у людей в зале наворачивались слезы, а там сидели далеко не сентиментальные люди. Я был потрясен. Я не верил, что Канио играл любитель. Тогда сопровождавший меня русский морской офицер предложил пройти за кулисы и познакомиться с курсантом высшего военно-морского училища Виноградовым, исполнявшим партию Канио. К сожалению, знакомство не состоялось. Когда мы подходили к артистическим уборным, кто-то крикнул: «Главстаршину Виноградова — в ложу комфлота». Я только мельком увидел плечистого моряка, который пробежал мимо, меня, стирая с лица остатки грима. Но я успел заметить на рукаве его форменки красную рубку с перископом — эмблему, понятную подводникам всего мира. Я еще подумал тогда, что больше не услышу этого безусловно талантливого певца. «Он рожден для большой сцены, — сказал я себе. — Но ему суждено служить иному искусству». Дель Сарто погасил трубку и спрятал ее в карман. — Вы хороший рассказчик, — сказал Кулагин, вставая места, — но поймите, что мне и моей жене сейчас не до истории из сценической жизни. Честно говоря, я плохо слушал вас. Скажите откровенно, вы хотите помочь Галине? — О Галине не беспокойтесь. Ей посчастливилось — она встретилась со мной. А вот вам, Сергей Павлович, не повезло, как ни странно, по той же причине. — Я вас не понимаю. — Тогда мне придется вернуться к историям из сценической жизни. Хотите курить? — он достал из кармана и положил на стол пачку сигарет. — Достаточно того, что накурили вы, — не особенно любезно отозвался Кулагин. Он подошел к массивной двери, ведущей в спальню, и открыл ее. — Пусть туда выходит дым. — О, мы скоро уйдем, — улыбнулся дель Сарто. Он тоже встал и большими шагами прошелся по комнате, словно мерил ее в длину. — Мне осталось сказать немногое. Речь пойдет все о том же певце. Я уже говорил, что не надеялся больше услышать его необыкновенно выразительный голос, голос, который трудно забыть и невозможно спутать с другим. Однако судьбе было угодно иное. Несколько дней назад я вновь услышал его. Он остановился около Кулагина и сказал негромко, явно рассчитывая на эффект: — Вы могли бы стать оперной знаменитостью. Но вы решили играть в спектакле, который ставит сама жизнь, и, надо сказать, начали неплохо. Однако два дня назад во время нашей прогулки к скалам Корабельного поселка вы допустили серьезный просчет, понадеявшись на то, что я не сумею отличить в воде певца от водолаза. К тому же вы слишком ловко бросаете ножи, капитан-лейтенант Виноградов. Галке показалось будто тысячи раскаленных игл впились в спину. Она ошалело посмотрела на Сергея. Она подумала, что произошла ошибка, что дель Сарто подвело его воображение, что сейчас все выяснится, и итальянцы поймут нелепость своих подозрений. Надо иметь очень богатую фантазию, чтобы предположить, что Сергей Кулагин и таинственный водолаз-подрывник, который вот уж много дней держит в страхе команды заходящих в порт судов, одно и то же лицо. — Сергей Павлович, — продолжал дель Сарто, делая какой-то знак стоящему у двери Равере, — поймите, у вас нет никаких шансов. Дом оцеплен, а мы с лейтенантом вооружены. Вы проиграли. Но это была честная игра, и я сделаю все, чтобы сохранить вам жизнь. Однако вы должны дать слово… — Игра… честь… слово… — усмехнулся Сергей. — Корчите из себя джентльмена. — Берегитесь, — нахмурился дель Сарто, — я не прощаю оскорблений. — Галя, выйди, — глухо сказал Сергей. Но Галка не двинулась с места. Сергей поднялся со стула. Дель Сарто отступил на шаг и вынул из кармана браунинг. — Галя, иди в спальню! — не повышая голоса, повторил Сергей. — Боюсь, что в вашей спальне ей уже нечего делать, — ядовито усмехнулся дель Сарто и, шагнув к Галке, бесцеремонно схватил ее за руку. — Идите вниз и ждите меня там. Галка вырвала руку, отпрянула в сторону. Он сердито посмотрел на нее, а когда снова повернулся к Сергею, увидел наведенный в свое лицо пистолет. — Бросьте оружие, — спокойно, будто речь шла о чем-то обычном, сказал Сергей и, покосившись на стоящего у двери Раверу, неожиданно по-итальянски добавил: — Вас, лейтенант, это тоже касается. Ставлю условие: вы даете возможность нам уйти отсюда. Пока он говорил, дель Сарто медленно пятился назад. Поравнявшись с Галкой, князь неожиданно схватил ее, рванул на себя. — Марио, не стреляйте! Я сам. Он мне нужен живой! — крикнул он адъютанту, вскидывая над Галкиным плечом браунинг и прицеливаясь в Сергея. Грубый толчок, боль в заломленной за спину руке и страх за Сергея вывели девушку из оцепенения. Неожиданно рванувшись, едва не потеряв сознание от нестерпимой боли в плече, она зубами впилась в руку дель Сарто. Тот вскрикнул и выронил пистолет. В то же мгновение Кулагин одним махом перескочил через стол и оторвал Галку от итальянца.
— Беги в спальню! — крикнул он Галке, пытаясь освободиться от вцепившегося в него дель Сарто. Галка была уже в дверях спальни, когда услышала стук падающего тела и сдавленный голос дель Сарто: — Марио, стреляйте в него! Стреляйте куда попало! Ну, что вы стоите, как осел! Грохнул выстрел. Чувствуя, как у нее подкашиваются ноги, Галка обернулась. И тут же на нее налетел Сергей, толкнул в темноту спальни. Позади прогремел еще один выстрел. Но прежде чем Сергей захлопнул массивную резную дверь, Галка заметила, что стрелял бледный от волнения Равера. Стрелял в сторону, так, чтобы не попасть… И еще она увидела, как в комнату вбегали люди в клеенчатых плащах… Щелкнул английский замок. Темнота ослепила Галку. Секундная растерянная тишина сменилась грохотом ударов: в дверь забарабанили прикладами, потом ударили чем-то тяжелым, массивным, вероятно, столом. Дверь затрещала, но не поддалась. Автоматная очередь пунктиром прожгла среднюю филенку. Через маленькие, величиной с копейку, отверстия в спальню хлынули тонкие струйки электрического света. — Сергей, где ты? — шепотом спросила Галка. — Иди сюда!.. — позвал он из глубины комнаты. Она пошла на голос, но натолкнулась на изразцовую печь. — Сюда! — Сергей в темноте отыскал ее руку. — Осторожно, здесь люк! — Капитан Виноградов, сдавайтесь! — через дверь крикнул дель Сарто. — Я не собираюсь из-за вашего упрямства терять людей. Сдавайтесь или мы подорвем дверь. С вами женщина — подумайте о ней. — Негодяй! — вырвалось у Галки. Сергей молча зажег карманный фонарь. В углу, там, где должна была стоять изразцовая печь, Галка увидела черный квадрат люка, а печь, непонятным образом отодвинутая в сторону, стояла почти впритык к широкой деревянной кровати. Галка вспомнила ночь, проведенную в этой комнате, пробуждение на рассвете, ломящую боль в висках и… видение движущейся по комнате печи… — Лестница отвесная. Восемьдесят семь ступенек. Скорее, — сказал Сергей, передавая ей фонарь.
* * *
Низкие своды катакомб. Приходится нагибаться, чтобы не удариться головой. Тяжелый, затхлый воздух. Шершавые стены то сдвигаются так, что между ними едва пролезешь боком, то расступаются, образуя просторные залы-пещеры. А вот развилка — три каменных коридора расходятся в разные стороны. — Налево. Скорее. Сергей все время торопит. Но погони как будто не слышно. А может, хруст осыпи под ногами заглушает отдаленные шорохи? — Скорее. Галка оглянулась на Сергея. Он к чему-то прислушивается. Потолок стал еще ниже. Ноет согнутая в три погибели спина — хоть ползи на четвереньках. Если б не расшибленное колено, Галка бы поползла. Как глубоко они под землей? Метров десять, а может и больше. Это, видимо, одно из ответвлений Старых каменоломен. Говорят, такие коридоры тянутся чуть ли не подо всем городом. Когда-то здесь добывали строительный камень. Главные выработки расположены в районе Корабельного поселка. Там скрываются партизаны. Может быть, Сергей ведет ее туда? Впрочем, это не существенно. Главное, что она спасена. Еще полчаса назад у нее не было никакой надежды. Но вот она идет путанными коридорами катакомб. Тех самых катакомб, которые за последний год укрыли в своем многокилометровом лабиринте не одну сотню людей. Она будет жить! Будет видеть небо, паруса на горизонте, белые свечи каштанов; слышать смех, музыку, гудки пароходов; дышать свежим, пахнущим морем воздухом… — Галя, подожди. Дай фонарь. Освещенное снизу лицо Сергея пугает рубленными линиями скул, оскалом рта, черными провалами глазниц, в которых едва угадывается мерцание зрачков. Но это только игра тени. На самом деле у него доброе лицо. Кто-кто, а она хорошо знает. Но, может, она знает только маску, удачную гримасу опытного актера, а настоящее его лицо вот это — суровое, пугающее? Она знает Сергея Кулагина. Но Кулагина уже нет, да и не было никогда. Была только роль в долгом трудном спектакле. Капитан-лейтенант Виноградов… Что в нем от персонажа, которого он играл? Быть может, ничего. Галке становится не по себе. Она нисколько б не удивилась, если бы Сергей вдруг заговорил незнакомым ей голосом. — Галя, отойди в сторону. Нет, голос у него тот же. Луч фонаря осветил выступающую из стены глыбу камня. Глыба нависает над узким проходом. В руке у Сергея небольшой ломик. Зацепив фонарь за пуговицу пиджака, Сергей просовывает лом под каменную глыбу, изо всех сил дергает его на себя и бросается за поворот коридора. Грохот обвала обгоняет его. Дрожат стены, пол, потолок. На голову сыплется каменная крошка, в рот набилась пыль. Осколок породы, отскочив рикошетом от стены, ударил Галку по ноге. — Ой! — Что случилось? — Ничего особенного, — бодрится Галка, едва сдерживая стон, — камень угодил в расшибленное колено. — Можешь идти? — Отдохнем немного, — украдкой ощупывая распухшее колено, просит Галка. — Тут уже немного осталось. — За нами идут? — Шли, потом отстали. Видимо, на развилке запутались. Но скоро опять пойдут. Поэтому я и обрушил породу. Тонн десять рухнуло. В узком проходе такой завал несколько часов разгребать надо. Ну, ты уже отдохнула? И снова поворот за поворотом. Потолок стал выше — уже можно идти не сгибаясь. — Стоп! Сергей опускает фонарь. Справа, внизу стены, — дыра, высотою не больше полуметра. — Придется ползти. — А там что? — показывает Галка на уходящий дальше коридор. — Там мы не пройдем. Вздохнув, Галка опускается на здоровое колено и просовывает голову в дыру. — Ногами вперед. Там сразу спуск, — предупреждает Сергей. — Это лучше. — Галка меняет положение. Но едва она втискивается в лаз, как начинает съезжать куда-то под уклон. — Тормози! — откуда-то сверху доносится голос Сергея. Царапая руки о неровные стенки лаза, она замедляет скольжение. Потом ноги упираются во что-то твердое, и вот она уже сидит на какой-то ровной площадке. Ничего не видно. Но по тому, как становится легче дышать, да еще по едва уловимому движению сразу посвежевшего воздуха, она догадывается, что попала в довольно просторную пещеру. Позади шуршит осыпь, и сверху, чуть ли не на голову Галке, съезжает Сергей. Он громко чихает, отплевывается, беззлобно чертыхается. — Я закупорил нору, — наконец говорит он. — Она уже нам не понадобится. В общем поздравляю с новосельем, Галина Алексеевна. Вам тут нравится? Галка молчит. Он зажигает фонарь. Слабый рассеянный луч едва достигает куполообразного свода пещеры. Там, на высоте трехэтажного дома, почти под самым потолком, зоркие Галкины глаза замечают прямоугольное отверстие в стене и небольшую площадку под ним. — Что это за чердак? — Сразу видно, что ты слаба в архитектуре, — негромко смеется Сергей. — Когда-то это был главный и, пожалуй, единственный вход. Еще недавно оттуда спускалась лестница. Луч фонаря скользит по стенам, испещренным какими-то полустершимися узорами, и вдруг падает на гладкую поверхность воды. Вначале Галка даже не верит глазам: у самых ее ног лежит небольшое, но глубокое — свет не достигает дна — озеро. — Что это? — почти испуганно спрашивает она. — Море. Этот водоем соединяется с гаванью своеобразным подводным тоннелем. Мы в Большом гроте. Ты, разумеется, не слышала о таком. О его существовании знают немногие. Конечно, в этом нет ничего особенного. Еще девчонкой, лазая по берегу в поисках крабов, Галка нередко встречала едва заметные, уходящие под скалы расщелины. И не раз вслед за мальчишками, набрав в легкие побольше воздуха, она под водой пробиралась в полутемные гулкие гроты. Но этот грот не такой, как те. Дело даже не в его размерах, ее почему-то пугает вода — спокойная, похожая на расплавленное в тигле стекло, слишком спокойная для моря. Поражает и цвет воды — темно-синий с каким-то красноватым оттенком. Никогда она не видела моря такого цвета. Будто к воде примешена кровь. Кровь… Фу, какая ерунда лезет в голову! Это просто мельчайшие крупинки бурого ракушечника… — Как мы выберемся отсюда? — У нас остался только один путь, — Сергей показывает на воду. Галка невольно вздрагивает, непонимающе смотрит на Сергея. Не шутит ли? — Ты знакома с кислородно-дыхательным прибором? Ах, вот оно что! Ну, конечно, как она раньше не догадалась! Ведь только таким образом он мог каждый раз проникать на акваторию порта… — Ты имеешь в виду легководолазное снаряжение? — уже деловито уточняет она. — Полного снаряжения у меня нет. Есть только респираторы. — Когда-то я занималась в эпроновском кружке. Там изучали водолазное дело. — И под воду спускались? — Разумеется. Сергей направляет на нее фонарь. Галка щурится, прикрывает глаза рукой. — Ах ты, Галка, Галка, — как-то нараспев говорит он. — Ну, есть ли на свете такое, что бы остановило или хотя бы испугало тебя? — Убери фонарь, — говорит она. Но на самом деле она не сердится — она смущена. Сергей слишком хорошо думает о ней. Если бы он знал, сколько раз за вчерашний день ее спину холодил страх. Чего стоило только одно столкновение с Хюбе! А история с дель Сарто? И если уж честно признаться, сейчас ей тоже не очень-то весело при мысли о том, что надо лезть в эту вот ужасно неприятную воду с кислородной маской на лице и, опустившись на самое дно, в кромешной темноте искать какой-то тоннель…У самого края площадки в стене за листом фанеры, выкрашенным под цвет ракушечника, — довольно вместительная ниша. В нише целый склад: какие-то узкие длинные ящики, резиновые мешки, большие, почти в рост человека баллоны с толстыми стенками, похожие на те, что стоят у лотков с газированной водой; завернутое в промасленные тряпки оружие — автоматы, диски к ним; есть даже аккумуляторная батарея с довольно яркой лампой, которая сейчас освещает все «хозяйство» Сергея. Но главное — кислородно-дыхательные приборы — сравнительно небольшие спаренные баллоны, от которых идут гофрированные трубки к резиновым, похожим на противогазные маскам. Сколько здесь этих приборов? Два… четыре… пять. Один, разумеется, Сергея. А остальные чьи? Но об этом лучше не спрашивать. Она хорошо помнит трех румынских офицеров в ночном Соборном переулке. Только одному из них удалось тогда вырваться из гестаповской ловушки. Зачем же напоминать ему о той ночи? Но неужели все это время он действовал один? Один в подземелье, один под водой, один против многочисленной портовой охраны?.. — Галя, подай мне тот респиратор. Сергей заряжает приборы кислородом из баллонов-резервуаров. Интересно, какой респиратор достанется ей? Впрочем, они все одинаковые. А это что? Пояс с кинжалом и аккумуляторным фонариком. Защитных костюмов, видимо, нет. Купание будет не из приятных. Галке заранее становится холодно. Она даже передергивает плечами. — Вот, возьми. Наденешь, когда пойдем, — Сергей бросает ей толстый свитер. Галка видела однажды этот свитер на Сергее. — А как же ты? — Я привык. Намажусь вазелином и хоть бы что. Он все еще возится с баллоном. У Галки слипаются глаза. Она садится на один из ящиков. — Сережа, который час? — Два сорок пять. Раньше шести спускаться нет смысла — темно. — Мы пойдем по дну? — Поплывем. Это гораздо быстрее. Ты когда-нибудь плавала в ластах? Он кончил зарядку приборов, подошел к Галке, сел рядом на ящик. — Я впервые увидела ласты на Вильме. — Я видел их раньше, но, признаться, относился к ним скептически. Может, потому, что их не было у нас. Однако они оказались чертовски удобными. Сергей шарит за ящиком и достает две пары ласт. Одну, размером поменьше, протягивает Галке. — Примерь. Они должны быть тебе впору. Это подарок Вильмы. — А те чьи? — Трофей. Память об одном неосторожном визитере. Надо ждать еще два часа. Хорошо бы уснуть. Под боком — сложенный вчетверо брезент, поверх которого разостлан чистый чехол, на плечи наброшена тужурка Мартинелли, под головой — мешок со взрывчаткой. Учитывая обстановку, постель можно назвать роскошной. Но сон не идет. — Сергей, погаси лампу. Щелкает выключатель. Какая непроглядная тьма! Будто все вокруг залили смолой — хоть ножом режь. Наверху, наверно, уже светает, а здесь — абсолютная темнота. Хорошо, что Сергей рядом. Почему он молчит? Ах, да — надо спать! Как он ровно дышит. Неужели заснул? Ничего не скажешь — нервы у него железные. А у нее они ни к черту не годятся. Галка тихо вздыхает, нащупывает картонку с галетами — здесь у Сергея их целый склад — и начинает грызть их. Это отвлекает, но ненадолго. Разные мысли лезут в голову. Ох, уж эти мысли! Они набрасываются на человека, когда он остается один, когда он устал, когда хочет забыться; они неотступны, как назойливая муха, от них не убежишь, не спрячешься никуда… Только бы передать эстафету. Ведь ее ждут. От нее зависит многое… Что будет с бабушкой… — Галя, ты что-то сказала? — Разве? Это я, верно, подумала вслух. Разбудила тебя? — Я не спал. Просто лежал и тоже думал. — О чем? — Обо всем понемногу. Несколько минут они лежат молча. — Который час? Вспыхивает и гаснет лампа. — Четыре тридцать. И снова молчание. — Сергей, ты запомнил адрес явки? — Корабельный поселок, Лиманная, шесть, Петро Отрощенко, сказать, что прислал Гордеев. А почему ты спрашиваешь? — Просто так. — Галя, о чем ты думаешь? — Обо всем понемногу. — Э-э, да ты, оказывается, злюка. Галка слышит, как Сергей встает, подходит к ней, садится на «ее» ящик. — Зажги свет, — слегка отодвигаясь от него, говорит она. — Я уже не усну. Сергей медлит. Галке кажется, что она слышит, как стучит его сердце. А может, это звенит тишина? У тишины есть свой голос — звенящий и тонкий, похожий на писк комара. Как тихо. Тихо и темно. Одной ей было бы страшно. Очень страшно. Если б не было рядом Сергея, она сошла бы с ума. С Сергеем не страшно. Он сильный, а главное — спокойный. Удивительно спокойный. Впрочем, это скорее выдержка, умение владеть собой. Какая она девчонка по сравнению с ним! Стыдно даже вспомнить, каким снисходительным, поучающим тоном разговаривала она с ним еще вчера, уже после того, как он вызвался помочь ей. Ему, наверно, было смешно, когда она корчила из себя этакую отчаянную подпольщицу. А подпольщица только и умела, что попадать в разные переплеты, из которых ее каждый раз надо было вытаскивать за уши. Ну, кто она для капитан-лейтенанта Виноградова, человека, о котором уже сейчас на побережье слагают легенды? Жена? Но это уже совсем смешно! Он обращается с ней, как с капризной, взбалмошной девчонкой. Впрочем, другого обращения она не заслуживает… Но что это? Рука Сергея ложится на ее плечо. У Галки как-то сразу все замирает внутри, кажется даже, что остановилось сердце. Она бессознательно отодвигается в сторону и едва не сваливается с узкого ящика. Сергей убирает руку. — Зажечь свет? — как-то очень уж громко спрашивает он. У Галки пересыхает в горле. Она пытается поймать сползающую с плеча тужурку, но руки плохо слушаются ее — тужурка падает на пол. — Как хочешь, — говорит она, и ей кажется, что эти слова произносит кто-то другой. Руки… Какие у него сильные руки. Но как осторожны они. Разве сильные могут быть так осторожны?.. Нет, это не порыв. Это спокойнее, проще, добрее. Как-то сразу становится легко, будто тело теряет свою тяжесть. — Ты моя жена? — А ты не нашел до сих пор лучшую? — тихо смеется Галка. — Лучше не бывают. — Еще встретишь. — Нет. — Так, вероятно, говорят все мужчины, — продолжает смеяться Галка. — Тебе уже говорили? Ей кажется, что в его голосе звучит настороженность. Это забавляет ее. — Предположим. — Кто? — А тебе не все равно? — она все еще улыбается. Но в темноте Сергей не видит ее улыбки. Он размыкает руки, встает. — Курить хочется. Вспыхивает спичка. Ее нервное пламя рождает причудливые тени. — Что у тебя было с дель Сарто? — не оборачиваясь, спрашивает Сергей. Догорев, спичка гаснет, и только тогда до Галкиного сознания доходит смысл вопроса. Горло сжимает спазм. — Тебя интересует только дель Сарто? — сама удивляясь спокойствию своего голоса, говорит она. — Почему заодно ты не спрашиваешь о Хюбе. Он катал меня по городу в своей машине, я была у него в кабинете. А моиотношения с полковником Стадерини не волнуют тебя? Полгода я работала у него переводчицей. Затем ты выпустил из виду моих знакомых из отряда МАС. Их было четверо, не считая Марио. Люди утверждали, что я танцевала перед ними нагишом… Она говорит быстро, едва переводя дыхание, как будто боится, что он помешает ей. — Галя, я… Ты меня неправильно поняла… — он делает к ней шаг. — Не подходи ко мне. — Галка отворачивается. Но отвернувшись, она украдкой косится на него — останется ли на месте или подойдет. Стоит. Нет, идет. Какой тяжелый у него шаг, даже позванивают пустые консервные банки в углу. Но это не шаги. Банки в углу уже не звенят — гремят! Что это?! Ниша содрогается от чудовищного толчка. Испуганно мигает лампа, валится набок толстостенный баллон-резервуар, звенит содержимое ящиков. Галке кажется, что рушится каменный свод грота. Инстинктивно ища защиты, она бросается к Сергею. — Что это? Что это? — Спокойно. — Он берег ее за плечи. — Они рвут завал. «Они» — это люди в клеенчатых плащах, которых она видела вчера вечером возле дома. Это те, которые прибежали на помощь к дель Сарто, которые ломились в спальню, стреляли через дверь, а потом спустились в катакомбы следом за беглецами. Два часа назад они отстали — им преградил дорогу завал. За эти два часа Галка ни разу не вспомнила о них — не то чтобы забыла, а просто не думала. Завал в подземном коридоре казался ей чертой, за которой она оставила все пережитое за последние часы, за последние дни, за последние месяцы. Но вот эта черта стерта. Люди в клеенчатых плащах пробивают себе дорогу в подземной галерее. Ей становится страшно. — Сережа, они придут сюда? — Надо полагать. Но нас они уже не застанут. — Голос его звучит успокаивающе, рука осторожно, едва касаясь, гладит Галкины волосы. Ну, конечно, сейчас она с Сергеем уйдет под воду. Достаточно надеть эти вот респираторы, и тогда — ищи-свищи. Дель Сарто останется в дураках. — Сережа, я тоже натрусь вазелином. Вода сейчас холодная. — Обязательно. Но это лучше сделать перед самым спуском. — А разве мы не пойдем сейчас? — Под водой еще темно — двигаться мы не сможем, а сидеть на дне — значит, по-пустому расходовать кислород, запас которого в респираторах, к сожалению, невелик. Подождем до шести. Еще целый час. За это время люди дель Сарто проберутся к гроту. Но Сергей спокоен, значит, все будет в порядке. — Галя, возьми автомат. Ты умеешь с ним обращаться? Это предохранитель, а здесь вот переключение на одиночные выстрелы; диск меняется так… Он показывает, как перезаряжать автомат. — Перед уходом, возможно, придется поупражняться в стрельбе, а то я стал уже забывать, как это делается. Сергей улыбается, но Галка уже понимает, что ему совсем не весело и что он не так спокоен, как ей казалось. Пять двадцать. Остается еще сорок минут. Как медленно тянутся эти последние минуты. Галка прислушивается. Ей чудится, что откуда-то сверху через толщу ракушечника доносятся голоса. Не раздумывая, она берет автомат и, прежде чем Сергей успевает задержать ее, выходит из ниши на площадку. Сергей быстро гасит свет и, натыкаясь в темноте на ящики, идет за Галкой. На площадке он чуть не сбивает ее с ног. — Тише, — Галка предостерегающе сжимает его руки. — Что ты услышала? — Разговаривают. — Где? — Справа. — Тебе показалось. Оттуда они не появятся. — Там лаз. — Я закупорил его так, что они не заметят. В грот они могут попасть только верхним ходом, через отверстие, которое ты приняла за чердак. Сейчас оно напротив нас по ту сторону воды. Звук должен идти оттуда. — Мне показалось… Они возвращаются в нишу. Но Сергей уже не зажигает лампу аккумулятора — он включает ручной фонарь, узкий луч которого упирается в невысокий штабель мешков со взрывчаткой. Перед тем как Галка выскочила на площадку, Сергей возился с этими мешками. — Зачем ты сложил их? — спрашивает Галка. — Так они сдетонируют все разом. — Ты хочешь взорвать грот? — Грот, я думаю, выдержит. — Сережа… — Что? — Нет… Ничего. Он подходит, садится рядом на ящик, берет Галку за руку. — Тебе холодно! У тебя ладони, как ледышки. — Они у меня всегда такие. Он подносит ее руки к губам, греет своим дыханием. Галке вовсе не холодно, но она зябко поводит плечами. — Да ты совсем замерзла, — тревожится Сергей. Он кутает ее в свой пиджак и на миг привлекает к себе. — Галя, прости меня. — Что я должна простить? — Тот дурацкий вопрос, который я задал час назад. Пойми, я спросил о дель Сарто только потому… — Не надо, — говорит Галка и кладет голову ему на плечо. Несколько минут они сидят молча. Неожиданно она вздрагивает — ей снова почудились отдаленные голоса. — Ты что, Галинка? — Ничего. Просто так. — Хочешь, я расскажу тебе о подземном ходе, которым мы пришли сюда? — Нам об этом рассказывали в школе. Бесплановая хищническая добыча строительного камня, в результате которой под городом образовался лабиринт подземных коридоров. В общем наследие проклятого прошлого. — Насчет прошлого верно. Но все остальное к этому ходу не имеет никакого отношения. — Сережа, который час? Ты прости, что я перебила. — Пожалуйста. Сейчас пять тридцать. Но ты послушай про этот ход. Очень занятная история. Дело в том, что он вырыт специально. Было это лет полтораста назад, а может и больше. В те времена здесь было неспокойно. Какой-то царский сановник, неуверенный в доброжелательстве местного населения, приказал выкопать подземный ход, который вел из его дома к берегу моря, где всегда стояли военные корабли. Этот сановник не отличался большим мужеством, зато ему нельзя было отказать в хитрости. Подземный ход имел ряд ложных ответвлений. Был использован и этот грот, на который строители натолкнулись случайно. Дело в том… — Сережа, я трусиха? — перебивает Галка. — Трусиха? Надеюсь, ты шутишь. — Нет. Мне страшно. Я больше не могу сидеть здесь. Мне все время кажется, что я слышу чьи-то голоса. Сергей молча встает и уходит в темноту. Проходит несколько томительных минут. Но вот он возвращается, старательно закрывает нишу маскировочной фанерой. — На этот раз ты не ошиблась. Они подошли к «чердачной дыре». Оттуда, правда, не так-то просто спуститься вниз, но нам, пожалуй, лучше уходить.
Вот и все. За спиной — спаренные баллоны с кислородом, в руке маска, вокруг бедер широкий пояс, к которому принайтован резиновый мешок с одеждой, на ногах — ласты. Последние наставления: — Я иду первым. Трави веревку до счета десять! Потом ныряй. Иди прямо на дно. Работай ногами. Только ногами. Ласты — отличная штука. Легко сказать: работай ногами. А если разбито колено, если нога едва сгибается и при малейшем прикосновении боль электрическим током пронизывает все тело? Впрочем, это не так уж существенно: ногами или руками, только бы поскорее вырваться из этого каменного мешка. Ничего не видно — хоть глаз выколи. Куда идти? — Прямо. Вот и край площадки. Еще шаг, и тело, потеряв опору, упадет в воду. Сверху бьет сноп яркого света… — А-а, черт! Сергей толкает Галку за какой-то выступ, прижимает к стене, щелкает затвором автомата. Луч уходит вправо, неторопливо обшаривая грот, и вдруг замирает, коснувшись воды. Галка совершенно отчетливо слышит несущиеся сверху возгласы. Гулкое эхо грота повторяет их. Там, наверху, говорят без опаски. Галка различает отдельные фразы. Говорят по-итальянски. — Джузеппе, что за лужа внизу? — Это аквариум, в котором живет золотая рыбка. — Мы полезем в эту помойную яму? — Эй, тащи веревку! — Что случилось? — Синьор каперанг, здесь озеро. — Проклятье! Это грот! Антонио, передайте в отряд: группу «Гамма» — в порт! Галка прислоняется щекой к шершавой стене. — Сережа, это конец. — Ну, это еще посмотрим, — сквозь зубы цедит Сергей. Грохот автоматной очереди оглушает Галку. Наверху раздается вопль. Гаснет прожектор, но тотчас же по гроту метеором проносится осветительная ракета. Она с отчаянным треском ударяется о стену над нишей и рассыпается огненным фонтаном. Сергей хватает Галку за руку. — Быстро в воду! Надень маску! Гаснут искры разорвавшейся ракеты, последними судорожными вспышками озаряя неподвижную, будто остекленевшую поверхность озера. Какой неприятный цвет воды в этом гроте: темно-синий, с красноватым оттенком. Словно чернила, в которые упала капля крови…
* * *
«Уважаемый Леонид Борисович! Простите, что не ответил Вам сразу. Честно говоря, у меня не хватало духу взяться за перо. Хотя со времени событий, о которых Вы просите рассказать, прошло четыре года, но горечь и боль пережитого не утеряли для меня своей остроты. И все же дело не только в том, что мне было страшно возвращаться к прошлому — еще недавно я мог бы рассказать Вам о последних днях Галины Ортынской немного больше того, что в свое время сообщил командиру партизанского отряда в Старых каменоломнях. Но вот неделю назад мне прислали из Италии копию подготовленной к печати рукописи, отдельные главы которой имеют самое непосредственное отношение к интересующим Вас событиям. Речь идет о «Военном дневнике» бывшего капитана первого ранга, а ныне одного из главных директоров компании «Фиат», князя Виктора дель Сарто. Я не думаю, что в рукописи, сданной в издательство в сорок шестом году, дель Сарто полностью воспроизводит записи, сделанные им в сорок втором, — наивно было бы полагать, что промышленник и депутат Учредительного собрания от христианско-демократической партии дель Сарто не пытался реабилитировать фашистского офицера дель Сарто. Однако его «Военный дневник» пока что единственный документ, освещающий целый ряд ранее не известных мне фактов. Я его сам перевел, как мог, и высылаю Вам вместе с этим письмом. О существовании этого дневника я узнал полгода назад, когда короткое время работал в союзной комиссии по Италии. Право, не знаю, с чего начать свой рассказ. Начну с того, что я любил Галю. Я понял это — как ни странно — уже после нашей «свадьбы», обстоятельства которой Вам хорошо известны. Много позже, когда я вернулся в действующий флот, один большой начальник сказал, что я, по его мнению, допустил опасное легкомыслие, связав свою жизнь с девушкой, за которой наблюдала вражеская контрразведка. Но вся беда была как раз в том, что я до последнего дня ничего не знал о второй — настоящей жизни Гали, о ее работе в подполье. Мне часто кажется, что, узнай я об этом раньше, все могло быть по-другому и я сумел бы уберечь ее… Не буду останавливаться на всех событиях, происшедших после «свадьбы». Одни из них имели значение лишь для меня (я имею ввиду мою встречу с дель Сарто, о которой он довольно подробно пишет в своем дневнике), другие касались моих с Галей отношений. Отмечу только, что «свадьба» едва не помешала одной из моих вылазок. Я тогда не придумал ничего лучшего, как напоить Галю до бесчувствия. Конечно, это было жестоко, но я не мог довериться ей. Не доверяла мне и Галя, хотя вскоре между нами установились довольно хорошие, если не сказать дружеские отношения. За несколько дней до того злополучного воскресенья, в которое нам предстоял выездной спектакль, Галя стала вести себя как-то ровнее, увереннее. Она не подозревала, что гестаповцы следят за ней, это выяснилось перед самым спектаклем. Галя оказалась в критическом положении и была вынуждена обратиться ко мне. О себе она не думала — ее волновало лишь то, что при создавшейся ситуации она не может выполнить задание, к которому так долго и тщательно готовилась. Я до сих пор толком не знаю, что произошло затем (буквально в последнюю минуту были изменены время и место встречи со связным портовой организации) и почему Галя отказалась от моей помощи. Возможно, она в тот момент еще не полностью доверяла мне, а возможно, думая, что обстановка несколько разрядилась, не захотела уступать мне (это похоже на нее) порученное ей задание. Как бы то ни было, она категорически запретила мне сопровождать ее в городе. Я понял, что спорить бесполезно, но в то же время не хотел отпускать ее одну. Пришлось схитрить: попрощавшись, я выждал, пока она отойдет на несколько десятков шагов, и пошел следом. Я видел, как она встретилась со связным портовой организации (им оказался шофер военного грузовика), и как почти тотчас же на Красноармейской улице (встреча произошла неподалеку от Галиного дома) появилась гестаповская машина. Укрывшись в подъезде на противоположной стороне улицы, я видел, как из машины вышел Хюбе, а оставшиеся в машине гестаповцы поехали вдогонку за грузовиком. Галя была уже у своего дома, когда к ней подошел Хюбе. Я не мог сразу вмешаться, так как в это время из соседнего подъезда вывалилась компания подвыпивших солдат. Галя и Хюбе скрылись во дворе Ортынских. Мне понадобилась вся моя выдержка, чтобы дождаться удобного момента. Наконец, солдаты свернули за угол. Я перебежал дорогу и заглянул во двор. Неподалеку от ограды на земле лежала Галя. Хюбе, шипя угрозы, пытался поднять ее за волосы. Я рванул калитку и, едва Хюбе оглянулся, метнул в него нож. Хюбе упал, но одновременно в глубине палисадника показался дель Сарто. Я выскочил на улицу — связываться с дель Сарто было неразумно: потасовка (я мог рассчитывать только на свои кулаки) привлекла бы внимание полиции, а это погубило бы Галю. Кроме того, я был уверен, что дель Сарто не выдаст ее гестаповцам. Уже тогда я кое-что знал о нем. Деятельностью капитана 1-го ранга дель Сарто на Восточном фронте интересовалось не столько военно-морское командование, сколько правление крупного итало-германского промышленного концерна, одним из директоров которого был дель Сарто-старший, а другим — рейхсмаршал Герман Геринг. После войны на заводах концерна, находящихся — обратите на то внимание — в нейтральных странах, было обнаружено ценное оборудование, вывезенное из Советского Союза еще в 1942 году. То был грабеж с дальним, так сказать, прицелом — при любом исходе Восточной компании оборудование оставалось за концерном… Вот какими делами занимался Виктор дель Сарто. Стоит ли после этого удивляться, что в истории с Галей он не побоялся обмануть местную полицию — ему приходилось надувать и более высокие инстанции. Вообще дель Сарто, образно говоря, плевал на события, которые разворачивались вокруг него в те дни. И если порой вмешивался в некоторые из них, то руководствовался только личными интересами. Взять хотя бы наше знакомство. Когда дель Сарто начал догадываться, кто я такой, он, чтобы проверить свои подозрения, затеял со мной этакую игру. Он, видите ли, хотел развлечься! Слишком самоуверенный, он не допускал даже мысли, что может остаться в дураках. Вот что он пишет в дневнике: «…После прогулки к скалам Корабельного поселка последние сомнения рассеялись — я имел дело с капитан-лейтенантом Виноградовым. Казалось, можно было бы кончать игру. Но на следующий день Кулагин–Виноградов должен был петь в «Паяцах», и я не мог отказать себе в удовольствии услышать его еще раз…» Трудно сказать, что преобладает в этих строчках: фанфаронство, самоуверенность или барское пренебрежение… Ну, да хватит об этом! В своем дневнике дель Сарто отводит немало места Галине Я готов поверить многому из того, что он пишет, но не верю в его любовь. Увлечение, страсть — возможно, но не любовь. За спиной любимой не прячутся от пистолета, как это сделал дель Сарто, когда пытался арестовать меня. Вы скажете — трусость. Но трус поступил бы иначе: он разрешил бы мне и Галине выйти или хотя бы сделал вид, что соглашается на это. Нет, дель Сарто не был трусом; заметив опасность, он еще ловчил: разыгрывая испуг, пятился назад, выбираясь из тесного прохода между столом и книжным шкафом, а затем неожиданно схватил Галю и заслонился ею. Он прибег к этому приему обдуманно и, я даже сказал бы, хладнокровно. Притом он, вероятно, руководствовался известным принципом — цель оправдывает средства. А цель у него была одна — задержать меня и Галю во что бы то ни стало. То была не трусость, а подлость. Но у таких людей, как дель Сарто, своя мораль. Разумеется, в дневнике он излагает этот эпизод иначе. Там Вы найдете описание потасовки в духе американских кинобоевиков, там Галя в критический момент кокетничает с Марио Раверой, чтобы привлечь его на нашу сторону, там есть все что угодно, кроме правды. И все же я не берусь судить этого человека, который — как бы то ни было — спас Галю от кошмара гестаповских застенков. Правда, очень скоро спаситель сам превратился в преследователя, но это произошло уже по моей вине… Я подошел к самой трудной части моего рассказа, а потому заранее прошу простить неровность изложения. После того как нам с Галей удалось спуститься в подземелье и добраться до Большого грота, я успокоился. Мне казалось, что самое страшное осталось позади. Галя отлично плавала, я умела обращаться с кислородно-дыхательным прибором, а под рукой у нас было несколько комплектов легководолазного снаряжения, в том числе две пары ластов, которые не только облегчали, но и намного ускоряли движение под водой. За время своих вылазок я хорошо изучил дно порта и заранее наметил маршрут: на глубине 8–10 метров, ориентируясь на известные мне вехи, мы из района 15-й пристани должны были взять направление на внешний рейд и уже в открытом море повернуть к Корабельному поселку, где смогли бы укрыться в прибрежных скалах до темноты. На этот путь надо было затратить 2,5–3 часа. Вместе с тем кислородные приборы, которыми мы располагали, были рассчитаны на два часа. Но это обстоятельство не смущало меня, так как значительную часть пути от внешнего рейда до траверса Корабельного поселка мы могли плыть на поверхности — достаточно было удалиться от берега на милю–полторы, и ни один наблюдатель не отличил бы наши головы, покрытые маскировочными сетками, от пучков плавающих водорослей. Таким образом, мы сэкономили бы кислород. Однако всплыть мы могли только в открытом море — в порту, набитом до отказа судами, надеяться на маскировочные сетки было нельзя. До грота мы добрались в два часа ночи и стали ждать утра. Говорили о многом — нам было что сказать друг другу. Галя, казалось, забыла недавние волнения — к ней вернулись ее обычная живость, самообладание. Но временами она вдруг останавливалась на полуслове, и тогда ее взгляд устремлялся куда-то в темноту. Галя несколько раз заставляла меня повторять адрес явки в Корабельном поселке; не брала она и спичечный коробок с эстафетой, который передала мне вечером. Однако я не придавал этому значения. Ведь мне казалось, что теперь, когда мы достигли грота, нет оснований для беспокойства. Я допускал, что устроенный мною завал может быть разобран нашими преследователями еще до рассвета. «Но на худой конец, — думал я, — мы с Галей уйдем под воду раньше, прихватив с собой лишние респираторы, которые бросим, как только станет светло и мы сможем двинуться по намеченному маршруту». Я не видел оснований для беспокойства. А они были. До сих пор не пойму, как я не заметил, что у Гали настолько расшиблено колено. Она не сказала мне об этом, сама перевязала рану, видимо, не желая огорчать меня, связывать мне руки, — ведь она отлично понимала, что значит для пловца больная нога… Было еще одно обстоятельство, которое не могло не тревожить Галю и которое я не принял во внимание по той простой причине, что не знал о нем. Я не знал, что в состав дельсартовского отряда входят так называемые боевые пловцы. Мы столкнулись с ними уже под водой — они караулили нас в сравнительно узком проходе портовых ворот, миновать которые мы не могли. Незадолго перед этим я заметил, что Галя отстает от меня, хотя плыл я не быстро. Обратил я внимание и на то, что она плывет в довольно неудобном под водой положении — на боку, работая только одной ногой. Когда же я попытался объяснить ей, что надо работать обеими ногами, ее глаза за очками дыхательной маски виновато улыбнулись. Она показала расшибленное колено, и я мысленно выругал себя: с такой ногой не только плыть на четырехмильную дистанцию — купаться в ванне было нельзя. Видимо, поняв мое состояние, Галя ласково погладила меня по руке и ободряюще подмигнула: мол, ничего дотяну как-нибудь. Но впереди нас ждали боевые пловцы… В дневнике дель Сарто Вы найдете следующее описание разыгравшейся тогда трагедии (цитирую дословно): «…Я вызвал в порт парней из группы «Гамма» (подразделение боевых пловцов) и вместе с ними спустился под воду. Остывшее за ночь море было холодным, но меня бросало в жар при одной мысли о том, какая страшная опасность нависла над Галиной: больная, без предохранительного костюма, едва знакомая с водолазной техникой, она была обречена. Я сделал все, чтобы спасти ее. Но — увы, случилось то, чего я боялся больше всего: холодная вода безжалостно скрутила в судороге обессиленное тело молодой женщины, и Галина, потеряв от боли рассудок, стащила с лица дыхательную маску…» Тут что ни слово — ложь. Наглая, беззастенчивая! Дель Сарто грубо извращает факты, пытаясь оправдаться перед читателями дневника. У Гали не было никакой судороги. Когда мы столкнулись с боевыми пловцами, Галя поняла, что ей с ее больной ногой не уйти от них, понимала и то, что я не оставлю ее. И тогда, сжав зубами резиновый загубник, она крикнула: «Сережа, эстафета — главное», — и сорвала с себя маску. Вот, собственно, и все, что я мог рассказать Вам о Гале. Мне удалось тогда прорваться в море и уйти от преследователей. Вечером того же дня я отыскал в Корабельном поселке Петра Отрощенко и передал ему эстафету. Отрощенко переправил меня к партизанам, которые помогли мне связаться со штабом флота. Через неделю за мной пришла подводная лодка…»ЭПИЛОГ
В последний день праздника погода испортилась. Небо до самого горизонта закрыли тяжелые хмурые тучи. Холодный пронизывающий ветер вздымал над городом и нес в море вихрящие столбы пыли. Вместе с пылью по улицам кружились шуршащие стайки красно-желтых листьев. На море ветер поднял высокую, но крутую волну с белой кипящей пеной на гребнях. К полудню ветер немного утих и на внешнем рейде начались финальные гонки осенней регаты. Набережная на всем протяжении от порта до городского пляжа была заполнена болельщиками. Отсюда были хорошо видны скользящие по воде белые табунки спортивных яхт. Болельщики громко переговаривались, спорили, заключали пари. Но я, признаться, был равнодушен к кипящим вокруг страстям — мои мысли были заняты другим. Я с удовольствием покинул бы шумную набережную, но мой новый знакомый — Леонид Борисович Гордеев, видимо, не собирался уходить. Мне было неловко настаивать, и я сел с ним рядом на узкую ребристую скамью за колышущейся стеной болельщиков. Леонид Борисович зажал в кулаке трубку, пытаясь раскурить ее на ветру. Когда это ему удалось, он жадно затянулся дымом и откинулся на спинку скамьи. Так он просидел довольно долго, не обращая на меня внимания. Его косматые седые брови затеняли глубоко посаженные, обрамленные сеткой старческих морщин глаза, и потому казалось, что он спит. Леонид Борисович молчал — минувшие два дня утомили его, и я в какой-то степени чувствовал себя виноватым в этом. Но я не испытывал раскаяния. Только что он передал мне толстую, тщательно завернутую в газету папку. Папка жгла мне руки — не терпелось поскорее ознакомиться с документами, повествующими о жизни Галки Ортынской. Тут были пространные анкеты, заполненные еще неустановившимся почерком, немногословные характеристики, заверенные подписями и печатями; архивные материалы гестапо, захваченные нашими войсками в городе весной 1944 года; выдержки из дневника дель Сарто; письма контр-адмирала Виноградова, воспоминания бывшего врача отряда МАС Вильмы Мартинелли — женщины, на долю которой выпала необычная и трудная судьба, приведшая ее в суровом для Италии 1943 году в знаменитый «Корпус добровольцев свободы» — армию итальянских партизан… Я с трудом уговорил Леонида Борисовича дать мне эту папку на один день и сейчас с тревогой думал, что не успею за такой короткий срок прочесть многочисленные документы. Время от времени я смотрел на часы и по-мальчишески ерзал на скамье. Однако Леонид Борисович не замечал моего нетерпения. Попыхивая трубкой, он, казалось, прислушивался к горячим спорам болельщиков. Но вдруг он обернулся ко мне и, вытащив изо рта трубку, сказал, словно продолжая только что прерванный разговор: — Дель Сарто в своем дневнике бросает упрек Сергею Виноградову, который следовало бы адресовать мне, а еще точнее — всему руководству подполья. Итальянский князь, видите ли, не только оправдывается, он пытается обвинять. Он возмущается, что мы оставили в тылу врага неопытную девушку, пренебрегавшую порой самыми элементарными правилами конспирации, взвалив на ее плечи задачи, над которыми задумался бы и профессиональный разведчик. Тем самым, — разглагольствовал дель Сарто, — они, то есть мы, руководители подполья, заранее обрекли Галину на гибель. Но знаете, что сказала по этому поводу приезжавшая сюда прошлым летом синьора Мартинелли? «Обречена была не Галина — фашисты, потому что на борьбу с ними у вас поднялись тысячи таких Галин…» Он обдал меня густым едким дымом табака и, погасив трубку, спрятал ее в карман. — Мартинелли поняла основное, — продолжал он. — Но должен добавить, что Галя была не такой уж неопытной подпольщицей, как ее пытается представить дель Сарто. Сделала он немало. Конечно, она ошибалась — ведь она не была профессиональной разведчицей, как не были профессиональными разведчиками десятки тысяч других молодых бойцов подполья. Мы не обучали их в специальных школах — в сорок первом нам некогда было это делать, а до войны мы учили наших девчат и хлопцев другому. Мы учили их любить свою Родину и ненавидеть ее врагов. Но разве это в конечном счете не главное? Он поднялся со скамьи и, засунув руки в карманы бушлата, вразвалку направился к галдевшей толпе болельщиков. Уже на ходу он бросил: — Пойдемте посмотрим, кто там посягает на главный приз регаты. Не без труда мы протиснулись к парапету набережной, и совсем близко я увидел несущиеся по морю легкие, стремительные яхты. Они шли уже не вместе — два швербота вырвались вперед. Болельщики с берега наперебой подзадоривали лидеров. Как я понял, гонщикам оставалось сделать поворот к берегу и, обогнув танцующий на войнах буй, пересечь условную линию финиша. Страсти на набережной достигли своего апогея, когда один из идущих впереди шверботов, на полкорпуса обогнав соперника, неожиданно резко накренился и, зарываясь носом в волну, стал круто поворачивать к берегу. Его парус почти касался воды, и мне казалось, что легкий швербот вот-вот опрокинется. Но, уравновешивая своим телом крен суденышка, через его борт свесилась гонщица — стройная девушка в промокшей насквозь куртке яхтсмена. Обмотав вокруг рук шкоты и упираясь сильными красивыми ногами в круто вздыбленный борт яхты, она висела почти над самой водой. Люди на набережной затаили дыхание. Сильный порыв ветра сбросил с девушки кепку, рванул ее за волосы, тяжелой волной ударил в спину. Но девушка, казалось, вросла в борт. Когда яхта, развернувшись под прямым углом, выпрямилась, на набережной вырвался вздох облегчения. И словно вознаграждая себя за несколько секунд затаенного молчания, болельщики разом закричали во всю мощь своих легких. Оглушенный этим ревом, я не сразу разобрал, что выкрикивал стоящий рядом со мной плечистый русоволосый парень в аккуратной форменке курсанта мореходного училища. Но потом я совершенно отчетливо услышал имя, заставившее меня вздрогнуть. — Давай, Галка! Полный вперед! — кричал молодой моряк, размахивая над головой бескозыркой. Я невольно оглянулся назад и посмотрел вверх — туда, где на склоне круто обрывающегося к морю холма белел домик недавно открытого музея. И мне показалось, что за одним из окон я вижу мраморную девушку с простертой к морю слабеющей рукой, хотя, конечно, с набережной я видеть ее не мог.Тамаев Л. Запасной вариант
ГЛАВА I Кленовый яр
1
Маясов не узнавал Ченска. Чем больше он ездил и ходил по его улицам, тем больше нравился ему город. Собственно, стало два Ченска. Новый, выросший за послевоенные годы, прижал старый город к реке, и тот выглядел теперь как-то по-деревенски. Когда Маясов высказал удивление этой переменой, шофер Тюменцев обернулся к нему, сдвинул на висок кубанку: — Ченск сейчас самый отменный город в области! Маясов и лейтенант Зубков, сидевшие в автомашине рядом, весело переглянулись: словечко «отменный» было у Тюменцева любимым. Маясов позволил себе усомниться: — Так уж и самый? Тюменцев нимало не смутился: — Конечно, Владимир Петрович, и на солнце есть пятна… Они ехали на завод, где Маясов должен был прочесть лекцию о подрывной работе иностранных разведок. Вид города и разговор с шофером на несколько минут отвлекли его. Но вот Ченск остался позади, и майором вновь овладели мысли, которые неотвязно преследовали его последнее время. Началось это почти два месяца назад. А если говорить точнее — двадцатого сентября. В тот день он явился к начальнику областного управления, который вызвал его телеграммой из Ялты, где Маясов отдыхал с женой. Генерал Винокуров предложил ему новое назначение: в Ченский отдел КГБ, начальником. Маясов был в недоумении: неужели нельзя было подождать, к чему такая спешка? Винокуров улыбнулся, молча достал из муаровой папки, лежавшей перед ним, несколько отпечатанных на машинке листов, протянул их Маясову, сидевшему за приставным полированным столиком. Это были присланные два дня назад из Москвы выписки из протокола допроса недавно арестованного на Урале агента американской разведки Лазаревича. Прежде чем прочитать выписки по порядку, Маясов невольно пробежал глазами строчки, кем-то жирно подчеркнутые синими чернилами. И ему сразу стало понятно главное: американцы забросили своего разведчика в Ченский район. Майор на мгновение поднял голову от бумаг. И тут же Винокуров сказал: — Вот так. Заброшен еще весной. К сожалению, Владимир Петрович, о нем вы больше ничего существенного в протоколах не найдете… Генерал взял со стола перочинный ножик, начал над пепельницей затачивать карандаш. Ждал, когда Маясов закончит чтение. — В Ченском районе, — сказал он потом, — есть несколько важных оборонных объектов. Особое значение представляет экспериментальный химический завод. К нему-то, видимо, и присматриваются американцы. Генерал поднялся из-за стола — плотный, широкоплечий, — подошел к висевшей на стене географической карте. — Завод в двадцати километрах от Ченска, вот здесь… В урочище Кленовый яр. — Кленовый яр? — удивленно переспросил Маясов и тоже подошел к карте. Карта была крупномасштабная, почти вся изумрудно-зеленая. Маясов присел у ее нижнего обреза, стал искать знакомые названия поселков и деревень… А вот и урочище Кленовый яр, на запад от которого болотистые Ченские леса тянулись за пределы области, до самой Белоруссии. — В этих местах я в войну партизанил, товарищ генерал… — Что ж, Владимир Петрович, знакомство с Ченским районом вам не помешает. — Заложив тяжелые руки за спину, Винокуров прошелся по кабинету. — Но мы учитывали не только это. Думаю, и ваш старый гражданский опыт инженера-химика тоже пригодится. — Что вы имеете в виду? — Уязвимость экспериментального завода в диверсионном отношении, — сказал Винокуров. И, помолчав, пояснил: — Арестованный Лазаревич, как вы могли заметить из протокольных выписок, готовился не только в качестве разведчика, но и как диверсант. В каком амплуа заслан американский агент вместо него, пока неизвестно. Поэтому вы должны быть готовы ко всяким сюрпризам… Вспомнив эти слова теперь, в несущейся по шоссе машине, Маясов подумал, что они во многом, пожалуй, и определили контрразведывательную тактику Ченского отдела: всеми мерами обезопасить химзавод в Кленовом яру от вражеских диверсий. «Но правильно ли это — преднамеренно ограничивать возможную сферу действий американского разведчика в столь обширном районе рамками одного завода? — спросил себя Маясов. — Ведь это же серьезный риск». И тут же мысленно ответил на свой вопрос: да, безусловно, риск есть, но он неизбежен, потому что бить надо кулаком, а не растопыренными пальцами… Подняв воротник пальто, майор закрыл глаза. «Риск риском, однако перегибать палку тоже нельзя: в создавшихся условиях предупредительную, профилактическую работу в районе надо продолжать на всех оборонных предприятиях…»2
С вечера над Ченском разгулялась вьюга. Ветер трепал голые ветки старых лип, завывал в проводах. По тротуарам, в колеблющемся свете фонарей, мела поземка. С темного неба сыпал и сыпал снег… Алексей долго стоял у окна, взгляд его был угрюм. Потом он задернул ситцевую занавеску, включил свет, посмотрел на часы. Докуривая сигарету, вышел в полутемный длинный коридор. Немного постоял там, прислушиваясь. В соседних квартирах было тихо — все уже легли спать. Алексей вернулся к себе. Часы показывали ровно двенадцать. Он подошел к этажерке, на которой стоял небольшой радиоприемник, толстыми короткими пальцами покрутил ручку настройки. Голос диктора, говорившего по-английски, был слышен негромко, но четко. Алексей запер на ключ дверь и, как только чеканный дикторский баритон сменился вальсом «Амурские волны», поспешно сел за стол, положил перед собой карандаш и бумагу. Тихо играла музыка. Но вот вместе с ней, как это бывает, когда перехлестываются радиоволны, в эфире появились другие звуки — приглушенный женский голос, называвший пятизначные числа: 63431, 42708, 92543, 43309, 27865, 73917… Алексей стал быстро записывать. Твердый графит рвал бумагу. Перемежаемые короткими паузами шифрогруппы следовали одна за другой. Минуты через три женский голос умолк. Алексей перевел дыхание, бросил карандаш на стол. Достав с этажерки толстый том «Политического словаря», иглой извлек из корешка шелковую ленту с нанесенными на ней мелкими знаками. Низко склонившись над столом, начал расшифровывать полученную радиограмму. Шифр был сложный. Абсолютной надежности. Для особых сообщений. Об этом предупреждала счетверенная пятерка индекса, принятая в заключение. Когда дешифровка была закончена, Алексей прочитал радиограмму, машинально подчеркивая каждое слово. Всего их оказалось сорок семь. Не так уж много… Однако вполне достаточно, чтобы заставить человека помрачнеть… У него вдруг заныли пальцы. Они всегда начинают ныть, как только занервничаешь. Алексей с ненавистью поглядел на лежавший перед ним текст шифровки и стал поглаживать, растирать пальцы на левой руке. Из пяти пальцев болели четыре — те, что побывали тогда под прессом… С этого все и началось. Его уволили с завода. На другую работу устроиться не мог: в Мюнхене, как и везде в Западной Германии, с избытком хватало парней со здоровыми руками. Он прожился до последней рубашки. Однажды осенью, под вечер, Алексей зашел в магазин погреться. Его мутило от голода. За стеклом витрины аппетитно лоснились колбасы. Он решил: чего бы это ни стоило, украсть круг «гамбургской» — наесться досыта. И он украл его… С того дня воровство стало его профессией. После одной из краж Алексея поймали. Глядя на светлое небо за окном, перехваченным тюремной решеткой, он подолгу думал о возвращении домой, в Союз. Эта мысль являлась ему и прежде. Но он все отгонял ее: западные газеты и радио утверждали, что возвращающихся ссылают в Сибирь или расстреливают… Потом снова скитальческая жизнь. В поисках работы он исколесил половину Германии, побывал в Италии, приехал во Францию. В Париже, наконец, ему удалось устроиться чернорабочим в гараж, к белоэмигранту Рогожину. Но зарабатывал мало, жизнь была полунищая, бесперспективная. Однажды в гараже появился некто в сером костюме. Когда подошло обеденное время, он пригласил Алексея в соседнее бистро. Угощение было подходящим, спиртного вволю. Они сидели за столиком в углу, разговор велся вполголоса. — Я не обманываю, Михайленко: если решитесь, вас ожидает интересная жизнь. Можете стать богатым человеком. Алексей думал, положив на кулаки отяжелевшую от вина голову. И наконец, сказал: — Один черт! Терять мне нечего… Ударили по рукам. Выпили еще. Через неделю этот вербовщик привез Алексея в Западный Берлин, где в небогатом полупустом отеле с рук на руки сдал долговязому молчаливому Хьюзу. Прошла еще неделя. В понедельник вечером Хьюз посадил Алексея в порядком потрепанный «шевроле» и примчал к какому-то большому серому дому, В просторной, неуютной квартире на втором этаже их уже ждали. Хьюз познакомил Алексея с маленьким, быстрым человеком, который отрекомендовался Лаутом. Налив в рюмки коньяку, Лаут угостил Алексея дорогой сигарой (сам он не курил), стал дотошно расспрашивать о его прошлой жизни. На прощание сказал: — Мы с вами еще встретимся… Вторая встреча состоялась на той же квартире примерно через месяц. Вместе с Лаутом была молодая желтоволосая женщина с ярким красивым ртом. И на этот раз Лаут расспрашивал Алексея о его биографии, потом заключил: — Вы нам подходите! — И протянул лист бумаги с текстом, отпечатанным на машинке. Это была подписка о сотрудничестве с американской разведкой, которую представлял в Западном Берлине Лаут.«…Обязуюсь свою работу выполнять добросовестно и честно, никому, даже своим близким, не разглашать того, что я делаю. Я предупрежден, что за невыполнение настоящего обязательства я предстану перед неофициальным судом по закону американского конгресса…»Когда Алексей расписался под этим текстом, Лаут сложил бумагу, убрал в боковой карман. — А теперь Хьюз отвезет вас на медицинский осмотр. — Но меня уже осматривали… — сказал Алексей. — Это вторичный осмотр. — Лаут строго посмотрел на него. — Так у нас принято. «Медицинский осмотр» оказался обыкновенной проверкой на полиграфе, который в обиходе принято называть детектором лжи. Хозяева хотели установить, не является ли Алексей советским разведчиком. А потом его отправили в разведшколу. Она находилась в пригороде западногерманского города Фюссена, неподалеку от озера Алатзее. В большом двухэтажном доме, стоявшем в лесистых горах, Алексею, который теперь значился под фамилией Романов, отвели отдельную комнату. Программа обучения была обширная: радиодело, тайнопись, шифрование, секретное фотографирование, прыжки с парашютом. Много практиковались в рекогносцировке «важных объектов». Слушателей вывозили к аэродромам, в районы расквартирования воинских частей, к военным заводам. После каждого такого урока Алексей подробно, в мельчайших деталях, докладывал старшему инструктору Карнеру о том, что видел, — так шлифовались наблюдательность и зрительная память. — Запомните, Романов: разведчик проваливается только раз! — поучал Карнер. — Вся его работа — это напряженная и опасная игра. Но если артист перевоплощается на короткий срок, то разведчик играет свою роль в течение длительного времени, иногда несколько лет. Поэтому, перевоплощаясь, не забывайте, какую вы носите маску на своем лице! Этот Карнер был тертый калач, прошел огонь и воду. Недаром он свысока относился ко всем другим инструкторам и был запанибрата с самим начальником школы — хмурым и нелюдимым человеком, которого все боялись. Зато инструктор по стрельбе — лысый толстоватый Ульм был всем доступен и прост. — Стрелять надо только в коробочку, — весело наставлял он своих питомцев, постукивая себя по лбу. — Если ты не научился попадать из любого положения в коробочку — ты еще не стрелок, а дерьмо… Ровно через девять месяцев в школе появился старый знакомый Алексея — молчаливый Хьюз. С ним вместе приехал пухлощекий верзила Ванджей, развязный и шумный. Он хлопнул Алексея по плечу: — Старина Лаут шлет тебе привет! На другое утро начальник школы пригласил Алексея к себе. Хмуро, будто на панихиде, поздравил с успешным окончанием учебы. Здесь же сидел Ванджей, ободряюще подмигивал. Весь этот день и потом еще два они сообща отрабатывали задание Алексея. Он получил теперь новую фамилию — Никольчук. Затем переэкипировка (заставили надеть все ношеное, советского производства, вплоть до носков), получение документов, оружия и денег. Провожая Алексея к машине, Ванджей сказал ему: — Лаут просил передать: будете хорошо работать — сколотите солидный капитал. А если забалуете — пеняйте на себя. С этим напутствием, которое звучало в его ушах по сей день, Никольчук, он же Михайленко, он же Романов, покинул Фюссен. Все тот же Хьюз доставил его на аэродром. Прямо из автомобиля они пересели в самолет. Через несколько минут самолет поднялся в воздух и взял курс на восток. Чтобы не так волноваться, Алексей беспрестанно курил, то и дело глядел на часы. Когда на светящемся циферблате обе стрелки сошлись на двенадцати, к нему подошел Хьюз: — Пора!.. Алексей, поправив лямки парашюта, шагнул к раскрытой дверце, в которую со свистом врывался ветер. Хьюз положил ему руку на плечо. — Счастливо! Не робей. Вздохнув полной грудью, Алексей нырнул вниз головой в черную пустоту… …Со стола, задетый локтем, вдруг упал карандаш. Никольчук вздрогнул, вскочил на ноги. Ударом башмака отбросил карандаш к плинтусу, зашагал по комнате. Когда надоело ходить, опять опустился на табурет у стола. Еще раз перечитал подписанную Лаутом радиограмму:
«Двадцать седьмого ноября быть в Москве».Не дочитав до конца, скомкал бумагу в кулаке. «Чрезвычайная явка —только этого не хватало!» Он выругался. Над чайным блюдцем, заменявшим пепельницу, сжег листки с расшифровкой, пепел растер пальцем. Потом, в ботинках и пиджаке, он долго лежал на кровати, глядел в опостылевший потолок. В голове было тяжело. Он хотел заснуть и не мог. Разбитый и злой поднялся с кровати, достал из стенного шкафчика начатую бутылку водки, налил полный стакан — залпом выпил. И снова зашагал по комнате — тягостной дорогой без конца.
3
Элен Файн остановилась в гостинице «Националь». Приехав с аэродрома, она приняла ванну, потом спустилась в ресторан, пообедала и теперь отдыхала у себя в номере, перелистывая свежие московские журналы. Ее чтение прервал деликатный стук в дверь. — Войдите, — сказала она по-немецки. На пороге появилась девушка в темном строгом костюме. — Госпожа Барбара Хольме? — Да, слушаю вас. — Элен поправила прическу, свои золотистые локоны. — Я из «Интуриста»… Извините за беспокойство. Вам нужен переводчик? — Спасибо. Я достаточно понимаю и говорю по-русски. — А какой вы предпочитаете транспорт? — О, мне, пожалуй, придется больше ходить, чем ездить, — сказала Файн. — Я работаю под руководством профессора Шермана, это известный немецкий искусствовед. Помогаю ему иллюстрировать книгу о церковном зодчестве… В вашей стране меня будут интересовать храмы и соборы Москвы и Загорска. И еще хотелось бы увидеть и заснять знаменитые деревянные церкви в Коломенском и Ченске — уникальные памятники старинной архитектуры. Девушка из «Интуриста», простившись, ушла. А Файн тут же оделась и отправилась в Кремль. Она была здесь не впервые, и ее не очень занимали прекрасные белые храмы с их горящими в красных лучах вечернего солнца золотыми куполами. Но Файн делала вид, что эта старина ее по-настоящему захватила: останавливалась подле каждого собора и добросовестно щелкала затвором фотоаппарата, висевшего у нее на груди. И все время, пока ходила по аккуратно расчищенным от снега кремлевским дорожкам, она настороженно всматривалась в окружающих, выискивая тех, кто, по ее мнению, мог вести за ней наблюдение и кого она должна была с первого же дня пребывания в Москве сбить с толку, дезориентировать и вообще всем своим поведением показать, что в Советском Союзе ее интересует лишь то, о чем она официально заявила по приезде, то есть памятники церковного зодчества. Но как ни изощрялась помощница полковника Лаута, никакого наблюдения за собой не обнаружила. Это ее успокоило и воодушевило: значит, свое настоящее дело она сможет делать без помех… Это «настоящее дело», ради которого Файн прилетела из Берлина в Москву, началось для нее в воскресенье утром. Гостиницу она покинула в одиннадцать часов. День был солнечный. Деревья вдоль кремлевской стены искрились инеем. Накануне вечером Файн наведалась в ГУМ, чтобы провести рекогносцировку. Там она обстоятельно ознакомилась с местом у фонтана, куда должен был сегодня, ровно в двенадцать, явиться вызванный из Ченска Алексей Никольчук. Она облюбовала уголок, где ей удобно будет стоять и где Никольчук сможет сразу заметить ее по обусловленной в радиограмме примете: белый пуховый платок, в кармане коричневого пальто сложенная прямоугольником газета. Никольчук должен пройти рядом, и она незаметно передаст ему билет в театр. Только и всего. Деловой разговор с агентом состоится вечером, в театральной ложе. Ложа на четыре места. Все четыре билета Файн купила еще вчера, и теперь они лежали у нее в сумочке… Время в магазине тянулось нестерпимо медленно. Было душно, шумно. Файн посмотрела на свои часики: без десяти двенадцать. И ей вдруг почему-то подумалось, что Никольчук не придет. Файн пыталась отогнать эту мысль, как вздорную, ничем не обоснованную, но ничего не могла поделать. Она почти физически ощущала как бы заторможенное движение времени. От духоты и долгого нервного напряжения закружилась голова. Часы показывали уже двадцать пять минут первого. Файн еще и еще раз обвела взглядом площадку у фонтана. Значит, дурное предчувствие сбылось, к сожалению. Достав из кармана пальто сигареты, она пошла к выходу, медленно ступая по желтоватым каменным плитам, отшлифованным до сухого блеска башмаками покупателей. Ее настроение, такое прекрасное с утра, было испорчено. И все-таки отчаиваться пока не стоило. Ведь на завтра предусмотрена вторая, запасная явка… Эта мысль несколько приободрила Файн. Перед тем как покинуть ГУМ, она наскоро перекусила в кафетерии. Остаток дня провела в московских меховых магазинах — ей хотелось приобрести хорошую шубу или палантин из черно-бурых лисиц. На такие вещи в Западном Берлине всегда спрос… Спать в эту ночь она легла с легким сердцем и упрочившейся надеждой, что завтрашний день принесет ей удачу. Но прогнозы ее не оправдались: Никольчук не вышел и на запасную явку. Файн напрасно бродила по кассовому залу Ярославского вокзала, где была намечена встреча с агентом. Устав от бесплодного ожидания и сутолоки, она прислонилась плечом к массивной колонне. Что же теперь? Ехать к Загорск, как было задумано, или спуститься в метро и вернуться в гостиницу?.. Нет, в Загорский монастырь она не поедет. С таким настроением у нее нет охоты играть интеллигентную дуру, влюбленную в отретушированные голубями церковные камни… Весь остаток этого дня и вечер Файн просидела у себя в номере. Курила сигарету за сигаретой, перебирала в памяти события последнего времени, готовясь к завершающему, самому трудному этапу своей московской миссии. Как никогда прежде, она боялась оступиться, сделать непоправимый шаг. И это не было только привычной профессиональной осторожностью. Кодовое дело «444», по которому использовался Никольчук, в западноберлинском филиале считалось очень важным. Оно было связано с «проблемой номер один», стоявшей перед всеми подразделениями американской разведки: охотой за секретной информацией о новом ракетном топливе русских. Это дело находилось на особом контроле самого директора ЦРУ, о чем неоднократно напоминал своим сотрудникам полковник Лаут. При всем этом практическое развитие дела «444» оставляло желать лучшего: ченский агент не проявлял пока ожидаемой от него активности. Причины некоторое время оставались неясными. Понять их в какой-то степени помог лишь недавний случай. Девятого сентября 1960 года потерпел провал заброшенный полтора месяца назад в Приуралье разведчик западноберлинского филиала Лазаревич. Судя по условному сигналу, который он успел передать, чекисты взяли его в момент очередного сеанса радиосвязи с центром. В тот же день, раздраженный случившимся, полковник Лаут вызвал Элен к себе. — Надо, пока не поздно, спасать Ченское дело! Она непонимающе посмотрела на шефа. Маленький, сухонький Лаут возбужденно ходил по кабинету из угла в угол. Перехватив взгляд Файн, он желчно заметил: — Что вы смотрите, будто с луны свалились? И она сразу вспомнила: вначале по делу «444» готовился Лазаревич, но потом он внезапно и надолго заболел. — Мог ли Лазаревич знать, кто был заброшен в Ченск вместо него? — спросил полковник. — Это исключено. — Все равно надо что-то срочно предпринимать, потому что о нашей заинтересованности Ченским районом Лазаревич выболтает русским на первом же допросе… В тот день разговор на этом и кончился: у Лаута еще не было готовой идеи, как поправить неожиданно осложнившееся дело. Решили на первых порах ограничиться дополнительной проверкой агента «444» — Никольчука. И тут вдруг вскрылся один неприятный факт. Оказывается, незадолго до отъезда на задание Никольчук был в баре в Фюссене. И там, подвыпив, настойчиво расспрашивал приятеля по разведшколе: правда ли, что в СССР введен новый закон о неподсудности тех, кто добровольно заявляет властям о своей связи с иностранной разведкой? — Над этим стоит задуматься, — сказал Лаут своей помощнице, когда она доложила ему о результатах проверки. — Что это было: пустая болтовня спьяну или зондирование с мыслью о предательстве? Прошло несколько дней, и полковник сообщил Файн свое окончательное решение: — Будем вводить в Ченское дело нового человека! — Он пристукнул костяшками согнутых пальцев по краю стола. — И учтите: нам нужен не агент-дилетант, а опытный, надежный разведчик… Задача, поставленная перед Файн, была не из легких. К ее решению, с благословения шефа, она подключила добрую треть сотрудников филиала. Работали, что называется, не покладая рук, не считаясь со временем. Но все пока было впустую. На еженедельные доклады к полковнику Файн являлась мрачная, злая, молча клала на стол справки из оперативных архивов. — Все это мусор! — недовольно кривил губы Лаут, пробегая глазами листок за листком. — Мне начинает надоедать ваша медлительность. Так в безрезультатных поисках шла неделя за неделей. Но всему, как известно, приходит конец. И вот однажды обрадованная Файн сама позвонила шефу: — Я, кажется, зацепила то, что нужно! Лаут тотчас потребовал ее к себе. — Кто же он? — спросил нетерпеливо, как только помощница появилась на пороге кабинета. — Фамилия — Букреев. Кличка — Барсук. Бывший агент абвера. — Подробнее… — Имеет немало грехов перед Советами. В минувшую войну активно использовался немцами в карательных операциях против русских партизан. За участие в одной из них, близ Ченска, был награжден железным крестом второго класса. — Вот как! — Лаут сразу оживился, протянул руку через стол: — Дайте досье. Открыв картонную крышку, он стал внимательно читать пожелтевшие от давности бумаги. Когда перевернул последний лист, надолго задумался. Потом поднял свою седую, гладко причесанную голову. — Что ж, с помощью этого Букреева, пожалуй, можно спутать карты чекистам… — Немного помолчав, добавил: — Будем пока считать этот вариант запасным. Над ним стоит серьезно подумать. — Простите, шеф, — сказала Файн. — А вы не смогли бы сразу определить в вашем новом плане место и роль Никольчука? — Никольчук нам пригодится при любом из вариантов. Но сначала нужно проверить, собирается ли он работать, как надо. Для этого, мне кажется, будет полезно выехать на место и окончательно во всем разобраться.4
Широко расставив локти, Алексей Никольчук сидел за столом, застланным тусклой клеенкой; макая в горчицу колбасу, прикидывал, что купить на завтрак. В столовой он только обедал. Так делали все одиноко живущие, подобно ему, сослуживцы. Он ничем не хотел выделяться, не нарушал первую заповедь нелегала, которую вдолбил ему инструктор Карнер: «Маскировка разведчика чем проще, тем надежнее. Не давай окружающим повода обращать на тебя внимание…» В коридоре вдруг послышались шаги, в дверь постучали. — Да, — сказал Алексей. В комнату вошла и нерешительно остановилась у порога женщина в коричневом пальто и белом пуховом платке, низко надвинутом на лоб. — Мне нужно товарища Никольчука, — проговорила она, пристально всматриваясь в Алексея: в комнате было по-вечернему сумрачно. — Я Никольчук… — Он встал, включил свет. Женщина прошла к столу, села на подвинутую ей табуретку. — Я к вам от брата, — вдруг сказала она совсем другим тоном, сухо. Голос показался Никольчуку знакомым. Смысл ее слов дошел до него не сразу. А между тем они составляли первую фразу пароля. — От какого брата? У меня их много… — с трудом, будто нехотя произнес он ответную фразу. — От Серафима. — А чем вы подтвердите? Никольчук, в упор смотревший на женщину в платке, наконец, узнал ее. Это она на берлинской квартире, где с ним разговаривал Лаут, сидела у окна. Узнал, и, несмотря на это, в его душе еще теплилась какая-то глупая надежда, что завязавшийся обусловленный разговор окажется случайным совпадением, а сама женщина — не имеющей никакого отношения к американской разведке. Но незваная гостья вынула из кармана пальто половинку деревянного мундштука и, пристукнув ею, как фишкой домино, положила на стол. Очередь была за Алексеем: вторая половинка перепиленного мундштука лежала у него где-то в чемодане. Но он не стал доставать эту другую частицу вещественного пароля: и так было ясно, что длинные руки Лаута все-таки дотянулись до него. — Я вас слушаю… — Это я вас буду слушать! — строго сказала Элен Файн, сбрасывая с головы пуховый платок, поправляя прическу. — Заприте дверь, занавесьте окно! Никольчук торопливо исполнил ее приказание. Она кивнула на тарелку с остатками еды: — Я вам помешала? — Ужинать? Нет… — Ну, а вообще? — Файн в упор посмотрела на него, нехорошо усмехнулась. Этот ее дерзкий, вызывающий вопрос, в главное — нахальный взгляд вернули Алексею самообладание. — А вообще да! — твердо сказал он и впервые смело глянул ей в лицо. — Значит, помешала? — Значит, помешали… — в тон ей ответил Никольчук и улыбнулся от пришедшей вдруг на ум дикой мысли: взять вот сейчас эту рыжеволосую красотку под локоток, да и доставить прямехонько в КГБ — займитесь, мол, заграничной путешественницей… — Чему вы улыбаетесь? — А что мне не улыбаться? — с вызовом сказал Алексей. — Я у себя дома. — Дома ли?! — Она усмехнулась и опять пристально посмотрела в его глубоко посаженные глаза, словно желая понять, совершил ли он уже то, что задумал, или нет. Если совершил — значит будет вести себя смело, не робея. Никольчук не выдержал ее взгляда, что-то дрогнуло у него в лице. Он поспешно протянул руку за сигаретами, лежавшими на другом конце стола. Файн облегченно вздохнула («Уверенности в нем не заметно — это хорошо».) и тоже закурила из его пачки. Несколько минут они говорили о разных пустяках, о погоде. Файн хотела заставить Никольчука расслабиться, избавиться от настороженности. Внимательно наблюдая за ним, она постепенно пришла к убеждению, что Никольчук еще не успел переметнуться, но как, видимо, задумал, живет под страхом возмездия. И как только она уверовала в это, сразу же, не давая ему опомниться, перешла в наступление: — Шеф считает, что период вашей акклиматизации в Ченском районе слишком затянулся. — Шеф и все вы там плохо представляете здешнюю обстановку, — сказал Алексей. — Очень трудно работать… — А я считаю, вы просто струсили, товарищ Никольчук, — оборвала его Файн, делая ироническое ударение на слове «товарищ».5
— Я смекаю так, — неторопливо говорил старик Смолин, шагая рядом с Маясовым. — Уж больно не подходяще выбрано место для перевалочной базы. Какая-то несуразность получается: мы привозим с завода на автомашинах спецгруз, складываем его на этой Шепелевской базе, и он лежит там, можно указать, на виду, пока по железной дороге не пригонят порожняк. А груз этот, кроме всего прочего, огнеопасный. — Но разве нельзя сделать, чтобы порожняк подавали точно к прибытию автомашин? — спросил Маясов. — Пытались, Владимир Петрович, да не получается. Ведь тут как две державы: мы по себе, а железнодорожники — по себе… Не впервые идет по огромному двору экспериментального химзавода майор Маясов. Его высокую фигуру в черном осеннем пальто, тонкое, строгое лицо узнают многие рабочие. Здороваются. А со Смолиным Маясов встретился еще тогда, когда приезжал сюда читать лекцию. Встретился и долго тряс его руку, обрадованно глядя в знакомые, теперь уже стариковские, глаза. — Партизанили вместе, — сказал Маясов в ответ на удивленный взгляд стоявшего рядом лейтенанта Зубкова. Смолин, по-волжски окая, уточнил: — В Ченских лесах в одном отряде горе мыкали… Они помолчали немного, справляясь с волнением. — Из своих партизан кого-нибудь встречали после войны? — спросил Маясов. — Почти никого… Да и где встретишь, если большинство ребят было из Смоленской области: отряд-то зародился там. Ведь в здешние леса его каратели потеснили. — А сами вы, Федор Гаврилович, давно здесь?.. Помню, вы говорили, что до войны жили в нашем областном центре. — Я и после войны там жил. Да и теперь туда к родне нередко наведываюсь… А в Кленовый яр приехал два года назад, после смерти своей старухи. Тут, на заводе, у меня дочка в инженерах. Потом они стали вспоминать свое партизанское житье-бытье. — Где я ни воевал, до самого Берлина дошел, — взволнованно сказал Смолин, — а такого, что пришлось нам, Владимир. Петрович, хлебнуть тогда здесь, в этом самом урочище Кленовый яр, не доводилось переживать. — Да-а, — тяжело вздохнул Маясов. — Предательство Букреева дорого обошлось отряду. — Ох как дорого! Расставаясь сегодня со Смолиным в заводском поселке, майор сказал старику: — Насчет перевалочной базы вы, пожалуй, правы. Что-то надо придумать. Когда Смолин скрылся в подъезде своего дома, Маясов, захлопнув дверцу автомашины, предложил Зубкову: — Давайте-ка сейчас, не откладывая, проедем в это самое Шепелево.На Шепелевской перевалочной базе они пробыли около часа. Излазили ее и вдоль и поперек. Потом вместе с охранником забрались на обледеневшую по краям деревянную платформу. Сквозняк там гулял вовсю, со свистом обвевая столбы, подпиравшие крышу. Неподалеку от платформы тянулось расчищенное от снега шоссе с его бесконечным потоком автомашин: дорога начиналась на границе страны и, пересекая область с запада на восток, вела к Москве. По тропе, проложенной между сугробов, поблизости от торцевой стороны платформы, не переставая, сновали пешеходы — и местные жители и приезжие, из тех, кому требовалось забежать в стоявшую на краю поселка закусочную. — Ну как? — спросил Маясов Зубкова. — По-моему, товарищ майор, слесарь Смолин прав: место для перевалочной базы надо искать другое. — А мне кажется, никакой базы вовсе не нужно, — сказал Маясов. — Почему? — не понял лейтенант. — Очень просто… От Кленового яра до Шепелева всего пять километров? — Пять. — Так вот, если проложить здесь железнодорожную ветку, то спецгрузы с завода будут следовать без перевала до места назначения. — Немного помолчав, Маясов решительно заключил: — Завтра же поеду к Андронову. Думаю, он нас поддержит.
6
В тот день, с утра, директор завода делал обход подсобных объектов. В пыжиковой шапке и добротном пальто, крупный, ладный, румяный от мороза, он по-хозяйски шагал между смолистыми, наполовину обтесанными бревнами, внимательно оглядывал заиндевевшую кирпичную кладку строящейся водокачки. Андронов был в прекрасном настроении — много шутил и почти не ругал сопровождавших его инженеров и снабженцев. Указания он давал на ходу, и те, кому они адресовались, быстро делали пометки себе в блокноты, зная, что Сергей Иванович не забывчив. От водокачки директор и его свита направились к электростанции. Припорошенная свежим снежком асфальтовая дорога вела через заводской поселок. На сей раз ему было суждено стать местом, испортившим сразу и до конца дня хорошее настроение Андронова. На площади в центре поселка, между магазином и клубом, в это время по обыкновению собирались в ожидании автобуса рабочие экспериментального завода, жившие в Ченске. Человек двенадцать, в большинстве молодежь, сгрудились у подъезда клуба. На его широких дверях, обляпанных известью, висел потемневший от давности фанерный лист с корявыми буквами: «Клуб закрыт на ремонт». А поверх этой надписи ярко белела прихваченная кнопками бумага. Она-то и притянула сюда рабочих. Посмеиваясь, они слушали, как белобровый паренек громко и нараспев читал стихи, написанные от руки под рисунком, сделанным тушью. Стихи были злые, высмеивающие директора завода за то, что он снял бригаду плотников с ремонта клуба и перебросил ее на ремонт домов ИТР, в том числе и своего коттеджа. Стоявшие позади паренька, покуривая, комментировали: — Андронов теперь от злости лопнет… — Разделали по всем правилам… — А карикатурка сильна: не хуже Кукрыниксов! Кто это его так? — Наверно, Савелов постарался, — спокойно сказал Андронов. Он только что подошел со своими спутниками и прочитал стихи. Они задели его за живое. Но Сергей Иванович и виду не подал, как больно и неприятно ему — он умел держать себя на людях. Его взгляд выражал лишь добродушную снисходительность, когда он повернулся в сторону Игоря Савелова — смуглолицего парня с насмешливыми глазами, стоявшего неподалеку в группе заводских ребят. — Ты же завклубом, — говорил Савелов рыжему толстяку, — действовать надо, бороться! — А я что, не борюсь? — оправдывался тот. — «Борюсь»! — передразнил Игорь, нахлобучив рыжему на глаза клетчатую кепку. — Хотя ты действительно весь день на посту: до обеда борешься с голодом, а после обеда со сном. Парни захохотали. — Не рано ли смеешься, Кукрыникса! — обиженно сказал завклубом Савелову. — Смотри, быть тебе с клизмой. — А что, не правда, что ли? — кивнул Савелов на карикатуру. — Правда-то правда. Только ведь она иной раз боком выходит… — Ладно, ладно, пророк! — вступился рослый парень в полушубке. — Ты вот небось супротив директора и сморкнуться не посмеешь. — Ага, — улыбнулся тот. — Я ж, Митя, рожденный ползать. Только если говорить серьезно, зря Савелов краски расходовал. Ему бы одним дегтем мазать. — Это почему же? — спросил Савелов. — Яду в тебе много. Вот и норовишь все, что ни видишь, выпачкать. Я тебе, Игорь, так скажу: за таких, как Андронов, держаться надо. Он потому из монтеров в директора выбился, что мозги у него не чета нашим… Кончив рассматривать карикатуру, Андронов снял кожаную перчатку, подчеркнуто не спеша закурил и своим степенным шагом двинулся в сторону электростанции. Свита молча потянулась за ним. Начавшийся утром обход продолжался своим чередом. Как и до этого, директор везде вникал в каждую мелочь, давал короткие, быстрые указания. Не было только шуток и прежней игривости в поведении Сергея Ивановича. Закончив обход, Андронов у крыльца конторы отпустил сопровождавших его людей. Прошел к себе в кабинет и, не раздеваясь, сел за стол. Вид у него был хмурый. В эту минуту, явно некстати, и явился к Сергею Ивановичу майор Маясов со своей идеей о прокладке железнодорожной ветки до Шепелева и ликвидации там перевалочной базы. В директорском кабинете Маясов пробыл около часа и вышел расстроенный, будто перенял от Андронова плохое расположение духа. Нужного разговора у них не получилось. И хотя внешне все обстояло вполне корректно, даже деликатно, майор в течение всей беседы чувствовал какое-то внутреннее упорство Андронова. Создавалось впечатление, будто он не понимает (или делает вид, что не понимает), что пора ставить этот вопрос перед министерством, старается уйти от неприятного разговора. Всю дорогу до Ченска Маясов досадовал на себя за то, что не сумел убедить директора. И постепенно пришел к такому выводу: «Что ж, на Андронове свет клином не сошелся. Будем продвигать это дело по другой линии, поскольку решать его все-таки надо, и решать радикально».ГЛАВА II Случайная встреча
1
В слякотный мартовский день, под вечер, Тюменцев и его приятель Арсений Павлович Рубцов шли к автобусной остановке: им надо было доехать до Дворца спорта. Почти не обходя луж, размахивая чемоданчиком, Тюменцев на ходу оживленно рассказывал: — …Он меня раза три на канаты бросал. И все-таки на мой крюк справа нарвался. И тут уж, конечно, амба: отменный нокаут! Тюменцев от избытка чувств даже крякнул. — А после боя, когда я вышел из душа, — подкатывает ко мне его тренер: «Ты, — говорит, — победил чемпиона области, но, чтобы стать первой перчаткой в своем весе, надо еще много работать. Однако, — говорит, — игра стоит свеч». И тут же предлагает мне перейти к нему тренироваться. Ты чуешь, Арсений Павлович?! Замедлив шаг, Тюменцев посмотрел на своего рослого сухопарого приятеля. Он ждал совета, Рубцов был намного старше его и опытнее. Впрочем, разница в возрасте не мешала им дружить по-настоящему, на равных правах. Наверное, сказывалось совпадение увлечений: оба любили спорт, были заядлыми охотниками и рыбаками. А может, причина их прочной дружбы крылась в исключительности ее завязки: четыре года назад при переправе через бурную Чену Рубцов спас Тюменцева от верной гибели. Но, как бы там ни обстояло дело в прошлом, теперь это была пара, что называется, водой не разольешь. И поэтому Тюменцев по-братски надеялся на разумную подсказку Арсения Павловича в непредвиденно возникшей ситуации: заманчивая своими перспективами работа с новым тренером требовала переезда боксера в областной центр. Заморосил дождь. Подняв воротник пальто, Рубцов неторопливо заговорил: — «Первая перчатка»… Это, конечно, звучит. Только, Петь, тут надо все обмозговать, чтобы потом конфуза не было. — Он помедлил немного. — Первым делом тебе надо дыхание ставить. И потом: руки у тебя коротышки, а ты все в дальний бой норовишь. Соображать же надо! — А, Павлыч, — отмахнулся Тюменцев, не любивший, когда ему напоминали о его недостатках, и поспешил закончить разговор шуткой: — Где там соображать, когда тебя по морде бьют. Рубцов добродушно похлопал приятеля по спине и первым шагнул с тротуара, чтобы перейти улицу. И тут с подоконника углового дома им под ноги спрыгнул большой черный кот. — Тьфу, черт! — невольно выругался Арсений Павлович. — Давай-ка свернем… от греха. Тюменцев удивленно пожал плечами и свернул вслед за Рубцовым в обход. Минутой позже он, однако, не удержался и заметил с улыбкой: — Арсений Павлович, я однажды на рыбалке заметил: к твоему сачку кошка подкралась, принюхиваться стала, так ты потом всю рыбу в болотце вывалил. Примета у тебя, что ли? — Я, брат, эту примету с фронта принес, — серьезно сказал Рубцов, первым опускаясь на скамейку у автобусной остановки. Тюменцев сел рядом. — Прижился как-то у нас во взводе кот. Черный был, тощий и хромой. Геббельсом звали. И заметили мы: от кого этот Геббельс перед боем шарахается — тому амба. Точно, сукин сын, предсказывал… Рубцов замолк и, закуривая, чиркнул спичкой. Трепещущий огонек высветил его худощавое лицо, беспечное выражение которого вдруг сменилось удивлением. Словно увидел что-то неожиданное, необычное. Он даже привстал, подался вперед, напряженно всматриваясь в противоположную сторону улицы, ярко освещенную неоном витрин. Тюменцев проследил за его взглядом, не обнаружил ничего достойного внимания и с подковыркой спросил: — На кого это ты, Павлыч, стойку сделал? — Минуточку, Петя! — глаза у Рубцова сузились, стали строгими, он неотрывно смотрел на подъезд углового дома. Там, на мокрых ступенях, ведущих в парикмахерскую, у зеркальной витрины стоял приземистый плечистый человек в черном грубом плаще. Прикрыв ладонями пламя спички, он закуривал. Потом спустился с крылечка и, слегка переваливаясь, пошел наискосок через улицу. Рубцов резко шлепнул Тюменцева по плечу: — Подожди меня здесь! — И, обгоняя прохожих, ринулся за примеченным человеком. Заинтересованный странным поведением приятеля, Тюменцев не выдержал — подхватил чемодан и направился следом. Он нашел Арсения Павловича в «Гастрономе». Стоя в простенке, тот внимательно наблюдал за кем-то в очереди. Заметив Тюменцева, Рубцов поманил его к себе, кивнул на коренастого покупателя в черном плаще, взволнованно сказал: — Или мне мерещится, или… Постой здесь, я его поближе разгляжу. Рубцов смешался с толпой, но как только примеченный покупатель направился к выходу, тотчас вернулся за Тюменцевым и торопливо прошептал: — Быстро, не то потеряем! Все больше и больше недоумевая, Петр покорно двинулся за Рубцовым. На улице он было остановился, спросил: — Чего хоть случилось-то? — Потом! — оборвал его Арсений Павлович, увлекая в переулок, где, удаляясь, маячила широкая спина в черном плаще. Но вот Рубцов замедлил шаг, чтобы закурить. И тут Тюменцев опять спросил: — Да кто это? — Если не ошибаюсь, это Алексей Михайленко… — Что за человек? И на кой ляд он тебе сдался? — Я его еще по Полесью помню, — пояснил Рубцов. — Он у немцев в лагерной охране служил. — Да ну? — Точно… Потом от нас его в Жатковичи перевели, в криминальную полицию. А последний раз я его в сорок третьем в оцеплении видел. Нас тогда под Ровно этапом гнали… — Что же делать? — Тюменцев взглянул на часы. — Бросать этого мерзавца нельзя, — сказал Рубцов. — Ты один поезжай. — А может, наплевать на эти соревнования? — Нет, не годится. Ты не бойся, управлюсь… Тюменцеву было неловко оставлять приятеля одного, он еще несколько минут тащился за ним следом, пока не увидел свой автобус, который как раз подкатывал к остановке. Рубцов на прощанье помахал Петру рукой. Дождь все моросил. Опускались промозглые сумерки, быстро темнело. Михайленко зашел в булочную. Через несколько минут вышел. В руке — небольшой бумажный сверток. Постояв немного, он зашагал вниз по улице. Выждав, Рубцов двинулся следом. Не упуская своего подопечного из виду и стараясь не попадаться ему на глаза, когда тот время от времени оборачивался, Арсений Павлович неотступно сопровождал его квартала четыре — до Большой Болотной улицы. Возле трехэтажного кирпичного дома со светящимся номером «33» над зелеными воротами Михайленко остановился. Прежде чем открыть калитку, внимательно осмотрелся по сторонам и только после этого скрылся во дворе. Дождь пошел сильнее. Рубцову пришлось искать убежища в ближайшем подъезде. Однако он тут же изменил свое намерение, оставил подъезд и быстро зашагал под дождем, не разбирая дороги… Когда Арсений Павлович постучался в двери городского отдела госбезопасности, на нем не было сухой нитки. Светлые волосы прилипли ко лбу, лицо было мокрым, с пальто стекала вода, образуя на полу мутные лужицы. — Мне срочно нужен ваш начальник! — нетерпеливо сказал он лейтенанту Зубкову, дежурившему в тот вечер. — По какому вопросу? — Я хотел бы переговорить лично… Лейтенант молча подал взбудораженному посетителю стул, пошел доложить Маясову. Скоро вернулся.2
Проводив Рубцова до самого вестибюля, майор вернулся к себе, зашагал по комнате. Семь шагов от стола до стены, семь шагов обратно. Большая Болотная, тридцать три… Этот адрес был отделу знаком. Еще зимой, как-то в начале декабря, позвонил по «ВЧ» генерал Винокуров. Он сказал Маясову: — К вам в Ченск из Москвы прибывает самолетом группа немецких туристов. В их числе некая Барбара Хольме. По имеющимся данным, эта особа интересуется не только соборами и церквами, из-за которых она к нам официально пожаловала. Короче говоря, понаблюдайте за ней… К туристам в Ченске привыкли. Особенно много их бывает летом. Иностранцев манят соборы Староченского монастыря и уникальная деревянная церковь, сооруженная без единого гвоздя крепостными умельцами в XVII веке. Барбара Хольме, которая провела в Ченске три дня, на первый взгляд мало чем отличалась от других туристов. Разве только больше остальных щелкала фотоаппаратом перед монастырскими колокольнями: над обработкой ее негативов достаточно пришлось потрудиться местному фотоателье. Но, кроме этого, было установлено, что Хольме вместе с другой туристкой посетила в городе одну старушку. Эта старушка — немка Дитрих — жила на Большой Болотной улице, дом 33, квартира 9. Хольме привезла ей письмо и посылочку от родственников из Мюнхена. Если пользоваться обычными представлениями, то в этом посещении не было ничего особенного: в туристских общениях подобное не редкость. Однако Барбару Хольме нельзя было считать обычной туристкой. Поэтому все, что имело отношение к ее визиту на квартиру Дитрих, не миновало проверки. К сожалению, это проверка до сих пор не была закончена: старуха немка второй месяц тяжело болела… И вдруг это сегодняшнее заявление Рубцова об Алексее Михайленко: опять тот же дом 33 по Большой Болотной. Странное совпадение! А собственно, почему странное и почему совпадение? Ведь Дитрих, у которой была зимой Барбара Хольме, живет в отдельной квартире. Живет одна. И, насколько известно, ни к какому Михайленко отношения не имеет. Кстати, а в какой квартире обитает сам Михайленко? Ответ на этот вопрос получить было нетрудно. Маясов позвонил в адресное бюро, попросил срочную справку. Через несколько минут ему сообщили: — В доме тридцать три по Большой Болотной улице Алексей Михайленко не прописан… Вот как! Значит, Михайленко живет там без прописки… А может, у него теперь другая фамилия? Для бывшего сотрудника оккупационной полиции это не удивительно. Маясов раздавил в пепельнице потухшую сигарету и снова зашагал по комнате. А что, если Михайленко вообще не живет в доме 33? Ведь Рубцов только видел, как он вошел в дом. Мог к кому-нибудь просто в гости заглянуть. В таком случае надо не потерять его. Маясов приоткрыл дверь в дежурку и приказал Зубкову: — Немедленно вызовите капитана Дубравина, и оба — ко мне…3
Ирина лежала на диване, держала в руках тетрадку, негромко читала вслух стихи. Потом закрыла дерматиновый переплет. — Декадентщина какая-то… — Поднялась с дивана, одернула платье. — Ты эти свои вирши показывал кому-нибудь? — Ребята читали… — Савелов сидел за старым пианино, неумело бренчал что-то. — А какое это имеет значение? — Может быть, большее, чем ты думаешь… Я понимаю, тебе нравится бравировать своим особым мнением. Это один из способов обратить на себя внимание. Но я не думала, что ты можешь пойти так далеко… Впрочем, оригинального тут мало. И вообще все это попахивает передачками «Голоса Европы», или как она там называется, которые ты одно время усердно слушал. Ирина подошла сзади, положила ладони ему на плечи. — И откуда в тебе столько злости? — Злость не трава, на пустом месте она никогда не растет… — Мне кажется, ты стал таким потому, что слишком усложняешь все. Савелов обернулся: — А ты давно стала такой простенькой? — У меня другое… Тебе надо смотреть на вещи шире. — Прозрела! Ну, а я все еще хожу в тэ-эмных. — Он по-обезьяньи поскреб себя под мышками. Ирина невесело улыбнулась, отошла к окну. Отведя рукой занавеску, стала смотреть на улицу. Апрельское солнце светило ярко. Игорь взглянул на нее, как на чужую. Тоже нашлась проповедница! Лезет в душу, будто у самой все гладко. Ирина стояла молча, словно совсем забыла о его существовании. Ее отношения с Савеловым, говоря откровенно, уже давно перестали доставлять ей одну только радость. Приходилось все время таиться, лгать, изворачиваться. Вначале это было незаметно.4
Когда лейтенанта Зубкова спрашивали, играет ли он в шахматы, он отвечал: «Балуюсь немного». Это звучало излишне скромно. По мнению Тюменцева, познавшего древнюю игру три месяца назад, лейтенант был отменным шахматистом, которому недалеко до гроссмейстера. Но тут он, конечно, преувеличивал. Если быть точным, Зубков солидно тянул на первый разряд. Во всяком случае, ченские пенсионеры, с которыми вот уже несколько дней подряд на правах отпускника Зубков воевал за шахматной доской в городском саду на Большой Болотной улице, имели случай убедиться в его квалификации. Когда-то этот сад с высокими старыми липами, густыми кустами жасмина, терновника и сирени принадлежал архиерею. С годами он не стал хуже, и теперь в теплые погожие дни сюда стекались пенсионеры чуть ли не со всего старого Ченска. Приглушенный гомон голосов и щелканье костяшек домино не прекращалось в голых, безлиственных по весне аллеях до позднего вечера. В другой части сада, у терновых кустов, склонившись над столиками, сидели шахматисты, по преимуществу старики. Курили, сосали валидол, глотали пирамидон — кому что требовалось. Общеобязательным здесь было лишь одно условие: соблюдение тишины. Зубков, которого пенсионеры знали только по имени — Виктор или просто Витя, придерживался еще одного важного для себя и не известного для других правила: он всегда садился лицом к железной решетке сада. Отсюда он мог хорошо видеть противоположную сторону Большой Болотной улицы, особенно дом № 33 с раскрытыми зелеными воротами, часть его двора и даже окно Никольчука на втором этаже. …Зубков развивал королевский гамбит в партии с одним щуплым упорным старичком в пенсне и,предвкушая скорую победу, беззлобно подтрунивал над своим противником. — Хожу слоном, и можете, папаша, — руки в гору. — Я, сынок, не то что тебе — Колчаку не сдавался. — Ну, чего зря время тянуть? — язвительно сказал какой-то молодой пижон, дожидавшийся своей очереди за спиной старика. — Лучше сбегаем за пенсией, чекушку купим. — Обождите-с… чекушку… Гардэ! — Ах, гардэ?.. Ну, раз гардэ, — глядите, папаша, какой я из вашего ферзя компот сделаю… Зубков решительно передвинул на доске фигуру, потом привычно поднял глаза на решетчатый забор. Он увидел, как к черноволосому статному парню в светлом плаще, который стоял во дворе дома № 33 на низком крылечке, подошел Никольчук и о чем-то заговорил с ним. Улица была неширокая, но все равно разговора на крыльце лейтенант слышать не мог. Поэтому для него имела значение каждая мелочь в поведении Никольчука и парня, каждый жест и кивок головы. По тому, как оживленно они беседовали, Зубков заключил, что эти два человека, видимо, знакомы давно и, уж во всяком случае, встретились не впервые. А если это так, то их встреча имела несомненный интерес для дела. Что происходило в этот момент на шахматной доске, Зубков сказать бы не мог. Фигуры он передвигал кое-как. И только робость партнера, успевшего за неделю проникнуться уважением к сильному шахматисту и сейчас думавшему, что тот умышленно мутит воду, готовя каверзный удар, спасала Виктора от немедленного мата. И все-таки мат последовал. Виктору трудно было противиться такому исходу партии. Он в этот момент увидел, как Никольчук вынул из кармана портмоне, раскрыл его на ладони, послюнявил пальцы и отсчитал несколько бумажек. Взяв деньги, черноволосый парень благодарно потряс Никольчуку руку. — Может, еще партийку? — самоуверенно предложил старичок-победитель. Зубков встал из-за стола, застегнул пальто. — Как-нибудь в другой раз… — Дело молодое! Небось на свиданье? — В душе старичок рад был, пожалуй, отказу опасного партнера. — Небось! — Зубков подмигнул старику. До железной решетчатой калитки он шагал степенно, не торопясь. А миновав ее, сразу же ускорил шаг, быстро прошел по тротуару к большому соседнему дому. И как только завернул за угол, побежал бегом к стоявшей в переулке «Волге»…Игорь Савелов возвращался к Ирине с Большой Болотной тем же путем — проходными дворами, огородами, зареченским мостом. Минут через пятнадцать он уже стоял перед знакомой дверью. Когда Ирина открыла ему, он в возбуждении прошел к столу, молча выложил деньги. — Где ты достал?.. — удивленно спросила она. — Это не имеет значения, — сказал Савелов. — Завтра ты должна выкупить свой перстень.
5
…Вокруг была ночь. Темная, душная. Он едва шагал, с трудом вытягивая ноги из грязи. Было страшно от мысли, что ему никогда не выбраться из этого засасывающего омута. Он закричал, стал звать Ирину. «Что ты кричишь, дурачок? — ласково прошептал ее голос. — Я же здесь…» Вытянув ноги из трясины, он рванулся в темноте на этот голос. И тут же почувствовал: кто-то не пускает, держит сзади за плечи. Он стал вырываться из обхвативших намертво рук. Потом понял: ему не высвободиться, пока не удастся повернуться к своему душителю. И он повернулся! И увидел какое-то белое пятно вместо лица и выброшенные вперед волосатые руки с толстыми, сильными пальцами. Охваченный ужасом, Игорь закричал изо всех сил, втянул голову в плечи, чтобы не дать этим хищно разведенным пальцам сомкнуться на его горле… А белое пятно все приближалось, принимая вид человеческого лица. Крутые скулы в синеве от частого бритья, глаза под выступающим лбом с густыми темными бровями. «Где я видел это лицо?!» — пытался вспомнить Игорь. И наконец, вспомнил: «Алексей Никольчук!»… И вдруг все исчезло куда-то, пропало в ночи. А Игорь все кричал, натуживая свой голос. «Зачем я кричу, ведь все кончилось?» — подумал он. И проснулся. Над его головой, на тумбочке звонил будильник. Тяжело дыша, Игорь сел на кровати, надавил пальцем кнопку звонка. В наступившей тишине слышалось только щебетанье птиц на деревьях за посветлевшим окном. Он никак не мог прийти в себя после кошмара и опять расслабленно повалился на постель. Вдруг вспомнив что-то, Савелов начал торопливо собираться. Надел поверх рубашки старую телогрейку, достал из тумбочки блокнот и, запихнув его в карман, направился к выходу. Приоткрыв дверь, он почувствовал знакомый запах валерьянки и каких-то отдающих яблоками капель, которые пила мать, когда с сердцем у нее было плохо. Нет, через ее комнату идти не стоит. Мать, наверное, не спит. Начнутся вопросы: «Куда, зачем спозаранку?» Он тихо закрыл дверь. Потом, стараясь не греметь шпингалетами, растворил окно, спустился на землю. Жухлая прошлогодняя трава под тополями была мокрая от росы. Отворотив рукав ватника, Савелов посмотрел на часы и быстро зашагал вниз по улице, к реке. На пристани, осторожно ступая по скользким мосткам, он отвязал лодку, сел в нее, стал выгонять на чистую воду. Через несколько минут хорошего хода причалил к разлапистой иве, начавшей выпускать на обвислых ветвях зеленые листочки. Лодку слегка покачивало набегавшей со стремнины волной. Вода вокруг была сине-розовая, под цвет высокого утреннего неба. С противоположного берега, чуть подернутого понизу туманом, из-за темной громады Зеленой горы дул теплый ветер. Повернувшись назад, Савелов еще раз внимательно оглядел пологий спуск к реке. Никольчука все не было. Назначенное время давно уж прошло. Игорь опять стал смотреть на крутой правый берег. Зеленая гора! Сколько воспоминаний с ней связано. …Особенно запомнился один день. Быть может, последний из самых счастливых в его жизни. Это было почти четыре года назад. В конце июля, перед отъездом в областной художественный институт на вступительные экзамены. Они в тот день сидели на самом высоком обрыве Зеленой. Ирина, Сашка Ласточкин и он, Игорь. Внизу, за Ченой, расстилались залитые солнцем скошенные луга, над далеким горизонтом струилось марево. Они тогда мечтали о счастье. — А в чем оно?! — По-моему, — сказала Ирина, — счастье — это слава! И я, как чеховская Чайка, Нина Заречная, больше всего на свете желаю славы… Она вдруг смутилась от собственной откровенности: — А Игорь все пишет… — Старик! — крикнул Ласточкин. — Топай к нам. Савелов, стоявший на коленях перед раскрытым этюдником, махнул рукой: не мешай! — Игорек, — певуче позвала Ирина. Он покорно отложил на траву палитру. — Скажи, как ты понимаешь счастье? — Счастье? — Игорь подошел озабоченный: не ладилось с этюдом. — Я где-то читал: творчество без счастья приемлемо, но счастья без творчества не бывает. Ровно в полдень друзья торжественно расселись вокруг спортивной сумки Ласточкина. В ней нашлось кое-что. Через некоторое время слегка захмелевший от вермута Игорь поднялся с рюмкой, патетически произнес: — Леди и джентльмены! Поклянемся же искать свое счастье на великом, священном поприще, где уже подвизается одна из нас (поклон Ирине) и на которое завтра берут старт еще двое будущих гениев! — Аминь!.. Они паясничали, чтобы не выглядеть сентиментальными, но каждый думал про себя всерьез: для избранников, наделенных талантом, настоящая жизнь только в мире искусства. «Настоящая жизнь!..» Она совсем, оказывается, не такая, как представляется из туманного абитуриентского далека. Столкновение с нею может разочаровать. И тогда начинается мучительная переоценка ценностей… Погруженный в воспоминания, Савелов не слышал, как Никольчук подошел к лодке. Поздоровавшись, проворчал: — Хозяйка забыла разбудить, старая ведьма! — Снял черный плащ, закатал по локти рукава байковой куртки на мускулистых руках, поросших густым волосом. Потом взглядом из-под выпуклых надбровий указал Игорю, чтобы тот пересел на корму. Сильными, умелыми ударами весел Никольчук погнал лодку от берега. Савелов, наладив руль, положил на колени блокнот, нашарил в кармане карандаш.ГЛАВА III Лаборант Савелов
1
Дело Никольчука Маясов вел сам. Ему помогали капитан Дубравин и лейтенант Зубков. Этот выбор помощников, людей столь разных, был для Маясова не случаен. Он хотел, чтобы молодой сотрудник практически перенимал все полезное у своего старшего товарища, более опытного чекиста. В конце каждой недели они втроем подводили итоги по делу, анализировали оперативную обстановку. Сегодня сделать сообщение Маясов поручил Зубкову. И тут же предупредил: — Только покороче! Времени у нас в обрез. Педантичный лейтенант встал (хотя докладывать разрешалось и сидя), поправил и без того аккуратный узел галстука и, стараясь не заглядывать в лежавшие перед ним бумаги, начал говорить: — Полученные нами за последнее время материалы дают основание предполагать, что Алексей Никольчук, он же Михайленко, является не только бывшим пособником гитлеровских оккупантов. Слушая Зубкова, Маясов глядел в свою раскрытую тетрадь, на чернильный чертежик. То был схематический поэтажный план дома № 33 по Большой Болотной улице. Никольчук снимал здесь комнату в квартире № 16 на втором этаже. Там же находилось еще семь квартир (в доме была коридорная система), и в том числе квартира № 9, где жила Дитрих. Обе квартиры (№ 9 и № 16) Маясов обвел кружочками, кружочки соединил кривой линией, а линию оседлал большим вопросительным знаком. А что, если зимой Барбара Хольме была в девятой квартире лишь ради маскировки? Зашла на несколько минут к старухе, передала ей письмо из Мюнхена и, не выходя на улицу, по внутреннему коридору прошла в другую, нужную ей, квартиру. Это тем более допустимо, если учесть, что ее могла подстраховывать подруга из их туристской группы, которая была с ней. Маясов закрыл тетрадь, снова стал внимательно слушать Зубкова, перешедшего ко второй части своего доклада. — Из связей Никольчука, представляющих интерес для отдела, установлен Игорь Савелов — лаборант экспериментального оборонного завода, имеющий доступ к секретным материалам. Сведения, которыми мы располагаем, являются, на мой взгляд, серьезными уликами против Савелова. Прежде всего это две его подозрительные встречи с Никольчуком. При этом считаю нужным подчеркнуть, что Савелов оба раза вел себя нервозно, настороженно. В частности, после первой встречи он уходил от Никольчука проходными дворами и огородами, в малолюдном месте перелез через забор. Идя на вторую встречу, в воскресенье рано утром, Савелов вылез из своего дома через окно. Полдня провел вместе с Никольчуком в лодке на реке. Никольчук удил, а Савелов что то чертил или писал в блокноте… Не имея пока возможности сделать окончательный вывод о характере этих двух встреч, о содержании бесед между Никольчуком и Савеловым, думаю, что сами обстоятельства, в которых происходили эти встречи, несомненно, представляют оперативный интерес.2
Счетовод Сухов жил на дальнем конце заводского поселка. В большой квартире зятя-инженера он занимал комнату с окном, выходящим в сосновый лес. Маясова старик встретил приветливо. Узнав, что он пришел к сыну, сказал: — Сейчас позову… Мешать вам не буду. И, собрав со стола свои бумаги, скрылся в смежной комнате. Тотчас оттуда вышел Иван. Высокий, сильный, лет тридцати. Маясов сказал о причине своего вечернего визита — попросил помочь разобраться в одном деле. — Чем могу — помогу, — улыбнулся Сухов. Они закурили. И разговор за столом как-то сразу наладился. Впрочем, это был еще не деловой разговор, а только вступление к нему. Сперва у них зашла речь о борьбе с буржуазными разведками. Любознательный Иван подбрасывал Маясову вопрос за вопросом. Потом заговорили о войне, о партизанах. Оказалось, старший брат Сухова воевал в том же партизанском отряде, что и Маясов. — Он погиб где-то в здешних лесах, под Ченском, — сказал Иван. — Говорят, какое-то предательство в отряде произошло… Маясову было сейчас не до воспоминаний, однако пришлось некоторое время поддерживать разговор. И, только уловив подходящий момент, Владимир Петрович повернул беседу в желательном направлении — начал расспрашивать Ивана о Савелове, который раньше работал в его бригаде на механическом заводе в областном центре. Сухов на вопросы отвечал охотно и обстоятельно, и в результате еще один этап биографии парня для Маясова перестал быть белым пятном.В то лето Игорь Савелов не выдержал экзамены в художественный институт. Домой вернулся с ощущением полной катастрофы. Казалось, солнце померкло, кончилась жизнь. Мать, Варвара Петровна, строгая, властная женщина, сказала ему: — Надо взять себя в руки и попытать счастье еще. — В третий раз? — Я понимаю, ты устал… — Не в этом дело. — Главное — не киснуть и не сдаваться. Твоего отца не принимали в летную школу по состоянию здоровья. Но он очень хотел быть летчиком. Он подчинил свою жизнь железному режиму, закалил себя настолько, что через два года его приняли по первой категории. — При чем здесь отец? — После смерти твоего отца, — взволнованно сказала Варвара Петровна, — я жила только для тебя… думала, будешь большим человеком. Она вынула из пачки папиросу, закурила. Потом спросила другим, равнодушным, голосом: — Где же ты думаешь учиться? — Пока нигде. — А что намерен делать? — Еще не знаю… Мишка Гринев зовет к себе на завод. — Метаморфоза, достойная восхищения: из художников в слесари! — гневно сказала Варвара Петровна. — Пойдешь в педагогический — я позвоню директору. — В педагогический я не пойду! — отрезал Игорь. Наступила тягостная пауза. Мать и сын сидели в разных углах комнаты, каждый по-своему переживая случившееся. Потом Игорь спросил: — Мам, Ира ко мне приходила? — Да. Она сегодня уезжает. В студии начинаются занятия. — Варвара Петровна тяжело вздохнула. — Через год Ирина станет актрисой… и ты потеряешь для нее всякий интерес. Недели через две после этого разговора Савелов уехал в областной центр, где в театральной студии учились его ченские друзья — Ирина Булавина и Сашка Ласточкин. Он поступил учеником на механический завод. Не просто было Игорю заставить себя встать за слесарные тиски. А дело началось именно с них и с обыкновенного слесарного зубила. Только через несколько месяцев его допустили к первому станку. Но и тогда Игорь не проявил особого рвения и радости… Однажды бригада собирала отремонтированный токарный станок. Руководил сборкой помощник Сухова — насмешливый и грубоватый парень Валерка Стрелец. Работали весело, только Игорь по обыкновению хандрил. Стрельцу, у которого инструмент так и играл в руках, не нравилось настроение Савелова, и он все время подтрунивал: — Если так работать, можно и год в учениках проходить. — А мне торопиться некуда, — мрачно отмахивался Игорь. Когда Савелов хотел было сам закрепить маховичок, Стрелец небрежно отстранил его: — Это тебе не кисточкой мазать, здесь нужно кумекать железно. Игорь обиделся. В обед он не ушел из цеха вместе со всеми. Засунув руки в карманы, несколько минут стоял возле собранного почти станка. И вдруг подумал: а что, если показать этому типу Стрельцу, что и он, Савелов, не лыком шит и, если захочет, может работать не хуже других? «Подумаешь, кибернетика — закончить сборку станка! Сделаю это не хуже других слесарей». И Игорь решительно приступил к делу. Он спешил изо всех сил, чтобы уложиться до конца перерыва, он взмок, задыхался… И вот, наконец, станок полностью собран. Сейчас он включит его, позовет ребят. И пусть они позеленеют от удивления… Игорь надавил на кнопку пускателя. Раздался страшный скрежет, треск, запахло горелым маслом. Со всех сторон к Савелову кинулись люди. — Доигрался! — О себе много понимает! Едва завидев показавшегося в пролете бригадира, Игорь бросился вон из цеха. И все-таки разговора с бригадиром избежать не удалось. Через два дня Иван Сухов сам пришел к нему, — Савелов жил вместе с Ласточкиным у его тетки. Игорь был уверен: бригадир явился, чтобы сообщить о вычете из его зарплаты за поврежденный станок. И с отчаяния рубил напрямик: — Быть слесарем — не мое призвание! — Поэтому и сбежал? — Поэтому и ушел. — «Призвание»… Не бросайся, браток, словами, — сказал Сухов. — О призвании можно говорить, когда ты хоть что-то уже сделал в жизни. Игорь молчал, не зная, куда поведет бригадир дальше. И скоро ли заговорит о главном, ради чего пришел. Вот, наконец, кажется, заговорил. Но Савелов что-то не понимает его. Он ведь вовсе не этого ожидал. — Бригада решила отремонтировать попорченный станок в воскресенье… — Мне вашей благотворительности не нужно, — заносчиво сказал Игорь. — Я готов заплатить сколько требуется. — Ты, парень, потише на поворотах! — строго заметил Иван. — Это не благотворительность, а товарищи из беды тебя выручают. В общем в воскресенье ждем. — А если я не приду? — спросил Игорь. И снисходительно добавил: — Рад был узнать, что в нашей… то есть в вашей, бригаде имеются не только Стрельцы. — Что же, наш Стрелец позубоскалить любит. Но технику понимает, — сказал бригадир. — Кстати, это не кто иной, как Стрелец, и предложил отремонтировать в выходной день загубленный тобой станок. — Стрелец? Поражен. — Вот так, парень…
Делая себе пометки в записной книжке, Маясов спросил: — Интересно, получился все же из Савелова ремонтник или так себе? Владимир Петрович задал этот вопрос как бы между прочим. Но ответ на него хотел получить самый обстоятельный: ему нужно было понять, почему Савелов, имея специальность слесаря-ремонтника, поступил лаборантом на завод, до которого от дому ездить очень далеко. Да к тому же в лаборатории ему и платили меньше. Если всем этим Савелов пренебрег, значит что-то другое руководило им, когда он вернулся в Ченск и устроился на оборонный завод. Значит, экспериментальный химзавод представлял для этого парня какой-то особый интерес? На вопрос Маясова Сухов ответил не сразу и весьма неопределенно: — Игорь малый не дурной, смекалистый… — А как, по-вашему, почему он обратно в Ченск вернулся? Сухов пожал плечами. — Затрудняюсь сказать. Я в то время уже в другом цеху работал… Еще в первые дни после того, как Савелов попал в поле зрения чекистов, Маясов, изучая материалы, обратил внимание, что возвращение парня в Ченск примерно совпадает с появлением в городе Никольчука. До этого, как выяснилось, Никольчук тоже жил в областном центре: около двух месяцев он там работал в парикмахерской. Возможно, совпадение случайное. Но могло быть и по-другому. Это очень интересовало Маясова. Идя сегодня к Сухову, Владимир Петрович рассчитывал, что он поможет ему хотя бы немного приблизиться к решению этого вопроса. К сожалению, надежды не оправдались. Но делать было нечего — приходилось довольствоваться тем, что удалось получить. Да и часы показывали уже четверть первого — людям давно спать пора.
3
Уезжая ночью от Сухова, Маясов решил завтра же командировать в областной центр капитана Дубравина, чтобы разыскать там тетку Ласточкина, у которой квартировал Савелов. Но утром неожиданно позвонили из областного управления КГБ: Маясова вызывали на совещание. Нужда в командировке Дубравина отпала. После совещания Маясов задержался в областном городе еще на два дня и сам нашел нужных ему по делу Савелова людей. Он даже успел зайти в художественный институт, где Игорь провалился на экзаменах. Чужая жизнь становилась все яснее и понятнее… Вернувшись в Ченск, Маясов сразу же засел за обработку материалов, полученных в поездке. Он начал со своей записной книжки. Эта довольно пухлая книжка едва ли не вся была заполнена пометками о Савелове. Но не только о нем самом. Среди имен слесарей, с которыми работал Игорь, данных об его отце и матери, о друзьях упорно повторялось, мелькало чаще других одно имя — Ирина Булавина. С Ириной Булавиной Савелов вместе учился в школе. Оба мечтали о творчестве и славе. Бежало время, школьная дружба перерастала в нечто большее. И это, пожалуй, объясняло, почему Игорь после неудачи с поступлением в художественный институт оказался в том же городе, где училась Ирина. Савелов на механическом заводе. Не менее двух десятков страниц, исписанных угловатым маясовским почерком. После неприятного случая со станком Игорь, смирив гордыню, все-таки вернулся в бригаду. Вернуться вернулся, однако завод, цех, бригада долго еще оставались для него чужими. И все же дело как будто понемногу налаживалось. Игорь, наконец, сумел найти общий язык с ребятами. Получил разряд. Участвует в установке первой автоматической линии на заводе… И вдруг неожиданно для всех берет расчет и уезжает в Ченск. В записной книжке снова начинаются страницы о Булавиной. Что же делала в это время Ирина? Она вышла замуж за Константина Николаевича Сахарова. Об этом рассказала Маясову старая актриса Ласточкина. Она была у них на свадьбе. И ей запомнился такой разговор среди гостей: — А у Сахарова губа не дура! — Девица тоже не промах: муж режиссер, дядя мужа — главный режиссер! — Театральная семейка… …Семейка оказалась непрочной. Как-то вечером молодые сидели за столом в своей новой квартире. Листая альбом марок, над которым он обычно коротал свой досуг, Сахаров спросил: — Что ты там столь внимательно читаешь? — Рецензии о нашем последнем спектакле. — Ирина протянула мужу газету, взволнованно заговорила: — Работаешь как лошадь, пропадаешь целыми днями на репетициях, а о тебе всего пять скупых слов: «Булавина свою роль провела ровно…» Боже, придет ли когда настоящий, большой успех?! — Театр, моя радость, не асфальтовая дорога, где все гладко, — сказал Константин Николаевич. — Ты думаешь, у Ермоловой, Савиной или другой так называемой великой — у них были только одни победы? Как бы не так! Все слабое отсеялось, а хорошее дошло до нас, и мы курим им фимиам: великие! В действительности же все обстоит по-другому: как прежде, так и теперь играли и играют хорошо и плохо. Это нормальный процесс. — Значит, ставить плохие спектакли, плохо играть — это нормально и закономерно? Странная философия! — Я вовсе не призываю к этому, я только констатирую: подобное неизбежно. — Сахаров аккуратно вставил пинцетиком марку. — Что касается твоей артистической судьбы, можно считать, она сложилась счастливо. — Раньше я тоже так думала… — Напрасно иронизируешь, — сказал Константин Николаевич. — Тут от настоящих, невыдуманных забот голова пухнет, однако я не ною. — Что случилось? — Я уже говорил, мне дают самостоятельную постановку. — И что же? — Оказывается, пьеса-то современная. — Не понимаю. — Все-таки это риск… Хотелось бы освоиться на какой-нибудь классической вещи, уже, так сказать, обкатанной. — Ах, вот ты о чем… — Ирина посмотрела на мужа снисходительно-иронически. Сахарову был неприятен этот ее взгляд. Так она никогда на него не смотрела. И он поспешил переменить тему разговора. — Мы оба устали, дорогая. Пойдем куда-нибудь, рассеемся? — Я не могу… болит голова. Это была неправда, и Сахаров понял это. — В таком случае я иду один! — обиженно сказал он. Когда за мужем захлопнулась дверь квартиры, Ирина подошла к телефону — позвонила Ласточкиной. Через полчаса она уже была в театре, за кулисами. Кто-то стоявший возле сложенных штабелем декораций сказал ей: — Вы опоздали… у Ласточкиной сейчас выход. И действительно, из гримерной появилась Мария Ивановна. Ирина поздоровалась, сказала, что подождет ее. Но Ласточкина со строгим, сосредоточенным лицом прошла мимо, почему-то ничего не ответила. «Уж не сердится ли она на меня? — подумала Ирина, входя в гримерную. — Однако пригласила сюда и так приветливо разговаривала со мной по телефону…» Теряясь в догадках и предположениях, Ирина не заметила, как пролетели минуты ожидания. Дверь вдруг отворилась, и в комнату вошла Ласточкина… Но сейчас эта была обычная, добрая, ласковая и немножко усталая Мария Ивановна. — Здравствуй, землячка, здравствуй еще раз, — приветливо сказала она, опускаясь в кресло. — А я, извините, подумала, что вы на меня сердитесь. — Прости, голубушка, не обижайся… — Ласточкина улыбнулась. — Я считаю, что артист должен не изображать человека, а жить на сцене его жизнью. Чтобы игра была искренней, надо быть сосредоточенной, собранной перед тем, как выйти на сцену. Поэтому уже загримированной я обычно запираюсь на ключ, чтобы собраться с силами. По звонку я вылетаю из гримерной — в это время я уже не принадлежу себе. Я только внутренне молю, чтобы никто не подошел ко мне, не заговорил, чтобы не расплескать в разговоре эту собранность, настроенность. — Она, как бы извиняясь, развела руками. — Вот поэтому я и промчалась мимо тебя… Ну что ж, поедем к нам чай пить, там и потолкуем. По дороге, в полупустом троллейбусе, выслушав Ирину, Мария Ивановна сказала: — Вот ты сетуешь, что много работаешь над ролями, из сил выбиваешься, а успех якобы достается другим… — Но разве это плохо, если актриса хочет прославиться? — Неплохо. Каждый артист любит славу. Но ведь это не главное. Мне кажется, настоящий актер должен испытывать радость уже потому, что он делает то, к чему у него призвание… Не договорив, Ласточкина вдруг пристально посмотрела в глаза Ирине. — Но только ли в этом дело?! Я замечаю, с тобой, дорогая, происходит что-то неладное. Ирина подавленно молчала. — Если не ошибаюсь, дело в Игоре? — Я, кажется, люблю его, — вырвалось у Ирины. — Кажется или?.. Не отвечая на вопрос, Ирина заговорила взволнованно, сбивчиво: — Еще девчонкой, у кого-то из великих актрис я прочитала о тщеславии, с которым она боролась. Но только теперь я по-настоящему поняла, насколько губительна эта черта характера. Нездоровое внимание к своему «я», вероятно, порождает недоброжелательность к людям, которые тебя чем-то превосходят… — Не взвинчивай себя, Ирина! — Нет, нет, не перебивайте… Я хотела стать первой в нашем театре, быть лучше всех. Я и замуж вышла… — Она не договорила, махнула рукой и заплакала. Прошла неделя после этого разговора, и Ирина вдруг объявила мужу, что предстоящий отпуск она решила провести в Ченске. Сахаров с ней поехать не мог: готовился новый спектакль. Ирина уехала одна. Что ее тянуло в этот город? Ведь с отъездом матери и отчима в Москву, а затем в длительную заграничную командировку у нее никого из родных в Ченске не осталось. Почему же она так скоропалительно согласилась на предложение Ласточкиной поехать вместе с ней? На этот вопрос Ирина смогла ответить лишь тогда, когда оказалась в Ченске и на второй день по приезде встретилась в парке с Игорем. (Он вернулся в родной город сразу же после свадьбы Ирины с Сахаровым.) И хотя Ирина уверяла Ласточкину, что встреча с Савеловым на танцевальной площадке произошла случайно, это было не так. За первой встречей последовала вторая, потом третья. И с той поры началась их тайная связь, которая вместе с радостью обладания любимым человеком заставляла обоих страдать… Маясов продолжал листать свою записную книжку. Непросмотренных страниц оставалось немного. …В одну из июльских ночей в Ченск неожиданно приехал Сахаров. Ирина была у себя в комнате (она жила в квартире Ласточкиных), читала книгу. Константин Николаевич, как всегда, был чисто выбрит, безукоризненно одет. Он горячо обнял жену, сел рядом на софу. Ирина избегала смотреть мужу в глаза. — Что нового в театре, дома? От этого вопроса Сахаров сразу как-то обмяк. — Надоело мне работать по указкам дяди, — сказал он. — Что же ты намерен предпринять? — Если обстановка в областном театре сложится неблагоприятно, мы переберемся сюда, в Ченск… Маясов закрыл записную книжку. Долго сидел в задумчивости. Потом достал из стола бумагу и начал писать отчет о своей поездке.4
В закусочной было чадно, душно. Подвинув к себе тарелку, Рубцов принялся за борщ. Рядом за столиком шел разговор о футболе. Арсений Павлович не удержался, вставил несколько дельных замечаний, — беседа стала общей. А когда официантка принесла полдюжины «Жигулевского» и тарелку с красными раками, Рубцов пригласил соседей-болельщиков разделить с ним трапезу. Оба пересели к нему за стол. Один из них — буйно-кудрявый, с тонким голосом, сразу же заказал штофик водки. Народу в закусочной по случаю дня получки было много. Дверь на тяжелом блоке то и дело хлопала, впуская все новых посетителей. Многих из них Рубцов знал в лицо, с некоторыми был коротко знаком. С той поры, как он стал внештатным фотокорреспондентом областной газеты, ему часто приходилось наведываться в эти места: поселок Шепелево с прилегающими к нему населенными пунктами входил в его «репортерский куст». К столу подошел шофер в распахнутой телогрейке, попросил официантку побыстрее обслужить его. — Куда это, Сердюк, торопишься? — полюбопытствовал кудрявый сосед Рубцова. Он уже порядком захмелел. — Одного парня надо подбросить до Ченска. — Кому так приспичило? — Савелов из главной лаборатории… — Постой, это какой Савелов? — Кудрявый посмотрел за окно, во двор, где стоял грузовик. И вдруг тоненько захихикал: — Тю! Это же хахаль Булавиной, артистки, она моя соседка была… — Я извиняюсь, — вмешался в разговор Рубцов, — эту Булавину случайно не Ириной Александровной звать? — В самую точку! — Кудрявый даже подпрыгнул на стуле и тут же принялся выкладывать Арсению Павловичу все, что знал об отношениях Савелова с Булавиной. А знал он, этот словоохотливый человек, оказывается, немало. Из его пьяного бормотанья Рубцов понял, что Савелов работает на химзаводе в урочище Кленовый яр, а живет в Ченске вместе с матерью, бывшей учительницей, недавно вышедшей по состоянию здоровья на пенсию. Рубцов слушал, попыхивая в открытое окно папироской, а в памяти его всплывали давние события. Заинтересовался актрисой он не случайно: он знал не только Ирину Булавину, но и ее отца и мать. В свое время, перед войной, отец Ирины, Александр Букреев, работал в Донбассе начальником цеха на коксохимическом заводе, а он, техник Рубцов, в том же цехе был мастером. Когда началась война, их призвали вместе. На фронт они уезжали в одном вагоне: Букреева провожала жена, звали ее Валентина. Фамилию она носила девичью — Булавина. Второй раз в жизни Арсений Павлович встретился с нею уже после войны, летом сорок шестого года. Они неожиданно столкнулись в Ченске, на пыльной Болотной улице. И Булавина очень смутилась. Рубцов, почтительно приподняв шляпу, в одно мгновение понял причину ее смущения: рядом с ней стоял представительный, полный блондин — ее новый муж. Тут же была и красивая девочка-подросток, дочка Александра Букреева. Новый муж Булавиной деликатно оставил их одних, они присели на лавочку у тесового забора, и Рубцов, как ни тяжело это было, стал рассказывать Валентине все, что знал о своем фронтовом товарище, — до того самого дня, когда Букреев не вернулся из последней разведки. После его печального рассказа долго молчали. Девочка заплакала. Чтобы как-то развлечь мать и дочь, Рубцов достал из бумажника пожелтевшую любительскую фотографию — там, на фоне полуразрушенной темной громады берлинского рейхстага, стояли рука в руку высокий сухопарый лейтенант и полногрудая красивая женщина с погонами капитана медицинской службы. — Я и моя жена, — объяснил Рубцов. — Познакомился с ней в сорок четвертом году. А после войны затащила меня вот сюда, на свою родину… Когда Булавины уходили потом по длинной улице, Арсений Павлович долго смотрел им вслед, думал, как похожи мать и девочка. И вот эта девочка превратилась в красивую взрослую женщину. Стала актрисой. Вышла замуж. Сама сделалась матерью. Полюбила другого, связь с которым скрывает от людей. Но люди, оказывается, все знают. А теперь знает об этом и он, Рубцов, товарищ ее отца. И не его ли право (если не обязанность) поинтересоваться нынешней жизнью молодой женщины и, главное, тем человеком, которого люди называют ее любовником… Будучи натурой деятельной, Арсений Павлович не стал откладывать в долгий ящик своего только что возникшего намерения — поближе присмотреться к этому парню, ехавшему из Кленового яра в Ченск. Когда шофер Сердюк отобедал и вышел на крыльцо, Рубцов попросил и его подбросить до города. — Пожалуйста. Места в машине хватит. Арсений Павлович открыл дверцу кабины, приветливо поздоровался с сидевшим там Савеловым. Мощный ЯЗ, тяжело зарычав мотором, тронулся со двора на улицу.5
Капли дождя, дробясь о подоконник, падали на голое плечо Игоря. Но он ничего не чувствовал. Он целиком ушел в свои записи в тетради, которую держал на коленях. Это был забытый в последние месяцы дневник. Дождь, дождь… Сама жизнь казалась ему пасмурной, как нынешнее утро. За эти двое суток он даже стал как-то привыкать к мысли о неотвратимости того страшного, что должно с ним случиться. Поэтому теперь его больше занимало другое: степень возмездия, которое суждено ему нести. Если судьба улыбнется, он может рассчитывать на снисхождение. Если же не улыбнется… Нет, лучше не гадать на кофейной гуще. Лучше за эти оставшиеся часы привести в порядок свои бумаги: выбросить, сжечь все, что может осложнить его положение. Собственно, для того он и отпросился вчера с работы пораньше. И как только Сердюк на своем грузовике привез его домой — сразу же полез в нишу над входной дверью в прихожей. Там он отыскал связку перевязанных шпагатом толстых тетрадей, притащил в свою комнату. Потом сказал матери, что болит голова, и заперся на ключ. Но мать ему все-таки помешала: принесла аспирин и пирамидон, заставила лечь в постель. Пришлось подчиниться — чтобы оставила в покое. Но лежа, оказалось, даже удобнее и читать и, где нужно, вырвать из дневника листы, складывая их в тумбочку.«…Неожиданная встреча в парке! Приехала в Ченск. (Зачем приехала — без мужа — я так и не понял.) Но дело не в этом. Увидев меня, она сказала всего два слова: «Здравствуй, Игорь…» И это певучее — «Игорь» (так умеет говорить только она!) сразу перевернуло все во мне. Придя домой, я достал спрятанную в чемодане ее фотографию, поставил перед собой на тумбочку — и смотрел, смотрел…» «…После концерта ждал Ирину. Простоял у столба двадцать шесть минут. И вот она вышла из переулка. Шагает ко мне, стуча каблучками, приподняв подбородок. Черт побери, никогда в жизни не испытывал подобного чувства! Сердце застучало, как молот, а сам весь превратился в одну нежность. Гуляли по парку под луной, говорили о разных пустяках. А говорить-то мне и не хотелось. Хотелось просто смотреть на нее». «…Сегодня, когда я уходил на работу, мать вдруг спросила: — Игорь, а что у тебя с Ириной? Я сразу не нашелся что ответить: с минуту, наверное, молчал. Потом сказал без обиняков: — Я люблю ее. Мать осуждающе посмотрела на меня. — Она замужняя женщина. Тогда я повторил: — Я люблю ее. Мы поженимся». «…Да, мы решили пожениться. Это решение было твердым, по крайней мере с моей стороны. И вдруг записка, принесенная соседским мальчишкой в день ее внезапного отъезда с мужем из Ченска: «Мы должны разлучиться. Возможно, я не права. Но по-другому не могу: оставить мужа в трудную для него минуту было бы подлостью. У него серьезные осложнения в облдрамтеатре, возможно, придется перебраться сюда, в Ченск, чтобы он смог, наконец, стать по-настоящему самостоятельным режиссером… Если можешь, прости…» «Я не выдержал. Когда до отхода ее поезда оставалось пятнадцать минут, я бегом побежал на вокзал. Вот где мне пригодилось знакомство с проходными дворами Заречной стороны! Благодаря этому я сумел сократить расстояние вдвое. Но тут, на площади, случилось непредвиденное: поскользнувшись на мокрой мостовой, я упал и угодил под автомашину. Рубчатые колеса проехали по моей правой ладони, искалечили пальцы…» «Провалялся в больнице более двух месяцев. Чуть было не отняли три пальца. Но обошлось. Пальцы оставили, хотя контрактура обеспечена на всю жизнь. Придется искать другую работу: с такой рукой я больше не слесарь…» «Сегодня Сашка Ласточкин сообщил мне приятно ошеломляющую новость: в Ченск приехала Ирина!.. Но, к сожалению, с мужем. Оба будут работать в нашем драмтеатре…»Чтение Игоря прервал стук в дверь. В комнату вошла мать с хозяйственной сумкой в руке. — Почему ты не завтракал? Или совсем разболелся? — Нет, я здоров, — сказал Игорь, пряча в тумбочку дневник. — Здоров? — мать удивленно посмотрела на него. — Почему же тогда не на работе? Игорь встал, молча начал одеваться. Мать снова спросила, что с ним. Но Игорь опять ничего не сказал, делая вид, что распутывает шнурок на ботинке. Мать не стала больше спрашивать. Она только обвела пристальным взглядом маленькую комнату сына, словно надеясь найти разгадку непонятного его поведения. И пошла на кухню. Завтракали они по обыкновению молча. Но необычным было само молчание: Игорь все время чувствовал на себе изучающий взгляд матери. И ждал ее вопроса. В третий раз. После этого уже нельзя будет отмалчиваться, придется все рассказать… И он, торопливо допивая горячий чай, внутренне готовился к неприятному разговору, обдумывая, как лучше все это преподнести матери, чтобы меньше расстраивать ее и тревожить… Но мать так ни о чем и не спросила. Она стала убирать со стола, мыть посуду. Потом ей понадобилась свежая вода, а в ведрах, прикрытых фанерными кружками, было пусто. — Давай я схожу, — сказал Игорь и усмехнулся: — Может, в последний раз… Когда он возвратился, мать с нескрываемым беспокойством спросила: — Что с тобой, Игорь? — Суши, мама, сухари. — Он хотел отшутиться, но шутка вышла невеселая. — Меня вызывают в КГБ. Мать тяжело опустилась на стул, положила руку на сердце. — Зачем? — Для задушевных бесед, по-моему, туда не приглашают…
6
— …Мне исполнилось девятнадцать лет, когда к нам на Украину пришла война. — Голос Никольчука, записанный на магнитофон, звучал глуховато. Откинувшись в кресле, Маясов внимательно вслушивался в этот голос, и казалось, в комнате незримо присутствует еще один человек. — За год перед этим я окончил школу, работал в редакции газеты… Я любил Украину, но по-своему. И когда заговорили националисты — поверил им, начал сотрудничать в их газете, которая издавалась на средства оккупантов… За этой ошибкой последовала другая — я поступил на службу в немецкую комендатуру: там больше платили… Маясов остановил магнитофон, достал из сейфа папку с ответами на запросы в несколько районов Украины, где в годы немецкой оккупации служил в полиции Алексей Михайленко. Пролистав несколько бумаг, майор снова включил аппарат, с помощью которого он решил сегодня проанализировать ход следствия по делу Никольчука, арестованного две недели назад. — …Когда немцев погнали с Украины, куда мне было деваться? Я ушел с ними. Второго апреля, в сорок пятом, меня в Будапеште арестовали и осудили военным трибуналом. Дали десять лет лагерей… В камере предварительного заключения со мной сидели два дезертира, они подбили меня на побег. Нам это удалось. Но они пошли на восток, на родину, а я подался в обратную сторону. Боялся… Вскоре я очутился на территории Западной Германии, стал одним из тех, кого называют «перемещенные лица»… Апотом попал на крючок американской разведки. После обучения в специальной школе, как я уже вам рассказывал, в марте прошлого, шестидесятого, года меня посадили на самолет и ночью выбросили с парашютом в районе Ставрополя, в степи… Маясов достал из папки акт экспертизы о парашюте Никольчука: его действительно нашли в том месте, которое указал арестованный. Просматривая этот акт, Маясов вспомнил рассказ капитана Дубравина, вылетавшего вместе со следователем и экспертом в Ставрополье. …Никольчук, бывший с ними, не сразу нашел нужную балку. Они проплутали около двух суток. Попали под страшный ливень, следователь загрипповал, и Дубравину пришлось отправить его в сопровождении эксперта до ближайшей станицы. Оставшись вдвоем, капитан и арестованный продолжали поиски. На крутом спуске в овраг Дубравин, оступившись, вдруг упал. Никольчук, который шел впереди, обернулся, бросился было к нему, но капитан тут же поднялся во весь свой могучий рост, кивнул, чтобы Никольчук шел дальше. Этот случай насторожил Дубравина: помочь хотел Никольчук, или?.. В душу закралась тревога: не опрометчиво ли поступил, оставшись с арестованным один на один в степи? Дело в том, что, спешно вылетая из Ченска, он не взял свой пистолет. Попросить же оружие у заболевшего следователя не решился: трусом себя капитан никогда не считал, силой его бог не обидел, к тому же следователь из областного управления, старший в их группе, не погладил бы по головке, узнав, что он, Дубравин, прибыл на задание без пистолета. В общем нелепо получилось. И теперь капитан чувствовал себя так, будто в стужу его вытолкнули на улицу босиком. Это ощущение еще усилилось, поскольку наступала ночь. Остановившись на ночлег на дне балки, они насобирали большую кучу хвороста, прибитого половодьем. Но хворост был сырой, и, чтобы разжечь его, требовалось нащепать лучинок для запалки. Большой, вроде финского, нож нашелся в чемодане эксперта, который остался у Дубравина. Только кто должен колоть этим ножом лучину? Если сам Дубравин, то ему нужно для удобства присесть на корточки, а это будет исключительно невыгодная поза: ухватив сзади за шею, Никольчук может задушить его, как котенка. Остается другое — поручить работу арестованному. Но это значит дать ему в руки нож, оставаясь совершенно безоружным… «Придется, наверное, обойтись без костра», — подумал капитан и при вспышке красного огонька сигареты увидел (или ему показалось), что толстоватые губы Никольчука дернулись в иронической усмешке, словно он догадался о его беспокойных мыслях. Дубравину стало не по себе, и он молча протянул нож арестованному. Наконец костер был раздут, и они легли спать, подложив под бока по охапке прошлогодней травы. К середине ночи небо вызвездило, стало еще холоднее. Никольчук беспокойно завозился на своем жестком ложе, поднял голову, пристально всматриваясь в лицо Дубравина. Капитан прикрыл глаза, сделал вид, что крепко спит. Никольчук встал на колени, протянул в темноту руку, вытащил за черенок заступ. Дубравин лежал не шевелясь, сжав под оглушительно стучавшим сердцем тяжелые кулаки, следил за каждым движением арестованного, готовый вскочить при первой опасности. Перехватив в руке черенок, Никольчук стал шуровать в головнях затухавшего костра. В темное небо взметнулись иголки красных искр. Подбросив в огонь хворосту, Никольчук лег на другой бок, и вскоре опять послышалось его ровное похрапывание… Когда, вернувшись в Ченск, Дубравин доложил о степных злоключениях Маясову, тот проявил к ним большое любопытство. Причину его заинтересованности капитан понял не сразу. Откровенно говоря, он ждал от начальника нахлобучки за то, что выехал на задание без оружия. Но Маясова ночная история заинтересовала совсем с другой стороны. Он определил ее как случайно состоявшийся следственный эксперимент и после рассказа Дубравина долго расспрашивал его о подробностях. Маясов хотел найти ответ на возникший у него тогда вопрос: не пытался ли Никольчук использовать благоприятную обстановку для своего освобождения, для побега?.. Теперь, у замолкшего магнитофона, Маясов еще раз подумал над этим. Потом нажал кнопку, и аппарат стал рассказывать о деятельности американского агента после его проникновения на территорию Советского Союза.7
— По-моему, я вам русским языком сказал: было нужно… Поэтому я и пошел к Сашке. — Кто он, этот Сашка? — Будто не знаете, — ухмыльнулся Савелов. — Ну, хорошо, могу напомнить: Александр Витальевич Ласточкин из семьи советских интеллигентов, холост, жениться пока не собирается, проходит режиссерскую практику в Ченском доме культуры, проживает на Болотной улице — дом номер тридцать три, квартира номер четыре… Этого достаточно? — Вполне, — тихо сказал Маясов. Ему было неприятно и в то же время немножко смешно видеть гонористое кривляние юнца, умышленно не желавшего разговаривать в предложенном ему доброжелательном тоне. Маясов понимал, что амбиция Савелова дутая, что он прикрывает ею овладевшую им растерянность и, может быть, страх. И поэтому, не выдавая своего раздражения, продолжал невозмутимо задавать вопрос за вопросом, стараясь втянуть парня в разговор по душам. — Ну, а дальше… — Ах, дальше? — Савелов опять ухмыльнулся. — Извольте. Когда я пришел к Ласточкину, его не оказалось дома. Я спустился во двор, раздумывая, где-бы мне достать денег. И тут на крыльцо вышел этот самый парикмахер Никольчук. — И что же было потом? — Никольчук сказал, что неплохо бы рвануть на рыбалку, да лодки нет. А я ему говорю: лодка и вся снасть будут, если подбросите мне энную сумму взаймы: горю как швед… — Зачем вам понадобились деньги? — А это уж, позвольте, мое дело. — Ну, а все-таки? — Кольцо я с одной женщиной пропил, — подчеркнуто грубо сказал Савелов. — Вот и пришлось покрутиться, чтоб назад выкупить. — Вот как? — Вот так! — Скажите, вам нравится ваша поза? — А вы что хотите, чтобы я от страха дрожал? — Нет, не хочу, — очень серьезно возразил Маясов и, помолчав, вдруг спросил: — Каким карандашом вы делали наброски, когда рыбачили с Никольчуком? — Что?! — Савелов настороженно сузил глаза. — Разве это имеет отношение к делу? — Просто интересуюсь… потому что сам этим балуюсь. — Рисуете или пишете красками? — В основном пишу маслом. — А меня больше тянет к акварели… Игорь достал из кармана сигареты. Сигареты были дешевые. От предложенных еще в начале разговора хороших, в целлофановой пачке, демонстративно отказался: «Не на такого напали!..» Все эти криминалистические фигли-мигли ему известны: он читал о них не раз. Угостят пахучей папиросочкой, погладят по шерстке, расслабят твой мозг и нервы, а потом внезапно — бац какой-нибудь коварный вопрос… Дудки! Он не дастся, чтобы его заклевали, он постоит за себя… — Так, значит, больше увлекаетесь акварелью? — спросил Маясов после недолгой паузы. — По-моему, акварелью трудней работать. Он подошел к книжному шкафу, достал дешевенький картонный альбом, подал Савелову. Игорь сперва рассматривал рисунки небрежно, не задерживая ни на одном из них взгляда. И только где-то в середине альбома остановился. Прижмурив глаза, долго всматривался в один этюд. Потом недоверчиво спросил: — Сами делали? — Зачем бы я стал чужое показывать? — Кто вас знает… — Савелов пожал плечами: — Искусство — и ваша служба… В общем не знаю… А у меня вот… Он немного помолчал и вдруг возбужденно заговорил. Но не об акварелях Маясова. А о себе, о своих картинах и этюдах — об их слабом месте: непроработанности рисунка. Он понял это, к сожалению, слишком поздно: после третьего провала на экзаменах. Несмотря на то, что по живописи и по композиции он получил четверки, слабость рисунка сказалась на итоговом балле. Савелов заглянул в пачку и смял ее в кулаке: сигарет больше не было. Маясов подвинул ему свои. Закурив, Игорь продолжал: — В общем с институтом не повезло… С той поры и гремлю! Из художников — в монтажники. Мало! Из монтажников — в ремонтники. Мало! Уцепился Андронов за мою контрактуру — в лаборанты сунул. Вкалывай, Савелов, на здоровье! Протирай колбы да пробирки, таскай из цеха в цех бумажки с анализами! Веселая работенка… — В голосе парня были гнев и горечь. — А я, товарищ майор, рисовать хочу! Мне краски по ночам снятся. Вы это понять можете?!. Видя, что Савелов, попав на свое больное место, опять начинает горячиться, Владимир Петрович решил пока поговорить о другом. Он сказал, что его в определенном смысле интересуют отношения Игоря с актрисой Булавиной. — Это мое личное дело, — сказал Савелов. — Любовь… — Да, это вопрос деликатный, — согласился Маясов. — И все-таки я позволю себе спросить: всегда ли человек имеет моральное право на это чувство? — Любовь выше всякого права, — усмехнулся Савелов. — Ваша любовь? — Наша с ней. — Ну, а если существует любовь е г о с ней? — Ирина не любит своего мужа. — Вы в этом уверены? — Я уверен только в том, что я ее люблю. — Все остальное вас не интересует? — В этом смысле — нет. — И то, что их трое: муж, жена, сын, то есть целая семья — это вы тоже не принимаете в расчет? — Расчет и любовь несовместимы. — Но это же махровый эгоизм! — По-моему, любовь всегда эгоистична. — Чепуха! Настоящая любовь там, где человек готов на все ради другого человека. — Могу вас уверить, товарищ майор, ради этой женщины я не остановился бы ни перед чем. — А могли бы вы ради ее счастья с другим отказаться от нее? — Это свыше моих сил. — Но разве вы не способны взять себя в руки, если видите, что дело идет к развалу семьи Булавиной? — Поступиться своей любовью? Нет, не хочу, — упрямо сказал Савелов. — Но я понимаю: так продолжаться не может. Надо наши отношения из тайных сделать явными или… — Да, вам стоит над этим поразмыслить, — заключил Маясов. И тут же подумал, что эта рекомендация едва ли будет правильно парнем воспринята. Может быть, вообще не стоило об этом говорить. В конце концов это его личное дело. Во всяком случае, оно вне компетенции органов госбезопасности. Это, конечно, так, если допустить, что все нити дела существуют сами по себе, независимо одна от другой: честолюбивые замыслы юноши, крушение его жизненного идеала, нездоровые настроения, упаднические стихи, неудачная любовь. Но в том-то и сложность, что в действительности этой параллельности нет. Все сплелось в один клубок. Потяни за первую нить — зацепишь вторую. Оставь нетронутой третью — окажется незамеченной следующая, быть может, самая важная для распутывания всего клубка. Маясов встал из-за стола, задумчиво походил по кабинету и, остановившись возле Савелова, сидевшего за приставным столиком, сказал: — Вот вы, Игорь, переживаете, что вам не удалось поступить в художественный институт. А ведь бывает и так: человек поступает туда, учится год, другой, а потом сам подает заявление об отчислении? — Почему? — Желание стать художником — одно, а настоящий талант, без которого художника не бывает, — это другое. — Старо как мир, товарищ майор. — Да, истина не новая… И надо быть мужественным, чтобы посмотреть правде в глаза. — Вы зря осторожничаете: мне как художнику приговор объявлен давно. — Зачем же так: «приговор»? Старайтесь взглянуть на это проще. — Это не просто, если вместо кисти приходится брать в руки метлу. — Подметать улицы тоже кому-то нужно, — сказал Маясов. — А что касается творчества, то все зависит от самого человека. Можно быть художником за слесарными тисками и равнодушным ремесленником на сцене академического театра. — Тоже верно, — Савелов тяжело вздохнул. — Только человеку не безразлично, где трудиться, чем заниматься. — Разумеется. Свое место в жизни каждый должен настойчиво искать. — Я так и делал. — Не совсем. Вы хотели впрячь себя в такой воз, который вам явно не по силам. — Маясов чуть помедлил. — Вас предостерегают от худшего, а вы разыгрываете трагедию, впадаете в мировую скорбь. — Я ничего не разыгрываю. — Савелов нахмурился, отвернулся к окну. — Не будем придираться к словам… Вы не разыгрывали трагедию: вы ее сами создали и поверили в нее. И, к сожалению, слишком искренне. — Никакой трагедии я не создавал, откуда вы взяли? — А ваши стихи?! — строго сказал Маясов и постучал по тетради, лежавшей на столе. — Вы думаете, я не понимаю, на каких дрожжах бродит ваша поэзия? — Пишу, как умею. — Вы напрасно обижаетесь: я говорю не о форме, а по существу. Можете писать, как хотите… Но не распространяйте вирши с антисоветским душком! — Я их не распространял. — Но знакомым читали? — Это было, — тихо подтвердил Савелов. — Вот об этом давайте и поговорим… Маясов увидел, как сразу побледнело смуглое лицо парня. Рассказывая, Савелов много и жадно курил. Владимир Петрович почти не перебивал его. Было похоже, что обстоятельный рассказ юноши искренен и правдив. Маясов только подумал, как неровно, «клочковато» подготовлен этот сын не в меру честолюбивой учительницы. (Знакомясь с домашней жизнью Савелова, Маясов пришел к выводу: во многом виновата мать. Для нее Игорь был единственный, с детства исключительный, чуть ли не вундеркинд. В результате она разожгла в сыне обостренное, нездоровое честолюбие.) Суждения Савелова об одних вещах поражали своей зрелостью, о других — свидетельствовали о порядочном сумбуре в его голове: плохо усвоенные догмы старых истин переплетались с крылатой романтической мечтой, мальчишеская наивность уживалась рядом с цинизмом человека, познавшего в какой-то степени изнанку жизни. Кончив свой рассказ, Савелов вытер платком вспотевший лоб, потом, немного помолчав, спросил глухим голосом: — Меня будут за стихи судить? — Передавать ваше дело в суд мы не будем. Савелов тревожно взглянул на майора: — Это что ж, без суда осудят? — Без суда никого не осуждают, — сказал Маясов. — Что касается вас, то будет полезнее, если с вами поговорят ваши товарищи…8
— Господи, наконец!.. — выдохнула Варвара Петровна, услышав звук открываемой входной двери. Она тревожно подняла голову от пухлого романа, который читала, прислушалась. В глазах ее отразился весь страх, пережитый за долгие часы ожидания. И сразу же — невольный вздох облегчения: в комнату с тетрадкой в руке вошел сын. — Ну что тебе сказали? Игорь отсутствующе посмотрел в сторону матери, бросил тетрадку на диван и молча направился в свою комнату. Варвара Петровна проводила его внимательным, испытующим взглядом, отложила книгу, поднялась. С минуту постояв и не дождавшись, когда сын выйдет из своей комнаты и все объяснит, принялась накрывать на стол. Потом принесла из кухни подогретый обед. Взяла тетрадь, для чего-то полистала ее, пошла к сыну. Игорь сидел верхом на стуле, упершись подбородком в его спинку, и отрешенно смотрел в окно. Мать тронула его за плечо. Он странно, словно внезапно разбуженный, посмотрел на нее и опять отвернулся. — Иди поешь. Сын не откликнулся. — Тетрадку твою куда положить? — Порви. Погоди… я сам. Игорь встал, пошел в кухню. Сдвинув с горящей конфорки чайник, сунул тетрадь в огонь. Пламя охватило листки, больно лизнуло пальцы. Игорь отдернул руку, крикнул раздраженно: — Где щипцы?! — Что? Перемешивая мягко шуршащий пепел подвернувшимся под руку кухонным ножом, Игорь ответил с веселой злостью: — Я на ней… второй раз… обжегся!ГЛАВА IV Странные письма
1
Ирина Булавина отпросилась у режиссера с репетиции. Дома она решила наскоро переодеться и тотчас уйти. Это выглядело смешно, но она действительно стала бояться одиночества и тишины в квартире. Тишина пугала ее, настораживала, заставляла прислушиваться: не стучит ли кто в дверь?.. Отыскивая в сумочке губную помаду, Ирина снова увидела там письмо. Она получила его позавчера. Письмо было в зеленом конверте. Точно таком, как и первое, которое пришло из Москвы две недели назад. Только на этом штемпель стоял не московский: письмо было отправлено с почтамта областного центра. Возможно, отец находился в области проездом. Между делами забежал на почту, чтобы написать ей несколько слов. А может, он надолго или даже навсегда обосновался здесь, чтобы быть поближе к ней, Ирине, своей единственной дочери. Впрочем, все это странно и непонятно. Уйти из дому в сорок первом году и вновь объявиться ровно через двадцать лет, двадцать лет молчания — такое не вдруг укладывалось в голове… До этих писем в зеленых конвертах она и мысли не могла допустить о причастности отца к каким-то темным делам. Только прочитав второе письмо (еще более туманное, чем первое, тревожно-смутное), она подумала, что с ее отцом, которого она считала пропавшим без вести, а попросту говоря, погибшим на фронте, произошло что-то неладное, нехорошее. И еще она поняла из этого короткого письма, написанного характерным бисерным отцовским почерком, что он приехал «оттуда» и приехал не как Александр Христофорович Букреев, а под чужим именем. Когда он уходил на фронт, ей едва исполнилось пять лет. Но она навсегда запомнила то июньское утро. Отец нагнулся, потом присел перед ней на корточки, поскрипывая ремнями новой портупеи. Он не плакал, как мать, он улыбался. Подняв ее на руки, сказал: — До свидания, Ири. — И при этом смешно пошевелил черными усами. Он всегда так делал, когда уходил на работу. И всегда называл «Ири» — так, как она себя называла. И вот теперь, через двадцать лет, в обоих письмах она прочла: «Моя дорогая Ири…» Ирина подошла к шкафу, взглянула на себя в зеркало: лицо было бледным, под глазами тени. Открыв дверцу, она достала голубое платье. Любимое платье Игоря. Впрочем, и мужа тоже. К сожалению, ни тот, ни другой ей не могут сейчас помочь. Единственный человек, с кем бы она могла поделиться своей тревогой, была мать. Но мать с отчимом далеко от Ченска — в заграничной командировке, в Африке… Торопливо переодевшись, Ирина вышла из дому. На малолюдной улице было тихо. И от этой вечерней тишины, от мягкого света заходящего солнца у Ирины как-то сразу стало спокойнее на душе. Она вдруг решила, что все уладится, что человек, к которому она идет, непременно ей поможет, и она, наконец, сумеет выбраться из мучительного тупика, в котором неожиданно оказалась. Человек этот был Арсений Павлович Рубцов, друг их семьи, знавший ее отца, как никто другой: вместе работал с ним, вместе воевал. Ирина позвонила ему сегодня утром, и он, как всегда, радостно и приветливо говорил с ней. Арсений Павлович уже ждал ее в своем маленьком кабинете в фотоателье на Советской улице — он работал здесь заведующим и приемщиком одновременно. И как только Ирина появилась в дверях, приветливо улыбаясь, встал ей навстречу. — А, Иришка! Здравствуй, здравствуй. А я уж думал, совсем забыла старика. — Вы извините… — Да ты садись, садись, — сниматься, что ли, пришла? — Я к вам, Арсений Павлович, за советом… Они сели друг против друга за круглый столик, накрытый тяжелым плюшем. — Слушаю тебя, дочка. — Не знаю, с чего и начать… — Может, чайку сперва попьешь? Я мигом согрею. — Нет, нет, спасибо. Видя, что Ирина никак не может справиться с волнением, Рубцов пришел ей на помощь: — У тебя муж-то тоже артист? — Режиссер. — О-о!.. А этот, чернявый? — лукаво подмигнул Арсений Павлович. — Ну тот, с которым ты в прошлое воскресенье на стадионе была? Ирина вскинула на Рубцова смущенный взгляд, хотела что-то сказать, но промолчала. — Н-да, — улыбнулся Рубцов. — Видать, неладно у тебя по сердечной части. — Неладно, Арсений Павлович. Я ведь всю жизнь к театру тянулась, потому и замуж вышла… за режиссера. Глупо. — Почему глупо? Современный, так сказать, брак по расчету. А любишь, стало быть, другого? Не поднимая глаз, Ирина кивнула. — А что он за человек? — спросил Рубцов. — Ты его хорошо знаешь? — Мы с ним со школы вместе. — Ты вот что, — ты меня с ним познакомь. — Зачем? — Одну глупость уж сделала, как бы в другую не вляпалась. Ведь теперь я тебе вместо отца. — Арсений Павлович, я как раз насчет отца и пришла… Вы маме о его смерти рассказывали? — Ну? — А ведь он… жив! — То есть как жив?! Я ж его, можно сказать, своими руками… Но Ирина не дала ему закончить: — Я получила два письма… от отца… Вот они. Прочтите. Рубцов взял вчетверо сложенные листки, которые Ирина достала из сумки, и начал читать. По мере чтения лицо его отразило сначала жадное любопытство, потом недоумение, наконец гнев. У переносья собрались жесткие морщинки. Он невольно поднялся и так, уже стоя, дочитал до конца. Бросив письма на стол, Рубцов достал из нагрудного кармана трубочку с валидолом, положил таблетку под язык. Потом растерянно сказал: — Что ж это… Неужто Букреев здесь? Ты понимаешь, что это значит? Для него и для вас с матерью? — Поэтому я и пришла к вам. — Постой, постой… Может, это путаница какая? — Нет. Я знаю почерк отца. Я сравнивала со старыми письмами… Значит, вы говорили неправду, когда рассказывали о его смерти? — Есть правда, которую, Ириша, не говорят вслух, — сказал Рубцов после мрачного молчания. — Для меня твой отец умер. Было бы хорошо, если бы он умер и для вас с матерью. Эти письма — еще одна подлость, которую он сделал. — Почему вы так говорите? А?.. Арсений Павлович, я хочу знать… знать все… Он мой отец, и я имею право знать правду о нем. — Никогда больше не вспоминай о нем. Он перестал быть твоим отцом, потому что предал тебя, предал мать твою, всех нас. — Умоляю вас, расскажите! — Хорошо, расскажу. — Рубцов потер ладонью высокий, с залысинами лоб, как бы соображая, с чего начать. — Ты считаешь, что твой отец пропал без вести? Это ложь! В свое время я мог бы перед твоей матерью эту ложь рассеять. Но у меня тогда, в первую нашу послевоенную встречу, не хватило духа. Я решил, что для Валентины Петровны лучше быть вдовой пропавшего без вести фронтовика, чем женой изменника Родины. — Изменника? — прошептала Ирина, чувствуя, как отвратительная слабость разливается по телу. — Да, изменника… — Рубцов говорил негромко, но его неторопливые слова, как ни тщательно он их выбирал, чтобы меньше травмировать ее, входили в сознание Ирины, как острые гвозди. — Твой отец добровольно сдался в плен. Он ушел к немцам ночью, убив часового. И ушел не с пустыми руками. Будучи командиром роты, которая охраняла армейский штаб, он сумел выкрасть две оперативные секретные карты… Арсений Павлович, видя, что Ирине не по себе, заботливо подал ей стакан воды. Затем, с трудом преодолевая волнение, продолжал свой рассказ: — Наша дивизия вскоре после этого попала в окружение. Была частично разбита, частично рассеяна. Для вышестоящих штабов она вообще прекратила свое существование, как и все те, кто в ней служил. Только этим я и объясняю, что Букреева включили в списки пропавших без вести. Не понимаешь? Ну, если бы дивизия целиком не попала в окружение, то Букреев не оказался бы в списках, а твоя мать не получила бы сообщения, что он пропал без вести… Когда Арсений Павлович стал делать предположения, как и зачем вернулся Букреев, в каком «амплуа» мог теперь оказаться, Ирина подумала, что их выводы совпадают: с добрыми намерениями потайным путем оттуда не приезжают. — Вот так, Ириша, выглядит эта правда, — печально подытожил Рубцов. Ирина долго молчала. Потом спросила едва слышно: — А как же теперь с письмами?.. Я, наверно, должна сообщить о них. — Послушай, дочка, у тебя что — неприятностей мало? Шутка сказать: у актрисы Булавиной через двадцать лет объявился отец-предатель! — А если он здесь, в городе? — Ты ничего и знать не знаешь. Ни про отца, ни про письма. Матери-то не писала об этом? — Нет. — И не пиши. Хватит с нее того, что пережила. Порви письма и забудь… Когда Ирина возвращалась по ночной улице домой, ее пошатывало от усталости; ноги были как ватные, ныло сердце. Лучше бы она не ходила к Рубцову. Лучше неопределенность, чем эта страшная правда. И к тому же расстроила Арсения Павловича: она видела, как тяжело ему было ворошить в памяти всю эту гниль прошлого.2
В начале июля у Маясова тяжело заболела жена. Врачи определили: отдаленное последствие фронтовой контузии — и дали направление в Москву, в нейрохирургический институт. Маясову пришлось сопровождать жену, устраивать на лечение. Накануне своего отъезда Владимир Петрович поручил лейтенанту Зубкову съездить на экспериментальный завод и рассказать директору о деле Савелова: все, что требовалось сделать чекистам, они сделали, — пусть хорошенько возьмутся за парня администрация и комсомол… В первый же день по возвращении из Москвы Маясов спросил лейтенанта, как он выполнил его указание. Зубков, как всегда подтянутый, с тщательно завязанным галстуком и с тем уверенно-победоносным видом, который появился у него с тех пор, как был арестован Никольчук, начал докладывать о своем разговоре с директором Андроновым. Педантичность и обстоятельность вообще были свойственны лейтенанту, сейчас же он особенно старался «изложить дело в деталях», так как оно происходило в отсутствие начальника, перед которым ему хотелось выглядеть вполне самостоятельным оперативным работником. Маясов слушал его внимательно, изредка кивал головой в знак одобрения. И вдруг удивленно вскинул брови: — Что вы сказали? — Андронов считает, что Савелова надо уволить с завода, — повторил Зубков. — Как это уволить? — Обыкновенно… По сокращению штатов. — Здорово! Ну, а вы? — Я сказал, это его дело, директорское. — Так и сказали?! — Маясов не выдержал, встал из-за стола. — Это же черт знает что! Вы не должны, не имели права так говорить! Вспышка гнева была столь неожиданной, что лейтенант, густо покраснев, вытянулся у стола по стойке «смирно», не зная, что сказать в свое оправдание. И только минуты две спустя смущенно и виновато проговорил: — Я считал, что директор завода имеет право… — Имеет право! — жестко повторил Маясов. — Неужели вам непонятно, что речь идет не просто о лаборанте, а о человеке, о его судьбе… Садитесь! Когда Зубков сел, Владимир Петрович, уже поостыв, продолжал: — Начнем с главного вывода по делу. Каков он? Никольчук после его заброски к нам шпионской деятельности не проводил. Установили мы это или нет? — Так точно. — Второй вывод по делу: связь Никольчука с Савеловым носит случайный характер. Убеждены мы в этом? — Да, убеждены. — Следовательно, у нас нет оснований не доверять Савелову. Так? — Совершенно верно. — А раз так, мы не можем оставаться нейтральными. — Маясов немного помолчал и вдруг сказал: — Вызовите машину! Поедете со мной… В заводской конторе директора они не застали. Секретарша сказала, что Андронов уехал на строительство Шепелевской железнодорожной ветки. — Как, уже начали строить? — спросил Владимир Петрович. — Да, со вчерашнего дня. Маясов решил не дожидаться Андронова в конторе, а ехать прямо в Шепелево: ему захотелось посмотреть своими глазами на то дело, которое, по сути, было начато им самим. Ведь тогда, зимой, Андронов не поддержал идею о строительстве этой ветки. Он дал понять Маясову, что в министерстве лучше знают («им сверху виднее»), когда, где и что надо строить. После этого Маясов вынужден был проталкивать вопрос сам, через областное управление КГБ. В конечном итоге в министерстве, которому подчинялся завод, вопрос сочли важным и дали ему быстрый ход. А директору экспериментального завода попутно указали, что он в свое время не проявил необходимой инициативы. Об этом Маясову стало известно несколько дней назад от секретаря парткома завода инженера Котельникова, с которым он встретился на районном собрании партийного актива. — Не хотел бы я теперь быть на вашем месте, Владимир Петрович, — шутливо заключил Котельников свой рассказ. — Неужели обиделся на меня Сергей Иванович? — А вы как думали? Он считает, что вы его чуть ли не подсидели. — Напрасно, — засмеялся Маясов. — Для этого у него нет никаких оснований… Дорогой до Шепелева Владимир Петрович старался не думать о предстоящем разговоре с директором. Но это ему не особенно удавалось. Припомнились вдруг слова Котельникова, и возникло беспокойство. Нечто вроде смутного предчувствия неудачи. В Шепелеве, неподалеку от платформы перевалочной базы, Маясов вышел из машины и сразу увидел Андронова. Тот разговаривал с инженером-путейцем. Заметив подходившего Маясова, он помахал ему рукой и некоторое время еще продолжал разговор с железнодорожником. Когда, наконец, они остались вдвоем, Маясов сказал о причине своего визита. — Стоило ли из-за этого так спешить? — улыбнулся Андронов, ступая остроносыми ботинками по запыленной траве. — По-моему, у нас с вами нет расхождения в оценке: Савелов фрукт с гнильцой, настроения у него, мягко выражаясь, нездоровые, поведение в жизни — явно аморальное… — Все это, Сергей Иванович, так и в то же время не так. — Маясов шагал рядом, сцепив пальцы на пояснице. — Вот вы говорите: нездоровые настроения. Но давайте вдумаемся: что это? Злобствование махрового антисоветчика? Нет же! Юношеская обида на всех и вся в связи с собственными неудачами. Дальше. Аморальное поведение… Интрига с замужней женщиной… Не те слова! Можете поверить, дело здесь гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Это не пошлая связь, не флирт, а любовь — глубокая, настоящая. По крайней мере с его стороны. Маясов немного помедлил и закончил: — Короче говоря, у вас нет оснований увольнять парня. Особенно если учесть, что в лаборатории, кажется, штатных сокращений не намечается. — Ну, это, Владимир Петрович, позвольте мне знать! — возразил Андронов. — Если нет штатных сокращений в лаборатории, то они есть на других участках. И я не считаю правильным увольнять хороших работников, честных советских людей, а таких, как Савелов, оставлять на заводе. — Почему, разрешите уточнить? — Да потому, что этот стихоплет не внушает доверия. — Андронов вдруг остановился, взял Маясова за пуговицу пиджака. — Логики не вижу в ваших рассуждениях, дорогуша. — Что вы хотите этим сказать? — Вспомните, когда мы с вами зимой у меня в кабинете толковали по поводу ликвидации Шепелевской перевалочной базы и о строительстве этой ветки, вы мне рьяно доказывали, как необходима широкая предупредительная, так сказать, профилактическая работа на предприятиях, подобных моему заводу. А прошло каких-нибудь пять-шесть месяцев, и вы берете под защиту человека, скомпрометировавшего себя, считаете, что он может работать на важном оборонном объекте. — Стреляете мимо цели: бдительность и огульная подозрительность вещи разные. Если говорить без обиняков, вы хотите перестраховаться: а вдруг что случится? С меня, мол, спросят, с директора. Андронов перестал улыбаться. — Да, я директор и не хочу рисковать репутацией вверенного мне завода. К тому же я не могу взять в толк вашу амбицию: Савелова не репрессируют, не наказывают, мы его просто увольняем по сокращению штатов. Что же в этом страшного? — Страшно то, что это произвол! — резко сказал Маясов. — Кстати, стоило бы вам знать, что из-за контрактуры пальцев правой руки парень не может работать по своей специальности слесарем-ремонтником. — Пусть идет в парикмахеры, — усмехнулся Андронов. «У нас уже один уходил в парикмахеры», — хотел сказать Маясов, имея в виду Никольчука, но вместо этого спросил: — Это ваше окончательное решение? — Приказ об увольнении подписан. — Что ж… В таком случае можно считать нашу приятную беседу законченной… Но имейте в виду: я буду ставить этот вопрос в партийном порядке. — Это ваше право, — сказал Андронов. Говорить им было больше не о чем. И они, сухо попрощавшись, разошлись каждый к своей машине.3
Маясов не так бы расстраивался, знай он о разговоре, который произошел чуть позже в тот же день между Андроновым и секретарем парткома Семеном Семеновичем Котельниковым. Они сидели в комнате парткома. Попыхивая трубкой, Котельников долго молчал. Потом вдруг сказал задумчиво: — Ничто так не сбрасывает человека обратно в яму, как недоверие… Андронов прошелся по комнате. — А вы не думаете, Семен Семенович, что народ нас может неправильно понять, и этот Савелов героем еще прослывет: взял, мол, верх над директором! Он уже набил себе руку на антидиректорских пасквилях. — Это вы насчет карикатуры и стихов о клубе? — Допустим. — То, Сергей Иванович, если говорить начистоту, тоже была критика. Хотя по форме, быть может, и уродливая… Андронов тяжело опустился в кресло у стола, подпер ладонью тугую, гладко выбритую щеку. Он никак не ожидал, что вся эта история с лаборантом получит столь шумный резонанс. Очень нескладно вышло. Котельников — человек в высшей степени решительный, и «принципиальничать» с ним не так-то просто, да и небезопасно для директорского авторитета. Разумнее всего закончить эту заваруху мирно, без шума, без обнаженных шпаг. И, как бы подытоживая свои раздумья, перед уходом из парткома на совещание с начальниками цехов Андронов сказал: — Что ж, придется это дело переиграть. — Что именно «переиграть»? — Приказ директорский, вот что… Когда за Андроновым закрылась дверь, Котельников, насупив седоватые брови, подошел к окну. Ему не понравилось словцо, вырвавшееся у директора: «переиграть». Будто речь идет о пустяке каком-то. Нет, уж если ты решил, то до конца отстаивай свою правоту, доказывай, а если потребуется — в драку лезь. А то «переиграть»… Вернувшись к столу, он снял телефонную трубку: — Лабораторию! Анохина. Через несколько минут в трубке послышался запальчивый юношеский голос: — Анохин на проводе. — Костя, я к тебе опять о Савелове… Что с ним делать-то будем? — Так вы же, Семен Семенович, правильно предложили, поскольку он не комсомолец, обсудить его на молодежном собрании, — затараторил Костя. — Будет сделано! Пропесочим по седьмому разряду… — Погоди, «пропесочим»! И откуда только у тебя слова такие. Ведь ты теперь комсорг цеха… Давай-ка вот что: приходи ко мне, посоветуемся, как лучше провести это собрание.ГЛАВА V Серебряный портсигар
1
Андрейку Чубатова застал на улице дождь, настоящий ливень. Мальчишка спрятался под карниз дома. Там он стоял долго. А дождь все лил, хлестал сверху упругими струями. От нечего делать Андрейка оглядывал по-утреннему малолюдную площадь. К соседнему дому, где находилась лучшая в областном центре гостиница «Восток», подъехал большой желтолобый автобус. Едва он остановился, из дверей дома с веселым шумом начали выскакивать люди и под дождем бежать наперегонки, стараясь поскорее попасть в сухое, теплое нутро машины. Во время этой толчеи из кармана у одного из бегущих вдруг вывалилось что-то блестящее и, мягко звякнув, упало на мокрую мостовую, рядом с колесом автобуса. Андрейка крикнул: «Эй, дядя!» Но дверцы уже захлопнулись, и автобус тронулся. Прикрыв голову от дождя продуктовой сумкой, Андрейка быстро подбежал к блестящему предмету, схватил его и тут же вернулся под карниз дома. Предмет оказался обыкновенным портсигаром. Андрейка попробовал открыть его, но ничего не получилось. Наверное, замок сломался.2
Бег времени всесилен и неудержим. Каждый день, сменяя день минувший, приносит новые заботы и волнения. Во вторник утром Маясов вызвал лейтенанта Зубкова и сказал: — Для вас есть новое задание… И объяснил, что вчера в отдел приходил слесарь экспериментального химзавода Смолин — принес найденный на улице областного центра уникальный портсигар, который когда-то принадлежал изменнику Родины, гитлеровскому карателю Букрееву. Надо выяснить все обстоятельства и начать розыск Букреева. Лейтенант внимательно выслушал начальника и ничего не сказал. — Вам понятно, что от нас требуется? — Так точно, товарищ майор. Маясов уловил, что это привычное «так точно» было произнесено без всякого энтузиазма. Ответ не понравился Маясову. Он подумал, что лейтенант, видимо чувствуя вину за недавнюю оплошность по делу Савелова, воспринял новое задание как некую воспитательную меру со стороны начальника. Работа по розыску бывших карателей и вообще преступников военного времени считалась среди сотрудников не особенно желательной: возни много, а результаты, даже при удачном исходе розыска, не доставляли профессионального удовлетворения. Для настоящего контрразведчика (которым в душе не мог не считать себя лейтенант) куда интереснее было заниматься действующими шпионами, чем ворошить архивы, искать очевидцев и свидетелей преступлений, совершенных много лет назад. Маясов приучал своих сотрудников к тому, что нет дел мелких или неинтересных, что в чекистской работе все важно и все серьезно. Поэтому он решил несколько расшевелить воображение лейтенанта и рассказать ему со слов Смолина предысторию подозрительной находки. Предыстория эта была такова. Впервые букреевский портсигар Федор Гаврилович Смолин увидел в партизанском лагере. Этот лагерь отряд готовил на зиму в районе урочища Кленовый яр. В тот погожий октябрьский день они копали траншею. Пошабашили на перекур. Смолин с цигаркой в зубах лежал под кустом, следил за полетом переливчатых паутинок в прозрачном воздухе. Внезапно знакомый голос вывел его из ленивого оцепенения: — Федор, поди-ко! Смолин поднялся, застегнул телогрейку и, прошуршав сапогами по белесой траве, подошел к своему младшему брату. Он сидел на покрытом свежим дерном бруствере. Рядом курил партизан из второй роты Букреев. Смолин немного знал его: на прошлой неделе вместе рубили в лесу слеги для землянок. — Гляди-ко… — Братишка подал Федору мягко блеснувший на солнце тяжелый серебряный портсигар. — С секретом, и воды никакой не боится! — И тут же с досадой посетовал: — Торгую вот у него, а он упирается. Букреев почесал в округло подстриженной бороде. — Сказано тебе, эта вещь фамильная, не для продажи… На том разговор и кончился. Еще раз судьба свела Федора Гавриловича с хозяином редкостного портсигара при обстоятельствах исключительных: во время боя с карателями, напавшими на отрядный лагерь. Это случилось на рассвете. Смолин проснулся от взрыва мины. Рвануло где-то поблизости у землянки. С потолка посыпалась сухая глина. Висевшие на стене ходики упали. Федор Гаврилович выбежал наверх. Партизаны, кое-как одетые, а кто и просто в одном исподнем и босиком, как могли отбивались от немцев. Выстрелы раздавались редко: в ход были пущены штыки, приклады и кулаки. Бой был неравный. Партизаны начали отступать. Смолин с братом прикрывали отход отряда, перебегая со своим «максимом» от одной позиции к другой, расстреливая наседавших гитлеровцев короткими очередями. После одной из перебежек, упав в неглубокую воронку от мины, Федор Гаврилович установил пулемет, привычно протянул руку за лентой. Но брат замешкался: патронная коробка не открывалась. Смолин хотел закричать на брата, но не закричал — страх сдавил сердце и лишил голоса: справа, из кустов, вдруг выметнулась группа немцев и устремилась к замолкшему пулемету. Не спуская с них напряженного взгляда, Федор Гаврилович онемело лежал с протянутой к брату рукой. Брат, плача и матерясь, обдирая пальцы и обламывая до крови ногти, пытался открыть патронную коробку. Уже различимы стали лица солдат, одетых в темно-зеленые шинели с оловянными пряжками ремней. Впереди, потрясая пистолетом, бежал сухопарый длинный унтер. Его лицо, небольшая борода, характерный наклон головы показались Смолину страшно знакомыми… Когда брату, наконец, удалось сбить каблуком барашек запора у патронной коробки и Смолин продернул ленту в приемник, немецких солдат, возглавляемых унтером, достать из пулемета было уже трудно: они залегли на скате высоты, в мертвом пространстве. «Теперь начнут донимать гранатами», — подумал Смолин. И не ошибся. Первым приподнял голову над белой от инея травой унтер. Сейчас Смолин еще лучше, чем прежде, увидел его лицо. Увидел и не поверил своим глазам: в пятнадцати шагах, за серым валуном, одетый в немецкий мундир, лежал партизан второй роты Букреев… Раздумывать над этим было некогда. Брошенная унтером граната, описав крутую дугу, упала в трех метрах от воронки, где лежали Смолины. Взрывом перевернуло пулемет. Братья снова поставили его на катки, но он уже не работал. Вынув из пулемета замок, Федор Гаврилович стал отползать вслед за братом к оврагу… Через несколько дней небольшая группа партизан пробралась в свой разгромленный лагерь. Они пришли, чтобы предать земле тела погибших товарищей. И тут Смолин опять услышал фамилию Букреева. Услышал, чтобы уж никогда не забыть ее! То, что раньше было лишь смутным подозрением, теперь не вызывало сомнений: произошло подлое предательство. На развилке лесных дорог, где находился один из сторожевых постов отряда, обнаружили труп партизана первой роты Сухова. Он был убит сзади ударом ножа в шею. А в трех метрах от убитого в густой траве нашли маленькие ножны с металлическим наконечником. — А ведь это, ребята, букреевская вещица! — сказал рябоватый снайпер Тюрин. — Узнал отца в тесте! — недоверчиво усмехнулся кто-то. — Букреев за три дня до налета ушел с Медведевым и Орленко в разведку. Откуда взяться тут его финке, если из разведки никто не вернулся? Смолин сразу вспомнил бородатого унтера, взял у Тюрина ножны. — Дойдем к комиссару!.. Федору Гавриловичу очень хотелось выяснить эту темную историю. Но так, к сожалению, и не удалось. Вскоре начались бои, стало не до Букреева. Потом эта история постепенно забылась. Но вот теперь, когда старик увидел знакомый портсигар, она неожиданно воскресла. Конечно, может статься, что владелец у этой вещи уже другой. Но что, если предатель и убийца жив? Что, если он топчет советскую землю, и, быть может, даже живет в одном городе с теми, кого предал девятнадцать лет назад?.. Когда Маясов рассказал обо всем этом Зубкову, тот с интересом спросил: — Вы, товарищ майор, кажется, тоже воевали в этих местах? — Да, — сказал Маясов. — Эта история мне знакома не только со слов Смолина. И он отошел к раскрытому окну. Пока лейтенант с любопытством разглядывал букреевский портсигар, изучая секрет его замка, Владимир Петрович курил, глядя на синюю кромку леса, видневшуюся над крышами домов. Это там, в Ченских лесах, в партизанском краю, начиналась его боевая жизнь. Он попал туда прямо со спецкурсов, на которые был направлен по комсомольской путевке как спортсмен-лыжник. В отряде — от рядового бойца до командира взвода — вдоволь хлебнул партизанского лиха. Вместе со Смолиным пришлось ему пережить горечь и унижение разгрома в урочище Кленовый яр осенью сорок второго года. В том же бою тяжело контузило жену Маясова — радистку отряда. Потом — служба в действующей армии. Особый отдел дивизии, а затем корпуса. Ранение на Одере. После лечения в госпитале Маясов демобилизовался и пошел в химический институт доучиваться. Став инженером, он около шести лет проработал ка Зеленогорском химкомбинате, а оттуда в 1954 году его направили в областное управление КГБ. Время было трудное, напряженное: полным ходом шла перестройка деятельности органов государственной безопасности. И вот снова Ченск. Город, в котором начиналась его боевая биография. И, быть может, поэтому стал он для него таким дорогим и близким.3
Поздним июльским вечером по шоссе из Ченска шел последний рейсовый автобус. Лучи фар вырывали из темноты унылую, навевающую дремоту ленту асфальта. В салоне автобуса всего несколько пассажиров. На диване у кабины водителя поклевывает загорелым до красноты носом старик крестьянин. Рядом с ним усталая женщина с неподвижным, ничего не выражающим взглядом. На руках у нее спит ребенок, завернутый в байковое одеяльце. В другом углу салона тесно прижались друг к другу парень и девушка. Оттуда то и дело доносится приглушенный смех и неразборчивый говор, тонущий в шуме ветра и рокоте мотора. У задней двери одиноко сидит человек в стареньком пыльнике с поднятым воротником. Лица его не разглядеть: он сидит, отвернувшись к окну, надвинув на глаза кепку. У ног его плетенная из прутьев корзина, с которой удобно ходить за грибами: легкая и вместительная… Мчится автобус, мелькают по бокам его беленькие придорожные столбики. Но вот, наконец, и короткая остановка. Глухо урча мотором, автобус прижался к обочине. Распахнулась дверь, пассажир в пыльнике подхватил свою корзину и шагнул в темноту. Подождав, пока автобус исчез за поворотом, он пересек шоссе, поднялся на крутой откос, постоял там с минуту, любуясь россыпью огней близкого селения, и зашагал по проселку в противоположную от деревни сторону. Пройдя километра два, человек с корзиной свернул с проселка на едва заметную в траве тропу, ведущую в лес. Зыбкий, неверный силуэт его окончательно растворился в непроглядной темени. Теперь слышались лишь слабый шорох раздвигаемых веток да сухое потрескивание валежника под тяжелой ступней. В одном месте, там, где человеку показалось, что он заблудился, дважды мгновенными вспышками загорался и тотчас гас луч карманного фонаря. И снова треск валежника в темноте. Человек шел по лесу, пока не достиг крохотной; стиснутой кустами полянки. Здесь он поставил свою ношу на землю, опустил воротник пыльника и чутко прислушался. Было тихо. Только чуть слышно шелестела листва над головой да откуда-то издалека приглушенный лесным массивом донесся протяжный гудок электровоза. Достав из-под тряпья в корзине саперную лопатку, человек опустился на корточки перед большим, поросшим мягким мхом камнем. Несколько сильных, резких движений лопатой — и тайник под валуном открыт. В яме — небольшой герметически закрытый чемодан. Человек вынул чемодан из тайника, поставил на широкий пень, снял крышку. Потом, нащупав пальцами гнездо, он выдвинул телескопическую антенну, аккуратно расправил «звездочку» на конце ее. Вынув из нагрудного кармана заранее запрограммированную «обойму» для передачи, он вставил ее в приемник, включил питание и нажал на пусковую кнопку. В ту же секунду из железного нутра радиоавтомата вырвался и унесся в черное, равнодушное ко всему небо прерывистый писк морзянки…Радиопередача из Ченского леса продолжалась всего одну минуту. Принята она была далеко на западе от этого места — в узком, длинном, ярко освещенном зале с высокими готическими окнами, надежно защищенными металлическими решетками. Вдоль стен — бесконечный ряд сложных, опутанных проводами приборов. Сюда, под сводчатый потолок этого зала, стекаются из эфира по чутким нервам мощных антенн тысячи тайных сигналов, которым предстоят еще сложные превращения, прежде чем хаотический цифровой набор обретет стройную форму сводок и донесений, отпечатанных на машинке на хорошей бумаге и доложенных по назначению.
4
В Западном Берлине есть две большие шумные площади. Их соединяет не менее шумная улица — широкая, многолюдная. А неподалеку, почти параллельно, протянулась другая улица — узкая и тихая, с потемневшими от времени островерхими домами в тени старых каштанов. В конце этой улицы за высоким забором из гофрированного железа стоит двухэтажный каменный особняк. На заборе, справа от калитки, — небольшая медная дощечка. Судя по надписи, в доме разместилась контора частной американской фирмы, ведущей торговые дела с СССР. Здесь действительно занимаются делами, имеющими отношение к Советскому Союзу. Но только не торговыми. В этом можно убедиться, если, открыв калитку, пройти асфальтированным двориком мимо гаража и зеленых кустов сирени, потом подняться по неширокой мраморной лестнице на второй этаж. Алая ковровая дорожка приведет к двойным дубовым дверям, за ними большой кабинет с дорогой старинной мебелью и высокими стрельчатыми окнами. В один из жарких июльских дней сюда вошла, почти вбежала, энергичная Элен Файн: — Вы позволите?.. Полковник Лаут сидел за столом без пиджака, в белой рубашке, с распущенным галстуком. Он недовольно поднял от бумаг седую, гладко причесанную голову. Ему не нравилось, когда его отрывали от работы в неположенное время. Каждый сотрудник должен знать свой час приема и не мозолить глаза начальнику без особой необходимости. Порядок есть порядок. К тому же Файн нарушила ход его мыслей, оторвала от важной работы. Работа эта была не только важная, но и срочная. На прошлой неделе Лауту позвонили по спецтелефону из Франкфурта-на-Майне, — там в здании бывшего химического концерна «И. Г. Фарбениндустри» находилась теперь европейская штаб-квартира ЦРУ, официально именуемая «Управлением специальных армейских подразделений». Оттуда сообщили: руководители всех филиалов ЦРУ, размещенных на территории Западной Германии и Западного Берлина, приглашаются на совещание по координации плана готовности к «Э-фалль». Совещание состоится в Берлине — Целендорф, Клейаллее, 170. В тот же день, после обеда, Лаут поехал на Клейаллее. Дом 170 занимал аппарат «Группы региональной поддержки американской армии», или, говоря по-иному, главный филиал ЦРУ в Западном Берлине — самый крупный разведывательный орган США в Европе. Начальник этого филиала Дейв Мерфи ознакомил Лаута с тезисами основного докладчика — директора ЦРУ и уточнил те вопросы, которые должен был осветить в своем двадцатиминутном выступлении сам Лаут. На другое утро Лаут уже засел за составление своего доклада. Присутствие на совещании главного шефа ко многому обязывало. Правда, вопрос о степени готовности к «Э-фалль» — «серьезному случаю», а говоря точнее — к военным действиям, для Лаута был не нов. Собственно, вся деятельность возглавляемого им филиала за последние годы была подчинена этой задаче. И не только его филиала. Это была «задача задач» всех секретных служб и агентурных организаций Западного Берлина, как определил ее однажды сам директор ЦРУ в своем специальном циркуляре. Основным в докладе Лаута на предстоящем совещании должен быть вопрос о решающих принципах создания агентурной сети в канун превентивных боевых действий. Вчерне эту работу он уже закончил. И результатами ее был доволен. Ему удалось сухую схему оживить новейшим опытом практики. Разумеется, практики возглавляемого им филиала. И кажется, перед директором ЦРУ ему краснеть не придется… Но работы оставалось еще немало. Бросив на стол карандаш, Лаут отрывисто спросил: — В чем дело? — Могу вас, наконец, обрадовать, шеф: у Никольчука оказался толковый преемник… — Файн положила на стол несколько листков, сцепленных прозрачным пластиковым зажимом. — Судя по этому донесению, Барсук активно включился в работу. Лаут кивком пригласил помощницу сесть и, постукивая пальцами по столу, начал читать отпечатанные на машинке листки. Файн внимательно наблюдала за выражением лица полковника, державшего в руке долгожданную шифровку из Ченска. Эта шифровка достоверно подтверждала, что работа по вводу нового агента в Ченское дело, наконец, завершена, а самое дело вступило в решающую фазу. Все последнее время Файн, в сущности, жила этим делом, думала о нем постоянно — разрабатывала по указанию шефа наиболее эффективные пути замены Никольчука Барсуком. Вначале Лаут считал этот вариант запасным. Но потом, когда Барсук, бывший агент гитлеровского абвера, был достаточно изучен, а затем перевербован (это сделала лично Файн), стало ясно, что именно он и будет преемником Никольчука. Барсук был введен в Ченское дело. После этого потянулись изнуряющие недели ожидания: что же принесла эта работа? Сама Файн уже никак не могла повлиять на ход событий, которым они вместе с Лаутом дали движение. Оставалось только надеяться, что это движение (пока невидимое и неконтролируемое) происходит в заданном направлении. И вот, наконец, этой неизвестности больше нет. Все прояснилось, встало на свои места. Замысел Лаута — через Барсука спутать чекистам карты — по-видимому, удался. Кончив читать донесение, полковник поднял голову от бумаг. — Что ж, пока неплохо. Он встал из-за стола, маленький, быстрый. Подошел к круглому инкрустированному столику в углу кабинета, нацедил из сифона стакан содовой. — Учтите, Элен: информация по экспериментальному заводу не должна залеживаться у Барсука ни одного лишнего часа. — Агент снабжен быстродействующим передатчиком, — сказала Файн. Лаут недовольно поморщился. — Только не радио… Даже автомат с часовой системой не гарантирует от пеленгования. Передайте Барсуку: отныне для него выход в эфир только в крайнем случае. — Полковник помолчал немного. — Необходимо найти более эффективный и безопасный способ связи… И вообще было бы целесообразнее направлять работу агента непосредственно из России. — Может быть, передать Барсука на связь посольской резидентуре? — Я уже подумал об этом. Что вы скажете относительно капитана Ванджея? — Гарри Ванджей?.. Я не совсем понимаю вас, шеф. — Все довольно просто. Ванджей давно просился на дипломатическую работу… — Теперь ясно… — Файн улыбнулась, хотя эта новость ее не обрадовала. Вот, оказывается, о какой «небольшой командировочке» трепался толстый Гарри месяца четыре назад. Что ж, скатертью дорога, как говорят русские. Ванджей, конечно, смелый и опытный разведчик. Но она терпеть его не могла. Хотя бы за то, что он сын богатейшего заводчика, а ее родители всего лишь простые клерки. Гарри никогда не испытывал нужды в деньгах и поэтому ни в чем себе не отказывал. Карьеру ему делали связи его семейства, а она, Элен Файн, подымалась по служебной лестнице только своими силами… Вот и теперь: чистая, безопасная работа под дипломатической крышей, интересная, новая жизнь в чужой стране, деньги, комфорт — что еще может желать профессиональный разведчик! Везет жирному борову… — И последнее, — прервал ее мысли Лаут. — Учитывая сложность задания, передайте Барсуку, чтобы в средствах он не стеснялся.5
В воскресенье Маясов с семилетним сыном Вовкой собирались поехать на целый день в лес, на озеро. Для этого у них уже все было приготовлено: и этюдник, и мяч, и желтый сачок. Однако заманчивый план пришлось поломать: утром из пионерского лагеря пришло письмо от Гали, дочери Владимира Петровича. Она просила отца купить и поскорее привезти ей (к дню отрядных соревнований) кеды и спортивные шаровары. Мужчины посовещались за завтраком и великодушно решили исполнить эту просьбу. А на озеро поехать в другой раз. Напившись чаю, они быстро собрались и вышли из дому. Походили по магазинам на своей улице — ничего подходящего не нашли. Решили ехать в центр. Сели на троллейбус, доехали до «Детского мира». Возле остановки, рядом с баней, был ларек. Тут продавали мыло, мочалки, веники. У окошечка стояло несколько человек. И среди них лейтенант Зубков. Он только что купил березовый веник — плоский, слежавшийся, и потряхивал им, чтобы расправить. — Виктор! — позвал Маясов. Зубков обернулся и вдруг смутился, увидев своего начальника. Маясов засмеялся: — Попариться захотел? — Да вот, после дороги… — Дело стоящее, — сказал Маясов. — Вы когда приехали? — Сегодня утром. — Ну и как? Лейтенант огляделся по сторонам, отвел Маясова на несколько шагов от ларька и, пока Вовка управлялся с мороженым и глазел на мочалки и веники, вкратце доложил о своей пятидневной командировке. — В общем подозрения по Узловой начисто отпадают, — сказал он под конец. — Значит, поездка ничего не дала? — Не сказал бы, — лейтенант улыбнулся. — Был еще второй автобус, ченский. — Ну, ну, выкладывайте. — Человек в плаще с погончиками, которого мы ищем, есть, по всей видимости, Ласточкин. — Ласточкин? — Да, помощник художественного руководителя Ченского дома культуры… Мне удалось выяснить, что он ездил с самодеятельностью на областной смотр и потерял серебряный портсигар. — Интересно, — задумчиво сказал Маясов. — Что ж, завтра об этом поговорим. И они распрощались. Зубков пошел к бане, а Маясов с Вовкой отправились в свой магазин. Но теперь у Владимира Петровича уже не было того душевного подъема, с которым он утром вышел из дому. Сообщение лейтенанта его озадачило. Маясов стал припоминать, что ему известно о Ласточкине. Это друг Игоря Савелова. Вместе строили честолюбивые планы, мечтали о славе на поприще искусства… Но каким образом мог оказаться у Ласточкина этот букреевский портсигар. «Да и букреевский ли он? — тут же спросил себя Маясов. — И вообще, не ошибся ли старик Смолин? Разве не может быть двух абсолютно похожих вещей? Правда, этот портсигар, по всему видать, делался на заказ. Вещь действительно уникальная. Оригинальная инкрустация, замок с секретом, вензель внутри на крышке: «АБ», что надо, вероятно, понимать как «Александр Букреев»… Нет, едва ли этот портсигар Ласточкина. Что-то здесь не то…» Вовка тянул отца за руку, Маясов как бы опомнился, и они влились в шумный людской поток, который подхватил их и понес под высокие своды самого большого и красивого магазина в Ченске.6
На другой день после разговора у бани Маясов и Зубков вместе разработали новый план розыска по делу Букреева. Прошло еще четыре дня, и лейтенант снова пришел к начальнику отдела: — Я хотел бы доложить о ходе розыска… Маясов взглянул на часы. Предстояли дела более срочные и важные, чем розыск бывшего карателя. — Чтобы не комкать вашего доклада, давайте встретимся завтра с утра, ровно в девять, — предложил Владимир Петрович. — Идет? — Нет, товарищ майор! — упрямо сказал Зубков. Маясов удивленно посмотрел на лейтенанта. — Что-нибудь стряслось? — Пока ничего не стряслось. Но… — Зубков помедлил. — Дело в том, что, хотя портсигар потерял действительно Ласточкин, хозяин у этой вещи совсем другой. — Кто же? — Портсигар принадлежит Савелову. — Что?! — Да, товарищ майор. Как выяснилось, к Ласточкину он попал случайно. Перед своим отъездом в область тот взял его у своего приятеля Игоря Савелова. Ну, просто, чтобы пофорсить. — А каким образом букреевский портсигар очутился у Савелова? Зубков ничего не ответил, и они с полминуты молча глядели друг на друга. Потом, обстоятельно расспросив лейтенанта, как ему удалось получить эти сведения, Маясов встал из-за стола и, мрачный, принялся шагать по кабинету. То, что рассказал Зубков, не укладывалось у него в голове. При самой необузданной фантазии нельзя было предположить такого оборота дела… Если сведения лейтенанта верны, надо немедленно выяснять, каким путем портсигар попал к Савелову. Промедление недопустимо. Потому что одно дело, когда вещь, ранее принадлежавшая изменнику, оказалась вдруг, скажем, у Ласточкина или какого-то иного нейтрального лица, и совсем другая картина, если к этой вещи имеет отношение Савелов. С одной стороны, преступник военных лет, пока неизвестно где и на кого работающий, а с другой — лаборант оборонного завода, которого подозревали в пособничестве агенту иностранной разведки Никольчуку. Маясов понимал, что самое простое в создавшемся положении — это поговорить с самим Савеловым. Парня можно вызвать в отдел повесткой или встретиться с ним где-нибудь в другом месте — как ему удобнее — и обо всем, что требуется, расспросить. И тогда окажутся излишними хитроумные окольные тропинки к истине. Вместо сложных и дорогостоящих оперативных комбинаций простой разговор по душам поможет сразу, без зигзагов выйти в розыске карателя на прямую магистраль. И не исключено, что скоро приведет к определенным, ощутимым результатам… Но к каким результатам? Вдруг окажется вопреки прежним выводам о Савелове, что он не такой, каким чекисты «открыли» его? Ну, не то чтобы вовсе не такой, а хотя бы частично? То, что Савелов не враг, — это вне всяких сомнений. Но могли ведь его запутать? Игнорируя пока предположение, что букреевский портсигар попал к Савелову случайно, оставалось допустить, что этот парень к разыскиваемому преступнику имеет, возможно, какое-то косвенное отношение. Но даже и в этом, лучшем случае, прямая беседа с Савеловым чревата серьезными последствиями, так как нет гарантии, что содержание беседы не просочится куда не следует. «А почему бы, собственно, такой гарантии не быть? — спросил себя Маясов. — Разве у меня нет веры в парня?» Он подошел к сейфу, вынул толстую тетрадь, в которую заносил различные пометки и соображения, когда вел дело Никольчука и Савелова, и стал ее перелистывать. Но ничего утешительного для себя там не нашел. Маясов позвонил по внутреннему телефону Дубравину — попросил его зайти. И когда тот пришел, кратко рассказал ему о внезапно осложнившемся деле. — Н-да, — пробасил Николай Васильевич. — Неужели поторопились мы с Савеловым? Маясов не ответил. — А что, если этот самый Букреев сейчас здесь, в городе? — приподнял голову Зубков, сидевший за приставным столиком. — Может быть, — сказал Маясов. — Все, Зубков, может быть. — Тогда нужно что-то срочно предпринимать! Ведь если Савелов связан с Букреевым и успел предупредить… — Теоретически, конечно, и это возможно. — Предлагаю, товарищ майор, вынести постановление о временном задержании Савелова, — сказал Зубков. Маясов внимательно посмотрел на него: — А стоит ли?.. Человек он путаный, с вывихом — еще более озлобится… Может, просто вызвать его? — А если не придет, скроется? — Мне кажется, дело не в том, придет или не придет, — заметил Дубравин. — Чужая душа — потемки. А вдруг Савелов действительно замешан. В таком случае, если вызовем или приведем его сюда — значит спугнем, испортим дело. — Выходит, чтобы прояснить ситуацию, надо искать какие-то окольные дорожки? — задумчиво проговорил Маясов. — Конечно. — Но это же явная потеря времени. — Иначе можем дров наломать. В конце концов Маясов решил: что бы там ни было, но рисковать конспирацией он не имеет права. И тут же подал Зубкову несколько листов чистой бумаги. — Пишите! Лейтенант достал авторучку. — План дополнительных оперативных мероприятий по делу о розыске изменника Родины Букреева… — начал диктовать Маясов. Он диктовал минут десять, лейтенант едва успевал записывать. Потом Маясов попросил прочитать план вслух. Пока Зубков читал, Владимир Петрович, казалось, не слушал его — тихонько постукивал карандашом по настольному стеклу, глядя куда-то в окно. — Ну как? — спросил он, когда лейтенант умолк. — По-моему, хороший получился план. — Да, план неплохой… — рассеянно проговорил Маясов. И, помолчав, неожиданно резко спросил: — А нужен ли он вообще?! Зубков непонимающе посмотрел на начальника. — К чему все-таки огород городить? — почти сердито сказал Маясов. Было похоже, что сердится он на самого себя, быть может, на свою нерешительность. — Зачем мудрить с каким-то планом, если можем поговорить с самим Савеловым? С этими словами Владимир Петрович взял у Зубкова четко исписанные листки и разорвал их пополам. И еще раз. Затем клочки полетели в коробку для испорченных и уничтоженных документов, стоявшую в нижнем отделе сейфа. — Вот что, — сказал лейтенанту Маясов. — Напишите-ка Савелову повестку на завтра… Пусть сам ко мне явится… Когда Дубравин и Зубков ушли, Владимир Петрович устало опустился в кресло, закрыл глаза, долго сидел так. Потом стал просматривать бумаги, принесенные секретаршей еще утром. Сложил их в папку, убрал в сейф. Взглянул на часы: рабочий день давно уже кончился. Но Маясов все не уходил из отдела, сидел за столом, сцепив длинные пальцы. Он ждал звонка от Зубкова. И, наконец, без четверти восемь дождался. Лейтенант сказал по телефону всего два слова: — Повестку вручил. Маясов вздохнул с облегчением: он преодолел минутную слабость, поборол собственное предубеждение против человека, которому раньше поверил прочно и до конца.Устав за необыкновенно трудный день, Владимир Петрович спал в эту ночь, как никогда, крепко. И поэтому не сразу услышал зазвонивший рано утром телефон. Когда проснулся, протянул руку к столику у кровати, снял трубку. Кто бы это мог быть? В телефонной трубке, неожиданно для себя, Маясов услышал взволнованный, торопливый голос директора химзавода. Даже не сразу узнал его: самоуверенный Андронов никогда не разговаривал таким тоном. Спросонок Маясов не вдруг понял, чего от него хотят. И только потом, когда директор повторил свои слова, до майора дошел, наконец, смысл сказанного: — Сегодня ночью убит Савелов…
ГЛАВА VI Две версии
1
Кто-то сказал: дремать сидя — профессиональная болезнь шофера. Может, это он вычитал где-то в сатирическом журнале или слышал от какого-то ехидного человека — есть еще такие. «Профессиональная болезнь» — придумают же… Нет, спать он не будет: не такой выдался нынче денек. Чтобы перебороть дремоту, Тюменцев вылез из машины, начал ходить туда-сюда по мягкому асфальту. Солнце палило нещадно. «При такой тропической погодке много не натопаешь», — сказал он себе и снова забрался под брезентовый тент «газика». Сел, закрыл глаза, натянул кепку до переносицы — и мгновенно уснул, будто в теплую воду опустили. Минут через тридцать, проснувшись, Тюменцев поглядел на часы и удивленно присвистнул: с того момента, как он подвез к дому милиции майора Маясова и лейтенанта Зубкова, прошло почти полдня. И неизвестно было, сколько еще придется торчать на этом пятачке под безжалостно горячим солнцем. Какие-то сумасшедшие были эти дни. Вчера утром, например, он по обыкновению подъехал к дому, где жил Маясов, и вдруг из окна услышал голос его тещи: — А Владимир Петрович давно ушел… Тюменцеву даже не по себе стало: уж не ошибся ли он, вовремя ли подал машину? Не получилось ли, как в прошлый понедельник, когда он опоздал на целых десять минут и майор ушел пешком. В то утро они с Арсением Павловичем Рубцовым были на рыбалке. И пожадничали, засиделись с удочками. А потом, на обратном пути, их еще задержало одно происшествие возле Дома культуры. У подъезда стояла толпа, и, когда они спросили, что случилось, какая-то бабка сказала: — Кассу, сыночки, ограбили. Да еще, говорят, музыкальные струменты из кладовой утащили. Приятели увлеклись, смотрели, как работают сотрудники уголовного розыска с собаками. Ну и опоздал Тюменцев… Зато после этого неприятного случая он старался во всем быть на высоте. Машина у него сияла, пол в гараже был посыпан песочком. Сам меньше зубоскалил и паясничал и даже бросил курить, решительно разорвал на глазах у майора недокуренную пачку сигарет. Правда, истинные причины этой самоотреченности Маясову были неведомы: Тюменцев всего лишь выполнял приказ своего тренера. И вдруг вчера, что называется нежданно-негаданно, опять опоздание. Обругав себя раззявой, Тюменцев повернул машину от дома Маясова, погнал ее обратно в отдел. И как только приехал, сразу же побежал наверх, к секретарше Нине. Эта Нина, между прочим, была влюблена в двоюродного брата Тюменцева — Николая. И поэтому Тюменцев позволял себе обращаться с ней запросто. — У себя? — спросил он про майора. — У воспитанных людей принято здороваться, — сказала Нина. — Здравствуйте, миссис. — Во-первых, не миссис, а мисс. — Пусть будет мисс, — согласился Тюменцев. — Ты лучше скажи, Маясов давно приехал? — Это мне нравится: ты его шофер, а меня спрашиваешь. У него сейчас Дубравин и Зубков… И вообще он сегодня, по-моему, не в духе. Тюменцев решил, что лучше пока воздержаться от объяснении с начальником. И направился было к двери, но Нина вдруг спросила: — Говорят, Николай жениться собрался? — Говорят. Нина перестала стучать на машинке. — И скоро свадьба? — Скоро. Как в новую квартиру въедет, так и сыграет. Да ты, мисс, не расстраивайся, на свадьбу позовем. — Дурак ты! — И Нина снова застучала по клавишам. Больше Тюменцеву здесь делать было нечего, и он отправился к себе в гараж читать «Пособие для тренировок боксера». Но вскоре туда прибежал лейтенант Зубков, велел подавать машину. Маясов уже был на улице, беспокойно ходил по тротуару. Он показался Тюменцеву небритым. Это удивило шофера. И вдруг в одно мгновение он все понял: Маясов утром так куда-то спешил, что не успел ни побриться, ни даже повязать галстука. Тюменцев привычно распахнул дверцу. Не поздоровавшись, майор хмуро приказал: — В уголовный розыск! Так было вчера. А сегодня Маясов и Зубков как засели почти с утра в кабинете у следователя, так невылазно и сидят там. Только в седьмом часу вечера они вышли из милиции. У обоих были потемневшие, осунувшиеся лица. Молча сели в машину. За всю дорогу не проронили ни слова. И лишь возле отдела, выходя из машины, Маясов сказал лейтенанту: — Завтра я еду в управление. Все другие дела отложите и займитесь еще раз протоколами допросов. «Да, — подумал Тюменцев, — видимо, что-то где-то стряслось серьезное». И повернул машину в переулок, чтобы отвезти Зубкова домой.2
Дождь провожал скорый поезд от самого Ченска. И казалось, ему не будет конца: все кругом заволокло хмарью, будто осенью. Устало привалившись плечом к стенке купе, Маясов снова и снова перебирал в памяти события последних дней. В то злополучное утро Андронов ему сказал: — В милиции считают, что Савелов убит своими же приятелями по шайке: что-то не сумели поделить… Я же говорил, что этот парень хорошо не кончит. Маясов тут же позвонил в милицию. Ему ответили, что к месту ночного происшествия как раз выезжает начальник угрозыска Шестаков. Маясов попросил, чтобы заехали за ним. И через десять минут в синей милицейской машине уже мчался к месту убийства. Это произошло неподалеку от дома, где жил Савелов, — в глухом переулке старого Ченска. Преступник, по всей видимости, настиг парня сзади, внезапно выйдя с ножом из-за угла двухэтажного деревянного дома.«Падло, делить надо по-божески…»— Это как понимать? — спросил Маясов про записку, когда с места преступления они приехали в уголовный розыск, в кабинет Шестакова, где на приставном столике было разложено содержимое карманов Савелова. Кроме записки, там лежали: перочинный нож, кошелек с мелочью, карандаш, блокнот, наполовину заполненный рисунками. — Наверно, что-то не поделили из ворованного, — сказал Шестаков. — Савелов вор? — недоуменно воскликнул Маясов, когда до него дошел смысл услышанного. — Сам видишь… — Чепуха! — Маясов бросил записку на стол. — Накрутили тут твои Шерлоки Холмсы. — Не спеши, Владимир Петрович, есть кое-что еще… — Шестаков вынул из ящика и протянул Маясову фотографию. — Ты этого типа знаешь? — Кто это? — спросил Маясов, мельком взглянув на снимок. — Женька Косач. Вор-рецидивист. — При чем тут Савелов? — При том, что накануне убийства их видели имеете. — Да?.. Маясов еще раз, и теперь уже внимательно, поглядел на фотографию угрюмого толстомордого парня. В тот же день Владимир Петрович ознакомился с заключением милицейской экспертизы. Там было отмечено, что отпечатков пальцев преступника не обнаружено ни на одежде убитого, ни на найденной при нем записке. Место на тротуаре, где было совершено нападение, преступник густо посыпал табаком. Все это говорило о его немалой опытности, умении замести следы, чтобы лишить органы следствия каких-либо улик. И все-таки следы остались: та самая записка, которую обнаружили в кармане Савелова. Именно ее Маясов считал самой существенной из улик. Разумеется, эта записка заинтересовала не только Маясова. На нее прежде всего обратили внимание работники уголовного розыска. По их предположениям, убийство было совершено из мести. Особенный интерес в записке представляла одна фраза:
«Заначенные инструментики твои плакали».Эти слова навели на мысль: не связано ли убийство Савелова с недавним ограблением кассы и кладовой музыкальных инструментов городского Дома культуры? А тут вплелись в дело еще два факта. Первый: Савелова дважды видели вместе с Женькой Косачом — вором-рецидивистом. Второй факт: из допроса работника Дома культуры Ласточкина выяснилось, что между ним и Савеловым как-то был разговор насчет денежных сборов кассы Дома культуры. При этом, как показал Ласточкин, Савелов очень удивился, что за билеты выручают такие значительные суммы. Все это и легло в основу версии уголовного розыска. Маясову эта версия вначале показалась стройной. Даже чрезмерно стройной. Но, поразмыслив, он отверг ее. Отверг потому, что знал о Савелове больше, чем коллеги из милиции. Вероятно, и они бы задумались над чрезмерной стройностью своей версии, если бы знали, например, об истории с букреевским портсигаром или о причастности Савелова к делу Никольчука. Ничего этого они не знали. А он, Маясов, знал и потому не мог принять их версии, хотя она выглядела достаточно убедительной. Самое трудное для Маясова состояло в том, чтобы вопреки очевидной правильности версии уголовного розыска доказать правоту своей, которая со стороны представлялась далеко не безупречной. При этом Маясов не мог свободно оперировать известными лишь ему фактами. Как трудно ему придется, Маясов понял, когда попытался поделиться своими сомнениями с начальником угрозыска, сказав ему, что, кроме их выводов, исходящих из анализа записки, могут быть сделаны и другие. Шестаков внимательно выслушал его и, поглаживая бритую голову, сказал: — Что-то мудришь ты, Владимир Петрович. Мы уж будем вести следствие так, как начали. Маясов не стал спорить. Он понимал, что Шестаков, не зная о Савелове всего, не мог действовать иначе. Рассказывать же ему это в с е майор не считал себя вправе, поскольку подобные вещи не входили в компетенцию органов милиции. О своей версии и своих сомнениях с исчерпывающей полнотой Маясов мог доложить только своему непосредственному начальнику. Ради этого, собственно, он и ехал теперь к генералу Винокурову.
3
Доказательство своей правоты равнозначно доказательству неправоты кого-то другого. Для Маясова докладывать начальнику управления о своей версии означало отрицать, критиковать, подвергать сомнению версию Ченского уголовного розыска. Резюмировал он так: — В милиции считают, что Савелов, по всей вероятности, убит соучастниками ограбления Дома культуры. Основанием для этих подозрений, как я уже доложил, служит записка, обнаруженная в кармане убитого. Несмотря на шаткость улик… — Почему же шаткость? — перебил его Винокуров. В этом вопросе, вернее, в тоне, которым он был задан, Маясов уловил явное недовольство: генералу, видимо, не нравилось, что Маясов так резко не согласен с уголовным розыском. И майор вдруг не то чтобы оробел, но на какой-то миг усомнился сам в себе, замешкался с ответом. И поэтому ответ его прозвучал не особенно убедительно. — Савелов, мне кажется, не мог стать грабителем… Генерал с чуть иронической улыбкой посмотрел на Маясова, потом перевел взгляд на своего заместителя — высокого, худощавого полковника Демина, который курил, сидя на подоконнике у открытого окна. — Разумеется, мое мнение не аксиома, — тут же сказал Маясов. — Но мнеказалось, что я понимал этого парня. — И каковы же ваши выводы? — спросил Винокуров. — Если предположить, что Савелов не участвовал в ограблении, значит он убит не грабителями, а кем-то другим. Но записка почти прямо наталкивает на мысль о его причастности к этому ограблению. Тогда возникает вопрос: может быть, тот, кто писал эту записку, так и хотел, чтобы следствие пошло по этому пути?.. Маясов помедлил, преодолевая волнение, и продолжал: — В таком случае напрашивается вывод: записка подкинута специально. А если это липа, то можно ли строить на ее основе следственную версию?.. Дальше. Савелов и Косач пили за одним столом в баре. Разве не могло это быть случайным совпадением? Что касается разговора Ласточкина с Савеловым о денежных сборах кассы, то стоит внимательно прочитать протокол допроса Ласточкина, чтобы увидеть: они говорили об этом просто так, между прочим. — Допустим, — сказал генерал. — И что же из всего этого следует? — Поскольку версия убийства по уголовным мотивам отпадает, логично предположить, что преступление вызвано какими-то иными причинами. — Конкретнее! — У меня сложилось два предположения. Первое: убийство Савелова, может быть, имеет какое-то отношение к истории с букреевским портсигаром, — сказал Маясов. И замолчал. — Так. Ну, а еще что? Маясов ответил не сразу. Обычно он говорил, как думал: живо, резко, быстро. Но сейчас, стиснув кулаки на коленях, он заговорил медленно и тяжело: — Остается предположить, товарищ генерал, что убийство Савелова каким-то образом, возможно, связано с делом Никольчука… — Вы понимаете, что вы говорите?! — генерал строго посмотрел на Маясова из-под густых бровей. Встал из-за стола, подошел к Демину, попросил у него сигарету. Неловко, как все некурящие люди, зажал ее между пальцев, стал прикуривать. — Убийство темное… — глухо заговорил Маясов. — Мне тяжело думать, что оно может иметь касательство к делу Никольчука. И все-таки я бы снова обратился к этому делу. — С какой целью? — спросил Винокуров. — Хотя бы за тем, что оно, быть может, натолкнет нас на правильный путь при расследовании. К тому же возврат к делу Никольчука означает… — Означает, — гневно прервал его генерал, — что работа по делу Никольчука была проведена вами не так, как нужно! Это вы хотели сказать? — Этого я не хотел сказать, — побледнев, ответил Маясов. Генерал продолжал ходить по кабинету, нагнув крупную голову, заложив руки за спину. Несколько поостыв, остановился перед Деминым: — А ты, Дмитрий Михайлович, что скажешь? — Мне кажется, игнорировать версию милиции, как это делает товарищ Маясов, еще рано… — Не верю я в это! — сказал Маясов. — Я предлагаю, товарищ генерал, дело Савелова из милиции взять. Я сам готов его вести. Винокуров ничего не ответил. Бросил в пепельницу сигарету, брезгливо понюхал пальцы. Сел за стол, взял в руки перочинный ножик и стал затачивать карандаш. — Нет, Владимир Петрович, вашу просьбу я удовлетворить не могу. — Генерал говорил уже по-обычному неторопливо, тщательно подбирая слова. — Преступление совершено не на объекте, где работал Савелов, а в городе. Значит, и расследование должна вести городская милиция. Это во-первых. А во-вторых, вы сами по профилю работы не следователь, и такое запутанное дело может оказаться вам не по плечу. Я прямо говорю, прошу не обижаться на меня. — Дело не в обиде. — Тем лучше. Теперь к главному. Предлагая возвратиться к делу шпиона Никольчука, вы сами-то представляете, что лично для вас это означает? — Вполне, — мрачно сказал Маясов. — Я вел дело Никольчука и Савелова, и если оно окажется проведенным плохо, ответственность несу я сам… Разрешите закурить, товарищ генерал? Винокуров кивнул. Пока Маясов делал первые жадные затяжки, он молча продолжал строгать карандаш, потом сказал: — Давайте сделаем так. Вы сейчас поезжайте к себе в Ченск и постарайтесь пока переключиться на другое. Да. А завтра к вам приедет Дмитрий Михайлович. Он следователь по профессии. С его помощью, я думаю, мы сумеем разобраться в этом деле. Маясов опять побледнел. — Так, понятно… Мне не доверяете? Меня в сторону? — Он рывком поднялся со стула и быстро пошел к двери. Демин хотел было вернуть майора, крикнул вслед: — Что еще за выходка, Маясов?! — Не надо, Дмитрий Михайлович, — остановил его генерал. — Пускай остынет, приведет мысли в порядок. В комнате наступила неловкая тишина. Демин отвернулся к окну, генерал рассеянно вертел в руках карандаш. — Мне кажется, — первым нарушил молчание Демин. — Маясов горячку порет, как всегда. Версия угрозыска достаточно обоснованна. — Не будем пока делать выводов. Приедешь в Ченск, на месте будет виднее. Генерал задумчиво глядел перед собой. Только что сказанные Деминым слова о горячности Маясова напомнили ему о разговоре в тот день, когда состоялось назначение майора на должность начальника Ченского отдела. Тогда Демин, не одобрявший этого назначения, заметил: — Маясов слишком горяч. Да и опыта у него маловато, чтобы возглавлять отдел на отшибе от управления. «Неужели он прав? — спрашивал теперь себя генерал. — Неужели я ошибся в Маясове?..»4
И опять скорый поезд монотонно выстукивал по рельсам. Только теперь он шел в обратном направлении. И по мере его приближения к Ченску все гуще и прекраснее становились леса. Маясов глядел на них из окна вагона, но думы его были далеки от того, что видели глаза. При всех своих опасениях майор не ожидал, что дело обернется столь круто. Ведь то, что произошло, равносильно неофициальному (пока!) отстранению его от должности. Как же иначе понимать командировку полковника Демина в Ченск? Он же там не будет сторонним наблюдателем, а сразу возьмет вожжи в руки, все поведет по-своему. А ему, Маясову, можно рассчитывать лишь на роль пристяжной лошадки. Это в лучшем случае… Первое, что Маясов почувствовал, когда вышел за двери генеральского кабинета, была обида: почему они, двое опытных чекистов, не захотели понять его, не пожелали вникнуть в то, что он пытался им втолковать? Видимо, потому, что он в их глазах всего-навсего «молодой чекист, недавно выдвинутый на руководящую работу». А несколько лет назад и вовсе не имевший никакого отношения к чекистскому делу: был инженером, сугубо штатским человеком. Разве можно всерьез считаться с ним в столь сложных обстоятельствах? Им было проще и надежнее поверить многоопытному начальнику Ченского уголовного розыска. Выйдя из здания областного управления КГБ, Маясов в расстройстве не сразу решил, куда ему надо идти. Знакомых у него в городе было много. Он направился к автобусной остановке. Но когда подъехал автобус, Маясов передумал. Зачем вообще куда-то ехать, кому-то надоедать, выслушивать сочувствия, утешения? Почему он должен плакать друзьям в жилетку? Он поехал прямо на вокзал. Ченский поезд отправлялся ровно в восемь. Когда Маясов, отстояв в очереди у билетной кассы, проходил мимо буфета, он вспомнил, что не ел с самого утра. Во рту было сухо и горько: за эти сутки он выкурил две пачки. И ему вдруг захотелось подойти к буфетной стойке, спросить коньяку и хватить так, чтобы забыться хоть на несколько часов. Но это, кажется, было бы бесполезно… Вагон, в котором Маясову пришлось ехать, был переполнен. Он вышел покурить в тамбур. И больше не возвращался почти всю ночь: глядел из открытого окна на мерцающие звезды в черном небе, глядел и думал не переставая. И то ли от холодного предутреннего воздуха или потому, что с каждым часом пути все более отдалялись дневные неприятности, мысли его постепенно делались менее хаотичными. Он опять вернулся к милицейской версии. Еще раз попытался рассмотреть ее без предубеждения. Каковы же доводы? Их три. Главный — записка. Написана печатными буквами. Следы пальцев отсутствуют. Ее стиль, обороты, блатные словечки — все говорит за то, что убийца из уголовного мира или хорошо знаком с ним. Женька Косач, например, судился за воровство два раза, он, конечно, знает, что для него в «мокром» деле лучше обойтись без отпечатков пальцев, потому что отпечатки Косача хранятся в картотеке уголовного розыска, где ему уже дважды приходилось «играть на рояле». Играть в третий раз Косачу нет резону. Довод второй. Савелова дважды видели вместе с Косачом. Первый раз на бегах — рядом сидели на трибуне — это было за несколько дней до ночного налета на Дом культуры. Затем — накануне дня убийства. Пили пиво в баре за одним столиком. Косач в чем-то убеждал Савелова. Игорь трижды порывался встать, но собеседник довольно бесцеремонно усаживал его на место. Их разговор кончился тем, что Косач вынул пухлую пачку денег, отслюнявил несколько купюр и подал Савелову, который сунул их в карман. Из бара они вышли вместе. Так себя вести случайно познакомившиеся люди едва ли могут. Здесь что-то другое. И наконец, довод третий. Разговор Савелова с Ласточкиным. Они сидели в служебной комнате Ласточкина в Доме культуры, в комнату зашла молоденькая кассирша. Она положила на стол газетный сверток, перевязанный шпагатом, сказала, что сейчас вернется, только на минутку забежит к бухгалтеру. На недоуменный взгляд приятеля Ласточкин объяснил, что кассирша сделала из него инкассатора: «Возим с Люсей деньги в банк». Савелов поинтересовался: помногу ли приходится возить и вообще большие ли сборы делает клубная касса? Ласточкин кивнул на сверток, предложил: «Угадай!» Савелов подержал сверток на ладони, сказал: «Смотря какие купюры». Ласточкин назвал приблизительную сумму. «Ого! — улыбнулся Савелов. — Как раз бы мне на мотоцикл, да еще с коляской». Потом разговор у них пошел о мотоцикле, который Савелов хотел купить, чтобы ездить на работу. Он уже начал копить деньги. «Неужели деньги? — вдруг спросил себя Маясов. — Ради денег некоторые способны на все, теряют голову». Он тяжело вздохнул. Ночной воздух, бивший в открытое окно, отдавал паровозной гарью. Если угрозыск прав, если тут замешаны деньги, то нет больше веры, которая давала силы бороться, отстаивать свою правоту. Значит, нет и не было того человека, в которого Маясов поверил. Он существовал лишь в его воображении. Маясов выдумал его таким, каким ему хотелось его видеть. Что это: просчет, ошибка? Несомненно. Но не просто ошибка. Возможно, он вообще впрягся в воз не по силам. После всего, что произошло, быть может, самое разумное набраться смелости и откровенно признаться: не горазд, не умею, отпустите туда, где могу приносить пользу. Маясов достал из кармана носовой платок, отер пот, выступивший на лбу. В висках тяжело стучало, от затылка по всей голове растекалась тупая боль.5
Теперь в кабинете Маясова поставили еще один стол. Для полковника Демина. Пристроили его у окна, слева от двери. Первое время Маясов не мог без смущения проходить мимо этого стола. Ему было как-то не по себе: его начальник сидит в углу комнаты, а он по-прежнему занимает в ней самое лучшее, самое удобное место. Но когда Маясов сказал об этом Демину, тот махнул рукой: — Пустяки… Маясову сперва показалось, что своим демонстративным безразличием к элементарным удобствам полковник, видимо, хочет смягчить тяжесть удара, так неожиданно обрушившегося на начальника Ченского отдела. Деликатничает, чтобы не задевать его самолюбия. По той же причине, наверное, отказался единолично занять весь кабинет, как предложил ему Маясов в первый же день: сам он хотел переселиться в кабинет к своему заместителю. Но Демин тогда сказал: «Не нужно мне никакого отдельного кабинета. Вы продолжайте работать, как работали. Я вам мешать не буду». Собственно, мешать стало и некому. На третий день после приезда Демина Маясову стало совсем невмоготу от головной боли. Он пошел в поликлинику. Оказалось, сильно подскочило давление. Ему предложили немедленную госпитализацию. Маясов отказался. — Не советую шутить со своим здоровьем, — строго заметила врач. Она отпустила несговорчивого пациента только после того, как он дал ей слово соблюдать предписанный режим. Проболел Владимир Петрович целую неделю. Врач советовала еще полежать дома дня четыре, но Маясов не согласился. Болеть ему сейчас действительно было некогда. Он лежал в постели, а мысли его были там, где шла напряженная, ответственная работа. Пусть не он руководил ею. В конце концов не это главное. Когда он вернулся в отдел, на него хлынула целая лавина вопросов. Демин почти не закрывал своего блокнота. Их разговор продолжался с небольшими перерывами три дня. За это время Маясов смог убедиться, какой деловой хваткой обладает этот болезненный на вид, седоволосый полковник, какая необыкновенная у него работоспособность. Ставя перед Маясовым вопрос за вопросом, Демин старался докопаться до самого дна, не оставляя для себя ни малейших «белых пятен» в деле. Такая скрупулезность нравилась Маясову, так как сам он презирал дилетантство в любых его проявлениях и умел ценить по-настоящему добросовестный труд. Это было дорого видеть еще и потому, что въедливость Демина не походила на ревизорство, или по крайней мере это было не только ревизорство. Когда неясных моментов поубавилось, Демин на некоторое время оставил Маясова в покое. И снова засел за папки, читая каждую подшитую в них бумажонку. Во второй половине дня он отправлялся в уголовный розыск: там еще продолжались допросы свидетелей. После ужина Демин снова приходил в отдел часа на полтора-два, чтобы по свежим впечатлениям, полученным на допросах, записать кое-что для себя. В один из таких вечеров он сидел в кабинете Маясова над раскрытым блокнотом. Но не писал, а только задумчиво глядел на бумажный лист. Ему припомнился разговор с начальником управления после дерзкой вспышки и ухода Маясова из генеральского кабинета. — Я понимаю Маясова и, откровенно говоря, не завидую ему, — сказал тогда Винокуров. — Ведь за этого Савелова ему пришлось выдержать настоящий бой. Маясов уверовал в его порядочность, и вдруг оказывается, что он вор и грабитель. Такое не сразу укладывается в голове. Но убийство — факт, а моральный, так сказать, облик Савелова — мистика, и вот рождается предположение о связи между делом об убийстве и прежним — о шпионаже. Какая тут может быть связь?.. Если допустить, что Савелов был сообщником Никольчука, шпионскую деятельность которого не сумели вскрыть, то для предположений есть широкие возможности. Логично считать, например, что Савелов убит теми, на кого он работал. Зачем, почему убит? Здесь уже труднее быть конкретным. Возможно, он стал больше не нужен своим хозяевам. Или слишком много знал о них. Или они заподозрили его в предательстве, потому что Савелов трижды вызывался в Ченский отдел КГБ. Но каковы бы ни были причины убийства, суть версии Маясова неизменна: при расследовании надо отталкиваться от прежнего дела — дела Никольчука. — Генерал остановился посредине кабинета. — А это что означает? Для Маясова это равносильно рубить сук, на котором сидишь. И Маясов его рубит: своей версией по делу об убийстве он допускает несостоятельность своих прежних выводов по делу о шпионаже. — Но это же явное неверие в себя, — сказал Демин. — Неверие в себя? — переспросил Винокуров. — Однако не всякий на это пойдет. Нужна смелость. Ведь Маясова за язык никто не тянул. — Генерал помедлил. — Но главное не в этом. Какая бы из версий — милицейская или маясовская — ни оправдалась, Маясов все равно остается в проигрыше. И он сам это понимает… Сейчас Маясов ратует за свою версию. Что ж, это его право. Но беда в том, что его аргументация исходит только из того, что Савелов, мол, по своей натуре не мог стать вором. Короче говоря, Маясов руководствуется больше своими чувствами, чем логикой фактов. А это для контрразведчика опасно: может помешать добраться до истины. Припомнив эти слова теперь, Демин подумал, что его командировка в Ченск оказалась полезной во многих отношениях. Он на месте изучил оперативную обстановку, без чего невозможно было определить, правильно ли велось дело Никольчука и Савелова. А не решив этого вопроса, нельзя было подступиться к другому — о реальности версии Маясова. Сейчас Демин был близок к тому, чтобы дать обоснованный ответ на этот вопрос. Но ему требовалось еще несколько дней работы над протоколами допросов, и потом он хотел поговорить с рабочими экспериментального завода, знавшими Савелова.ГЛАВА VII Время не ждет
1
Демин не смог закончить свою работу. Однажды утром его неожиданно вызвал к телефону генерал Винокуров. Разговор был короткий. Положив трубку, Демин спросил: — Когда ближайший самолет? Маясов заглянул в расписание, лежавшее на столе под стеклом. — Ровно в одиннадцать. Демин быстро собрал со стола бумаги, сложил их в сейф. Ключ от сейфа отдал Маясову. — Поговорим, когда вернусь. Направление работы остается пока прежнее… И уехал. И не возвращался в отдел вот уже пятый день. Все это время Маясов чувствовал себя связанным по рукам и ногам. «Направление работы остается прежнее…» Это надо понимать, видимо, так: расследование по делу Савелова продолжают органы милиции, а он, Маясов, и его сотрудники по-прежнему выжидают, стоят в сторонке, занимаются другими вопросами. Но ведь эти «другие вопросы» не идут ни в какое сравнение с делом Савелова. К тому же это дело в настоящий момент приобрело для него, Маясова, принципиальное значение. И пожалуй, не только для него. Для всего Ченского отдела. Но самое главное — с каждым днем уходило дорогое время… На шестые сутки Маясов не выдержал: решил действовать. Для этого у него все уже было обдумано и подготовлено. В половине двенадцатого он приказал Тюменцеву подать машину и поехал в уголовный розыск. За эти дни к подполковнику Шестакову он наведывался часто, интересовался, нет ли чего новенького. Сегодня Владимир Петрович приехал к нему с просьбой разрешить провести некоторые оперативные мероприятия параллельно с мероприятиями уголовного розыска. Без этого разрешения Маясов действовать не хотел, опасаясь помешать сотрудникам милиции. Шестаков не возражал. Он только сказал, чтобы Маясов информировал его обо всем, что будет представлять интерес для уголовного розыска. Выйдя из милиции, Маясов отпустил Тюменцева на машине обедать, а сам пошел в отдел пешком. После болезни у него временами еще побаливала голова. День был жаркий, и он свернул на бульвар, в тенистую аллею. И пока шел по ней, все время думал об одном — о своих предположениях, реальность которых решился доказать. Собственно, на это его вызвала сама обстановка. Но, как бы там ни было, отступать он теперь уже не мог. И не потому, что нуждался в реабилитации, а потому, что не считал себя вправе бросить на полпути начатые поиски истины. Только этим он и руководствовался. Отчего он не приемлет милицейской версии? Оттого ли только, что Савелов, по его соображениям, вообще не мог стать вором, а тем более обворовать кладовую музыкальных инструментов, материальная ответственность за которые лежала на его друге Ласточкине? Или на то были еще какие-то причины? Маясов знал по личному опыту и не раз слышал от других чекистов, что дела о шпионаже, кроме всего прочего, характерны одной особенностью: про многие из них никогда нельзя сказать: все сделано. Такое утверждение невозможно даже в том случае, если дело уже сдано в архив, а его объект — шпион — получил по заслугам. Ведь шпион почти никогда не действует в одиночку. И если пойман он сам, это еще не значит, что сделано все: у него могут оказаться невыявленные помощники. В деле Никольчука среди других не выясненных до конца обстоятельств было одно, вызывавшее особенно серьезные подозрения. Как показал Никольчук, Барбара Хольме — связник западноберлинского разведцентра — от имени полковника Лаута дала ему зимой новые установки, а именно: переключить свое внимание с Ченского экспериментального завода на Зеленогорский химический комбинат. Для организации работы на новом месте Никольчук попросил у нее денег. Барбара Хольме сказала, что нужная сумма уже предусмотрена шефом. И тут же сообщила о тайнике, из которого в назначенный день Никольчук может взять деньги. Тайник находился якобы на Староченском кладбище, под мраморной плитой крайней могилы девятого ряда. Однако этих денег Никольчук не получил. Более того, сходив на кладбище, он убедился, что в том месте, о котором сказала Хольме, едва ли вообще можно было устроить тайник: могила просматривалась буквально со всех сторон. В общем место не понравилось Никольчуку. И он ушел с кладбища ни с чем, изругав глупую бабу, которая не сумела найти более надежного тайника для его денег. Потом он наведывался сюда еще несколько раз. И все напрасно. Денег так и не положили. Маясов со своими сотрудниками тоже тщательно обследовал это место на кладбище. И им оно тоже показалось не особенно подходящим для тайника. А специальная экспертиза подтвердила, что провал в земле под мраморной плитой ничем посторонним никогда не заполнялся: структура почвы была не нарушена. После этого капитан Дубравин высказал предположение: не перепутал ли Никольчук названное ему место? Начали искать по всему кладбищу. Оно было невелико. Но ничего похожего на тайник так и не нашли. В поисках разгадки, почему агенту не были доставлены обещанные деньги, Маясов и его помощники перебрали не одну версию, пока не пришли к такому выводу: деньги Никольчуку не принесли, видимо, потому, что с переменой устремлений лаутовской разведки с экспериментального завода на Зеленогорский химический комбинат роль Никольчука поручена кому-то другому, находящемуся, по всей вероятности, в Зеленогорске. При подобных обстоятельствах разведцентр счел излишним посылать крупную сумму в Ченск, Никольчуку. Когда Маясов докладывал начальнику управления свои соображения по этому поводу, тот в общем одобрил их. Однако тут же предостерег майора, чтобы он не слишком увлекался созданной версией. — У противника, конечно, свои планы, — сказал генерал Винокуров. — Не исключено, что, не добившись желаемого на Ченском экспериментальном, решили попытать счастья в Зеленогорске. Но имейте в виду, Владимир Петрович, Зеленогорский продукт «Б» хоть и разновидность ченского топлива, однако во многом ему уступает. Поэтому вашей главной задачей было и остается обеспечение безопасности экспериментального завода. Что касается Зеленогорского химкомбината, то тут мы с вами обязаны кое-что предпринять… Маясов сразу же освободил от всяких других обязанностей капитана Дубравина и поручил ему заниматься только тем, что так или иначе помогло бы выйти на след возможного «преемника» Никольчука в Зеленогорске. Никто не мог сказать, чем бы закончилась эта работа, сколько времени пришлось бы действовать в новом направлении, если бы не вспышка чрезвычайных событий. Сперва вдруг выяснилось, что принадлежавший изменнику Родины уникальный портсигар оказался у лаборанта оборонного завода. Не успели разобраться с этим, как произошло другое: лаборант был кем-то зверски убит. Случайно ли такое совпадение? И нет ли связи между этими событиями и прежним делом Никольчука, в котором тоже был замешан лаборант Савелов? Чтобы еще раз проверить прежнюю версию, Маясов и Дубравин в один из дней поехали на Староченское кладбище. — Нет, не подходящее это место для тайника! — решительно сказал Маясов, как только они подошли к заросшей могиле поблизости от разрушенной почти до основания кирпичной стены, за которой открывалась панорама лежащего в низине города. — На версту кругом все видно. — Да и сам тайник — мокрая дыра, — заметил Дубравин. — Лично я ни за что бы деньги сюда не положил. Они присели возле мраморной могильной плиты, рассматривая небольшой провал под ней с одной стороны. — А может, темнит Никольчук? — Дубравин поднялся с земли, отряхнул руки от налипшей глины. — А какой ему смысл? — Деньги всегда деньги. Расчет простой: отсидит, выйдет, пригодятся. — Может, и так, — задумчиво сказал Маясов. — Только мне что-то в это не верится. У меня такое впечатление, будто он даже рад, что очутился, наконец, у нас. Выкладывал как на духу. И похоже, не врал. — Но ведь не бывает же так: центр дает агенту новое задание, а денег для его выполнения не доставляет? — Не бывает… — Что же получается? — А как ты думаешь? — вопросом на вопрос отозвался Маясов. — Стою железно на своем выводе: денег для Никольчука в этот тайник не только не клали, но и не собирались класть. Если полковник Лаут заинтересовался Зеленогорским химкобинатом, зачем же посылать деньги в Ченск, Никольчуку? — Короче говоря, роль Никольчука поручена кому-то другому, находящемуся в Зеленогорске? Так ты считаешь? — Да… А ты? — спросил Дубравин. — Разве это не наше общее мнение? — Я тоже так думал… до убийства Савелова и этой странной истории с портсигаром. — А теперь? — Собственно, в главном я и теперь того же мнения: Никольчук, видимо, выведен из игры. — Так в чем же дело? — А в том, что преемник его, возможно, действует не в Зеленогорске, а скорее всего здесь, в Ченске. — Занятно! — сказал Дубравин. Немного помедлив, продолжил: — Впрочем, резонно. Ведь эти непонятные события, связанные с находкой портсигара и убийством Савелова, произошли не где-нибудь, а здесь, в Ченске. — Это одна сторона дела, — заметил Маясов. — Я уже тебе говорил: куда бы ни стремилась американская разведка — в Ченск или Зеленогорск, мы должны хорошо помнить: зеленогорская продукция — это вчерашний день Ченского экспериментального. — Об этом полковник Лаут может и не знать. — А если знает? — А если знает, то его людям нечего делать в Зеленогорске. — В том-то и дело… Они помолчали. Потом, закурив, Маясов сказал: — И еще такая деталь… Наша радиослужба в июле засекла выход в эфир неизвестной быстродействующей рации. — Запеленговали? — Точный пеленг не получился. Но ориентировочно — Ченский лес… Понимаешь: опять район Ченска, а не Зеленогорска!.. Но этим не исчерпывалась сложность обстановки по делу. Ведущие от него нити были незримо, но крепко переплетены с нитями того дела, над которым работала ченская милиция. Чтобы не порвать их, требовалась величайшая осмотрительность при распутывании клубка. И ничем другим, как соображениями этой осмотрительности, нельзя было объяснить наказ полковника Демина перед его отъездом из Ченска: «Работу пока вести в прежнем направлении». По крайней мере так это понимал Маясов. Но Маясов понимал и другое: никто так не знал обстановку по этому делу, как он сам. И там, где Демин, принимая то или иное решение, может быть, колебался из-за недостаточного знания всех обстоятельств, для Маясова подобных сомнений не было. Отчасти поэтому он теперь и решился на активные действия до возвращения заместителя начальника управления в Ченск. В новом оперативном плане Маясов в числе прочего наметил побеседовать с Ласточкиным и Булавиной, людьми, наиболее близко знавшими Савелова. Хотя и Ласточкин и Булавина уже вызывались в милицию как свидетели, Маясов считал необходимым с ними поговорить еще раз. Причем в обстановке, не напоминающей допроса. Особенно нужным был разговор с Булавиной, в отношении которой появились новые сведения. Обе беседы Маясов вначале думал провести сам, но, поразмыслив, решил послать к артистке капитана Дубравина: может быть, обаяние заядлого театрала сыграет свою роль. Сам же он поехал в Дом культуры — к Ласточкину. Через три часа Владимир Петрович вернулся в отдел. К сожалению, его разговор с Ласточкиным не много прибавил к тому, что уже было известно. Вскоре вернулся и Дубравин. Несмотря на жару, он был в полном параде: новый светло-коричневый костюм, белоснежная рубашка и хорошо повязанный галстук. Прямо с порога капитан сказал густым басом: — Или эта кареглазая что-то темнит, или я ни шута не понимаю в людях! Маясов удивился. Он достаточно хорошо знал этого могучего, добродушно-спокойного человека. Знал, что он умеет ровно держать себя в любых обстоятельствах. Сейчас же Дубравин был явно не в своей тарелке. — Ну, ну, рассказывай! — нетерпеливо предложил Маясов. То, что капитан сумел выудить из беседы с Ириной Булавиной, заинтересовало Маясова новизной некоторых деталей, которые могли повернуть дело совсем в другом направлении. Когда Дубравин закончил свой рассказ, Владимир Петрович спросил: — Так, говоришь, портсигарчик смутил ее? — В этом вся соль… — Хорошо! — Маясов поднялся из-за стола, открыл сейф, вынул из него тощую папку с делом о розыске Букреева и начал быстро листать, что-то отыскивая. Наконец нашел, уткнулся в какой-то лист, забыв о сидящем в кабинете Дубравине. Потом, видимо, вспомнив, сказал: — Поработал ты, Николай Васильевич, неплохо. Иди отдыхай. Когда капитан ушел, Маясов начал снова читать букреевское дело. В седьмом часу вечера он закрыл папку, отодвинул ее от себя. Некоторое время сидел неподвижно, уставив невидящий взгляд куда-то в стену. Потом вдруг сказал негромко: — Теперь при помощи Шестакова и попробуем все повернуть! — И решительно протянул руку к телефону.2
Остро необходимого разговора с начальником уголовного розыска у Маясова в тот вечер не получилось: дежурный сказал, что подполковник уехал из отдела «ровно в семнадцать ноль-ноль». «Ишь ты, какой пунктуальный стал, — досадливо усмехнулся Маясов. — Что-то на него не похоже…» Наутро, прямо из дому, Владимир Петрович поехал в милицию. Шестаков был у себя. Он сидел за столом, через лупу разглядывал лежавший перед ним фотоснимок. Вид у подполковника был нездоровый: лицо желтоватое, под глазами мешки. — Загрипповал, что ли? — спросил Маясов. Шестаков не ответил, только кивнул, приглашая сесть. — Нового ничего нет? — привычно поинтересовался Маясов. Шестаков мрачно усмехнулся: — Ты что, думаешь, если к нам будешь через день ходить, то расследование ускорится? — А кто же вас подталкивать должен, как не я, — шутливо сказал Маясов. Но Шестаков не принял шутки. — Я тебе, Владимир Петрович, уже говорил: пока Женьку Косача не разыщем, едва ли распутаем этот клубок. — Ладно, — сказал Маясов, — я сейчас не за тем приехал. И он коротко рассказал, что удалось узнать за последнее время о любовнице Савелова — Булавиной. — В общем ведет она себя как-то неестественно и в высшей степени нервозно, — заключил Маясов. — Для нас это не новость, — сказал Шестаков. — В ее положении спокойной быть нельзя. — Отчасти правильно. Но если это горе и искренне то за ним стоит что-то еще, какой-то непонятный страх… И другое припомни: ее показания здесь, в милиции, — из допроса в допрос одно и то же, со скрупулезной точностью, будто зазубрила. — И что же ты предлагаешь? — Мы к этой артистке не первый день присматриваемся. А теперь я пришел к выводу, что прежний план действий надо поломать и все повернуть по-другому. — Давай точнее. — Предлагаю вызвать Булавину к нам, в КГБ, допросить ее вполне официально и при этом посмотреть, как она станет реагировать. Это будет началом… — Обожди! — Шестаков протестующе подняв широкую ладонь. — У нас с полковником Деминым договоренность: мы ведем следствие и вас информируем. Что касается твоей затеи, я не вижу в ней необходимости: в милиции ли допрашивать Булавину или в КГБ, какая разница? — Есть разница, и большая! — горячо сказал Маясов. — К допросам в милиции Булавина, если хочешь, привыкла. Вызов же в КГБ заставит ее взглянуть на происходящее с иных позиций: почему это вдруг органы госбезопасности заинтересовались этим, так сказать, сугубо уголовным делом? Короче говоря, новая обстановка должна вызвать у нее новую реакцию. Шестаков задумчиво погладил бритую голову, сказал: — Нет, Владимир Петрович, на это я не могу пойти. Посмотрев на его плотно сжатые губы, Маясов понял, что дальнейший разговор с подполковником бесполезен: он сейчас находился в таком состоянии, что его раздражало всякое неосторожно сказанное слово. И виной, видимо, была болезнь. Перед тем как уехать к себе в отдел, Маясов от Шестакова прошел в комнату следователя, попросил у него протоколы допроса Булавиной и, пристроившись у круглого столика, покрытого зеленым сукном, начал их перелистывать. Сделав три коротенькие пометки в записной книжке, Маясов вернул протоколы следователю. — Спасибо… Кстати, что с Шестаковым? Какой-то он сегодня странный. Следователь снял очки, близоруко прижмурил глаза. — У него, Владимир Петрович, горе. Вчера единственную дочь похоронил… Порок сердца… В двадцать-то лет! Маясов ничего не сказал. Молча пожал руку следователю и вышел из комнаты. Спустившись с лестницы, он пошел опять к Шестакову. Быть может, стоило попросить извинения за то, что так не вовремя и бесцеремонно полез к нему со своими делами. Маясов открыл дверь. И тотчас плотно притворил ее: в кабинете начальника уголовного розыска на стульях, расставленных вдоль стены, сидело человек шесть сотрудников. Сам подполковник что-то негромко говорил, постукивая о стол рукояткой лупы. По всей видимости, шло оперативное совещание. Маясов с минуту постоял в нерешительности, потом пошел к выходу. Всю дорогу до отдела, сидя в машине, он мрачно молчал. Было скверно от сознания собственного бессилия помочь человеку, оказавшемуся в беде. У себя в кабинете Маясов долго сидел, раздумывая над сложившейся обстановкой. В конце концов начальник областного управления КГБ рано или поздно должен узнать о его самовольно начатых действиях. Владимир Петрович снял трубку с белого телефона, набрал номер. Поздоровавшись с генералом, стал с помощью переговорного кода докладывать о том новом, что выявилось по делу Савелова в последние дни. Закончил он просьбой о разрешении на допрос Булавиной. Винокуров помолчал, потом сказал: — Не возражаю. Но все же посоветуйтесь на месте с Деминым. Он сегодня вылетел к вам.3
Если отбросить все чисто психологическое и потому в какой-то степени субъективное, то фактически полученное капитаном Дубравиным из беседы с Булавиной сводилось к тому, что она действительно видела у Савелова серебряный портсигар с орлом на крышке. С этого фактического, точно установленного и начали допрос Демин и Маясов. Ирина Булавина в белой нарядной кофточке сидела у столика, приставленного к большому письменному столу, за которым устроились Демин и Маясов, — оба в офицерской форме, с орденскими колодками на кителях. Отвечая на вопросы, Булавина то и дело прикладывала кружевной платочек к своему пряменькому носу, пила воду из стоявшего перед ней стакана. Однако, несмотря на свое явное беспокойство и неуверенность, она долго ничего не хотела прибавить к прежним показаниям, данным ею в милиции. А между тем и Демину и Маясову было ясно, что эта молодая красивая женщина с карими блестящими глазами что-то недоговаривает.4
«Цок, цок, цок, — четкие, гулкие звуки болью отдавались в затылке. — Цок, цок, цок». И вдруг они сразу оборвались. А боль в голове осталась. И Ирина поняла, что так оглушительно цокали ее собственные высокие каблуки. Свернула с тротуара на бульвар и зашагала по дорожке, посыпанной желтым песком. Она опустилась на первую же скамейку. Вздохнула, запрокинула голову, чтобы унять боль. Думать ни о чем не хотелось. Только неподвижно сидеть — отдышаться, успокоиться, собраться с мыслями… Ей было нестерпимо обидно. Почему она должна страдать, таиться, фальшивить? Давно уже она не знает ни минуты покоя. День и ночь настороже. Стала рассеянной и уже не одно замечание от режиссера получила из-за этого. Сколько ей пришлось пережить, переплакать втихомолку. Но кому она может открыться? Открыться в том, что перестала спокойно спать… Ведь ее отец не просто попал в плен, не по воле случая, а с умыслом изменил Родине. Всю войну служил гитлеровцам, а теперь, видимо, перепродался новым хозяевам. А если об этом станет известно там, где она только что побывала? Ведь она скрыла на допросе все, что узнала от Рубцова об отце. Сцепив на коленях пальцы, Ирина стала вспоминать, как и с чего началась эта, измучившая ее до «редела, история. Летом сорок шестого года, в жаркий полдень, они с матерью и отчимом шли по пыльной Болотной улице. И там, возле дома с тесовым заборчиком, повстречали Рубцова. Когда отчим ушел в парикмахерскую, они втроем присели на теплую от солнца скамеечку у забора, и мать сказала Ирине, что Арсений Павлович до войны был товарищем ее погибшего отца. — Почему же до войны? — заулыбался Рубцов. — И в войну вместе горе хлебали. — Простите, — сказала мать и тут же попросила рассказать обо всем, что ему было известно об Александре Букрееве. Рубцов стал рассказывать, от волнения беспрестанно поправлял закатанные рукава рубашки на загорелых жилистых руках. Он хотел закурить — вынул из кармана портсигар, достал из него папиросу. И тут увидел глаза матери, смотревшие на этот портсигар. Арсений Павлович смутился. — Да, да, это Сашин портсигар, — сказал он. — Однажды мы решили обменяться чем-нибудь на память. — Рубцов помедлил. — Но теперь, Валентина Петровна, эта вещь по праву должна перейти к вам. Булавина с побледневшим лицом подержала портсигар в ладонях, потом молча передала дочери. Ирина попыталась его открыть, но не смогла. — Он с секретом, — сказала ей мать. — Надо нажать на орлиный глаз. Положив портсигар на колени, Ирина изо всей силы надавила пальцем на черное зернышко орлиного глаза. Послышался четкий щелчок. Раскрыв портсигар, как книгу, девочка увидела на золотистой внутренней стороне крышки тонкую паутинку гравировки вокруг букв «АБ». Это было все, что осталось от отца. С этим портсигаром он ушел на войну. Портсигар вернулся, а его хозяин не вернется никогда. У девочки задрожали губы, она заплакала. Мать взяла у нее портсигар и протянула его Рубцову. Но Арсений Павлович протестующе поднял руки, убежденно сказал: — Нет, нет… портсигар должен принадлежать вам. Как память о Саше. — Память о нем, — тихо сказала мать, — самое дорогое для меня… Так Ирина впервые узнала о существовании отцовского портсигара. Тогда, в сорок шестом году, ела, разумеется, и не предполагала, что эта красивая серебряная коробка еще сыграет в ее жизни какую-то роль. Она попросту забыла о ней. Однако теперь, через пятнадцать лет, отцовский портсигар снова напомнил о себе, и при таких неприятных обстоятельствах. Ирина встала со скамейки и пошла по аллее, ведущей с бульвара на улицу. Было душно, парило. Листья на липах вяло обвисли. Подходя к своему дому, Ирина замедлила шаг, потом остановилась. Здесь, на углу, возле продовольственного магазина, тесно прижавшись друг к другу стеклянными боками, стояли телефонные будки. Ирина раскрыла сумочку и стала искать двухкопеечную монету. Она искала долго, медленно — оттягивала время, напряженно думала: «Позвонить — попросить совета или не делать этого, потому что, быть может, совсем с другого конца надо начинать?» И все же,наконец, решилась. Вошла в будку, плотно притворила дверь. Номер она запомнила: 2-37-35. Палец потянул диск вправо и вниз: один раз, второй, третий, четвертый. И вдруг нерешительно замер на последней цифре «5». Как будто его приморозило. Прошло, наверное, не меньше минуты. Рука, застывшая на диске, делалась все тяжелее. Ирина повесила трубку, привалилась затылком к стеклянной стенке.5
В пятом часу вечера Маясову позвонил Зубков. — Артистка пришла домой, — торопливо доложил он. — Прошу записать номер, по которому она пыталась с кем-то связаться по телефону. — Почему «пыталась»? — не понял Маясов. Зубков коротко рассказал, как вела себя Булавина в телефонной будке. И опять попросил скорее записать номер. Видимо, времени для обстоятельного доклада у него не было. Маясов записал цифры и сказал: — Это же неполный номер. — Последнюю цифру, товарищ майор, точно установить не удалось. — Продолжайте наблюдение… Маясов вызвал капитана Дубравина и приказал выяснить номер абонента, которому хотела звонить Булавина. Дубравин ушел. А Маясов опять стал ждать. Ровно в пять вернулся из столовой Демин. Они просидели вдвоем до девяти. И все напрасно. Артистка не возвращалась. Кажется, их предположения оказались слишком оптимистическими. Не пришла Булавина и на другой день. И на третий, в субботу, она тоже не явилась. Впрочем, в субботу о ней почти не вспоминали. Потому что с утра произошли два события, которые не могли не взволновать всех, кто работал по делу Савелова, и особенно самого Маясова. В половине десятого позвонил начальник уголовного розыска Шестаков. Он сообщил, что прошедшей ночью удалось арестовать Женьку Косача. — Если есть время, приезжайте, — пригласил подполковник. Демин сказал, что поедет в милицию сам. Маясову оставалось лишь молчаливо согласиться. Как ни хотелось ему поговорить с этим вором, поехать на допрос он не мог: его уже ждал Дубравин. Сразу же, как только Демин уехал, Маясов пригласил капитана к себе. Дубравин вошел в кабинет с картонной трубочкой, зажатой в громадном кулаке. Вид у него был суровый, лицо несвежее, помятое. Похоже, ночь капитан провел без сна. Раскатав на столе картонную трубочку и разгладив ее ребром ладони, он сказал: — Работу, Владимир Петрович, мы закончили. Результат получился, я бы сказал, несколько неожиданный… — Ну, ну! — Удалось установить, что из всего списка вероятных абонентов Булавина знакома лишь с одним. — С кем? — Это наш старый знакомый… — Давай без загадок, — нетерпеливо сказал Маясов. — Рубцов Арсений Павлович. — Какой Рубцов?.. Фотограф? — Да, тот, что сообщил нам весной о Никольчуке. Маясов притянул по столу список к себе. Пробежал его глазами, внимательно прочитал в конце выводы капитана… — Странно… — Он в недоумении посмотрел на Дубравина. Тот лишь пожал широкими плечами. Когда приехал из милиции Демин, настала его очередь удивляться. — Тот самый Рубцов? — переспросил он. — Действительно интересное совпадение… Это надо немедленно проверить! — Кое-что мы с Николаем Васильевичем в этом направлении уже придумали, — сказал Маясов и протянул полковнику лист бумаги. — Этого недостаточно, — прочитав, заметил Демин. — Придется нам вместе, втроем, посидеть нынче вечером и, пожалуй, завтра, в воскресенье. Глядишь, и высидим что-нибудь стоящее. — Он взъерошил седую шевелюру. — А сейчас предлагаю поехать на озеро. Жарища — спасу нет. А?.. — Не возражаю, — сказал Маясов.6
Оправдавшиеся прогнозы, как и сбывшиеся надежды, не могут не вселять в человека гордости за свое умение предвидеть. Однако Маясов не ощущал ничего подобного. Более того, ему казалось, будто он потерял что-то. Это странное ощущение не покидало его с той самой минуты, как Демин по дороге на озеро, в машине, рассказал о допросе Женьки Косача. После этого допроса уже ни у кого не могло быть сомнения, что Савелов в ограблении Дома культуры не участвовал и вообще не имел никакого отношения к воровской братии. Таким образом, само собой снималось подозрение в убийстве его соучастниками-грабителями. А предположение Маясова, что это убийство, видимо, имеет какое-то отношение к делу Никольчука, кажется, начинало оправдываться. Какое же место в преступной шпионской цепи, первым звеном которой был Никольчук, мог занимать Савелов? — спрашивал себя Маясов. И тут же вместо ответа на вопрос задавал себе другой: но почему все-таки Савелов должен занимать место в этой цепи? Отчего, скажем, не предположить стечения обстоятельств, простого совпадения случайностей?.. Если бы так! К сожалению, дело, по-видимому, обстоит хуже. Значительно хуже… Эти сомнения разъедали когда-то прочную веру в собственную правоту, как кислота разъедает металл. И Маясову временами казалось, что сомнения вот-вот одолеют его, заставят капитулировать — признать, что он как оперативный работник оказался не на высоте, допустил непоправимую ошибку в оценке личности погибшего парня и других обстоятельств дела, с ним связанного. Впрочем, так думал не он один. Его тревогу и беспокойство за судьбу неожиданно осложнившегося дела разделяли все, кто работал вместе с ним. И прежде всего капитан Дубравин. Именно эта тревога и привела его на днях к Маясову домой. В тот тихий душный вечер Вовка затащил отца на старый пруд, неподалеку от их дома, Маясову было не до рыбной ловли, но он все же пошел с сыном, потому что несколько раз обещал ему. Там, на берегу полузаросшего осокой пруда, Дубравин их и нашел. — А-а, вот вы где, два Владимира! Капитан подал Вовке кулек с конфетами. Обнаружив, что он ловит карасей на голый крючок, с добродушной укоризной покачал головой. — Да я говорил папке, что червяк сорвался, а он не слышит, — начал оправдываться Вовка. Наладив мальчонке удочку, Дубравин подошел к Маясову, склонившемуся над раскрытым этюдником. — Вроде неплохо получается. — Не льсти, не умеешь. Они помолчали, любуясь латунно-желтой кромкой неба на горизонте. — Какой закат! — восхищенно воскликнул Дубравин. — Глядя на такую красотищу, поневоле думаешь: все житейское — суета сует. Маясов сразу раскусил эту дипломатию. — Давай-ка, Николай Васильевич, без подхода, без философии… Утешать, что ли, меня пришел? Дубравин смущенно заулыбался: — Так уж и утешать… Маясов отложил на траву кисть и палитру, сокрушенно вздохнул: — Как ни ломаю голову, не могу понять, где дали промах? — На ошибках учатся… — За такие ошибки, Лука-утешитель, не прощают, — сказал Маясов. — Помолчав, мрачно добавил: — И правильно, пожалуй, делают.С каждым днем обстановка по делу Савелова становилась все более напряженной. Было похоже, что без артистки им клубка быстро не распутать. Маясов уже собирался отдать приказ, чтобы Ирину Булавину пригласили в Ченский отдел КГБ. Но повестку писать не пришлось. Булавина пришла сама. Это произошло в понедельник, в десятом часу утра. Маясов вышел из-за стола, поздоровался с ней за руку, подвинул ей стул. — Одну минуту, Ирина Александровна… — Он позвонил по телефону Демину, который находился в это время у Дубравина, — сообщил о приходе гостьи. Ожидая полковника, Маясов завел речь о ближайших театральных премьерах, о последних ролях Булавиной. Она отвечала рассеянно, односложно. За прошедшие четверо суток ее будто подменили: лицо осунулось, под глазами лежали тени. Когда, наконец, пришел Демин, Маясов сказал: — Что ж, Ирина Александровна, расскажите, с чем пожаловали… У нее был такой вид, что она вот-вот заплачет. Маясов подал ей воды. — Благодарю вас, — Булавина отпила глоток, вздохнула. — Я пришла, чтобы сказать вам всю правду об этом портсигаре… Впрочем, вы уже и сами, наверное, все знаете, если так настойчиво добиваетесь… не даете покоя. — Вы позволите? — Маясов достал пачку сигарет. — Разрешите, я тоже… Ирина несколько раз затянулась, потом, глядя на кончик сигареты, заговорила негромко, с долгими паузами: — Я врала… Муж ничего не знает о портсигаре… Он принадлежал моему отцу. Букрееву Александру Христофоровичу… Мать говорила, что он погиб… на войне… Но она тоже не знала всей правды… Теперь, когда я получила эти письма… Ирина осеклась, бросила быстрый взгляд на Маясова и нервной скороговоркой продолжила: — Когда портсигар случайно попал в ваши руки. Нет, когда Игорь… Окончательно запутавшись, она замолкла, потом, глядя в пол, едва слышно закончила: — Простите, мне очень трудно собраться с мыслями… — Вам не следует так волноваться, Ирина Александровна, — сказал Маясов. — Прошлое отца не имеет к вам отношения. — Да, но он жив! — вырвалось у Булавиной. Маясов многозначительно переглянулся с Деминым. Он понимал, что его собственная реакция на услышанное должна быть достаточно точной, чтобы не вспугнуть пошедшую на откровенность женщину, не дать ей снова замкнуться в себе. — Вы упомянули о письмах… от него? — Да. — Они у вас? — Нет. Мне посоветовали уничтожить их. И опять пауза, потом осторожный вопрос, рожденный внезапной догадкой: — И посоветовал Арсений Павлович Рубцов, не так ли? — Он сам рассказал вам об этом? — Ирина в замешательстве уставилась на Маясова. — Как же так… Мне он сказал молчать… а сам… за моей спиной… Ирина замолкла. Теперь заговорил Демин. — И только поэтому вы боялись рассказать правду о портсигаре? — Портсигар — это все, что осталось от отца… В сорок шестом году эту вещь передал моей матери Арсений Павлович. Он и рассказал нам о смерти отца. А теперь, когда я получила эти письма… — Расскажите обо всем этом подробнее, — попросил Демин.
ГЛАВА VIII Свадьба
1
В большом светлом кабинете генерала Винокурова были открыты все окна. Не переставая жужжали два настольных вентилятора в никелированных решетках. И все равно было жарко, душно. Казалось, с шумной улицы в комнату вливается не свежий воздух, а раскаленный пар. Прилетевшие из Ченска Демин и Маясов сидели по бокам полированного столика, рядом с большим столом Винокурова, молчаливо ожидая генеральского «да» или «нет» своему замыслу, венчавшему трудную многомесячную работу. Винокуров читал их доклад. Протянув руку к деревянному стакану, он вынул красный карандаш и поставил им жирный восклицательный знак на полях. Маясов увидел, что это было то место, где подводились итоги второго допроса Булавиной. Ему припомнился разговор с Деминым после этого допроса. — Не нравится мне что-то реакция Рубцова на букреевские письма, — сказал тогда полковник. — В самом деле, смотрите, что происходит: встревоженная известиями от отца, Булавина после мучительных сомнений решается открыться его старому товарищу. Она приходит к нему за утешением и советом. Но утешения не находит. Наоборот, друг семьи безжалостно растравляет ее рану. А совет? Какой он дает ей совет: уничтожить письма и никому, даже матери, не говорить о них! — Мне тоже это непонятно, — сказал Маясов. — Если учесть, что Рубцов в свое время сообщил нам о Никольчуке, он не должен был отговаривать Булавину сделать то же в отношении этих писем. — И еще один момент… Патриотическое негодование Рубцова можно бы объяснить, если бы он впервые услышал, кем оказался его бывший друг. Но ведь о предательстве Букреева он знал и раньше. Об этом он сам рассказал Булавиной. А стоило ему вдруг увидеть письма, как он вознегодовал. Да так, что дело дошло до валидола… Демин внезапно умолк, потом спросил: — Кстати, что у него с сердцем? — Рубцова хорошо знает мой шофер Тюменцев, — сказал Маясов. — По его словам, здоровье у Рубцова отменное: рыбак, охотник и сильный лыжник. — И все же дайте команду, чтобы поинтересовались у врачей его сердцем. — Хорошо, Дмитрий Михайлович. — И еще: надо попытаться разыскать материалы о довоенной жизни Букреева. И все, что касается его службы в Красной Армии. Первый «заход» по архивам мало прибавил к тому, что уже было известно о Букрееве и Рубцове со слов Булавиной. Впрочем, определение «мало», для всякого следствия понятие относительное. Бывает, что случайно услышанное слово, перехваченный взгляд подследственного или другая подобная мелочь в корне меняют ход расследования. Через архив удалось узнать номер части, в которой служили Букреев и Рубцов, и фамилию ее командира. А дальше уже просто повезло: скоро стало известно, что этот бывший командир части живет в Москве, на Зубовском бульваре. К нему немедленно вылетел Дубравин. Полковник в отставке Яблоков рассказал, что старший лейтенант Букреев, которого он помнил как ротного командира, был вместе с ним в лагере военнопленных вблизи поселка Борисина до тех пор, пока Яблокова не перевели в другой лагерь. Но суть не в том. Осенью сорок первого года в Борисинском лагере находился и Рубцов — об этом он сам написал в анкете, когда устраивался на службу в ченское фотоателье. К тому же Яблоков хоть и не помнил Рубцова, сказал, что все оставшиеся в живых люди его полка могли оказаться только в Борисинском лагере — самом ближнем от места последнего боя части. Таким образом, выходило, что Букреев и Рубцов попали в плен в одно и то же время. Однако это никак не вязалось с версией Рубцова: Ирине Булавиной он рассказал, что Букреев переметнулся к немцам еще до того, как их часть попала в окружение. Но зачем было Рубцову столь безбожно искажать факты? Не мог же он забыть, как на самом деле все произошло? Когда возникли эти вопросы, оказалось, что к ним сам по себе тяготеет еще один — его ранее высказал Демин: — Чем объяснить странную реакцию Рубцова на букреевские письма? — Неспроста это, — сказал Маясов. С того момента, можно считать, в развитии дела начался новый этап. Занимаясь всесторонним изучением личности Рубцова, Маясов пришел к мысли о необходимости переоценки некоторых фактов из биографии этого скромного служащего фотоателье. И прежде всего одного его поступка, который чекистами до этого квалифицировался не иначе как патриотический. В высшей степени патриотический! Да по-другому и быть не могло: с помощью Рубцова удалось обезвредить агента американской разведки. Теперь же, с получением новых данных, этот «патриотический поступок» впервые представился Маясову не с блестящей фасадной его стороны, а как бы с черного хода. Все, что было связано с заявлением Рубцова на Никольчука в органы госбезопасности, показалось уже в ином свете. «Сообщил или выдал?» — вот как стоял теперь вопрос. Проверяя свою догадку, Маясов спросил у Дубравина: — Николай Васильевич, ты еще не забыл, как вместе с Никольчуком искали в Ставропольской степи зарытый им парашют? — И рад бы забыть, да не забывается. — А как ты считаешь, мог бы тогда Никольчук убежать, если бы захотел? — Нет. — Почему? — Потому что я всю ночь не смыкал глаз. — Однако ты сам говорил, что были моменты, удобные для Никольчука, чтобы ударить тебя, наброситься с лопатой. — Были. — И он не воспользовался? — Он спал почти всю ночь. — Выходит, и не думал о побеге, — заключил Маясов. — А мог ли человек в положении Никольчука не думать о побеге? — И тут же сам ответил себе: — Нет! Не бывает, чтобы пойманный шпион не использовал такого подходящего случая… Маясов помолчал, потом продолжил свою мысль: — Значит, убежать мог, но не сделал этого. Почему? — Не решился. — Это не ответ! Почему не решился? — Видимо, не чувствовал за собой серьезной вины. — Вот в чем дело! — Маясов даже хлопнул Дубравина по плечу: — Именно: не чувствовал за собой серьезной вины! И все-таки он оказался в КГБ. Почему? Дубравин посмотрел на него долгим взглядом. — Вон куда клонишь. Никольчуком, выходит, пожертвовали?.. В тот же день Маясов доложил о своих предположениях Демину. Тот понял все с полуслова и сказал: — В делах, связанных с убийствами, работать по одной версии рискованно. Хотя и разбрасываться неразумно. И все же целесообразнее действовать одновременно в нескольких направлениях… Таких направлений было два. Первое составляло цепь: Никольчук — Рубцов — Булавина — Савелов. Второе: Никольчук — Букреев — Булавина — Савелов. Главной считалась «рубцовская» версия, разработанная настолько обстоятельно, насколько это позволяли сделать мотивы, легшие в ее основу. Но мотивы — это еще не факты, которые давали бы право арестовать преступника. Факты нужно было добыть, к чему в основном и сводилась теперь работа ченских чекистов. Эту работу требовалось провести как можно быстрее, а без прямой помощи начальника управления здесь не обойтись. Генерал прочел доклад, закрыл папку, посмотрел на Демина, потом на Маясова. — Что ж, интересно. Очень интересно… — Он помолчал, поглаживая подбородок. — Разведчики обычно делают все, чтобы не привлекать к себе внимания. А этот сам пришел к нам. — Психологически трюк, вполне оправданный, — заметил Демин. — Если это так, значит перед нами крупная фигура, — сказал Винокуров. — Здесь надо бить наверняка.2
Вот и настал день свадьбы брата Тюменцева — Николая. Долго оттягивали и переносили его, ждали, когда получат квартиру, но справлять свадьбу пришлось все-таки не у себя: слишком много набралось гостей. Неожиданно выручил Маясов. Когда Петр Тюменцев рассказал ему о возникшем затруднении, майор договорился со своими знакомыми, у которых была четырехкомнатная квартира на проспекте Химиков, и они с удовольствием предоставили ее в распоряжение молодоженов. В день свадьбы, ровно в пять часов, все приглашенные уже сидели за двумя длинными столами, составленными буквой «Т» в самой большой комнате. Неразлучные друзья, Рубцов и Тюменцев, пристроились с краю стола, за которым сидели жених и невеста, откуда всех хорошо было видно. Арсений Павлович, выбритый, в новом костюме, был без жены: она уехала в командировку. И все время весело намекал Петру, что сегодня никто не помешает им разгуляться: «Хочешь пей, хочешь пой, хочешь барыню пляши!» Когда выпили за здоровье молодых и начался общий шумный, бестолковый застольный разговор, Арсений Павлович, любопытный, как всегда, стал расспрашивать Тюменцева о тех, кого не знал за столом. Положив широкую ладонь ему на плечо, Петр охотно рассказывал обо всех присутствующих по очереди: — …А вот тот, лобастый, в стильном костюмчике, тоже родня невесты — Аркадий. Хват парень! Работает в Москве, в Торговой палате, все время по заграницам ездит. Говорят, квартира у него — антикварный магазин… — Тюменцев понизил голос, подмигнул весело: — А рядом с ним Нинка сидит, видишь, крепенькая, как репка. Подруга невесты. Аркашка не столько из-за свадьбы, сколько из-за нее приехал. Только Нинка что-то все волынит. Или не любит его, или все по нашему Кольке, по жениху вот этому, сохнет… Кто их, девок, разберет! — Тюменцев махнул рукой, наполнил коньяком рюмку Арсения Павловича. — А себе? — спросил Рубцов. — Ты и так меньше меня выпил. — Мне же режимить надо, Павлыч… «Первая перчатка области» — это на тарелочке не поднесут. Рубцов вдруг брезгливо сморщил губы: — Коньяк-то, братцы, горький! — Горько! Горько! — закричали вокруг. Жених и невеста встали, смущенно поцеловались. В этот момент Тюменцев случайно взглянул на Нину. И не сразу отвел глаза. Нина вместе со всеми кричала «горько». Только как кричала! Лучше бы она молча сидела — не так бы выдавала себя, свои ревнивые переживания. Ее обычно задорное лицо с ямочкой на подбородке казалось каким-то измученно-озябшим. А глаза? Всегда веселые, насмешливые, они сейчас смотрели жалобно. И это чекистская секретарша Нинка Грицевец! Та самая, что никому спуску не дает, у которой язычок острей бритвы… И как же она не понимает, что в ее настоящем положении нельзя так таращить свои глазищи ни на Кольку-жениха, ни на свою соперницу Зойку? Ага, наконец-то, видимо, дошло. Начала с Аркадием разговаривать. Просит, чтобы налил ей вина. Чокаются, выпили. Нинка улыбается. Хохочет. От смеха у нее даже выступили на ресницах слезы. Только от смеха ли они, эти слезы? Резкий шлепок по боку прервал наблюдения Тюменцева. — Слушай, а кто это сидит вон там, черный как грач? — шепотом спросил Арсений Павлович. — Что-то знакомая физия… — Так это же Кузьмич. Бывший председатель Хребтовского колхоза. — А, точно! За что же его из председателей-то вытряхнули? — Не вытряхнули, а сам попросился! — взъерошился Тюменцев. — Там теперь нужен председатель с агрономическим образованием. — Ладно, не хмурь свои пшеничные брови, — мирно сказал Арсений Павлович. — Налей-ка! И Тюменцев, едва начав злиться, сразу встал на тормоза. И так вот всегда: только он соберется обрезать Арсения Павловича за ехидную подковырку — тот крутит все в обратную сторону, просит не придавать значения «капризам его натуры». И Тюменцев старался не придавать. Потому что он знал в Рубцове еще и другого человека: веселого, простецкого, смелого. К тому же Арсений Павлович был на редкость отходчив: пошипит, пошипит — и опять нормальным человеком станет. Эту черту в характере Рубцова он открыл давно, еще в начале их знакомства, которое ему теперь припомнилось в связи с разговором о бывшем председателе Кузьмиче. В тот день своего короткого солдатского отпуска Тюменцев шел в родное село Плотвихино и по дороге нагнал высокого, сухопарого человека со свертком в руке. На вид ему было лет сорок — сорок пять. Разговорились. Оказалось, их путь лежал вместе, через Хребтовский колхоз. И случилось так, что Тюменцеву надо было на сутки задержаться в этом хозяйстве: председатель Кузьмич, его дальний родственник, просил починить автомашину-трехтонку, позарез нужную в страдную пору жатвы. Рубцов тогда сказал: — Стоит ли торчать над чужой машиной? — в голосе его слышалось явное неодобрение. — Шофер у них заболел, — объяснил Тюменцев. — Люди просят, надо помочь. Рубцов улыбнулся: — Ты, Петя, скажи не виляя: подкалымить решил? Это другой коленкор. Только здесь, мне кажется, не разгуляешься… — Он помолчал и, понизив голос, добавил: — Если хочешь по-настоящему заработать, предлагаю вместе, так сказать, на паях действовать. — Как это? — не понял Тюменцев. — Ты, думаешь, я в деревню пустой иду? — Рубцов кивнул на сверток, лежавший у его ног: — Все имеется: и аппарат и бумаги достаточно. — Ясно, — сказал Тюменцев, — бродячий фотограф. — Почему же бродячий? — Арсений Павлович пропустил насмешку мимо ушей. — Я в законном отпуске: чем хочу, тем и занимаюсь. — Ни пуха ни пера, — Тюменцев взял свой вещевой мешок и зашагал на другой конец деревни, к гаражу. — Чудак! — бросил вслед Арсений Павлович. — Куга зеленая… Несмотря на такое прохладное расставание в Хребтове, на другой день — в Плотвихине, Рубцов встретил Тюменцева как ни в чем не бывало. И с доброжелательной улыбкой предложил: — Забудем, Петя, вчерашние недоразумения… Возможно, Тюменцев не поверил бы в искренность этих слов, если бы не случай, происшедший еще через день на переправе. Зубоскаля с деревенскими девчатами, Петр свалился с парома на середине быстрой реки. Рюкзак с охотничьим снаряжением за плечами был тяжелый — Тюменцев упал вниз спиной, сразу глотнул порядочную порцию воды и, задохнувшись, камнем пошел на дно. Рубцов спас ему жизнь, вытащив из бурлящей холодной Чены. С той поры Петр поверил в широкую душу Арсения Павловича и искренне привязался к нему. И поэтому многое прощал своему приятелю, снисходительно считая, что у каждого человека есть свои слабости, каждый не без изъяна. В последнее время Тюменцев стал замечать, что поведение Рубцова сильно изменилось. Он стал какой-то дерганый: то бесшабашно-веселый, то мрачный, нелюдимый. Причем эти переходы от одного состояния к другому были, как правило, внезапны, необъяснимы. Однажды на рыбалке Рубцов ни с того ни с сего выхватил из воды удилище, переломил его о свою острую коленку и обломки забросил в кусты. — К черту, надоело! — Клев же хороший, Павлыч, — пытался было удержать его Тюменцев. — Можешь торчать здесь хоть до вечера! — с непонятным озлоблением проговорил Рубцов. — А я поехал… В тот же день Петр зашел к нему на квартиру, когда он вернулся с ипподрома. Арсений Павлович пьяный лежал на диване, положив длинные ноги в пыльных полуботинках на полированную боковину. И что-то непонятное бормотал себе под нос. — Проигрался, что ли? — спросил Тюменцев. Рубцов посмотрел на него мутными глазами и ничего не сказал. Лишь тяжело, прямо-таки по-лошадиному, вздохнул. После этого случая Тюменцев пришел к твердому мнению, что женился Арсений Павлович неудачно. («Три года вдовствовал — и, пожалуйте, влип»). От этого, наверное, и выпивать стал чаще и характер поиспортился. Правда, это мнение хотя и было твердым, но едва ли окончательным. Потому что, сколько ни приходилось Петру видеть Рубцова вместе с его новой женой Ларисой, он никогда не замечал между ними ни ссор, ни малейших раздоров, ни даже взглядов косых, недоброжелательных. И тогда, теряясь в догадках о причинах неустойчивости настроения Арсения Павловича в последние месяцы, Тюменцев философски заключил, что чужая душа — потемки. Этот вывод, достойный мудреца, освобождал его от необходимости ломать голову над вопросом, который казался ему неразрешимым, ставил в тупик. А Тюменцев, как всякий шофер, не любил тупиков. Он старался избегать их. Потому что было проще и приятнее принимать в жизни все как есть. В том числе и людей — такими, какими их встретил и узнал. И от них надо не отмахиваться, а, не мудрствуя лукаво, жить вместе со всеми и так, как все… Свадебное гулянье было в полном разгаре, когда к столу, где сидел Тюменцев, подошел улыбающийся Аркадий. — А не пора ли, Петя, показать свое искусство? — Это можно, — сказал Тюменцев и пошел в сутолоке искать куда-то отлучившегося Рубцова. Он нашел его в прихожей. Арсений Павлович курил вместе с двумя инженерами химического завода, на котором работал брат Тюменцева. На предложение «малость размяться» Рубцов весело, по-пионерски отсалютовал: — Всегда готов, Петруша! — И, извинившись перед собеседниками, слегка покачиваясь, зашагал вслед за Тюменцевым в соседнюю комнату. Там было шумно, играла радиола, кто-то плясал, слышался дробный перестук каблуков по паркету. Выждав, когда плясавшая пара выдохлась и отступила в сторону, Рубцов с Тюменцевым перемигнулись, попросили поставить пластинку снова и, растолкав кольцо гостей, вышли на круг. Они плясали недолго, не больше пяти минут. Но уж это была пляска! За их ногами невозможно было уследить. Лишь мелькали начищенные ботинки. Дребезжали стекла книжного шкафа, дрожал пол, и все вокруг били в ладоши. Волосы у плясунов растрепались, лица стали красными. Шел молчаливый неистовый спор: кто кого? Этой сумасшедшей пляске научил Петра Арсений Павлович. Называлась она «Нашенская»; тот, кто переплясывал партнера, обычно выкрикивал: «Нашенская взяла!» Сейчас эти слова прокричал Тюменцев: его приятель сдался — выбежал из круга прямо к раскрытому окну, плюхнулся на подоконник. А через несколько минут тут уже образовался мужской кружок. Рубцов с невозмутимым выражением лица рассказывал веселые анекдоты. Это была его обычная манера: говорить о смешном с серьезной миной. Москвич Аркадий, успевший уже порядком захмелеть, угощал всех настоящими гаванскими сигарами. Арсений Павлович понюхал сигару с видом знатока и сказал: — Такую курить не здесь, в толкучке, а где-нибудь в тишине, в мягком кресле, с кофейком. — Есть тут такой уголок, — сказал Тюменцев. И тоже понюхал свою сигару. В это время подбежали девушки, начались танцы. Лавируя между парами, Тюменцев и Рубцов пошли в дальнюю комнату, отведенную для отдыха гостей. Там никого не было. Через раскрытое окно виден был тусклый свет уличного фонаря. Рубцов устало опустился на диван. Достав перочинный ножик, крепким ногтем раскрыл миниатюрные ножницы, обрезал кончик сигары, закурил. — И в самом деле, только чашки кофе и не хватает, — сказал он, блаженно закрыв глаза. — Попытаюсь организовать, — откликнулся Тюменцев и исчез за дверью. Рубцов распустил галстук, вытянул ноги. Голова слегка кружилась, клонило в сон… Должно быть, он задремал на несколько минут, потому что не помнил, как в полутемной комнате очутились Нина и Аркадий, о которых Тюменцев рассказывал за столом. Они сидели на подоконнике. Точнее, сидела она, а он, взлохмаченный, в расстегнутом пиджаке, стоял рядом и пьяно, горячо бормотал что-то о ее недальновидности.3
Над Берлином стояла душная сырая ночь. Влажный асфальт отражал разноцветные огни реклам. С низкого неба моросил дождь. Улицы в этот поздний час были малолюдны, пустынны, — можно свободно мчаться по ним, и это движение доставляло полковнику Лауту удовольствие: он всегда любил быструю езду. Правда, куда приятнее было бы сидеть за рулем гоночной машины, нежели качаться в скрипучей кабине двухтонного грузовика. Но, увы, в разведке выбирать не приходится… Впрочем, нынешнее дело было совершенно особенное и, можно считать, к разведке прямого отношения не имело. В минувшую пятницу Элен Файн вдруг попросила у Лаута внеочередного приема. Оказалось, от ченского агента Барсука поступило сразу два сообщения. Одно из них было с приложением — микропленкой. С этого приложения, уже обработанного в лаборатории, Лаут и начал. Он взял фотоснимок, прочитал сделанную Файн подпись внизу:«Промежуточный пакгауз для продукции Ченского экспериментального химического завода в районе станции Шепелево».Постукивая по столу маленьким кулаком, Лаут довольно долго разглядывал фотографию. Потом, не скрывая разочарования, сказал: — Подобную информацию мы с успехом можем получать через наших туристов… Но нам сейчас требуется не это. Совсем не это! — Осмелюсь заметить, шеф, мы обычно руководствовались, мне кажется, несколько иными вашими установками… — Что вы хотите этим сказать? — Вы всегда подчеркивали, что мы должны меньше рассчитывать на сведения, исходящие из одного источника, или на единичную информацию, чем на методическое изучение мелких, самых различных подробностей, отобранных из всей огромной массы сведений. — Да, нашу разведку интересует все: от атомных и ракетных объектов до деторождаемости и климата в Советском Союзе. — Лаут строго посмотрел в загорелое, с четко очерченными губами лицо помощницы. — Но прошу не забывать: мы сейчас ограничены слишком жесткими сроками. Цель номер один для нас — продукция экспериментального завода: ее образец, формула, технология! Полковник придвинул к себе второе донесение Барсука, отпечатанное на машинке. Прочитав его, пробурчал: — Хм! Какие-то драгоценности… Однако солидная сумма. — Неопределенно пожевал губами. — А что, Барсук получает от нас за каждое сообщение? — Да, шеф. Лаут поморщился: — Имейте в виду, Элен, погоня за количеством информации может отразиться на ее качестве. — Я напомню Барсуку… Полковник уточнил: — Это, разумеется, только в принципе. В данном случае агент поступил правильно: сообщение говорит о его активности. — Я тоже так считаю. Лаут еще раз пробежал глазами донесение. — Дрезденштрассе? Если не ошибаюсь, это в Восточном секторе? — Совершенно верно. Подумав над бумагой с минуту, полковник распорядился: — Пожалуй, этим займется Смит… После ухода помощницы Лаут, стоя у окна, продолжал думать о сообщении из Ченска. Какие все-таки большие деньги. Почти полмиллиона. Целое состояние… Только почему, собственно, он поручил это дело Смиту? Конечно, Смит толковый, опытный разведчик. Но чем хуже, скажем, Паулс? Девять лет нелегальной работы на чужой территории — это говорит само за себя. Или Голтер-«дипломат», успешно использовался под крышей американского посольства в нескольких странах и нигде не засветил себя. Или та же хитрая и осторожная Элен Файн. Все, как на подбор, мастер к мастеру… Но тут деньги. А деньги, как известно, имеют свойство прилипать к пальцам… Лаут взял трубку внутреннего телефона: — Элен, не вызывайте Смита! Операцию на Дрезденштрассе я проведу сам… …Впереди вспыхнул красный зрачок светофора. Полковник резко затормозил машину. Высунувшись из кабины, осмотрелся. Фридрихштрассе. Здесь начинался демократический сектор. Граница двух миров. Через минуту грузовик уже снова мчался. Над эстакадой вокзала Фридрихштрассебанхоф бежали в облаках белого пара электрические буквы последних телеграмм, полученных редакцией «Нейес Дейчланд» — новости со всех концов света. Машина набирала скорость. Ветер со свистом обвевал кабину. По обеим сторонам мостовой потянулись громады домов в светлой облицовке — новые застройки на месте послевоенных руин и пепелищ. На перекрестке Лаут крутнул руль вправо. Грузовик свернул на неширокую безлюдную улицу с высокими каштанами вдоль тротуаров. Дрезденштрассе. Большинство домов здесь были старые, с островерхими черепичными крышами. У двухэтажного дома со светящимся номером «Б» Лаут притормозил машину и осторожно, стараясь не зацепить бортами, въехал под невысокую, узкую арку. Во дворе с разбитым посредине цветником, окаймленным асфальтовой дорожкой, было пустынно. В центре цветника, как бы вырастая из клумбы, стоял фонарь. Его желтоватый свет бликами отражался в лужицах, образовавшихся от дождя в неровностях асфальта. Лаут вылез из кабины, тихо прикрыл дверцу. — Приехали, — сказал он, натягивая на голову капюшон черного плаща. Из кузова неслышно выпрыгнули двое в таких же плащах, только мокрых и блестевших от дождя. Лаут что-то приказал им коротко и негромко. И они, открыв боковой и задний борта, сноровисто и бесшумно стали вытаскивать из грузовика деревянные щиты и расставлять их один возле другого. Через несколько минут рабочий коридор был готов. Он замыкал пространство от чугунной крышки канализационного люка до средней из трех колонн, которые поддерживали портик террасы, ведущей из старинного особняка во двор. Оглядев это сооружение из стандартных щитов, полковник сказал: — А кто из вас будет открывать люк?! Один из помощников Лаута бросился в конец «коридора» и, поддев железным крюком тяжелый чугунный диск, открыл темный спуск в канализационный колодец. Потом принес из машины и пристроил на внешней стороне углового щита железный трафарет: «Осторожно! Ремонт канализации». Теперь как будто все готово, можно начинать. По команде Лаута его помощники подтащили к колонне инструменты. Ломом сняли асфальтовый слой, облегавший массивный цоколь. Под асфальтом грунт оказался сравнительно мягким. В дело пошли лопаты. Помощники сбросили плащи — копали в одних рубашках. Оба молодые, рослые, с сильными руками. Впрочем, эти ребята могли похвастаться не одной физической силой. Они умели еще кое-что. Им, например, не составляло труда вспороть стальное брюхо любому сейфу. На первом этаже особняка, справа от террасы, вдруг ярко вспыхнул в окне электрический свет. Через несколько минут во двор вышел человек в пальто с поднятым воротником. — Доброй ночи, — сказал он. — Как лицо официальное, хотел бы знать, чем товарищи намерены заниматься в нашем дворе? — А вы что, не видите? — пробурчал Лаут, показывая, что не намерен вступать в подробные объяснения. — На производство канализационных работ необходимо разрешение городских властей, — сказал человек в пальто, поглаживая пальцами седые усы. Лаут вынул из кармана бумажку, молча протянул усатому. Пока тот читал, полковник, заложив руки за спину, с подчеркнутым равнодушием посматривал по сторонам: разрешение на производство ремонтных работ было хотя и липовое, но исполненное на подлинном, неподдельном бланке и с настоящей печатью соответствующего отдела городских властей демократического Берлина. Возвратив Лауту бумажку, старик развел руками: — Извините, долг службы… — и медленно побрел к подъезду. Проводив его взглядом, Лаут быстрыми шагами подошел к работавшим у колонны парням, нетерпеливо спросил: — Ну как? — Пока ничего похожего, — ответил молодой голос из ямы. — Попробуем еще с полметра снять. — Не с полметра, а столько, сколько понадобится! — строго сказал Лаут. — Будем копать хоть до преисподней, пока не найдем. Он опустился на корточки у края ямы. Вынув карманный фонарь, направил белый луч на обнажившийся кирпичный фундамент колонны. Грунт вокруг кладки был вперемешку с крупным щебнем и кусками битого кирпича. И Лаут то и дело освещал эти камни и комья земли: ему начинало казаться, что под ними вот-вот откроется заветный ящичек, или железная банка, или какая-то другая посудина, доверху наполненная изящными безделушками, каждая из которых стоит кучу денег. Парни, как заводные, копали, не разгибая спины. Теперь Лаут следил за каждым движением их лопат: он опасался, что вместе с землей они выбросят и сам драгоценный клад. Напряжение, с которым полковник наблюдал за работой, нарастало с каждой минутой, с каждым ударом заступа о взрыхленный грунт. Наконец снизу донеслось: — Стоп! Кажется, докопались… Увидев, как две головы в мокрых кепках сблизились, что-то внимательно рассматривая в кирпичном фундаменте и взволнованно зашептались, Лаут отрывисто приказал: — Наверх! И как только парни, тяжело дыша от усталости, вылезли на земляную насыпь, он спрыгнул вниз, на их место. То, что Лаут затем увидел под лучом своего фонаря, заставило его выругаться сквозь зубы. С минуту он стоял неподвижно. В фундаменте была небольшая ниша — в объем вынутого из кладки кирпича. Именно вынутого, а не случайно выпавшего: ровные, гладкие внутренние стенки ниши, следы аккуратной наружной заделки — все говорило, что это дело рук человеческих. Драгоценности могли быть замурованы только здесь. Они, несомненно, были здесь. Были! А теперь их нет. Кто-то сумел опередить…
4
Полученные за последнее время данные подтверждали ранее возникшее у чекистов предположение, что дело Рубцова территориально не замыкается на Ченске. Поэтому Демин и Маясов на несколько дней выехали в областной центр, чтобы провести там некоторые оперативные мероприятия. Их работа близилась к концу, когда однажды утром генералВинокуров обоих срочно вызвал к себе. — Есть интересные новости! — весело сказал он, как только Демин и Маясов появились в его кабинете. — От наших друзей из ГДР получено сообщение. — Значит, рыбка клюнула? — улыбаясь, спросил Демин. — Позавчера дом номер пять на Дрезденштрассе посетили американские гости. — Винокуров вынул из папки несколько фотоснимков. — Вот полюбуйтесь: ночную операцию возглавлял сам начальник русского филиала полковник Лаут. Когда Демин и Маясов, посмотрев снимки, положили их на стол, генерал переменил тон: — С Рубцова теперь глаз не спускать! Используйте, Владимир Петрович, все средства… В тот же день, вечерним рейсом, Маясов вылетел в Ченск. Заложив под язык кисловатую конфету, которую навязала ему, как и всем другим пассажирам, вежливая стюардесса, Владимир Петрович сидел в кресле у окна. Глаза закрыты, руки сложены на груди. От тяжелого рева моторов мелко вибрировала металлическая стенка салона, за которой где-то внизу в темноте проплывали Ченские леса. Маясову припомнился разговор с Деминым перед отъездом на аэродром, за ужином у него на квартире. И теперь он думал об этом разговоре. Вначале у них шла речь о фотоснимках, запечатлевших полковника Лаута, который приехал на Дрезденштрассе искать несуществующий клад. Потом Маясов сказал: — Хотелось бы все-таки знать, как далеко этому мистеру удалось обскакать нас? Вместо ответа Демин неопределенно проговорил: — Закономерность многих явлений: противодействие отстает от действия… Он допил свой чай, отодвинул стакан и, закурив, продолжал: — История свидетельствует, что начало почти всякой войны независимо от ее финала выглядит как успех нападающей стороны. Использование «права» заранее подготовленного первого удара является важнейшим преимуществом того, кто развязал войну. И это относится не только к войнам «классическим», открытым, но и к тем, что ведутся тайно, короче, к борьбе между разведкой и контрразведкой. В этом смысле разведка находится в более выгодном положении, потому что может заранее готовиться к активным действиям. Контрразведка же вынуждена вести поединок в обстановке, навязанной ей. У Демина потухла сигарета: так случалось нередко, когда он увлекался разговором. Втягивая худые щеки, Дмитрий Михайлович раскурил сигарету и закончил свой экскурс в теорию выводом: — Сила контрразведки — в ответном ударе. Однако и здесь она поставлена в менее выгодные условия: прежде чем нанести контрудар, надо знать, где и когда противник совершит нападение. — А не слишком ли это пассивно, — возразил Маясов. — По-моему, задача контрразведки не фиксировать действия врага, а упреждать их. — Абсолютно верно: контрразведка должна быть активной. Но сейчас я хочу подчеркнуть другое: контрразведка никогда не может проявить себя прежде разведки, так же как не может противодействие упредить само действие. Это было бы абсурдом, смешением понятий, бессмыслицей. — Согласен с вами, если под «действием разведки» понимать не только ее решающий удар, но и подготовку к нему. При таком положении вещей действия контрразведки не могут не отставать от действий разведки, — сказал Маясов. И, помедлив, с посуровевшим вдруг лицом добавил: — К сожалению, нам, контрразведчикам, от этой закономерности не легче. После этого они долго в задумчивости молчали: Демин — покуривая у стола, Маясов — по привычке расхаживая по комнате. Обоих беспокоило одно: к чему же в конечном итоге приведет действительное, а не теоретическое уже отставание «противодействий контрразведки» от «действий разведки». И насколько оно значительно. Это тревожило всех, кто работал по делу Никольчука — Рубцова. А больше других Маясова: он вел это дело на первом этапе его развития, когда, вероятно, и были допущены непоправимые ошибки. Из-за них чекисты не смогли своевременно выявить взаимоотношения Рубцова и Савелова. В результате к оценке действий парня подошли, видимо, слишком оптимистично… Выслушав сомнения Маясова по этому поводу, Демин заметил: — Дзержинский однажды сказал Уншлихту: «Лучше тысячу раз ошибиться в сторону либеральную, чем послать неактивного в ссылку, откуда он сам вернется, наверное, активным, а его осуждение сразу будет мобилизовано против нас». — Все это так. — Маясов тяжело вздохнул. — Однако ошибка остается ошибкой… «Ошибка остается ошибкой». Такое, оказывается, он уже услышал. Это было сказано в одном разговоре, случайным свидетелем которого Маясов стал накануне своего отъезда из Ченска. …В тот день Тюменцев только что вернулся из городского совета «Динамо» и во дворе тряпкой надраивал тускло блестевшие бока «газика». Когда с крыльца к нему спустился Маясов, он шумно сказал: — Все, товарищ майор! — И, видя недоумевающий взгляд начальника, объяснил: — Сделаю своей карете легкий ремонтишко, и можете прощаться с Тюменцевым. Как говорится, ауфвидерзеен. — Это окончательно или опять наметки? — Окончательно и бесповоротно! — Плотное, загорелое лицо шофера расплылось в улыбке. — «Первая перчатка области» — отменная цель. А там, чем черт не шутит, глядишь, через несколько лет Петр Тюменцев и чемпион Советского Союза! В общем, товарищ майор, ищите себе нового шофера. Маясов прошел в гараж, чтобы заправить бензином зажигалку. Но тотчас вернулся, увидев, что бутылка на окне пуста. В ожидании куда-то отлучившегося Тюменцева он сел в машину, на заднее сиденье. И тут же услышал доносившийся с крылечка приглушенный голос Зубкова: — Может статься, что больше и не понадобится Владимиру Петровичу новый шофер. — Не рано ли ты, голубь, поешь панихиду, — возразил бас Дубравина. — Это я к слову… Но ведь факты. Ведь получается, что существовала целая преступная цепь. А Маясов и мы вместе с ним не сумели вовремя разглядеть. — Может, и так… Только не забывай, что если бы Маясов согласился с версией милиции, то Савелов так бы, наверное, и прошел как уголовник, убитый соучастниками по ограблению. И возможно, вся эта, как ты говоришь, преступная цепь так бы и осталась невскрытой. — А меняет ли это картину, Николай Васильевич? Скажут: ошибка остается ошибкой. …Беспокойные раздумья Маясова были прерваны голосом стюардессы. Пройдя в своей темно-синей шапочке набекрень между рядов кресел с дремавшими в них пассажирами, она объявила о скорой посадке: самолет приближался к Ченску.ГЛАВА IX С поличным
1
Странное мучительное ощущение возвращалось вновь и вновь: ему казалось, что за ним все время кто-то следит. Какой-то чужой глаз, пристальный и неотступный. И самое скверное состояло в том, что он ни разу не видел «наблюдателя». Он только постоянно ощущал его взгляд на себе и уже не выдерживал — старался оторваться от него, скрыться. Громадными прыжками он вбегал к себе на третий этаж, запирал дверь. И потом весь превращался в слух. И хотя он ничего не слышал там — ни шагов, ни движения, он был уверен: за дверью кто-то есть. Стоит и ждет, готовый открыть ее и переступить порог… И дверь действительно начинает открываться. Между ее прямоугольным краем и косяком возникает узкая, как натянутая нить, черная полоска. Эта полоска увеличивается и увеличивается. Теперь в нее из темноты может просунуться голова. А дверь все продолжает открываться. И это самое жуткое: никого нет, а дверь открывается, открывается… Охваченный ужасом, он начинает кричать, звать на помощь. Кричит до тех пор, пока не просыпается. …В комнате никого нет. За окном солнечное утро. На решетке балкона весело чирикают воробьи. «Глупые твари — и чему радуются?» — с раздражением подумал Рубцов, ощущая неприятную вялость в теле. Он знал: это проходит после гимнастики и холодного душа. Но сейчас у него не было желания заняться спасительной процедурой: он вспомнил, какая ему предстоит работа… В пижаме и ночных туфлях Арсений Павлович прошел в маленькую комнату и закрылся там. Собственно, на железную задвижку можно бы и не запираться, так как в квартире он один: жену еще с вечера удалось выпроводить к матери в деревню. Но он уже привык работать взаперти. Когда-то эти меры предосторожности Рубцов считал для себя ненужными. Сейчас — не то. Страх донимал его. Мешал работать, не давал спокойно спать. И только самообладание, сила воли помогали ему внешне выглядеть «таким, как всегда». Это изнуряющее чувство, длительное напряжение, связанное с боязнью провала, сделали Рубцова болезненно мнительным. Он теперь не верил никому. И свою жизнь строил так, чтобы ни один посторонний, чужой глаз не проникал в нее. Зимой он женился на Ларисе. Она служила бухгалтером-ревизором. Эта ее должность весьма устраивала Рубцова: частые командировки жены создавали все условия, чтобы он, пребывая в роли добропорядочного мужа, хорошего семьянина, мог распоряжаться собой и своим временем, как ему нужно. К тому же у Ларисы была большая комната, которая в соединении с его комнатой, дала возможность получить в обмен отдельную квартиру, так необходимую ему для конспирации дела, которым он теперь занимался. Но на живого человека, как говорится, не угодишь. Вскоре после женитьбы Арсений Павлович заявил жене, что отныне будет спать отдельно. — Почему, котик? — удивилась она. — Отвык я после смерти Глафиры вдвоем спать, — отрезал Рубцов. — Да и гигиена не рекомендует. Лариса благоговела перед научной терминологией. «Гигиена не рекомендует» — это звучало. И она не стала возражать мужу. Покладистость жены обезоружила Рубцова: он ожидал сопротивления более упорного. И ему вдруг по-мальчишески, из-за озорства, захотелось рассказать ей об истинной причине этого новшества. Причина была проста и прозаична: он боялся выболтать что-либо «лишнее», так как с некоторых пор стал разговаривать во сне. Но Арсений Павлович, разумеется, не рассказал об этом жене. Он только снисходительно пошлепал ее по пышному плечу. В общем обижаться на свою Ларису он не мог: все расчеты, с которыми была связана женитьба на ней, оправдались. Если, конечно, не считать квартирной проблемы: ее, по мнению Рубцова, удалось разрешить все же не лучшим образом. Впрочем, Лариса здесь ни при чем. Он сам виноват, что отказался от первого, наиболее выгодного обмена. Только сам со своей мнительностью: он в тот раз, можно сказать, испугался собственной тени. Короче, свалял дурака. А квартирка предлагалась и впрямь что надо: две прекрасных комнаты, и главное — изолированные, все удобства. Он уже совсем договорился с хозяином, хотел идти посоветоваться с Ларисой. И надо же было в тот недобрый час встретиться на лестничной площадке с новым соседом! Поставив ногу на ступеньку, тот надраивал щеткой хромовый сапог. Увидев Рубцова, прекратил работу и, вежливо извинившись, заговорил с ним. Причем заговорил так, будто многие годы знал его. Однако не эта фамильярность была причиной вдруг возникшей предубежденности к словоохотливому толстяку. Начав разговор о погоде, они потом перешли к обсуждению ченских новостей и, в частности, одного воровского происшествия, о котором сообщалось в местной газете. Когда сосед стал комментировать эту газетную заметку, Рубцов понял, что в подобных делах он стреляный воробей. Несколько слов толстяка особенно запомнились Арсению Павловичу. Они-то, как ни странно, и повлияли на его решение: «Важно, чтобы негласно добытые данные перекрылись, и тогда дело выиграно»… «Прежде чем приступать к реализации разработки, надо было изучить окружение фигуранта»… И еще в том же роде. Рубцов подумал: «Подобные слова могут проскальзывать в речи юристов, работников прокуратуры, милиции, следователей. Короче, всех тех, с кем для него, Рубцова, соседство нежелательно». И он как-то сразу охладел к только что облюбованной квартире. Дня через два беспокойных раздумий Арсений Павлович решил: перед тем как покончить с обменом, стоит все же уточнить служебное положение толстяка. Он оказался пенсионером. Ранее был техническим секретарем в уголовном розыске. Рубцов обругал себя идиотом. И тут же пошел к хозяину квартиры, чтобы подтвердить свое согласие на немедленный обмен. Увы! Ему сказали, что он опоздал: только вчера состоялась сделка с другим человеком. Рубцов с досады зашел в пивную и домой заявился лишь к ночи «чуть тепленький», как говаривала в подобных случаях любвеобильная и всепрощающая жена Лариса… «Однако довольно ворошить старье, пора приступать к делу!» — сказал себе Арсений Павлович. И снял со шкафа черную шкатулку, где хранились его бритвенные принадлежности. Выложил их на стол. Потом поддел шилом верхнее дно шкатулки и вытащил стопочку бумажных листков, начал разбирать их. Сверху лежала маленькая, в ладонь, брошюрка. Рубцов машинально открыл ее, стал медленно перелистывать, выхватывая глазами из знакомого текста отдельные фразы:…«Забудь свое прошлое, точно следуй легенде, — поучала «Памятка». — Твоя работа требует сильной воли и твердого характера — повседневно развивай их в себе… Совершенствуй свою память и научись молчать, ибо способность уметь молчать и уметь запоминать будет твоим лучшим помощником… Если ты хочешь что-либо узнать у постороннего, говори с собеседником так, чтобы он не чувствовал твоих вопросов… Собирай все попадающиеся обрывки сведений, не проявляя к ним заметного интереса… Всегда записывай то, что узнал, абсолютно невинными словами: цифры или размеры, о которых тебе нужно сообщить, лучше записывай как цифры личных расходов. В Орше ты видел, скажем, десять самолетов новой марки, стоявших на аэродроме, — запиши, что обед, заказанный в оршинском ресторане, обошелся тебе в десять рублей… Никогда не говори и не веди себя таинственно… Возьми себе за правило не выделяться из окружающей среды, подстраивайся под общую массу…»Рубцов не стал читать дальше. «Поучения писать всякий может…» Сложил «Памятку» пополам и разорвал. Клочки отнес в уборную, сжег над унитазом. Вернувшись к столу, Арсений Павлович начал работать над листками, вынутыми из шкатулки. Они были густо исписаны цифрами и условными знаками. Через некоторое время все «иероглифы» обратились в обычные слова. Рубцов пробежал глазами написанное донесение:
«На днях мне удалось побывать в ряде интересных мест нашего района. Возле Осокино, направо от железной дороги, я видел новый аэродром, на котором насчитал 46 истребителей. На станции Березкино с поезда сошли два подполковника авиации. Когда поезд тронулся, у переезда я заметил еще двух офицеров ВВС, они шли по дороге, ведущей из леса. Будучи в облцентре, от водителя такси я услышал, что на местном автозаводе находится в производстве машина спецназначения грузоподъемностью более 50 тонн…»Далее шло в том же духе: что видел сам, что удалось подслушать. Все это не имело отношения к основному заданию, являлось результатом личной инициативы. Однако пренебрегать подобной информацией не следовало: за нее платили деньги. Впрочем, была и другая, более веская причина, заставлявшая его действовать «по совместительству». Но об этой причине он сейчас не хотел вспоминать. Рубцов оттянул пальцами плинтус под столом, достал из тайника шифровальный блокнот. Прежде чем приступить к зашифровке донесения, он еще раз прочел его и задумался, вспомнив недавний наказ своего непосредственного «хозяина» — Ванджея: «Главное, чтобы нас никогда впредь не видели вместе. Шифрованные сообщения, исполненные тайнописью, вы должны маскировать строками невинного открытого текста, который по своему содержанию мог бы навести на мысль о мальчишеской игре, если магнитный пенал, куда вы вложите свою информацию, случайно попадет в чужие руки…»
2
Ченский поезд подошел к вокзалу областного центра. И как только, зашипев тормозами, остановился — из вагонов хлынул шумный поток пассажиров. Наблюдая это пестрое шествие, Рубцов не спешил покидать купе. Он стоял у окна, суженными глазами всматривался в лица пассажиров, проходивших по платформе. При этом на людей с тяжелой поклажей Арсений Павлович почти не обращал внимания, на идущих с небольшими чемоданчиками в руках, глядел пристальнее, а тех, кто шел совсем без вещей, ощупывал пытливым взглядом с головы до ног. Он вышел из вагона, когда платформа почти опустела. И тут же остановился, поставил возле ног саквояж, стал закуривать. И пока закуривал на ветру, растопырив локти, пригнув голову, успел обвести весь перрон тем же ищущим взглядом, которым «просеивал» толпу из вагонного окна. Убедившись, что никто за ним не следит, Рубцов, попыхивая папиросным дымком, зашагал вдоль платформы. Теперь его худощавое, продолговатое лицо не выражало ничего, кроме беззаботного довольства теплым, солнечным днем. С таким видом человек мог идти на прогулку, в гости или хотя бы в магазин за покупками… С вокзальной площади Рубцов направился к троллейбусной остановке, но не прямым, ближним путем, а окольным — пустынными переулками. Таких переулков он миновал три и в конце каждого незаметно оглядывался. На троллейбусе Арсений Павлович проехал всего две остановки и, когда вышел из него, опять осторожно осмотрелся. Потом перешел через улицу на противоположный тротуар и пристроился к очереди пассажиров, ожидавших автобус. Автобус снова привез его на вокзальную площадь. Выйдя из машины, он зашагал к магазину «Фотопринадлежности». Купил там десяток пакетов фотобумаги, попросил выписать счет. Обратный путь Рубцова лежал через ту же продуваемую со всех сторон предвечерним ветерком гомонливую площадь. Он шел не торопясь, свободно, но с прежней, незаметной для постороннего глаза настороженностью. И пришел на вокзал. Сдав в камеру хранения свой саквояж, он быстрым шагом направился к двери. Но не к той, в которую вошел, а к противоположной, ведущей через товарный двор на улицу, к стоянке такси. Сел в машину, коротко бросил шоферу: — К Большому бульвару! — И расслабленно откинулся на упруго-мягкую спинку сиденья.Когда Арсений Павлович начал прохаживаться по липовым аллеям, над городом уже опускались синие сумерки. Большой бульвар был излюбленным местом вечерних прогулок. И Рубцов тоже с видом праздного человека вышагивал по его дорожкам, протянувшимся на добрых два километра. «Этот заход последний!» — решил он, подходя к кустам желтой акации, откуда начинались каменные ступени длинной лестницы, ведущей с бульвара на улицу. Он замедлил шаг, вынул из кармана и зажал в потной ладони маленький пенал. На повороте аллеи, где акация разрослась особенно густо, Рубцов как бы невзначай дотронулся до железной ограды. Этого неуловимого движения было достаточно, чтобы всунуть магнитный пенал в железное дупло: в этом месте полый столбик ограды был проломан. Пересиливая желание поскорее уйти от тайника, Рубцов, сцепив на пояснице руки, идет по улице подчеркнуто медленно. И, только свернув за угол ближайшего дома, как бы отпускает натянутые до предела вожжи, прибавляет шагу. Еще один поворот в переулок. Рубцов больше не сопротивляется той внутренней силе, которая гонит его вперед, — идет все быстрее и быстрее. На шумной, залитой вечерними огнями площади, куда его приводят ставшие вдруг непослушными, отяжелевшие ноги, он останавливается, осматривается по сторонам и, с минуту подумав, решительно направляется к угловому дому со светящейся зеленой вывеской над распахнутой дверью. Народу в шашлычной немного. Но Рубцов не в силах ждать ни минуты. Внутри у него все как-то мелко дрожит. Ему надо унять в себе эту гадкую трясучку. Он подходит к буфетной стойке. Нетерпеливо переступая с ноги на ногу, просит водки. Потом неверной рукой принимает от буфетчицы стакан и жадно, залпом пьет.
3
Ровно через час после того, как Рубцов вложил в тайник пенал с донесением, на центральной аллее Большого бульвара среди гуляющей публики появился новый человек. Был он высок ростом, пухлощек, с покатыми крепкими плечами. Распахнув свой темно-зеленый короткий пиджак, заложив руки в карманы, человек шел по дорожке и беспечно что-то мурлыкал себе под нос, какой-то веселый мотивчик. На этого человека обратил внимание светловолосый юноша, сидевший со своей подружкой на одной из бульварных скамеек. Он увидел его несколько минут назад и, наверное, сразу забыл бы о нем, как о других людях, которые в одиночку, парами или группами гуляли под сенью старых лип. Но человек во второй, а затем и в третий раз прошелся по аллее, которая вела к кустам желтой акации. — Тебе не кажется, что он болтается здесь неспроста? — спросил юноша у своей подруги. До этого она без умолку тараторила, смеялась, теперь подвинулась ближе, тихо сказала: — Да, я тоже об этом подумала. — Гляди! Опять идет сюда, — шепнул парень. — Обними меня крепче. Да не бойся, не укушу. — Может, еще захочешь, чтобы поцеловала? — Не возражаю. Для дела не противопоказано. — Сойдет и так. — Она повернулась, обняла его рукой за шею. — Если бы знать, что за тип?.. Но этого не знал даже тот, кто посадил их на бульварную скамейку, кто организовал засаду у тайника. Никто из чекистов не ведал, что за человек может прийти к тому месту у кустов желтой акации, где недавно побывал Рубцов. Знали только одно: за шпионским сообщением обязательно кто-то придет. Пришел капитан Гарри Ванджей. Именно он и вышагивал теперь по дорожкам Большого бульвара, выбирая удобный момент, чтобы подойти к тайнику. Наконец Ванджей уловил такой момент. Бульвар пересекала группа парней, они пели под гитару. И Ванджей пристроился сзади, как только понял, что ребята пойдут на улицу по каменным ступеням мимо кустов. Он смело шел за веселой ватагой, не рискуя быть замеченным со стороны улицы. По бокам его надежно маскировали густые заросли акации. Незащищенным оставался только тыл, но там ничего подозрительного не замечалось — гуляющих поблизости нет, а парочки, сидевшие поодаль на скамейках, вообще не в счет: на таком расстоянии, при скудном свете фонарей едва ли можно разглядеть, что делает человек, задержавшийся на секунду у решетки бульвара. Но юноша-блондин видел все, что делал Ванджей. И то, что видел, шепотом передавал своей подруге, невольно заражая ее волнением, которое испытывал сам. — Пора? — нетерпеливо спросила девушка. — Обожди! Спугнешь… Ванджей, приотстав от шумной компании, решительно шагнул к железной решетке ограды. Вынув из кармана стержень длиною чуть побольше карандаша, он запустил его в дупло полого металлического столбика, плавно потянул вверх и извлек пенал, заложенный Рубцовым. Молодой человек рванулся со скамьи, следом за ним побежала девушка. Ванджей успел сделать лишь несколько шагов, когда они, появившись на аллее из темноты, встали перед ним. — Что вам надо?! — в недоумении спросил Ванджей. Не ожидая ответа, он быстро повернулся, чтобы уйти. И тут же отпрянул назад: наперерез ему из кустов акации вышел коренастый милиционер с сержантскими нашивками на погонах. Это был сотрудник Демина — капитан Исаев. Недавно, на свадьбе у Тюменцева, в роли пьяного болтуна Аркаши ему пришлось вместе с Ниной Грицевец обрабатывать Рубцова, а теперь вот посчастливилось встретиться с его непосредственным хозяином. — Минуточку, — спокойно сказал милиционер, преграждая Ванджею дорогу. — Торопиться не надо.4
Темно-зеленый, с парусиновым верхом «газик» мчался по пустынным улицам ночного Ченска. Широко растопырив локти, подавшись вперед, за рулем сидел Тюменцев. Он гнал машину на полной скорости. Так требовали обстоятельства оперативного задания. Но не только поэтому. Щедро показывать свое умение красивой, лихой езды его побуждало еще и то, что он вел эту машину в последний раз. И ему хотелось, чтобы о нем как о шофере осталась добрая память у всех, с кем он вместе работал, и, конечно же, прежде всего у майора Маясова, который сейчас сидел рядом с ним. С завтрашнего дня Тюменцев больше не работает в отделе. А примерно через неделю, как только получит от тренера из областного «Динамо» телеграмму, уедет из Ченска совсем, чтобы начать по-настоящему заниматься боксом. Правда, боксерские дела были не единственной причиной его ухода из отдела. Тюменцев уже не раз говорил о своей слишком будничной работе и хотел подыскать в областном центре более живую: мечтал, например, о профессии летчика-испытателя. Об этих романтических порывах своего шофера Маясов знал давно и считал их не особенно серьезными, поэтому принятого им решения об увольнении не одобрил, назвал это дезертирством. По глазам майора Тюменцев понял, что он шутит. И все-таки за «дезертирство» тогда обиделся: — Какой же я дезертир, если работаю по вольному найму? — Это не меняет дела, — сказал Маясов. — Вас в КГБ прислал комсомол. — Так я же не на курорт отправляюсь, и даже не на пенсию по выслуге лет, — оправдывался несколько смущенный Тюменцев. — Я иду в народное хозяйство. Буду, так сказать, практически участвовать в строительстве коммунизма. — Цель, разумеется, похвальная, — сказал Маясов. — Но нельзя забывать, что коммунизм надо не только строить, его еще и охранять требуется. — И все-таки, товарищ майор, важнее строить, чем охранять. — Тюменцев уже оправился от минутной заминки. — Ведь у нас теперь с каждым днем становится все больше друзей, чем врагов. — Это верно, — согласился Маясов. — Только и в народном хозяйстве «летунов», порхающих с места на место, не особенно жалуют. Что касается друзей, то их надо с умом выбирать. — Как это? — не понял Тюменцев. — Друзья бывают разные: одни настоящие, а другие кажущиеся, фальшивые… Тюменцеву это было опять непонятно. Однако Маясов ничего более конкретного, разъясняющего в тот раз так и не сказал. И только сегодня для Тюменцева наступила полная ясность. После обеда майор вызвал его к себе, пригласил сесть. Тюменцев подумал: разговор, видимо, будет не короткий, и, наверное, по поводу увольнения. Не исключено, что Маясов, не найдя хорошего шофера, начнет его уговаривать, чтобы он не уходил из отдела: такие водители, как Тюменцев, на дороге не валяются. И действительно, разговор начался с вопроса об увольнении, хотя и не с той его стороны, как предполагал Тюменцев. — Как у вас с машиной? — спросил Маясов. — После профилактики мотор работает, как зверь. — Ну, а остальное хозяйство? — Тоже в отменном виде. — Что ж. Завтра придет новый шофер, ему и сдадите машину… А сейчас я вас вызвал по другому делу. — Маясов помолчал немного и с невеселой иронией закончил: — Ночью поедем в гости к вашему другу. — В гости? К другу? — Да, к Арсению Павловичу. И майор рассказал о Рубцове такое, что у Тюменцева чуть душа не оборвалась. Пока разговаривали, он все время чувствовал, как горят у него уши, будто их надрали ему, как мальчишке. «И стоило бы надрать…» — подумал теперь Тюменцев и опасливо покосился на майора: не догадался ли тот ненароком о его переживаниях? Тонкое, бледное лицо Маясова было строго и непроницаемо. Пожалуй, строже, чем всегда. Это Тюменцев определил по глубокой складке между размашистых бровей майора, по его твердо сжатым губам. Оно и понятно: не на веселую гулянку ехали. Тюменцев был прав: на душе у Маясова было сейчас тяжело. Но не потому, что предстояло важное оперативное задание. Хотя это само по себе и не способствовало радостному накалу чувств. И все же основная причина суровой внутренней сосредоточенности майора заключалась в ином. За четыре часа до выезда он получил письмо от жены, находившейся на лечении в Московском нейрохирургическом институте. Зина сообщала, что операция ей назначена через три дня. Судя по дате, письмо было написано трое суток назад. Следовательно, операция будет завтра. А говоря точнее, не завтра, а уже сегодня. Потому что сейчас на его циферблате стрелки показывают четверть первого. Значит, до тяжелейшей, опасной операции осталось всего несколько часов. Быть может, девять или десять… Машина повернула в узкий, скудно освещенный переулок и почти бесшумно остановилась. — Заякорил, где приказано, — тихо доложил Тюменцев. — Добро, — отозвался Маясов. — Во двор въедете, когда увидите свет в окнах. — Ясно, товарищ майор. Маясов вылез из машины, осторожно прикрыл дверцу. Вслед за ним, так же стараясь не шуметь, выпрыгнули Дубравин и Зубков. Подошли к начальнику, начали о чем-то тихо разговаривать. Прикрыв ладонями зажженную спичку, Маясов закурил. К огню потянулся с сигаретой Дубравин. А за ним и Зубков. И Тюменцев подумал, что лейтенант закурил сейчас, наверное, от волнения, так как вообще-то был некурящим. Впрочем, все это в порядке вещей. Если говорить откровенно, то и он, Тюменцев, в эти минуты порядком волновался. Он даже слышал учащенный стук собственного сердца, что случалось с ним редко. Постояв с минуту, Маясов и Зубков пошли к дому, где жил Рубцов. Немного погодя туда же зашагал Дубравин. Скоро его могучая фигура скрылась в полумраке. Тюменцев остался один. Прислушиваясь, поднял голову. Небо над крышами было черное, вокруг стояла тишина. Только чуть слышны были звуки шагов: это Дубравин прохаживался перед домом с той его стороны, куда выходили окна квартиры Рубцова. Как только в одном из этих окон вспыхнул яркий свет, Тюменцев вырулил на середину мостовой, набрал скорость и с ходу сделал лихой разворот во двор. Он мог бы сделать это и с закрытыми глазами: сколько раз заезжал за Рубцовым, знает тут каждый уголок. К сожалению, низкий заборчик из штакетника, огораживающий клумбу, не дает подогнать машину прямо к подъезду. Придется держать ее немного поодаль. Это не совсем удобно, однако ничего не поделаешь. И потом место заранее согласовано с майором… Но Тюменцев напрасно беспокоился: ему не довелось исполнить до конца свои прямые шоферские обязанности. Все произошло в какие-нибудь три-четыре минуты. Когда Маясов и Зубков вывели Рубцова из квартиры на лестничную площадку, ничто не предвещало, что мирно протекавшая операция может вдруг резко осложниться. По лестнице во двор они спускались в таком порядке: впереди Зубков, за ним, понуро опустив голову, заложив за спину руки, шел Рубцов и позади него Маясов с двумя дворниками-понятыми. На повороте лестницы, между вторым и первым этажами, в полуметре над полом чернело давно не мытыми стеклами окно. Рамы его были плотно закрыты. Но, как оказалось, не заперты. И Рубцов этим воспользовался. Когда Зубков повернул на нижний пролет лестницы, Рубцов ударом ноги распахнул раму и спрыгнул вниз. Ему повезло: он упал на мягкую землю цветника. Мгновенно вскочил и бросился через двор. Зубков выбежал из подъезда первым, выхватил пистолет. Но подоспевший сзади Маясов не дал ему даже прицелиться: — Не смей! Надо взять живым… Маясов уже понял, что Рубцову не убежать: к забору, в левый дальний угол двора, куда мчался Рубцов, наперерез ему бежал Тюменцев. Через высокий тесовый забор Рубцову сразу не перелезть, Тюменцев неизбежно настигнет его. Однако сам Тюменцев, бежавший изо всех сил, знал, что Рубцову перелезать через забор и не нужно: достаточно отвести в сторону широкую доску, державшуюся лишь на верхнем гвозде, и нырнуть в лаз, который ведет в густые заросли городского парка. Рубцов, как и Тюменцев, прекрасно знал этот ход, проделанный мальчишками. Они сами не раз пользовались им, чтобы перед рыбалкой накопать червей в жирной парковой земле. Тюменцеву удалось добежать до лаза первым. Тяжело дыша, он встал к забору спиной, для устойчивости широко расставил ноги. Здесь, за домом, в углу, у выкрашенного бурым суриком забора, было темнее, чем во дворе. Но Рубцов сразу узнал Тюменцева. — Петя! — глухо вскрикнул он. — Пропусти! Я ж тебя спас, Петя!.. От этих слов Тюменцев на какое-то мгновение растерялся. Перед ним стоял не враг, не преступник, а Павлыч, приятель… И тут же страшный удар в челюсть бросил Тюменцева на землю. Рубцов рванул к забору, стал лихорадочно нашаривать в темноте доску, прикрывающую лаз. Наконец нашел, рванул, и она с железным скрипом сорвалась с гвоздя, упала.ГЛАВА X Битые козыри
1
Приступая к допросу Рубцова, полковник Демин располагал значительными уликами против него. И все-таки Рубцов упорно не хотел признаваться в предъявленном ему обвинении. Он долго петлял, путал в показаниях, старался увести следствие в сторону. Не предвещавший скорого завершения разговор с подследственным происходил в кабинете Маясова. В том самом кабинете, куда дождливым весенним вечером явился Рубцов, чтобы сообщить чекистам о якобы случайной встрече с Никольчуком на улице города. С уточнения и раскрытия причин появления Рубцова в тот вечер Демин и начал допрос. Вначале Рубцов пытался разыгрывать «честного советского патриота». Но скоро пришлось перестраиваться: полковник выложил на стол вещи, найденные при обыске у Рубцова на квартире. Здесь были портативный радиопередатчик, два фотоаппарата «Минокс», четыре шифровальных блокнота, несколько листов бумаги для тайнописи. — Зачем понадобились эти предметы честному советскому гражданину? — спросил Демин. Рубцов ничего не ответил, только с откровенной злобой посмотрел на него. Он впервые так смотрел на следователя. А до этого юлил с мягкой улыбочкой человека, по ошибке арестованного чекистами, всем своим видом показывая, что готов терпеливо дожидаться, пока в этой ошибке полностью разберутся. Но, как ни врал, ни изворачивался Рубцов, он вынужден был под давлением неопровержимых улик постепенно сдавать свои позиции. На девятый день допроса полковник Демин решил подвести первые итоги следствия: — Итак, мы установили: разоблачив Никольчука, вы должны были зарекомендовать себя патриотом, честным советским гражданином, войти в доверие органов государственной безопасности? Рубцов молча наклонил голову. — А вы не находите, что со стороны ваших американских хозяев это была весьма рискованная затея? — спросил Демин. — Они пошли на это потому, что Никольчук собирался явиться к вам с повинной. — Как они узнали об этом? — Этого я не знаю. Но мне известно, что помощница полковника Лаута приезжала сюда зимой, чтобы проверить Никольчука. — И что же? — Никольчук дал ей согласие продолжать сотрудничать, но она поняла, что он темнит и просто боится, а согласился только для того, чтобы от него отвязались. — Понятно. Дальше! — Ну, тогда, видимо, они решили использовать Никольчука по-другому. Не дожидаясь, когда он сам к вам придет, ему дали новое задание. Расчет был на то, что арестованный Никольчук, зарабатывая себе судебное снисхождение, неизбежно откроется как завербованный, но практически ничего не сделавший агент. И при этом расскажет о своем новом задании. А оно спутает вам карты, уведет от главного. — В чем же заключалось главное? — Главное было в том, чтобы внушить вам мысль, будто экспериментальный завод в Кленовом яре с некоторых пор больше не интересует Лаута, что его агент Никольчук переключается на другой объект — Зеленогорский химический комбинат, выпускающий похожую продукцию… Глядя на медленно вращающийся диск магнитофона, Рубцов помолчал немного и потом продолжал: — Все это должно было на какое-то время ослабить внимание вашей контрразведки к экспериментальному заводу и в конечном итоге облегчить проникновение к его секретам с нового направления. — Облегчить проникновение кому? — Новому агенту американской разведки. — Зачем же так отвлеченно? — улыбнулся Демин. — Какому агенту? — Барсуку. — То есть вам? Рубцов промолчал. — Этим и исчерпывалось ваше задание? — Нет… Рассчитывали, что после сдачи Никольчука вы заинтересуетесь мною. Сочтете в высшей степени бдительным патриотом, готовым активно помогать вам в контрразведывательной работе. И это, разумеется, не являлось самоцелью… — Какова же была конечная цель? — Чтобы создать благоприятные предпосылки для моего внедрения в систему органов госбезопасности. — Рубцов потер небритый подбородок. — При всем этом еще раз прошу принять во внимание, что ни по первому, ни по второму заданию я ничего не делал. — Все учтем, Рубцов, не беспокойтесь, — сказал Демин и дал знак Маясову, сидевшему рядом с ним за столом, выключить магнитофон. — Что ж, перейдем к другому вопросу… Может, сегодня, на свежую голову, вы все-таки припомните, что означает та комбинация цифр в вашей записной книжке, о которой мы вчера говорили? — Я вам уже сказал, что забыл… Возможно, это номера облигаций или пометки о расходах. — В таком случае объясните, почему эти номера облигаций во многом схожи с цифрами на бумаге, которую нашли под переплетом книги «Овод», изъятой у вас при обыске? — Я не вижу никакого сходства, — упрямо сказал Рубцов. — В книжном тайнике у меня хранилось запасное расписание радиосвязи с центром. В этом я сам чистосердечно признался. И это тоже прошу учесть. — Положим, признание было вынужденным, — уточнил Демин. — Однако в чем все-таки секрет чисел? — Больше я ничего не знаю… Демин достал из сейфа записную книжку. — Ну что ж, тогда придется мне вам напомнить. — Он раскрыл книжку на ладони. — Это не простые цифры. Это радиопароль, по которому вы, Рубцов, при необходимости могли вызывать из Москвы известного вам Гарри Ванджея из не менее известного вам посольства. — Никакого Ванджея я не знаю. — Рубцов криво усмехнулся, пожал плечами. — И цифры в записной книжке не доказательство. — Напрасно упорствуете. У нас имеются более веские доказательства, — сказал Демин, раскрывая папку, лежавшую на столе. — Сотрудник американского посольства Ванджей был задержан в областном центре, на Большом бульваре, когда доставал из тайника ваше донесение… Вот, полюбуйтесь на составленный по этому поводу акт. Кстати, вот фотографии. Тут есть и вы. Рубцов взял протянутый полковником лист, пробежал глазами по строчкам. Потом дрожащими пальцами перетасовал пачку фотографий. Оказывается, след к нему идет от Ванджея, по милости которого он и попал в руки чекистов. Выходит, он клюнул на следовательский крючок, поверил, будто веревочка вьется с другой стороны — от Никольчука. Поверил, как простак, седому и наболтал такого, о чем, быть может, тот только догадывался. Вся его тактика, которой он придерживался на допросе, летела к чертям собачьим, оказывалась несостоятельной. Надо было немедленно перестраиваться. И, решив так, Рубцов вдруг тяжело вздохнул, прижал растопыренную ладонь к груди. — У меня, гражданин следователь, что-то плохо с сердцем… Демин внимательно посмотрел на него из-под очков, потом сказал Рубцову, что он может прилечь на диван или пересесть поближе к форточке. Арсений Павлович подвинулся со стулом к окну. Пока Демин и Маясов, склонившись над бумагами, вполголоса разговаривали, он, стиснув между коленей тяжелые кулаки, думал. Но думалось плохо. Перед глазами мелькали события последних месяцев. И ярче других — тот первый день… Было холодно, мела метель. Красивая баба в коричневом пальто появилась у него в фотоателье под вечер внезапно. Отряхнула с рыжей челки снег, сбросила пуховый платок, потом молча подошла к двери и опустила предохранитель на замке. — Что вам нужно? — поразился Арсений Павлович. — В вашем ателье обрабатываются негативы и печатаются снимки наших туристов: архитектура Староченского монастыря… Но сейчас мне нужны лично вы, Рубцов. — Она бесцеремонно села в кресло, закурила. — А если говорить точнее, меня интересует Барсук, бывший агент абвера. Эти слова были сказаны ею просто и даже дружелюбно. Но они будто пригвоздили Рубцова к стулу. А она между тем говорила, и он понял из ее быстрой, отрывистой речи, что ему предлагают сотрудничество с американской разведкой. — Я ничего не знаю, вы ошиблись… — Он пытался увильнуть от прямого ответа. — Прекратите, Рубцов, словоблудие! — оборвала его она. — И запомните: если вы откажетесь помогать нам, то завтра же чекистам станет известно о вашем прошлом. Испытывая одновременно страх и ярость, Рубцов подумал: «Нынче ночью я убью эту бабу!» Но она словно прочитала его мысли: — Мне нужно вернуться в Берлин. Не вздумайте помешать. И от этих слов ярость Арсения Павловича испарилась. А страх остался. И с той поры постоянно жил в нем. Бежали дни. Но боязнь разоблачения не отпускала Рубцова, заставляла все чаще задумываться, как ему выпутаться из опасного дела, в которое его втянули. Но не вообще выпутаться (это для него исключалось), а найти способ без риска для себя создать у хозяев впечатление, что он, Барсук, работает активно. Когда Арсений Павлович думал об этом, ему вновь припомнился зимний визит Барбары Хольме. И ее слова. Но не те, которыми она с места в карьер пыталась запугать его, потребовав немедленного согласия на сотрудничество, чтобы поправить дело, от которого задумал увильнуть Никольчук, а другие — ими она завершила сделку: «Мы будем щедро оплачивать вашу работу. Часть денег вы сможете получать на руки, другая часть будет откладываться в Берлинском банке на ваш личный счет. Пройдет не так уж много времени, и в вашем распоряжении окажется солидная сумма…» Ради этого стоило напустить туману в мозги тем, от кого зависела его будущая красивая жизнь. Рубцов устроился внештатным фотокорреспондентом в газету и теперь мог колесить по области, не вызывая подозрений. Он ездил на поездах,автомашинах, шлялся пешком — высматривал, запоминал, делал пометки в своем «корреспондентском» блокноте.. Просиживал часами за бутылкой пива в закусочных, поблизости от оборонных заводов, аэродромов, научно-исследовательских институтов, прислушивался к разговорам и порой выуживал кое-что стоящее, годное для того, чтобы включить в сообщение, предназначенное мистеру Ванджею. Это, по сути, была обыкновенная перестраховка, ибо Рубцов понимал: если он не выполнит свое главное задание, все может кончиться плохо. К нему придут и спросят, что он сделал за деньги, которые получал. Расчет будет короткий: в лучшем случае его ждет участь Никольчука. Но, как бы там ни было, хозяин принимал эти донесения и щедро платил за них. И вот все лопнуло. В первые дни после ареста он умышленно путал в показаниях, оттягивал время, чтобы сориентироваться, выявить причины своего провала. Он терялся в догадках. И даже, грешным делом, подумал, не удружил ли ему Петька Тюменцев, который, возможно, что-то пронюхал о его участившихся поездках по району. Однако потом Рубцов понял, что Тюменцев к его провалу, видимо, не причастен. Когда же полковник выложил перед ним фотоаппараты, шифры и все то, что нашли у него дома, он понял и другое: петлянье и запирательство бесполезны, надо менять тактику. И он круто изменил ее: стал давать показания о своей связи с американской разведкой, о вербовщице Барбаре Хольме, о задании, которое она ему дала. Все это для того, чтобы вызвать сочувствие следователя своим видимым раскаянием, а главное — выставить себя агентом, которого хотя и завербовали, но который ничего для разведки не делал. И вдруг как ушат холодной воды на голову: Гарри Ванджей, его непосредственный хозяин, пойман с поличным… В этом месте мысль Арсения Павловича вдруг споткнулась. А не он ли сам виновник своего провала? Вместо того чтобы постепенно, шаг за шагом, идти к своей главной цели, он из-за алчности стал размениваться на мелочи. Он отправлял свои донесения слишком часто, тем самым увеличив вероятность их перехвата. И видимо, где-то, в каком-то звене пересылки его выследили… Рубцов скосил глаза на часы полковника, лежавшие на столе. «Сердечное недомогание» слишком затянулось. Пора было прекращать игру. Но у него еще не созрело никакого решения, как дальше вести себя. А время шло, и полковник все чаще нетерпеливо поглядывал в его сторону. Что ж, у них с полковником разные точки зрения на процесс следствия. Ему, Рубцову, ускорять этот процесс нет никакой необходимости. Арсений Павлович придал своему лицу постное выражение и слабым, болезненным голосом попросил отложить допрос. — Хорошо, согласен, — сказал Демин и, пристально посмотрев на подследственного, добавил: — Я сейчас распоряжусь, чтобы к вам вызвали врача.2
Над причинами провала Барсука ломал голову не только он сам, но и все, кто направлял его работу. И прежде всего шеф филиала ЦРУ в Западном Берлине полковник Мартин Лаут. Собственно, для Лаута вопрос был не в самом Барсуке, который потерпел провал: рано или поздно проваливались почти все его агенты, засылаемые в Советский Союз, — таков удел разведчиков, действующих на самом остром участке невидимого фронта. Тут было иное. Дело, по которому Барсук работал и которое загубил, было особое, незаурядное, и поэтому провал его не мог быть причислен к разряду обычных. Кроме прочего, случившееся в Ченске вызвало дипломатические осложнения с русскими. И это, пожалуй, было хуже всего. Три дня тому назад во всех центральных советских газетах было опубликовано сообщение, которое совсем вышибло Лаута из колеи:«…Как стало известно Министерству иностранных дел СССР, советскими органами госбезопасности был пойман с поличным сотрудник посольства США Гарри Ричард Ванджей в момент изъятия им шпионских материалов из тайника… Характер обнаруженных при Ванджее материалов не оставляет сомнения, что он осуществлял конспиративную связь с находящимся на территории СССР шпионом. Министерство иностранных дел СССР заявляет указанному посольству протест по поводу подобных недопустимых действий со стороны дипломатических сотрудников посольства и ожидает, что Гарри Ричард Ванджей немедленно покинет пределы Советского Союза, так как его деятельность несовместима со статусом дипломатического работника…»За несколько дней до опубликования советского протеста в Берлин приезжала специальная комиссия ЦРУ в составе трех полковников для расследования причин провала Ченского дела. Из Берлина полковники под видом финансовых ревизоров госдепартамента вылетели в Москву и, обосновавшись в посольстве, на месте изучали обстановку работы Ванджея с Барсуком. На обратном пути из России комиссия в берлинский филиал не заехала, и в этом Лаут усматривал дурной для себя признак. Если судить объективно, Ченское дело было задумано тонко и с далеким прицелом, несмотря на трудность обстоятельств, в которых оно возникло. В тот момент для шефа западноберлинского филиала создалось почти безвыходное положение. На Урале провалился Лазаревич, знавший о факте заброски агента ЦРУ в Ченск. Понимая, что чекисты должны искать этого агента, Лаут сам пошел им навстречу: выдал бездействующего и к тому же задумавшего выйти с повинной Никольчука, тем самым расчистив путь специально завербованному для этого дела Барсуку. Но этим план Лаута не исчерпывался. Тщательно подготовленное Файн с помощью сотрудников посольской резидентуры «разоблачение» Никольчука Рубцовым (который перед его вербовкой изучался тоже через этих американских «дипломатов») преследовало важную цель внедрения Барсука в систему советских органов безопасности. Такая задача руководством ЦРУ Лауту вначале не ставилась. Он сам предложил ее, и она была утверждена. Сделал же это Лаут с умыслом. Понимая исключительную сложность создавшейся ситуации, полковник начал заранее возводить позиции для своей реабилитации на случай возможной неудачи. При этом Лаут рассуждал так: если к назначенному сроку информация о новом ракетном топливе русских не попадет на стол директора ЦРУ, он, Лаут, хотя бы частично оправдается тем, что за это время сумел кое-что сделать для внедрения Барсука в систему русской контрразведки… В общем предусмотрено было все до последней детали. И тем не менее дело потерпело крах. Не удалось осуществить ни одной из поставленных задач. (Отрывочная, поверхностная информация Барсука о некоторых оборонных объектах в пригородах Ченска не в счет.) Здание, возводимое с таким трудом в течение нескольких месяцев, рухнуло в один миг. Почему? Лаут много раз за последние дни задавал себе этот мучительный вопрос. И сейчас, сидя за рулем своего «форда», он опять спросил себя об этом: почему? Почему? День стоял жаркий. В окна автомобиля врывался с ветром запах разогретого асфальта и бензиновой гари. Побаливала голова. Но Лаут, пересиливая усталость, напрягая мозг, продолжал искать и искать ответ на свое неотвязное: «Почему?» На перекрестке движение транспорта неожиданно перекрыли. Лаут резко нажал тормоз, высунулся из машины, привлеченный странным зрелищем. Улицу пересекала, направляясь в сторону Бранденбургских ворот, шумная толпа людей. Их было, наверное, человек сто, в большинстве молодежь. Они кричали, размахивали, кому-то угрожая, кулаками, свистели, заложив в рот пальцы. Лаут не мог понять, что это за публика. Над головами качались плакаты: «Лучше умереть — чем стать красным!», «Не говорить, а действовать!» Вокруг толпы сновали репортеры, беспрестанно щелкали камерами. «Черт знает что, — подумал Лаут. — Какая-то манифестация… Или что-нибудь серьезное произошло в городе? Вроде не похоже. Кроме этой толпы полупьяных крикунов, на улицах ничего необычного»… Дали зеленый свет. Лаут тронул машину и тут же забыл о толпе. Опять ожили беспокойные мысли, связанные с неудачей в Ченске. И Лаут, весь поглощенный ими, вел автомобиль почти машинально. И вдруг его словно осенило. Он сам не понимал, как это произошло, почему у него возникло столь странное предположение. Случайно? Или потому, что в эту минуту он увидел на улице дом, очень похожий на тот памятный особняк на Дрезденштрассе, во дворе которого они недавно искали клад? Ведь сообщение об этом кладе было получено от Барсука. Но никакого клада не оказалось… А что, если клада вообще не было? Что, если… Лаут не успел додумать до конца: он услышал оглушающий рев автомобильных сирен. Высунувшись из окна, полковник увидел позади с десяток вынужденно остановившихся машин, а в ближней из них — побагровевшее от гнева лицо шофера и выставленный из кабины кулак. Лаут понял, что он создал тупик. А между тем он совсем не помнил, когда остановил свой автомобиль. И даже мотор выключил. Как это произошло?.. Но раздумывать было некогда. Надо было скорее ехать, чтобы рассосалась пробка на узкой улице: половину мостовой рассекал свежий канализационный ров. Всю оставшуюся до служебного особняка дорогу Лаут думал о злополучном кладе. И все больше склонялся к мысли, что сведения о нем, присланные из Ченска, возможно, были стопроцентной липой, которую чекисты сумели подсунуть Барсуку. Когда полковник подъехал к своей «конторе по торговым делам», его напряженные раздумья завершились выводом: «Все это вполне допустимо, хотя бы как предположение. И это предположение надо немедленно проверить. Поднять все материалы, связанные с кладом…» Он не стал загонять автомобиль в гараж, оставил его у тротуара. А сам стремительно прошагал в особняк. Едва войдя в кабинет, он тут же вызвал к себе Файн и коротко объяснил ей, в чем дело. — Я решил еще раз обследовать место клада, — сказал он нетерпеливо. — Каким образом, шеф? — Немедленно поехать туда, на Дрезденштрассе. — Но это же в Восточном секторе. — Мне это известно, — он все более раздражался. Файн удивленно повела плечами. — По-моему, сейчас не особенно подходящее время для поездки туда. — Вы хотите сказать, что лучше ехать ночью? — Нет, я имею в виду другое. — Что же? — Происходящие в городе события… Лаут непонимающе посмотрел на нее. — Разве вы еще не читали сегодняшних газет? — сказала Файн. — Красные закрыли границу в Берлине… Так вот оно что! Теперь понятно, о чем орала на улице эта толпа купленных за деньги шалопаев… Но ему в конце концов нет дела до этого! Он должен выполнять свою работу, ему без Восточного Берлина не обойтись! Там десятки явок, десятки людей… Ему самому, наконец, надо немедленно быть там, на этой Дрезденштрассе! Когда он выпалил все это, в возбуждении расхаживая по кабинету, Файн с мрачным спокойствием сказала: — Мы опоздали, шеф… Лаут тяжело опустился в кресло. С минуту сидел молча, нервно выстукивая пальцами по резному подлокотнику. Потом схватил газету из кипы, лежавшей на столе, впился в нее глазами. «Постановление Совета Министров Германской Демократической Республики от 12 августа 1961 года». Речь шла о введении твердого контроля и порядка в городе, о решении правительства ГДР применить пропускную систему и приступить к возведению в Берлине пограничных сооружений. В конце постановления говорилось:
«…Эти мероприятия необходимы для того, чтобы воспрепятствовать исходящей из Западного Берлина подрывной и шпионской деятельности против Германской Демократической Республики и других социалистических стран и предотвратить политическую и военную агрессию против ГДР, запланированную Западной Германией…»— Сто чертей в печень! — выдохнул Лаут. Его душил гнев. Вскочив с кресла, он опять заходил по комнате.
3
Развязка наступила через четыре дня. Потом, как в угаре, прошло еще два дня. Седьмой день был воскресенье. Лаут, не зная, как убить медленно тянувшееся время, слонялся по городу. Моросил дождь. Но Лаут словно не замечал его. Надвинув по самые глаза капюшон плаща, он с хлюпаньем шагал, не разбирая дороги. Больше ему ничего не оставалось, как шляться по улицам — без цели, без направления, пока не выдохнешься вконец. После этого можно хватить добрую порцию виски и под шум дождя завалиться спать… Как ни приготовлял себя Лаут к «худшей развязке», она сверх ожиданий оказалась на редкость болезненной и оскорбительной. Как удар бичом по лицу. Это произошло в минувший четверг, ровно в двенадцать. Лаут просматривал принесенные секретаршей бумаги. И вдруг — телефонный звонок. У полковника тревожно заныло сердце. Он по звуку определил, что звонил аппарат красного цвета — для связи с штаб-квартирой ЦРУ. Такой телефон в филиале был один, и пользоваться им мог только шеф. Лаут поспешно снял трубку. Говорил Кейбелл — первый заместитель Даллеса. Разговор был тихий и недолгий. Сперва — об усложнившихся условиях работы в Берлине, о необходимости «наращивания усилий, несмотря ни на что». А о провале в Ченске — ни слова. У Лаута затеплилась в душе надежда: быть может, все обойдется с минимальными потерями. И вдруг как ледяной душ! Даже перехватило дыхание, и солоно стало во рту. Лаут едва разомкнул дрожавшие губы, чтобы ответить: — Да, сэр, я понял. Я должен подать в отставку… Лаут еще долго держал в руке красную трубку. Но из нее доносились лишь отрывистые, скрипуче-металлические гудки. Полковник подумал, что он не заслужил такого к себе отношения, обижен несправедливо. Душевно подавленный, разбитый, он передал секретарше не просмотренную до конца почту и, сев в автомобиль, уехал домой. На службу Лаут вернулся только в субботу, после приглашения прилетевшего накануне в Берлин Мак-Стенли — своего преемника по филиалу. С «оголтелым Маком», как именовали его в кругах даллесовской разведки, он был знаком давно. Однако встретились они не так, как встречаются старые знакомые. Видимо, соответственно настроенный свыше, Мак-Стенли при приемке дел филиала был беспощадно ретив, придирался по пустякам. К тому же, верный своей развязной манере, он с Лаутом держался бесцеремонно, хотя был моложе его почти на десять лет. Эти бесило самолюбивого, надменного полковника, еще больше растравляло его душевную рану… Но все, как известно, проходит. Сегодня с утра, на свежую голову, Лаут впервые почувствовал себя в состоянии оценить случившееся с ним всесторонне, с объективной полнотой. Не кривя душой, он мог сказать себе, что отставка породила в нем двоякое чувство: горести и облегчения. Горести оттого, что с увольнением он терял хорошо оплачиваемое место — источник дохода, материального обеспечения своей большой семьи. Облегчения потому, что сравнительно легко вышел из этой грязной, дьявольской игры, именуемой разведкой. Его отправляли в отставку, не лишая права на пенсию. Могло случиться и хуже… Дождь, наконец, перестал. Между облаков показалось солнце. Было душно, парило. Лауту захотелось пить. Сняв плащ и перебросив его через руку, он направился к павильону с прохладительными напитками. Его путь лежал мимо контрольно-пропускного пункта — одного из тринадцати, установленных на вновь возведенной границе, протянувшейся между Западным и Восточным Берлином почти на сорок пять километров. Возле временного дощатого помещения КПП собралась небольшая толпа любопытных жителей. Тут же сновали с фото- и киноаппаратами западноберлинские корреспонденты. Они ждали сенсаций, скандалов, стычек. Но у Бранденбургских ворот, как и везде вдоль границы, в эти дни было тихо. По всему чувствовалось, что народ Берлина воспринимает происходящее спокойно. Выпив в павильоне стакан апельсинового сока, Лаут расплатился и вышел. Опять зашагал по улице куда выведут ноги. Возвращаться домой, в осточертевшую бобылью квартиру не хотелось: с отъездом семьи на лето в Штаты в ней было пустынно и неуютно. Миновав площадь, Лаут остановился возле многоэтажного дома. Прочитал название улицы и удивленно присвистнул: он, оказывается, вышел к месту, где жила Элен Файн. Решение зайти к ней созрело мгновенно. Ведь Элен не однажды приглашала его к себе: на свой день рождения и еще по случаю каких-то праздников. Однако он все отказывался, находил для этого благовидные предлоги. Но истинная причина крылась в другом: Лаут опасался, что интимная близость с этой видавшей виды женщиной может скомпрометировать его, отразиться на карьере. Теперь подобные соображения отошли в сторону. Его карьера испорчена настолько, что больше ее испортить нельзя. А перестав бояться за себя, он мог не опасаться и хищной красоты Элен. Лаут был уверен, что она примет его наилучшим образом: считая ее прекрасной разведчицей, он все время ей покровительствовал. К сожалению, карьера Файн тоже поставлена под угрозу из-за провала в Ченске. Но поддержать ее сейчас уже некому… Однако, как оказалось, Элен вовсе не была удручена случившимся. И, похоже, не особенно тужила по поводу кончившегося покровительства своего бывшего шефа. В длинном цветастом халате, перетянутом на гибкой талии поясом, она встретила его на пороге возгласом холодного удивления: — Мистер Лаут? Каким ветром вас занесло? Вместо ответа полковник галантно взял ее руку, поднес к своим губам. — Вы весьма любезны… сегодня. — В голосе Файн слышалась ирония. Раньше она не разговаривала с ним подобным тоном. Пройдя вслед за хозяйкой в комнату, Лаут обнаружил, что она ходит по ковру, устилавшему почти весь пол, босая. Элен, перехватив его взгляд, нимало не смутилась: — У меня только что была педикюрша. Через несколько минут пустой болтовни Файн, извинившись, вышла переодеться. Когда она вернулась, на ней было глубоко декольтированное вечернее платье. — Я к вашим услугам, мистер Лаут. — Она села в кресло напротив гостя. — «Мистер Лаут». Зачем так строго, официально? — улыбнулся полковник. — Вашему лицу не пристало выражение беспощадности. Но Элен не приняла шутливого тона, ответила с серьезной назидательностью: — Беспощадность в наше время — качество не лишнее… — Закурила из пачки, лежавшей на столе. — Кстати, думая о случившемся, я прихожу к выводу, что, быть может, именно отсутствие в вас этой самой беспощадности и привело к столь плачевному финалу. — Как это понимать? — На мой взгляд, причина вашей отставки не в провале Барсука. От чекистских контрударов вы бывали в нокауте не раз. И не только вы. В схватках с такой контрразведкой, как советская, неудачи неизбежны. Поэтому крах Ченского дела не причина, а только повод к вашей отставке в изменившихся, новых условиях. — Интересно! — Истинная причина, по-моему, кроется в том, что вы не обладали необходимой в нынешние дни железной хваткой. — Ну, ну, продолжайте. — Я, собственно, все сказала… И в этой оценке я не одинока. — Вот как?! — Наш новый шеф Мак-Стенли вчера на совещании сказал весьма определенно: «Лаут был слишком либерален, он распустил вас». — Для начала неплохо! Ну, а его деловые планы, если не секрет? — Мак считает, что демократический Берлин — это ручка, которой можно открыть дверь на Восток. И если нас туда не хотят пустить по земле, мы будем действовать под землей, но своего добьемся. — Я смотрю, вы совсем очарованы новым шефом. — У него я начинала свою карьеру разведчицы. — Файн пустила к потолку синее табачное колечко. — И этим могу гордиться: Мак из тех, кто всегда знает, что ему надо. — А, бросьте! — раздраженно сказал Лаут. — Ваш оголтелый Мак, как и все мы, не имеет ничего святого за душой, обыкновенный корыстолюбец. — Что ж, если вам угодно прослыть бессребреником, можете, например, считать, что вы здесь защищаете свою отчизну. — «Можете считать» — лучше не скажешь! — Лаут саркастически усмехнулся. — Действительно, никто из нас всерьез и не думает, что здесь, в Берлине, мы обороняем родную страну, находясь от нее за тысячи километров. — Ну, это дело большой политики… — Разумеется… — Лаут немного помолчал. — А вы никогда не задумывались над таким вопросом: почему мы так часто терпим неудачи?.. Может быть, мы хуже русских знаем ремесло разведки? — Не думаю.ГЛАВА XI Следствие продолжается
1
Следствие по делу Рубцова продолжалось. Постепенно вскрывались все новые обстоятельства преступления этого «простака», «рубахи-парня», который всех знал и со всеми умел поладить, в подходящий момент рассказать веселую байку, выпить крепко и гульнуть. В таком обличье ему легко было делать свое дело: вползать в душу к доверчивым людям, выуживать по крупицам нужную информацию у простаков и болтливых, запугивать и держать в страхе робких и слабовольных. К последним можно было отнести и Ирину Булавину. Женщина предельно впечатлительная, она легко подпала под влияние Рубцова и в полной мере испытала на себе его хватку. Страх, который сумел вселить в ее душу этот беспощадный человек, был так силен, что Ирина не могла освободиться от него даже тогда, когда ей сказали об аресте Рубцова. Это была какая-то инерция страха, его затянувшаяся реакция. У Маясова даже возникло опасение: не повлияла ли вся эта «психическая атака» Рубцова на душевное здоровье женщины. Поэтому они с Деминым решились на ее последний допрос только после консультации с психиатром. Но когда начался этот допрос, у Маясова вновь возникли опасения за Булавину. До нее не всегда сразу доходил смысл того, что ей говорили. Маясов старался ее успокоить: — Я вам, Ирина Александровна, еще раз повторяю: выслушайте меня внимательно. За отца вам отвечать не нужно. Более того, вы можете гордиться своим отцом… Она удивленно посмотрела на майора. — Ваш отец, Александр Букреев, был замучен в Борисинском лагере военнопленных, — сказал Маясов. — Он умер как настоящий солдат. — Я не понимаю… — прошептала Ирина. — Это установлено точно. Она была совсем растерянна. — Но как же отцовы письма? Его обещание приехать? — Все это неправда, фальшивка. — Но ведь письма написаны его рукой, я знаю… — Оба письма, что вы получили, были сфабрикованы в разведцентре, по заданию которого действовал Рубцов. — Мне трудно это представить, — сказала Ирина. — Разве можно подделать стиль письма, отцовские слова? Например, Ири… Только он звал меня так. — К сожалению, Ирина Александровна, и это возможно: Рубцов знал вашего отца несколько лет, работали вместе, вместе пошли на фронт… Что касается оригинала, с которого были сделаны фальшивки, у Рубцова сохранилось письмо Александра Букреева к жене, вашей матери. Письмо было написано за несколько дней до того, как полк, в котором он служил, попал в окружение. — А портсигар? — вдруг спросила Ирина. — Портсигар, выходит, тоже поддельный? — Нет, вот портсигар как раз не поддельный, — сказал Маясов. — Все, что принадлежало при жизни вашему отцу, в том числе письмо и портсигар, после смерти Букреева присвоил себе его «друг». — Рубцов? — Да, Рубцов, по доносу которого в Борисинском лагере и был повешен коммунист Букреев. — Маясов помедлил, потом негромко продолжал: — Через девятнадцать лет письмо, принадлежавшее вашему отцу, было пущено в ход против вас… Надеюсь, вы теперь, Ирина Александровна, понимаете, для чего все это Рубцову понадобилось? — Смутно. — Для того, чтобы запугать вас, держать в постоянном страхе возможного разоблачения, как дочь изменника Родины и шпиона. — Но какая ему от меня польза? — в полном недоумении спросила Ирина. В разговор вступил Демин: — Рубцов знал о ваших отношениях с Игорем Савеловым. Знал, что Игорь очень любит вас. С вашей помощью он хотел обработать Савелова и завербовать. — Подлец, боже, какой подлец… — шептала Ирина и не могла сдержать слез. — Возьмите себя в руки, Ирина Александровна. Что же делать? Игоря не вернешь, но в наших силах очистить от грязи память о нем. — Демин полистал бумаги в папке, нашел нужную страницу. — Следствием установлено, что накануне трагического происшествия Савелов после свидания в баре с Косачом, которому он продал охотничье ружье, вечером был у вас дома. Там же был и Рубцов. Почему вы промолчали об этом? — Рубцов просил не упоминать о нем. К убийству он отношения не имеет, а кому приятны все эти вызовы, допросы, протоколы… — Гм… А чем объяснить, что Савелов и Рубцов оказались у вас в одно и то же время? — Рубцов давно хотел, чтобы я познакомила его с Игорем… Я это сделала… Но получилось не совсем удачно: они поссорились в тот же вечер. — Поссорились?.. А как это случилось? — Знаете, я так толком ничего и не поняла. — Постарайтесь вспомнить. Расскажите нам все, как было. И с самого начала…В тот день Игорь пришел к ней под вечер. — Я ненадолго, — сказал он. — Мне скоро на вокзал, мать провожать. Ирина усмехнулась. — Ты как будто оправдываешься… Что с тобой? Избегаешь меня в последнее время. Он ответил не сразу, раскурил сигарету, потом взял Ирину за руки: — Нам нельзя, как прежде, пойми! Надо что-то придумать. Упорядочить отношения… — Словечко-то какое — «упорядочить». — Ирина громко засмеялась. — Перестань! — крикнул Игорь. — Мне надоело прятаться. Вот так, урывками, тайно… Ирина ласково сказала: — Ведь ты же, дурачок, знаешь: сына я не оставлю. Что мы будем делать, как жить? После короткой паузы она вдруг спросила: — Я слышала, тебя хотели уволить? — Хотели. Только руки коротки у одного ретивого. — Кто это? — Наш директор… Как бы сам скоро не загремел. — Снимают его? — Ходят такие слухи… — Ну, а ты, значит, отделался легким испугом? — Не сказал бы. На собрании стружку с меня снимали здорово… Не дослушав его, Ирина предложила: — Ну ладно, раздевайся… Арсений Павлович уже ждет. — Только за этим и пригласила? — улыбнулся Игорь, снимая плащ. — Не только — в тон ему ответила Ирина. — Идем. В гостиной навстречу Савелову поднялся Рубцов, протянул руку. — Здравствуй, здравствуй… Садись. Что так поздно? — Да так… побегать пришлось. Как говорится, волка ноги кормят. — Ну и набегал? — Полтораста целковых. — Ого! Где ж это так платят? — Да нет… Ружье продал. — И хорошее? — «Зауэр». — Жаль. — Конечно жаль. Да деньги нужны. На мотоцикл собираю. — Иришка, ты чего же это молчала, что дружку твоему деньги нужны?! — Я вижу, вы просто жаждете дать мне в долг, — усмехнулся Игорь. — Не жажду, но могу. Тратить особенно некуда, а Ирина мне что дочь. — Арсений Павлович, вы меня уговорили, — полушутливо сказал Савелов и придвинул к себе лист бумаги. — На какую сумму писать расписку? — А сколько стоит твой мотоцикл? — Шестьсот пятьдесят. Полтораста уже имею. — Значит, остается всего пятьсот? — Всего, Арсений Павлович, — рассмеялся Игорь. — В математике вы прямо Софья Ковалевская! — Ну, раз Софья… Получи. Рубцов достал из кармана бумажник, небрежно отсчитал пять сотенных купюр и положил их перед Савеловым. Игорь посмотрел на деньги, на Рубцова, потом на Ирину, снова на Рубцова и недоуменно переспросил: — Вы что — серьезно? — Для таких шуток я стар. Да и почему бы вам молодым, не помочь?! — Ирина, — воскликнул Игорь, — и где ты только находишь таких друзей! — Там же, где и ты. — Ха! Я со своими друзьями на троих еле-еле два восемьдесят семь наскребаю. Вот, пожалуйста. — Игорь придвинул Рубцову расписку. — Предупреждаю: в артели я не работаю, так что отдавать буду частями. Рубцов взял расписку, повертел ее в пальцах, удовлетворенно кивнул: — Красивый почерк. — Поднял рюмку и чокнулся с молодыми: — Ну-с, за мотоцикл! Закусив, он снова заговорил с Савеловым. — Ирина рассказывала, будто ты на экспериментальном работаешь? — Угу, — кивнул Игорь, прожевывая кусок ветчины. — В лаборатории? — Угу. — Нравится? — Нет. Скоро уйду. — Напрасно. — Платят там, как кот наплакал. — Платят мало? Ну это не беда… Иришка, сваргань-ка мне чашечку кофейку. Ирина поднялась и ушла в кухню. Минуту спустя туда же вошел Рубцов. — Где тут у тебя спички? — сказал он и, понизив голос, добавил: — Ты не торопись с кофеем. У меня с дружком твоим разговор есть… Ирина занялась приготовлением кофе. Сначала до нее доносились из комнаты отрывки фраз, потом там включили приемник, и говор утонул в громкой, бравурной мелодии. Но вот сквозь музыкальную ткань вдруг прорвался резкий, раздраженный возглас Игоря, сменившийся звоном разбитой посуды. Ирина составила с плиты кофейник и бросилась в комнату. Рубцов и Савелов стояли у сдвинутого с места стола в позах людей, застигнутых в момент драки. Ирина испуганно спросила: — Что случилось? — Да так… Ничего особенного. — Рубцов перевел дыхание, поправил пиджак и нагнулся к черепкам разбитой тарелки. — Вот только, извини, тарелочка… — Уходите, — угрожающе прохрипел Игорь. — Не торопи. Уйду, — криво усмехнулся Рубцов и не спеша зашагал к двери. — Игорь!.. Арсений Павлович! — взмолилась Ирина, в замешательстве переводя взгляд с одного на другого. — Пусть он уйдет! — крикнул Игорь. — Ничего не понимаю… — Горячится твой дружок, — силясь улыбнуться, проговорил Рубцов и натянул пыльник. — Извини, Ириша. До свидания. — Погодите! Вот ваши деньги. — Игорь сорвал с вешалки шляпу Рубцова, бросил в нее пять смятых купюр и сунул головной убор его хозяину. — Ну, ну… — неопределенно пробормотал Рубцов и осторожно прикрыл за собой дверь. Ирина и Савелов остались одни. — Что здесь произошло? — Не важно. — Игорь поправил волосы и сунул в рот сигарету. — Важно, чтобы этот тип и на порог не ступал. — Игорь, ты понимаешь, что говоришь! Он же друг моего отца, друг семьи нашей… — А ты знаешь, что предложил мне друг семьи вашей? — Понятия не имею. — Он мне прозрачно намекнул на одну доходную работенку… Больше Игорь ничего не сказал. Он посмотрел на часы и начал торопливо надевать плащ. Ушел он около одиннадцати. А на рассвете, как Ирине стало известно потом, его нашли уже мертвым…
Когда Демин и Маясов закончили допрос Булавиной и отпустили ее домой, они с минуту в задумчивости молчали. Показания Булавиной полностью подтверждали вывод следствия о том, что Рубцов начал ее «обрабатывать» уже после того, как Никольчук был арестован. Таким образом, Савелов, на которого пало тяжкое подозрение в пособничестве шпиону, в то время не имел никакой связи с Рубцовым. Это был очень важный вывод. Он снимал все сомнения следствия насчет роли Савелова в этом деле. А одновременно окончательно реабилитировал тех, кто прежде вел это дело, и, в частности, начальника Ченского отдела госбезопасности. Демин поднялся из-за стола, подошел к курившему у окна Маясову. — Как гора с плеч… С чем тебя, Владимир Петрович, и поздравляю. — Спасибо, — сказал Маясов. — Хотя утешение маленькое: парня-то в живых нет. — Да-а… И, похоже, настоящего парня.
2
В воскресенье с утра Маясов и капитан Дубравин поехали в больницу к Тюменцеву. Дело шло на поправку. Раньше, навещая его, они видели лишь зеленые глаза на забинтованном лице да закованные в гипс плечо и руку. Теперь бинты сняли. Тюменцев был гладко выбрит, без конца шутил по поводу «боевого крещения», которое по-приятельски устроил ему Рубцов. Дубравин, поправляя на своих широченных плечах белый халат, весело пробасил: — Никогда бы не подумал, что ты, первая перчатка Ченска, можешь так опростоволоситься. — Так он же самбист! — Тюменцев перестал смеяться. — Но дело, конечно, не в этом. Когда там, у забора, он попросил пропустить его, мне сделалось как-то того… не по себе. И он, гад, этим воспользовался. Маясов осторожно положил ладонь на руку Тюменцева, вытянутую поверх одеяла. — Ничего, еще чемпионом станешь. — С боксом, кончено, товарищ майор, это я точно знаю. — Тюменцев поморщился и вновь заговорил о том, что не давало ему покоя: — Я, видите ли, должен был отпустить его, потому что он когда-то вытащил меня из реки… Уж лучше бы этот подлец сразу мне в челюсть дал — не так обидно. А то ведь переговоры начал. Значит, рассчитывал на что-то. Значит… — Ерунду ты говоришь, — грубовато перебил его Маясов. Тюменцев посмотрел на него. — Если ерунда, то вот я хочу спросить вас, Владимир Петрович. — Ну, ну… — Помните, на свадьбе у брата был Аркадий? Вы мне объяснили, что он из уголовного розыска. Попросили свести его в одной комнате с Рубцовым. Научили, как надо Аркадия рекомендовать… Теперь я понял, из какого он уголовного розыска и какое уголовное дело их с Нинкой интересовало… Неужели вы мне тогда не доверяли? — Не в этом дело, — с улыбкой сказал Маясов. — Тебе мы, конечно, доверяли. Но мы знали, что ты приятель Рубцова, и это могло отразиться на твоем поведении: ты бы чувствовал себя скованно, вынужден был бы играть, а так ты вел себя естественно. И это нам помогло. — А что же с тем парнем, с Савеловым? — вдруг спросил Тюменцев. — Тоже, выходит, Рубцов его?.. Маясов сразу помрачнел. — Да, — сказал глухо. — На совести этого страшного человека немало жизней… Он встал и сразу заторопился. Встал и Дубравин. Но Тюменцеву не хотелось, чтобы они уходили. Он спросил у Маясова, как здоровье Зинаиды Михайловны. Маясов сказал, что жена после благополучно сделанной операции вроде бы пошла на поправку. — Передавайте ей привет от меня. — Спасибо, передам обязательно. — Товарищ майор! — опять заговорил Тюменцев. — Примете меня обратно в отдел? Рука когда подживет. Маясов засмеялся: — Ты же в народное хозяйство решил идти? Тюменцев смущенно покашлял в кулак. — Вы тогда правильно сказали: коммунизм не только строить нужно, его еще охранять требуется.3
Следствие приближалось к концу. То, что удалось установить через свидетелей, с помощью различных косвенных улик и архивных материалов, неопровержимо доказывало, что к сотрудничеству с иностранной разведкой Рубцов пришел не случайно. Страх перед разоблачением прошлого и жадность к деньгам были не единственными мотивами, толкнувшими его в объятия врагов нашей страны. …Арсений Рубцов (а по-настоящему Рукавишников) родился в семье богатого мучного торговца на Кубани. Отец его встретил Октябрьскую революцию враждебно и в гражданскую войну оказался в стане белогвардейцев. В годы нэпа он вынырнул в Орловской губернии под именем Рубцова, опять было начал вставать на ноги — открыл лавку, купил паровую мельницу. Но его разоблачили, судили и выслали в Сибирь. Когда Арсению исполнилось семнадцать лет, он уехал из дому — «искать счастья». Обосновался в Курске. Обманным путем вступил в комсомол. Но его обман скоро вскрылся, дальше оставаться в Курске не имело смысла. Он поехал в Донбасс, устроился работать конторщиком на коксохимическом заводе. Через год поступил учиться в техникум, одновременно продолжая работать. Учиться и работать было нелегко. И вообще вся жизнь была нелегкая, а главное — невеселая: не о такой мечтал единственный наследник богатого купца… Бежало время, и он с горечью убеждался: прошлой жизни не вернуть, надо приспосабливаться к той, что есть. Так приспособленчество стало его второй натурой. Он женился на дочери крупного советского работника, лебезил и заискивал перед ним, а когда тесть умер, даже не пришел на его похороны и через месяц развелся с женой. Осенью сорок первого года Рубцову представился подходящий случай покончить с жизнью, которая не устраивала его во всех отношениях. Когда полк, где он служил, попал в окружение, Рубцов (его перевели к тому времени в писарскую команду) добровольно сдался в плен. Причем принес с собой выкраденный в штабе секретный код. В Борисинском лагере военнопленных судьба Арсения Рубцова определилась окончательно: он приглянулся сотруднику абверкоманды Карлу Кёлеру, который завербовал его и под кличкой «Барсук» пустил в дело как агента-провокатора. Там, в лагере, Александр Букреев, на свою беду, и встретился с ним. И был уничтожен ради того, чтобы Барсук мог действовать под его именем. После Борисинского лагеря пошли другие лагеря. Но задача была везде одна: «выявлять врагов великой Германии — коммунистов, комиссаров и евреев». И Рубцов из кожи лез вон, стараясь заслужить внимание и милость своих хозяев. Усердие не осталось незамеченным. Барсука похвалили и ввели в «настоящее дело»: подрывать боеспособность партизанских отрядов, действуя внутри их. В разное время ему удалось поставить под удар гитлеровских карательных войск три партизанских отряда: один в Ченских лесах и два в Белоруссии. Успех был исключительный, и Барсук удостоился высокой награды: ему дали железный крест второго класса. Перед ним раскрывалась желанная карьера офицера «великой германской армии» — так по крайней мере обещали ему гитлеровцы. Но этому не суждено было осуществиться. И не потому, что сама «великая германская армия» потерпела полный крах. Карьера удачливого агента-провокатора оборвалась еще раньше, и весьма неожиданно. В марте сорок четвертого года Барсук со специальным заданием был помещен в лагерь пленных советских офицеров. Но задания он выполнить не успел. Советские войска внезапно перешли на этом участке фронта в наступление и освободили пленных. И в их числе «лейтенанта Рубцова», как значился он в лагерных списках. Начался новый этап в его жизни. Рубцова мобилизовали в действующую армию. В качестве командира комендантского взвода при фронтовом госпитале он дошел с наступающими войсками до Берлина. За это время сумел покорить сердце хирурга Глафиры Басмановой. Женился на ней и, демобилизовавшись, вместе с молодой супругой прикатил в Ченск, на ее родину. У Глафиры был двоюродный брат, заведующий фотоателье. Он сказал Рубцову: «Приобщайся! Выгодное дело, не то что твоя химия». И Рубцов приобщился… Шли годы. Попав в автомобильную катастрофу, погибла Глафира. Через некоторое время уехал из Ченска ее брат, по-родственному передав фотоателье под начало Арсения Павловича. Жизнь его постепенно приобретала устойчивые формы. Необременительная служба, достаток в доме, по вечерам «пулька» в кругу приятелей, а по воскресеньям — охота или рыбалка. Маленькие радости человека, вынужденного навсегда распрощаться с честолюбивыми мечтами прошлого. И вдруг сразу все поломалось! У Барсука объявились новые хозяева. Взяли за горло, прижали к стенке: или — или! И снова — надежда на какую-то фантастически-ослепительную жизнь. Но вот финал — полная катастрофа: четыре стены следовательского кабинета, стол с черным ящиком магнитофона, за столом чекисты, постепенно сужающие кольцо неопровержимых улик. Но он, Рубцов, не хочет, чтобы кольцо сужалось. Он противится этому изо всех сил — мутит воду, стараясь запутать следствие. Так было на первых допросах и так продолжается теперь. Только он избрал другую тактику: давать правдивые показания по мелочам и всячески уклоняться от предъявленных ему больших, тяжких обвинений. К этой тактике он прибег, когда начали выяснять, что Рубцов делал в войну. Следствие тянулось несколько дней без заметных успехов. Наконец полковник Демин не выдержал: — Давайте, Рубцов, договоримся: или бы будете рассказывать всю правду, или прямо скажите, что не желаете давать показания. В общем подумайте… И с этими словами Демин вышел из кабинета, оставив арестованного вдвоем с охранником, стоявшим у двери. Не повернув головы, Рубцов проводил полковника косым взглядом. «Ждешь, чтобы я вывернул себя наизнанку, подписал себе смертный приговор? Нашел дурака!.. О том, что произошло в урочище Кленовый яр осенью сорок второго года, не знает никто. А сам себе я не враг, чтобы рассказывать об этом…».…Лес. Суровый, хмурый, окутанный утренним туманом. Низкое небо. Тишина. На широкой поляне, защищенной со всехсторон дремучим бором, спит партизанский лагерь. Вокруг большой штабной землянки, среди редких кустов видны землянки поменьше. Ни дымка, ни звука. И только часовые, которых пробирает свежий октябрьский утренник, не спят, вслушиваются в ночные шорохи. Один из них, совсем молодой парень, лежит на пригорке, под развесистым желто-багряным кленом, у тропы, которая едва заметно петляет между кочек в высокой траве. И хотя в легкой стеганке зябко, все-таки клонит в сон. Парень покусывает травинку, трет кулаком глаза, но веки все равно слипаются. Чтобы прогнать дремоту, он высыпает на ладонь из расшитого алыми маками кисета остатки махорки. И огорченно вздыхает: даже на полкозьей ножки не набирается… Но что это? Впереди слышен треск сухих веток. Часовой берет автомат наизготовку, вглядывается в туманную чащу. На изгибе тропинки появляется человек. — Стой! Кто идет? — Свои. — Пропуск? — Стебель. — Пароль правильный! — Дозорный улыбается и, поднявшись из-за укрытия, идет навстречу рослому человеку в брезентовом плаще с капюшоном, надвинутым по самые глаза: — Ты, если не ошибаюсь, из второй роты? — Вторая рота, первый взвод, Букреев, — отвечает тот, приглаживая округло подстриженную бороду. — То-то, я гляжу, знакомый вроде. — И я тебя знаю: Сухов из первой роты? — Верно! — подтверждает парень. — А ты, похоже, из разведки возвращаешься? — Точно. — А где же ребята?.. На разводе говорили, трое вас тут должно пройти. — У ручья задержались, сапоги моют… — Бородач протягивает Сухову портсигар: — Курить будешь? — С толстым удовольствием! — парень обрадовался, начал открывать серебряную коробку. — Эге, штуковина-то с секретом! — Надави на орлиный глаз… И когда Сухов наклоняет голову над портсигаром, бородач заходит сзади и, выхватив из кармана нож, вдруг бьет парня пониже затылка. Потом быстро вытирает финку о мокрую траву. Шарит глазами по земле, ища упавшие кожаные ножны. Нет их, черт возьми! Но искать некогда. Он поднимает с травы портсигар, опускает в карман. Сбрасывает с себя брезентовый плащ. Под плащом надет мундир немецкого унтер-офицера, туго перехваченный в талии ремнем. Он берет в рот свисток — раздаются звуки, напоминающие пение лесной птахи. Через несколько минут на эти звуки из леса, справа и слева от тропы, густо валят солдаты в темно-зеленых шинелях. Тяжело дыша от быстрой ходьбы, с автоматами наготове, они крадутся к спящему партизанскому лагерю…
— Ну как, Рубцов, надумали? — полковник Демин вошел в кабинет вместе с Маясовым. Рубцов от неожиданности вздрогнул, провел ладонью по лицу, как бы смахивая страшное видение, только что его посетившее. Окончательно вернувшись к действительности, он сказал: — Напрасно ждете. Больше я ничего не знаю. Демин и Маясов сели за стол. — Итак, вы продолжаете настаивать на своих прежних показаниях? Фамилию Букреева себе не присваивали и под этой фамилией в Ченском партизанском отряде никогда не были? — спросил полковник. — Да ну, что вы, ей-богу! — Рубцов с видом обиженного развел руками. — Хорошо, — сказал Демин и, открыв ящик стола, вынул из него серебряный портсигар. — Вам знакома эта вещь? Длинные пальцы Рубцова чуть дрогнули, когда он взял тускло блеснувшую коробку с орлом на крышке. Но он тут же овладел собой и твердо сказал: — Да. Этот портсигар принадлежал моему приятелю Александру Букрееву. — Очень хорошо, — согласился Демин и, взяв телефонную трубку, попросил: — Пригласите Федора Гавриловича. В короткие напряженные минуты перед появлением еще какого-то нового свидетеля, Рубцов лихорадочно думал. Так ли он ответил? Ведь портсигар мог попасть к чекистам только от Ирины Булавиной. А ей он в свое время сам сказал, что получил портсигар от ее отца на память, в обмен на свой, — значит, этого и надо теперь держаться… И вот в кабинет вошел высокий, сутуловатый старик с прокуренными до желтизны усами. И Рубцов вдруг понял, куда гнет следователь, вытащив на свет божий красивую коробку из литого серебра. Когда старик, поздоровавшись и одернув коротковатый ему пиджачишко, сел у стола, Демин спросил:. — Товарищ Смолин, вам знаком этот портсигар? Старый слесарь положил раскрытый портсигар на свою широкую ладонь, поглядел на него. — Да, знаком… Эту вещицу по осени сорок второго года я вместе со своим братаном торговал у бойца нашего партизанского отряда Букреева. — А личность этого человека вам никого не напоминает? — Полковник перевел взгляд на побледневшего Рубцова.



















Последние комментарии
5 часов 18 минут назад
21 часов 22 минут назад
1 день 6 часов назад
1 день 6 часов назад
3 дней 12 часов назад
3 дней 16 часов назад