Мерлин [Стивен Лохед] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
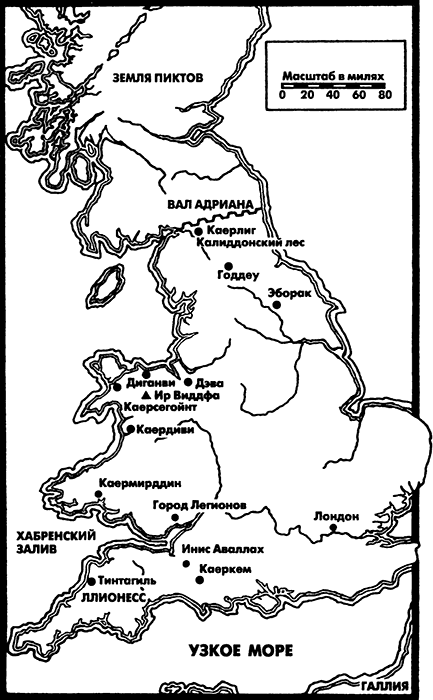
Стивен Лохед Мерлин
Памяти Джеймса Л. Джонсона
Десять колец, девять гривн золотыхУ древних было вождей;Добродетелей — восемь, и семь греховЖалящих души людей;Шесть — это сумма земли и небес,Отвага и кротость в ней;Судов от брега отплыло пять,Пять спаслось кораблей;Четыре царя отправились в путь,Три царства в величии дней;Страх и любовь двоих свелиСреди зеленых полей;Мир лишь один, и Бог один —Владыка вселенной всей.Рожденье одно предсказала звезда,Друиды поверили ей[1].
Пролог
Поверите? Они хотели убить Артура. И убили бы, если б не я. Глупцы! Да как они смели! Конечно, Утер никогда не блистал умом. А вот от Игерны я ждал большего — у нее было наследственное чутье. Однако она боялась. Да, боялась пересудов, своего внезапного возвышения, боялась Утера и стремилась во всем ему угодить. Она была так молода. Итак, Артура надо было спасать, как бы дорого мне это ни стоило. Я своими путями проведал о страшном замысле и немедленно отправился к Утеру. Разумеется, он стал отпираться. — Я что, по-твоему, рехнулся? — орал он. Он всегда орал. — Это может быть мальчик, — продолжал он, пряча лукавую усмешку, — и тогда речь идет о моем наследнике!! Утер — воин, и здесь все по крайней мере без обмана: сталь не врет. Счастье его — он родился в свое время. Он никогда не сумел бы достойно управлять городом, тем паче провинцией: он лжец, каких поискать. Страной он повелевал, держа в одной руке меч, в другой дубинку: меч для саксов, дубинку для подвластных ему удельных князьков. От Игерны тоже трудно было добиться толку. Она стояла молча, ломала длинные белые пальцы и завязывала узлами край шелковой пелерины, глядя на меня огромными ланьими глазами, которые пленили Утера. Живот ее только-только начал круглиться — она была месяце на четвертом-пятом, не больше. Однако и это достаточный срок для того, чтобы задуматься о предстоящем злодействе. Сомневаюсь, чтобы мать смогла хладнокровно убить дитя или спокойно смотреть, как это сделает другой. Насчет Утера не знаю… у него крепкая рука и блуждающий взгляд. Пендрагон Британии. Он не останавливался ни перед чем — и в этом больше чем наполовину таилась разгадка его власти над местными вождями. Да, он бы исполнил задуманное, не дрогнув. За окном били о черную скалу волны и кричали белые чайки. Игерна коснулась рукой живота — погладила его пальцами; я понял, что она услышит доводы разума. Игерна будет союзницей. Значит, неважно, что скажет или чего не скажет Утер, в чем он сознается, а в чем нет. Все равно будет по-моему… По-моему… Вышло или нет? Не знаю. Но я забежал вперед. Как всегда. Это будет история Артура. Но, чтобы понять Артура, мало знать историю его рождения. Надо понять страну. Нашу страну, Остров Могущественного. И надо понять меня, ибо Артур — творение моих рук.Книга первая Король
Глава первая
Много лет пришло и ушло с тех пор, как я проснулся в этом царстве миров. Слишком много смертей и болезней, тьмы, войны, зла. Да, великого зла. Однако сперва жизнь сверкала красками, словно восход на море или лунный свет на воде, словно золотая гривна на шее моего деда Эльфина. Она была яркой, говорю я вам, и полной радостей. Знаю, воспоминания детства у всех подернуты золотистой дымкой, но это не умаляет их правдивости. Все и впрямь было прекрасно. Мерлин… Кречет… Странное имя. Без сомнения, отец выбрал бы мне другое. Однако простим матери эту причуду. Мерлин — Мирддин на языке отца — мне подходит. И все же у каждого человека — два имени: то, что ему дали, и то, что он заслужил. Эмрис — это имя я заслужил, и оно мое по праву. Эмрис — бессмертный… Эмрис — божественный… Эмрис Вледиг, король и пророк своего народа. Амброзий для говорящих по-латыни и Эмбреис для жителей Южной Британии и Логрии. Однако для кимров с холмистых просторов запада я — Мирддин Эмрис. И поскольку среди них рос мой отец, я считаю их своим народом. Мать давным-давно объяснила, что это не так, но вера в наше родство согревает меня, как, думаю, согревала отца в минуты сомнений. Сомнений в мире ничуть не меньше, чем зла. Они тоже слуги лукавого, и не из последних. А сколько еще других…. Ладно, ладно, довольно бормотать, Мерлин. Что за сокровища из своей опустошенной казны выложишь ты перед нами?Я беру посох, ворошу уголья и вновь вижу образы самого раннего детства: Инис Аваллах, Остров Аваллаха. Дом моего деда, царя Аваллаха, Короля-рыболова, первый дом, который я помню. Здесь, в блестящих залах его дворца, я сделал первые неуверенные шажки. Видите, вот яблоневые рощи в белом цвету, соленые болота, зеркальная гладь озер у подножия Тора, беленая церковка на соседнем холме. А вот и сам Король-рыболов: черноволосый, насупленный, как летняя гроза, полулежащий на алом шелковом ложе, он внушал трехлетнему ребенку страх, хотя и относился ко мне с большой добротой. А вот и моя мать, Харита, высокая и стройная, неподражаемо величественная, настолько прекрасная, что рядом с ней меркнет обычная красота. Златовласая дочь Ллеу-Солнца, Владычица Озера, хозяйка Аваллона, королева фей (ее имена и звания, как и мои, множатся со временем) — этими и другими словами называют ее люди, и они правы. Мать никогда не скрывала, что я — ее единственное сокровище. Добрый священник Давид объяснил, что я — возлюбленное чадо Живого Бога; рассказы о Сыне Божьем, Иисусе, воспламенили мне сердце верой, а верховный друид Хафган, мудрый и преданный слуга, пробудил во мне ненасытную жажду знаний. Если на свете чего-то недоставало, я об этом не ведал, как не ведал страха или чувства опасности. Дни моего детства были исполнены покоя и изобилия. Время и события остального мира почти не достигали Инис Аваллаха — приглушенный рокот, тихий, словно завывания черных человечков банши в каменных кольцах на вершинах далеких холмов, и далекий, словно вой пурги над могучею Ир Виддфа на скалистом и мрачном севере. Разумеется, все вокруг было не так гладко, но в солнечно-сладкие дни моих первых воспоминаний мы жили, как древние боги, свысока взирая на дрязги простых людишек. Мы были Дивным Народом, волшебными существами с Западных земель, обитателями Стеклянного Острова. Те, с кем мы делили этот болотистый край, страшились нас и почитали. Нам это было с руки — отгоняло нежелательных чужаков. Мы не были сильны той силой, которую обычно уважают, и паутина слухов защищала нас не хуже мечей и копий. Если вам, живущим в эпоху разума и мощи, такая защита покажется слабой и ненадежной, то я скажу, что вы ошибаетесь. В те времена человек жил, окруженный верованиями, древними, как сам страх, и предрассудки эти сложно было изменить, не то что рассеять. Только взгляните! Вот и сам Аваллах стоит передо мной росистым утром. Он по обыкновению держится за бок, как всегда, при виде меня улыбка сверкает в черной бороде. Он говорит: «Идем, соколик, рыбки зовут — соскучились. Возьмем-ка ладью и посмотрим, не вызволим ли щуку-другую из воды». Рука в руке, мы спускаемся к озеру. Садимся в лодку. Аваллах гребет, маленький Мерлин крепко держится ручонками за борт. Аваллах смеется, поет, рассказывает грустные повести о погибшей Атлантиде, а я слушаю, как умеют слушать одни дети, — всем сердцем. Солнце поднимается в зенит. Я смотрю на заросший тростником берег и вижу мать. Она ловит мой взгляд, машет рукой, зовет нас. Аваллах разворачивает челнок, гребет к ней, мы возвращаемся во дворец. Мама никогда не говорит, но я знаю — ей тревожно, когда она слишком долго меня не видит. Тогда я не понимал, отчего; теперь понимаю. Однако для трехлетнего ребенка жизнь — стремительная череда радостей, проносящихся в мире столь разнообразном, что понять его или ощутить можно лишь во внезапной вспышке озарения — как, впрочем, не только в детстве. И в каждую минуту тебе доступно неисчислимое множество чудес. При всей своей малости я глубоко и надолго нырял в ошеломляющий поток ощущений и каждый вечер валился с ног, опьяненный жизнью, едва живой от усталости. Если Инис Аваллах был для меня всем миром, то в нем мне предоставили полную свободу. Не было такого закутка, который я не изучил, и каждый уголок принадлежал мне. Конюшни, кухни, парадный зал, опочивальни, галерея, портик, сады — я бродил где мне вздумается. Даже короля не слушались бы так — любой мой детский каприз немедленно исполнялся. Так я рано познал суть и удобства власти. Великий Свет, тебе ведомо, что я сам никогда к ней не стремился! Мне предлагали власть, и я ее принимал. Что здесь было дурного? Впрочем, в те дни на власть смотрели иначе. Люди сами решали, что хорошо, что дурно. Иногда они рассуждали правильно, чаще — нет. Не было на земле судьи, не было образца для подражания, чтобы взглянуть со словами: «Видите, вот так надо поступать!». Царь вершил правосудие мечом, и его воля звалась истиной. Вам полезно об этом помнить. Представления об истине и справедливости явились позже, гораздо позже. Прежде надо было воздвигнуть основание, на котором следовало строить человека. В те дни Остров Могущественного потрясали усобицы, такие привычные теперь, но очень редкие в то время. Цари и князья боролись за власть и влияние. Цари, сказал я? Царей в ту пору развелось больше, чем овец, князей — больше, чем воронья на поле сражения, алчных людишек — больше, чем лососей во время нереста. И каждый князь и князек, вождь и король племени, каждый выскочка на службе у римлян рвал, что удастся, из пасти наступающей Ночи, думая, что вот, тьма сгустится, а он будет сидеть у себя в норе и обжираться добычей. Скольким она стала поперек горла?
Как я говорил, времена были тревожные, как для разума и сердца, так и для духа. Главным впечатлением раннего детства стали окружавшие меня мир и любовь. Даже тогда я знал, как это необычно, но дети воспринимают необычное как должное. Осознавал ли я то, что отделяло меня от остальных людей? Чувствовал ли свою избранность? Один случай из тех дней накрепко застрял в памяти. Как-то при встрече с Блезом, моим наставником и другом (мы занимались с ним каждый день), у меня возник вопрос. — Блез, — спросил я, — почему Хафган такой старый? Мы сидели в яблоневой роще на склоне Тора и смотрели, как бегут на запад облака. Мне было, наверное, не больше пяти лет. — Ты считаешь его старым? — Он старый, если столько знает. — Да, конечно, Хафган живет долго и многое успел повидать. Он очень мудр. — Я тоже хочу стать таким мудрым. — Зачем? — спросил он, склоняя голову на бок. — Чтобы все знать, — отвечал я. — А когда все узнаешь, что будешь делать? — Стану королем и всем расскажу. Да, уже тогда я знал, что стану королем. Не помню, чтобы мне кто-нибудь это говорил, но я угадывал свое предназначение. Я и сегодня слышу ответ так ясно, как если бы Блез обращался ко мне сейчас: «Большое дело — быть королем. Да, большое дело. Но есть власть, перед которой склоняются и короли. Узнай ее, и, будь на тебе хоть царская гривна, хоть нищенское отрепье, имя твое навеки останется в людских умах». Разумеется, я не понял ни слова, но запомнил все от начала до конца. Так что вопрос о возрасте по-прежнему меня занимал, когда на следующий день приехал дедушка Эльфин (он частенько меня навещал). Не успели гости слезть с коней и поздороваться, как я направился к верховному друиду (он всегда сопровождал владыку Эльфина), потянул его за мантию и спросил: — Сколько тебе лет, Хафган? — А как по-твоему, Мирддин Бах? — Дымчато-серые глаза весело поблескивали, хотя я редко видел, чтобы Хафган улыбался. — Думаю, ты старый, как дуб на церковном холме, — важно объявил я. Он рассмеялся. Остальные замолкли и повернули головы в нашу сторону. Друид взял меня за руку и отвел в сторонку. — Нет, — объяснил он, — я не настолько стар. Однако по людским меркам я впрямь долгожитель. Однако что я? Вот ты и правда проживешь столько, что сравняешься годами с древнейшими дубами на Острове Могущественного, а то и перерастешь их. — Он крепко сжал мою руку. — Тебе много дано, — серьезно произнес он, — и, как прочел мне в книге Давид, с тебя многое спросится. — Неужели я вправду буду старый, как дуб? Хафган поднял плечи и покачал головой: — Кто может знать наверняка? К чести Хафгана, надо сказать, что он, хоть и знал о моей избранности, никогда не обременял меня этим знанием, не пробуждал преждевременных надежд. Без сомнения, у него был опыт общения с чудо-ребенком, ведь он воспитывал моего отца и многому успел научиться. Ах, Хафган, видел бы ты меня сейчас! После того посещения, которое, впрочем, ничем не отличалось от прошлых, я стал забираться дальше от дома: посещал Летние земли, которые для меня были целым огромным миром. Летними землями нарек их Талиесин, когда Аваллах поселил там его народ. Дедушка Эльфин и бабушка Ронвен всегда радовались моим приездам и тут же принимались меня баловать, сводя на нет многомесячные мамины усилия. Харита никогда не сердилась, ни разу и словом не намекнула, что они напрасно потакают моим капризам, предоставляя им воспитывать меня по своему усмотрению. Это в частности включало в себя уроки обращения с оружием, которые давал мне воевода Эльфина, силач Киалл, возившийся с нами — малышами, хотя на нем лежала забота о всей дружине. Киалл вырезал мне мой первый деревянный меч, да и копье тоже. Меч был тонкий, легкий и не длиннее моей руки, но я считал его непобедимым. Этим деревянным мечом Киалл показывал мне, как надо наносить и отбивать удары, рубить наотмашь; копье следовало метко бросать в цель любой рукой с опорой на любую ногу. Он учил меня сидеть на лошади, направляя ее коленями, показывая, как в случае нужды следует заслониться ею вместо щита. На шестом году жизни я провел целое лето у Эльфина. Хафган и Киалл только что не дрались из-за меня. Кроме них, я почти никого не видел. Мать заехала на несколько дней, и я расстроился, думая, что она надумала забрать меня. Однако она просто решила меня навестить. Убедившись, что все благополучно — в этом ее уверили Хафган и Киалл, — она вернулась в Инис Аваллах, а я остался в Каеркеме. Так было положено начало порядку, который соблюдался потом несколько лет кряду: зима в Инис Аваллахе с Давидом и Блезом, лето в Каеркеме с Эльфином и Киаллом. Каер Эльфина отличался от Аваллахова дворца решительно всем: там — холодные высоты рассудочного изящества и запредельной красы, здесь — земная явь камня, пота и стали. «Мозги и кровь» — сформулировал однажды Киалл. — Да? — Мозги и кровь, парень, — повторил он. — То и другое у тебя есть, и это все, что нужно воину. — А я стану воином? — Станешь, если мне не помешают, — сказал он, опираясь жилистыми ладонями на рукоять длинного меча. — У тебя дар от самого Ллеу — ты быстр, как вода, легконог, как кошка, мне уже трудновато за тобою угнаться. Осталось немножко мяса на косточки нарастить, а это дело времени. Мне были приятны его слова, и я знал, что они правдивы. Я и впрямь был проворней других мальчишек, мог потягаться с ребятами вдвое старше себя и легко справлялся с двумя сверстниками. Многих изумляло, что я вытворяю со своим телом, я же не видел в этом ничего странного. Напротив, я удивлялся, что не все так владеют мышцами, не все могут сплавить тело и мозг воедино. Стыдно признаться, но из-за этого я изрядно задирал нос. Смирение приходит с опозданием, если вообще приходит. Итак, я рано узнал две вещи: я буду жить долго и стану королем. И третья: мне удастся либо не удастся обрести Покров Власти, о котором говорил Блез. Я не видел особой причины к этому стремиться, поэтому вскоре и думать забыл про сам разговор. Однако я очень хотел быть воином. Знай я хоть в малой мере, как огорчает это мою мать, я бы хоть немного сдерживал свое рвение, по крайней мере в ее присутствии. Впрочем, я был глуп и слеп и ни о чем другом не говорил. Я трудился без устали, и труд был мне в радость. Я просыпался первым в мальчишеском доме и до рассвета выбегал во двор поупражняться в фехтовании, верховой езде, бросании копья, искусстве обращения со щитом или рукопашной борьбе… Я занимался как одержимый. Лето пролетело в угаре мальчишеской страсти; я молился, чтоб оно не кончилось никогда. Однако оно кончилось, и я вернулся в Инис Аваллах в сопровождении Блеза и отряда воинов. Помню, как мы ехали: стояли светлые осенние дни, мы проезжали мимо созревших нив, через селения, где нас тепло привечали и кормили как на убой. Мама несказанно обрадовалась моему возвращению, но я уловил и ее печаль. И еще я заметил, что она провожает глазами каждый мой шаг, надолго задерживается взглядом на моем лице. Неужто я так изменился за несколько месяцев в Каеркеме? — Ты так быстро растешь, соколик мой, — сказала она. — Скоро улетишь из своего гнездышка. — Я никуда отсюда не денусь. Куда мне идти? — искренне удивился я. Мысль покинуть Инис Аваллах никогда не приходила мне в голову. Харита легонько повела плечами. — Выберешь место и поселишься там. Ведь ты должен стать Властителем Лета. Так вот о чем она думала! — Но ведь на самом деле такого места нет, правда, мама? Она улыбнулась чуть печально и покачала головой. — Нет. Сейчас нет. Это тебе, родненький, предстоит создать Царство Лета. — Я думал, Летние земли… — Нет. — Она снова покачала головой, но печаль уже ушла, и я увидел, как блеснули ее глаза. — Летние земли — не то царство, о котором мечтал твой отец, хотя, может быть, здесь он и думал его создать. Летнее царство там, где живет Повелитель Лета. Тебе надо лишь провозгласить себя королем. Мы и прежде говорили о Царстве Лета, но сейчас разговор получился совсем иным. Это Царство перестало быть маминой сказкой. Я почувствовал, что оно в некотором смысле действительно существует, надо лишь вызвать его к жизни. И впервые я понял, что моя судьба, как и судьба моего отца, накрепко сплетена с видением этой дивной земли. Осенью я вернулся к занятиям с Давидом, священником в нашем храме. Я читал по его священным книгам, ветхим и выцветшим, а потом мы обсуждали прочитанное. В то же время Блез наставлял меня в друидическом знании. И тому и другому я предавался с не меньшим рвением, чем летним урокам военного мастерства. Сознаюсь, это было непросто. Порою я чувствовал, что разрываюсь на части, как ни оберегали меня Блез и Давид, а более заботливых наставников не было еще ни у одного мальчика. Наверное, иначе и быть не может, когда так сильно хочешь все сразу. Мои учителя видели, как я себя изматываю, и огорчались. — Не стоит себя так терзать, Мирддин, — как-то сказал мне Блез в тоскливый промозглый зимний вечер, когда я тщетно пытался затвердить длиннейшую «Битву деревьев». — Тебе совершенно необязательно становиться бардом. Погляди вокруг — многие и без этого живут. — Мой отец, Талиесин, был бардом. Хафган говорит — величайшим бардом всех времен. — Так он считает. — А ты нет? Он рассмеялся: — Разве можно перечить верховному друиду? — Ты не ответил на мой вопрос. — Ладно. — Он надолго замолчал. — Да, твой отец был величайшим из нас, более того, он был мне другом и братом. Но… — Он предостерегающе поднял палец. — …Талиесин был… — Блез снова надолго замолк и слегка дернул плечами, раздумав говорить то, что уже было начал. — Но не каждый может стать тем, кем он был, или достичь его высот. — Я обязательно стану бардом. Я буду стараться изо всех сил, Блез. Обещаю. Он покачал головой. — Дело не в старании, Сокол. — А в чем? Чего ты от меня хочешь? — захныкал я. — Только скажи. В карих глазах наставника светилось сочувствие; он хотел, как мог, мне помочь. — Ваши дары различны, Мерлин. Ты не можешь стать своим отцом. Тогда я не воспринял его слов, но потом много раз воспоминал. — Я стану бардом, Блез.
Я Мерлин, и я бессмертен. Что это — каприз природы? Дар матери? Наследие отца? Не знаю, как такое случилось, но это правда. Не знаю я и другого — откуда берутся слова, что наполняют мою голову и падают с уст, словно пламя, на хворост людских сердец. Слова, образы… так есть, было и будет… Мне довольно взглянуть. Чаша черной дубовой воды, тлеющие угли в костре, дым, облака, самые лица людей — я гляжу, и мгла расступается, и мне удается чуть-чуть заглянуть на спутанные тропинки времен. Бывали ли такие времена? Нет! Ни столь великих, ни столь ужасных. Знай люди, что грядет, что ждет последнего из них, затрепетали бы, сникли, закрыли головы и заткнули рты плащами, чтобы не завопить. Неведение — их благословение и проклятие. Но я знаю; я, Мерлин, всегда знаю наперед.
Глава вторая
— У мальчишки глаза, как у хищной птицы, — сказал Максим, кладя руку мне на голову и заглядывая в лицо. Ему ли было не знать — вот уж у кого был взгляд хищника. — Ни у кого не припомню таких — словно желтое золото. — Улыбка его полоснула, как нож. — Скажи мне, Мерлинус, что видят твои золотые очи? Странный вопрос для семилетнего мальчика. Но в мозгу моем возник образ: меч — не широкий и короткий, как у легионеров, а длинный кельтский — заостренная книзу певучая молния. Рукоять — бронза, обвитая серебром, — увенчана царственным аметистом. На камне резной Орел Легиона, яростный и горделивый; лучи света сходятся в его черном сердце, и сам он горит глубоким и ровным огнем. — Вижу меч, — сказал я. — Рукоять серебряная с лиловым камнем, на нем вырезан орел. Это императорский меч. И Максим, и владыка Эльфин — отец моего отца, стоящий рядом со мной, — изумились, как будто я изрек великое и страшное пророчество. А я всего лишь сказал, что вижу! Магн Максим, командующий британскими легионами, с любопытством уставился на меня: — А что еще ты видишь, дружок? Я закрыл глаза. — Вижу кольцо королей: они застыли в круг, словно камни. Посреди женщина на коленях, в руках у ней Меч Британии. Она говорит, но никто ей не внемлет. Клинок ржавеет, всеми забытый. Римляне повсюду видят знамения, но вряд ли он ждал чего-то подобного именно от меня. Мгновение он смотрел в упор, и я почувствовал, как его пальцы у меня на макушке ослабли. Потом он резко отвернулся и сказал: — Король Эльфин, а ты все так же крепок. Не размяк на мягкой земле. Они с дедом под руку пошли прочь: двое старых друзей, двое равных. В то утро, когда он приехал, мы были в Каеркеме. Я объезжал пони, подарок Эльфина, торопясь приучить его к узде за несколько дней, остававшихся до отъезда домой. Черно-белый конек оказался сущим козленком. Простое дело превратилось в настоящую войну между моей волей и его, причем главные потери несла моя сторона. Солнце садилось, поднимался туман. Лесные голуби возвращались на свои гнезда, в неподвижном, пронизанном вечерним светом воздухе носились стрижи. И тут я услышал то, от чего окаменел и обратился в слух: ритмичный, гулкий рокот, от которого дрожала сама земля. Киалл, дедушкин воевода, взглянул на меня и встревожился: — В чем дело, Мирддин Бах? Что случилось? «Мирддин Бах», называл он меня, «маленький сокол». Вместо ответа я повернулся лицом к востоку и, бросив веревочную уздечку, припустил к крепостному валу, крича на ходу: — Быстрей! Быстрей! Он идет! Если бы меня спросили, кто идет, я бы не нашел ответа. Однако стоило нам выглянуть в щель между заостренными бревнами, как стало ясно — к нам приближается кто-то важный. Вдалеке, в долине, мы различили двойную извивающуюся линию — колонну на марше. Она двигалась на северо-запад, и рокот, который я слышал, был боем походных барабанов и мерной поступью ног по старой дороге. Свет уходящего дня блестел на щитах, впереди качались значки с орлами. Над колонной клубами вилась пыль, позади тянулись обозные фуры. Там было не меньше тысячи человек. Киалл только раз взглянул за частокол и тут же послал дружинника к лорду Эльфину. — Это Максен, — подтвердил тот, когда подошел к нам. — Вот и я смекаю, — загадочно отвечал Киалл. — Давно его не было, — промолвил мой дед. — Надо готовить встречу. — Думаешь, заглянет к нам? — Разумеется. Скоро стемнеет, ему надо будет где-то остановиться на ночлег. Отправь к нему почетную стражу. — Сейчас отправлю, господин. И Киалл быстрым шагом направился через каер. Мы с дедом продолжали следить за колонной. — Он что, король? — спросил я, хотя в ответе не сомневался. Я еще никогда не видел, чтобы кого-либо сопровождала такая огромная дружина. — Король? Нет, Мирддин Бах, он Dux Britanniarum и подчиняется только императору Грациану. — Dux? Дюк? Это что-то по-латыни? — Вроде воеводы, — объяснил Эльфин, — только гораздо больше: он командует всеми римскими войсками на Острове Могущественного. Некоторые говорят, что он сам со временем станет императором, хотя, как я посмотрю, у начальника когорты власти будет побольше, чем у кесаря. Вскоре из ворот выехал Киалл с десятью дружинниками. Вернулись они в сопровождении тридцати римлян. Вид римских легионеров поразил меня: крупные, коренастые, в нагрудных кожаных или медных доспехах, с широкими короткими мечами или уродливыми копьями. Ноги их обмотаны красной тканью и до середины бедра перехвачены ремнями тяжелых, подбитых гвоздями сандалий. Всадники прогрохотали по извилистой дороге к воротам каера, а я побежал вдоль стены, чтобы встретить их. Бревенчатые ворота распахнулись, подкованные железом лошади во весь опор влетели в поселок. Двое воинов держали значки с орлами, посередине ехал Максим — его богатый красный плащ был в дорожной пыли, бурое от загара лицо обрамляла короткая черная бородка. Он натянул поводья, спешился и пошел навстречу Эльфину. Они дружески обнялись, и я впервые понял, что мой дед — человек незаурядный. Сейчас, когда я видел его рядом с могущественным чужаком, у меня занялся дух. То был уже не просто мой дедушка, а полновластный король. Остальные всадники въехали в каер. Эльфин обернулся и подозвал меня. Я стоял, вытянувшись в струнку, покуда военачальник Британии внимательно разглядывал меня. Его черные глаза пронзали насквозь, как острие копья. — Здрав будь, Мерлинус, — сказал он голосом, хриплым от усталости и пыли. — Приветствую тебя от имени матери городов — Рима. Максим взял мою ладонь и вложил в нее золотую монетку с изображением Победы. Так я впервые увидел Магна Максима, Dux Britanniarum, верховного воеводу Британии. И тогда-то перед его лицом я изрек свое первое пророчество. В ту ночь был пир. В конце концов не каждый день у нас гостит главный военачальник Британии. Гостей то и дело обносили медом, и я чуть с ног не сбился, наполняя рога, кубки и чаши. В чаду от жареного мяса терялись бревенчатые стены, громкая похвальба сотрясала воздух — воины расписывали свои подвиги в любви и на войне. Я носился с кувшином и ликовал, что меня допустили на пир взрослых, пусть даже только прислуживать. Потом, когда догорели факелы и лампады, Хафган, верховный друид моего деда, принес арфу и спел сказание о Трех губительных язвах. Все хохотали до упаду, и я вместе со всеми, счастливый тем, что меня оставили веселиться с большими, а не отправили спать в мальчишеский дом. Что за ночь! Разгульная, хмельная! Тогда я понял, что верх счастья — сидеть королем в просторных палатах среди бесстрашных соратников, и поклялся, что со временем всего этого добьюсь. Больше я с Максимом не говорил, хотя на следующий день перед отъездом военачальника они с дедом долго беседовали. Я сказал, что не говорил с ним, но, уже садясь в седло, Максим увидел меня, медленно поднял руку и коснулся лба тыльной стороной ладони — знак почтения, странный по отношению к ребенку. И Максим постарался, чтобы его никто не заметил. Он попрощался с дедом — они по-родственному стиснули друг другу руки — и поскакал вместе с отрядом. С земляного рва за частоколом я смотрел, как колонна выстроилась и двинулась по долине Кема вслед за колышущимся в небе орлом. Я никогда больше не встречал Максима. И прошло много лет, прежде чем мне въяве предстал меч, который я видел тогда. Вот почему Максим так странно на меня поглядел. И вот почему он приветствовал меня, как старшего. Так все началось. Сперва был меч, Меч Британии. И меч был Британией.Глава третья
Весной того года, когда мне исполнилось одиннадцать лет, мы с Блезом и Хафганом ездили в Гвинедд и в Край снегов, к Ир Виддфа на гористом северо-западе. Путешествие было трудным и долгим, но неизбежным — Хафган ехал на родину умирать. Он никому об этом не говорил, ибо ему было грустно расставаться с людьми. Именно разлука его печалила, а не смерть; Хафган давным-давно примирился с Богом и знал, что смерть — тесные врата в иную, лучшую жизнь. Как ни горько было прощаться с родичами, очень уж хотелось ему перед смертью еще раз увидеть родимые края. Эльфин настоял на том, чтобы с нами отправился отряд воинов; в противном случае это сделал бы Аваллах. Сам Хафган предпочел бы обойтись без такой почести, но он понимал, что охранять будут не его, и поневоле согласился. Воинов было девять, так что вместе с нами выходило двенадцать человек. В путь двинулись вскоре после Бельтана, праздника, когда жгут костры, встречая приход весны. Хафган и воины заехали в Инис Аваллах, где в нетерпении дожидались мы с Блезом. В день отъезда я вскочил пораньше, оделся и выбежал во двор, где с изумлением увидел свою мать, одетую для поездки верхом в короткий плащ и высокие сапоги. Волосы она заплела в косу и подвязала белым кожаным шнурком, который носила еще на бычьей арене. Она держала в поводу серого жеребца, и я сперва подумал, что конь предназначен мне. Хафган стоял рядом с ней, и они тихо переговаривались, дожидаясь остальных. Я поздоровался и сказал, что лучше взял бы своего черно-белого пони. — Лучше, чем что? — удивилась Харита. — Лучше, чем этого жеребца. — Я добавил, что люблю пони и собирался ехать на нем. Мама рассмеялась и сказала: — Ты не единственный, кто научился закидывать ногу в седло. Только тут я заметил ее наряд. — Ты тоже едешь? — Пора мне увидеть края, где вырос твой отец, — объяснил она, — и потом, Хафган меня позвал, и я очень обрадовалась. Мы сейчас договорились остановиться в Диведе. Хотелось бы повидать Мелвиса и Пендарана, а тебе я покажу, где ты родился. Ну как, нравится? Нравилось мне это или нет, но она твердо вознамерилась ехать, и спорить было бессмысленно. Однако зря я думал, что она испортит нам путешествие: мама легко сносила все тяготы пути. Нам не пришлось из-за нее мешкать в дороге, а знакомые картины оживили в ней тысячи воспоминаний об отце, и она с подробностями рассказывала о первых днях их совместной жизни. Я слушал, затаив дыхание, и начисто позабыл, что собирался воображать себя бесстрашным бойцом. Мы пересекли блестящую гладь Хафренского моря и прибыли в Город легионов. Огромная крепость, как и многие другие в этих краях, пришла в запустение, уступив былую славу соседнему городу, которым по-прежнему управлял римский чиновник. Я впервые видел римский город и не мог понять, что хорошего в прямых улицах и тесно стоящих домах. Разумеется, зрелище форума и арены меня впечатлило, но в остальном город неприятно поразил своей неестественностью. Местность, через которую лежал наш путь, радовала глаз: пологие холмы и извилистые долины, ручьи, бегущие по камням, и широкие луговые угодья для коров, овец и крепеньких местных лошадок, которых разводят здесь и продают за тридевять земель — в Лондон и Эборак. В Маридуне, куда бежали после свадьбы мои родители и где родился я, нас приняли ласково. Король Пендаран относился к маме, как к своей внучке, а ко мне, как к правнуку, и радовался нам несказанно. Он крепко обнял меня за плечи и объявил: «Я держал тебя, малыш, когда ты был не больше капустного кочана». Ветер топорщил седую гриву и, казалось, легко мог сдуть самого старика. И это грозный Алый Меч, о котором я столько слышал? Впрочем, Диведом правил его старший сын Мелвис. Под одобрительную усмешку отца он объявил, что устроит в нашу честь пир. Подвластные ему вожди со свитами в тот же вечер собрались в зале. Могущественные властители силуров и деметов издавна правили этой землей. Все триста лет римского владычества они яростно отстаивали свою независимость. Они успешно добились ее, и к выгоде для себя породнились со знатными римскими семействами, а все свое влияние направили на то, чтобы держаться подальше от императора и его присных. Подобно морской скале, они терпели, когда империя переливалась через них, и теперь, когда волны схлынули, скала стояла, как и века назад. Богатые и гордые своим богатством, они были лишены и тени тщеславия, свойственного большинству богачей. Люди простые, они держались народных обычаев, противились всему новому и, как следствие, смогли сохранить истинно кельтский дух своих предков. Кое-кто переехал в просторные виллы, выстроенные на римский манер, и даже считался римским сановником, кто-то рядился в пурпур, но глаза, смотревшие на меня в тот вечер, мало видели перемен со времен Брана Благословенного, который, если им верить, первым обосновался в этих местах. Мы с мамой сидели за высоким столом в окружении вождей и воевод, и я понемногу понимал, что утратили мои близкие, когда варвары прорвались за Вал и захватили поселения вплоть до Эборака и вдоль побережья. Да, Эльфин и кимры живут в благодатном Летнем краю, но они отрезаны от своего прошлого, а для кельта это почти равносильно смерти. Сколько же потерял народ моей матери с гибелью Атлантиды? После долгой и веселой трапезы Блез спел и получил от Мелвиса дар — золотой браслет. Тогда стали просить, чтобы спел Хафган. Он нерешительно взял арфу, встал посреди пустого квадрата, образованного столами, и начал рассеянно перебирать струны. Взгляд его остановился на мне. Он перестал играть и сделал мне знак подойти. Я послушался. Он вложил арфу мне в руки, и я подумал, что он просит меня подыграть. — Что будешь петь, верховный бард? — спросил я. — Что хочешь, маленький брат. Что ты выберешь, то и будет хорошо. Я по-прежнему думал, что он просит меня сыграть. Я провел пальцем по струне и задумался. Птицы Рианнон? Ллеу и Левелис? — Как насчет сна Арианрод? — спросил я. Он кивнул, поднял руку и отступил в сторону, оставив меня одного в самой середине зала. Я в страхе и смущении смотрел на старого певца. Он кивнул и сел на свое место по левую руку от Мелвиса. Такого еще не бывало: архидруид, верховный бард Острова Могущественного передал арфу мне, необученному мальчишке. Мне некогда было размышлять, что это значит. Все глаза устремились на меня, разговор смолк. Я сглотнул и попытался собрать разбегающиеся мысли. Слова предания начисто выскочили из головы, а от арфы в дрожащих руках проку было не больше, чем от щита из воловьей кожи. Я закрыл глаза, глубоко вздохнул, заставил пальцы пройтись по внезапно одеревеневшим струнам и открыл рот в полной уверенности, что опозорю себя и Хафгана перед собранием вождей, потому что не смогу произнести ни слога. К моему великому изумлению и облегчению, слова вспомнились в тот же миг, как я начал петь. Я пел сперва робко, потом все увереннее, видя живой отклик на лицах слушателей. Сказание было длинное. Знай я, что придется петь самому, выбрал бы другое, но молчание после него длилось никак не меньше. Я слышал шипение факелов и треск огня в очаге, чувствовал на себе взгляды деметов и силуров. Я повернулся к матери и увидел странный, восторженный взгляд, блестящие глаза… Слезы? Медленно, как после зачарованного сна, зал возвращался к жизни. Я не решался петь еще, да никто и не просил. Мелвис встал, подошел ко мне и во всеуслышанье объявил: — Лишь однажды я слышал барда, который пел так красиво и верно. Этот бард ступил под наш кров, и после песни я предложил ему свою золотую гривну. Он отказался, и сам меня одарил — одарил именем, которое я нынче ношу. — Он улыбнулся воспоминанию. — Этот бард был твой отец, Талиесин. Он снял с шеи гривну. — Теперь я предлагаю ее тебе. Если хочешь, возьми и носи за твою песнь и в память того, чье место ты отныне занял. Я не знал, что и думать. — Раз мой отец не взял твой щедрый подарок, то и мне не след. — Так скажи, что тебе дать, ни в чем отказа не будет. Владыки Диведа взирали на меня с любопытством. Я взглянул на мать, надеясь, что она жестом подскажет ответ, но она смотрела с тем же изумлением, что и все остальные. — Твоя доброта к моим близким, — начал я, — стоит больше, чем земли и золото. Посему, Мелвис, я по-прежнему твой должник. Ответ явно понравился Мелвису; он крепко обнял меня и сел на свое место. Я отдал арфу Хафгану и быстро вышел из зала. Меня переполняли мысли и чувства, которые надо было срочно привести в порядок. Через некоторое время меня отыскал Хафган. Я стоял в темном дворе, дрожа, потому что плащ позабыл, а ночь выдалась холодная. Он прикрыл меня полой своего одеяния. Некоторое время мы стояли молча. — Что это значит, Хафган? — спросил я. — Ответь, если можешь. Я думал, он не ответит. Не отводя взгляда от усеянного звездами неба, Хафган сказал: — Однажды юношей я стоял в каменном круге и видел великое и страшное знамение: звезды, как мощный огненный дождь, сыпались с небес. Эти звезды освещали дорогу тебе, Мирддин Эмрис. Я чуть не подпрыгнул. «Эмрис» следовало говорить о божестве. Хафган улыбнулся. — Не удивляйся, что я назвал тебя Эмрис. С этого дня люди начнут признавать тебя за того, кто ты есть. — Это все из-за тебя, Хафган! — с обидой в голосе произнес я, ибо от его слов детство мое потускнело и утратило радость. — Нет, — мягко отвечал. — Я сделал лишь то, что от меня требовалось, только то, что мне было дано сделать. Я поежился, но уже не от холода, и жалобно выговорил: — Ничего не понимаю. — Сейчас не понимаешь, скоро поймешь. Довольно признать то, что я тебе сказал. — Что будет, Хафган? Ты знаешь? — Только отчасти. Но не тревожься, ты все узнаешь, когда придет срок. Понадобится мудрость — получишь мудрость, понадобится смелость — получишь смелость. Он снова смолк, и я стал вместе с ним смотреть в небо, надеясь прочесть ответ на бурю моих чувств. Я видел лишь холодные точки недостижимых звезд, слышал, как воет в черепичной кровле ночной ветер, и чувствовал пустоту, одиночество, отрезанность от всех. Потом мы вошли в дом, и я лег спать в постель, в которой родился. Никто ничего не сказал о происшедшем в зале, по крайней мере в моем присутствии. Не сомневаюсь, между собой они много толковали. Хорошо, что не заставили меня объяснять. Через три дня мы покинули Маридун. Мелвис хотел ехать с нами, но его не отпустили дела. Он, как и многие другие, вернулся к обычаю древних королей — разбил по границам своей земли крепости и вместе со свитой объезжал их по кругу, управляя страной из каждой по очереди. Он попрощался с нами, взяв обещание посетить Маридун на обратном пути. А мы снова устремились на север по старой римской дороге меж заросших вереском холмов. Мы видели орлов и оленей, множество кабанов и лис, изредка волков и раз — черного медведя. Дружинники взяли с собой гончих и охотились, так что мы не испытывали недостатка в свежем мясе. Дни становились теплее, но, хотя солнце светило ярко и погода стояла сухая, высоко в холмах по-прежнему было прохладно. Впрочем, пламя костра прогоняло ночной морозец, а после целого дня в седле все спали как убитые. Как описать приезд в Каердиви? Я родился вдали отсюда и прежде не видел этих зубчатых вершин и лесистых прогалин, но чувство возвращения домой было таким сильным, что я запел от радости и погнал пони во весь опор (и едва не сломал себе шею на крутой дороге к разрушенному селению). Мы подъехали с юга вдоль моря. По дороге Блез так подробно все описал, что мне казалось: я знаю здешние края не хуже местных уроженцев. Я радовался отчасти этому узнаванию, отчасти чувствам Хафгана, хотя у него, как и у Блеза, к радости возвращения примешивалась печаль. На мой взгляд, здесь ничто не навевало грусть. Укрепление стояло на высоком мысу, к западу от него лежало море, с востока — дремучий лес, с севера — горы. Оно казалось мирной гаванью, в чем-то схожей с Инис Аваллахом, — защитой от горестей, несмотря на прошлые беды. И впрямь, череп, который я заметил в траве, свидетельствовал о лютой решимости последних дней Каердиви. Наши спутники притихли из уважения к духам павших и, быстро осмотрев каер, вернулись к лошадям. Разумеется, здесь давно никто не жил, но остов королевского дома и часть деревянного частокола еще стояли, как и стены каменных житниц. Я удивился скромным размерам селения — наверное, я просто привык к Инис Аваллаху и Каеркему. Впрочем, я не сомневался, что жить здесь было удобно и хорошо. Харита бродила по заросшим травою развалинам, погруженная в свои мысли. Мне не хватило духу подойти и спросить, о чем она думает. Я знал, что это связано с отцом. Наверняка она вспоминала его рассказы о детстве и юности, воображала его на этом самом месте, ощущала его присутствие. Хафган тоже явно хотел побыть один. Я ходил с Блезом. Он рассказал мне много такого, чего я прежде не слышал: разные мелкие случаи по поводу того или другого места в каере. — Почему никто сюда не вернулся? — спросил я. Местность казалась вполне мирной и безопасной. Блез вздохнул и покачал головой. — Ах, мы все стремимся сюда душой, и в первую очередь — лорд Эльфин. — Так почему же? — Нелегко объяснить. — Он помолчал. — Пойми, враг захватил весь здешний край. Не только Каердиви, но и Вал, Каерсегойнт, Лугуваллий, Эборак — все. Ни до, ни после люди не совершали таких подвигов, но нас было слишком мало. Остаться значило бы погибнуть. В следующие два года возвращаться было небезопасно, а потом… мы прижились на юге. Если больно бежать с земли предков, то возвратиться почти невозможно. — Он с любовью взглянул на развалины каера. — Нет, пусть прах покоится в мире. Придет день, и кто-то другой, не мы, заново возведет эти стены. Несколько мгновений мы молчали, потом Блез снова вздохнул и повернулся ко мне. — Хочешь взглянуть, где Хафган училтвоего отца? — спросил он и зашагал к воротам раньше, чем я ответил. Мы вышли из каера в лес. Старая дорога, заросшая лопухами и крапивой, вывела нас на поляну — лиственный приют Талиесина. Посреди поляны стоял дубовый пень. — Хафган сидел бы здесь, положив посох на колени. — Блез сел на пень и положил на колени собственный дубовый посох. — А Талиесин — у его ног. Он указал мне место подле пня, и я опустился на землю. Блез медленно кивнул, нахмурился, вспоминая и печально кривя рот. — Не счесть, сколько раз я заставал их так. Ах, — вздохнул он, — кажется, это было так давно. — И здесь у отца впервые было видение? — Да, я хорошо помню тот день. Верховным друидом был тогда Кормах, и он пришел в Каердиви. Он знал, что умирает, и сказал нам об этом. Помню, как я тогда опешил. Да, Кормах был человек прямой. Он сказал, что умирает и хочет еще раз увидеть маленького Талиесина, прежде чем отойти к Древним. — Блез улыбнулся и провел рукой по длинным черным волосам. — Он прогнал меня варить капусту. Блез замолк. Я сидел, обхватив руками колени, вслушиваясь в те же лесные шумы, что тогда отец: крики скворцов, зябликов и соек, шуршание прошлогодней травы и шепот листьев, скрип качающихся ветвей. — Когда они вернулись, я возился с котелком, — заговорил наконец Блез. — Талиесин был притихший, шел, как во сне. Да и говорил странно — как будто, произнося слова, он заново творит звуки. Помню, со мной было так же, когда я первый раз вкусил Семена Мудрости. Но в этом, как и во всем другом, Талиесин превзошел нас всех. Хафган испугался, решив, что Талиесин мертв, потому что тот лежал без движения. Кормах корил себя за то, что слишком много требовал от ребенка. — Он осекся и как-то странно взглянул на меня. — Чего же он хотел от Талиесина? — спросил я, заранее зная ответ. — Чтобы тот прошел по тропкам Иного Мира. — То есть заглянул в будущее? И вновь тот же оценивающий взгляд, затем медленный кивок. — Они думали, он сможет увидеть нечто, скрытое от них. — Он искал меня. На этот раз Блез не отвел взгляда. — Да, Мирддин Бах. Мы все тебя искали. И вновь нас обступила лесная тишь. Мы сидели, молча глядя друг на друга. Блез ждал указаний для того, что собирался сделать, и я его не торопил — пусть будет, как он решит. Не знаю, сколько мы просидели, но наконец он сунул руку в суму на поясе и вытащил три обжаренных орешка. — Вот они, Мирддин, если хочешь. Я взглянул на орехи и уже собирался протянуть руку, но что-то меня, остановило. Это была мысль: «Погоди, время видений еще не пришло». — Спасибо, Блез, — сказал я. — Знаю, ты не предложил бы их мне, если б считал, что я не готов. Однако это не для меня. Он кивнул и спрятал орешки в суму. — Только не из любопытства, — сказал он. — Без сомнения, ты рассудил мудро. Хвалю. — Он встал. — Вернемся в каер? В ту ночь мы спали в разрушенном каере. Перед самым рассветом пошел дождь, мягко застучали капли — слезы с низкого, скорбного неба. Мы оседлали коней и двинулись вверх по реке Диви к священной роще на Гарт Греггин, где собирались на несколько дней оставить Хафгана с братьями-друидами. По дороге мы проехали лососевую заводь Гвиддно, вернее, то, что от нее осталось, поскольку сети давным-давно унесло течением. Впрочем, несколько черных шестов еще торчали из воды. Мы помедлили, глядя на место, где в некотором смысле для всех нас началась жизнь. Все молчали, почти как в священном храме: из этой заводи вытащили завернутого в тюлений мех младенца Талиесина. Здесь было мелко, и мы переехали реку вброд. Пока пони ступал по воде, я не мог не думать о далеком дне, когда ничего не ведавший Эльфин, мечтая о лососях и везенье, вместо рыбы выудил из воды дитя. Мы переехали Диви и двинулись через холмы в более древний, более дикий край.Глава четвертая
В священной роще мы простояли лагерем два дня, на третий пришли друиды. Я воображал, что они просто возникнут, как во время оно существа из Иного Мира, хотя прекрасно понимал, что такого не может быть. Дружинники ждали в ложбине неподалеку и были рады-радехоньки, что не надо взбираться на холм: как большинство людей, они сторонились друидских сборищ. Занятно. Держать при дворе барда — почетно, король, у которого есть свой певец, внушает соседям зависть. Искусство игры на арфе ценится выше воинского и кузнечного; праздник — не праздник без песни друида, а зимы — томительны и нескончаемы без барда, который скрасил бы их сказками. Однако стоит трем друидам собраться в роще, как люди начинают перешептываться и складывать пальцы от зла — будто бард, который украшает собой веселье, помогает скоротать суровую зиму и возводит на трон избранного короля, сойдясь с братьями, становится кем-то страшным. Однако, как я сказал, людские сердца помнят то, что давно позабыл разум. Немудрено, что они трепещут при виде друидов в роще, вспоминая обагренный в крови золотой серп — жертвоприношение Цернунну, Владыке Леса или Матери-богине. Страх, скажу я вам, помнится долго, даже если бояться уже нечего. Утром третьего дня Хафган, поев, встал, поглядел на священную рощу и обратился к Харите со словами: — Госпожа, идемте со мной. Я вытаращил глаза. В другое время Блез, вероятно, усомнился бы в разумности такого приглашения, но было понятно, что сегодня — особенный день. Он смолчал, и мы четверо начали подъем по крутому склону. То была старинная дубрава, в которой изредка встречались ясень, каштан, остролист. Каштаны и дубы явно превосходили возрастом остальные деревья — к приходу римлян они уже были кряжистыми, крепко стоящими молодцами. Говорят, их насадил Матонви, первый бард на Острове Могущественного. Раскидистая, темная, пронизанная ощущением неразрешимой загадки, идущим от корявых ветвей, жилистых стволов и даже самой почвы, священная роща друидов казалась отдельным замкнутым миром. Посреди рощи был огорожен камнями небольшой круг. Едва вступив в него, я ощутил древнюю силу, невидимой рекой струящуюся вкруг вершины холма. Я чуть не задохнулся, очутившись в круговерти сил. Безжалостная волна незримой реки подхватила меня и чуть не смыла совсем. С великим трудом я сопротивлялся ее напору. По коже бежали мурашки. Остальные то ли ничего не чувствовали, то ли не подавали виду. Разумеется, из-за этого сгущения сил холм когда-то и нарекли священным. Но меня по-прежнему удивляло, что Хафган и Блез вроде бы даже не замечают бушующего потока. Хафган сел посредине круга на каменную плиту, поставленную на две плиты поменьше, и стал ждать, пока все соберутся. Блез нацарапал на земле какие-то значки и воткнул над ними палку. Тень от нее не успела доползти до следующего значка, как появились первые друиды. Они приветствовали Хафгана и Блеза и принялись обмениваться новостями, вежливо, но холодно поглядывая на нас с матерью. К полудню собрались все. Хафган трижды ударил рябиновым посохом о центральный камень, возвещая начало совета. Барды, числом тридцать, вошли вместе с ним в круг, филиды и оваты принялись обносить старших чашами для мытья рук, кубками с вересковой водой и орехами в мешочках. Меня ввели в круг. Харита осталась стоять неподалеку. Лицо ее было серьезным и сосредоточенным. Мне подумалось: она знает, что сейчас будет. Хафган ей сказал? Может, поэтому он и позвал ее с нами? — Братья мои, — произнес Хафган, воздев посох, — приветствую вас во имя Великого Света, Чей приход предрекли в этом священном кольце. — Кое-кто из друидов недовольно вскинулся при последних словах. Это не ускользнуло от Хафгана, который опустил посох и спросил: — Вам не по нраву мое приветствие. Почему? Все молчали. — Отвечайте, я хочу знать, — мягко, но властно произнес верховный друид. — Хен Даллпен? Названный слегка развел руками — я, мол, здесь ни при чем. — Мне показалось странным упоминание чуждого бога в священнейшей из наших рощ. — Он взглянул на соседей, ища поддержки. — Может быть, кто-то еще думает, как я. — Если так, — резанул Хафган, — пусть говорят. Несколько человек согласились с Хен Даллпеном, другие закивали, но всем было не по себе. К чему клонит Хафган? — Как давно мы ждали этого дня, о братья? Как давно? — Серые глаза оглядели собравшихся. — Слишком долго, сдается мне, раз успели позабыть, зачем мы сюда пришли. — Нет, брат, мы не забыли. Мы знаем, зачем пришли. Для чего так несправедливо нас укорять? — осмелел Хен Даллпен. — Почему несправедливо? Или верховный друид не вправе наставлять тех, кто стоит ниже? — Так наставь нас, мудрый брат. Мы слушаем. — Это произнес друид, стоящий рядом с Блезом. Хафган поднял посох и, обратив лицо к небесам, издал протяжный горловой стон. Странный звук сменила тишина. Хафган оглядел собравшихся. — С древних времен мы взыскали знания, дабы постичь истину всех вещей. Так ли? — Так, — нараспев отвечали друиды. — Что же мы медлим сегодня, когда нам возвестили истину? — Мы знаем много истин, учитель. Какую из них возвестили сегодня? — спросил Хен Даллпен. — Окончательную Истину, Хен Даллпен, — мягко ответил Хафган. — И она такова: Великий Свет мира сошел с престола небес и призывает всех служить Ему духом и делом. — Великий Свет, о Котором ты говоришь, знаем ли мы Его? — Знаем. Это Иисус, Которого римляне зовут Христом. Друиды зашумели. Хафган обвел глазами собравшихся. Многие смущенно отвели взгляды. Он продолжал: — Почему Его имя вас так пугает? — Пугает? — переспросил Хен Даллпен. — Нет, ты неправильно понял, мудрый предводитель. Мы не боимся твоего заморского божка. Просто мы не видим причин поклоняться Ему здесь. — Ни здесь, ни где бы то ни было! — объявил другой. — Тем более, что Его служители оскорбляют нас, высмеивают перед народом, принижают наше умение и всячески хотят истребить Ученое братство. — Они не понимают, Дрем, — мягко объяснил Блез. — Они невежественны, но это не меняет истины. Все, как сказал Хафган: Великий Свет здесь, и нам Его возвестили. — Вот поэтому он здесь? — Тот, кого Блез назвал Дремом, злобно обернулся ко мне. Я видел недоброжелательные взгляды остальных и понимал, отчего нас так неприветливо встретили. — Он вправе быть здесь, — сказал Хафган. — Он сын величайшего барда из всех, когда-либо живших. — Талиесин изменил нам! Он бросил братство, чтобы служить Иисусу, а сейчас ты, сдается, склоняешь к тому же нас. Что же нам, отринуть древний обычай и бежать к заморскому Богу потому, что так сделал Талиесин? — Не потому, что так сделал Талиесин, — сдерживая гнев, выговорил Блез, — но потому, что так правильно! Он был выше нас всех и потому распознал истину с первого взгляда. Уже это доказывает ее подлинность. — Хорошо сказано, Блез. — Хафган сделал мне знак войти в круг. Блез ободряюще кивнул, я нерешительно подошел. Хафган положил мне руку на плечо и поднял жезл. — Перед вами тот, кого мы так долго ждали, Поборник Света, который поведет воинство против Тьмы. Я, Хафган, архидруид Кор Гарт Греггина, провозглашаю это! Последовала тишина. Даже я усомнился, стоило ли такое говорить. Многие ученые братья насупились, вспоминая обиды, причиненные христианскими священниками, другие явно выражали недоверие. Однако слова прозвучали, их было не вернуть. Я стоял, внутренне трепеща не только от волнения, но и от услышанного: Поборник… поведет воинство… Тьма… — Да он еще мальчишка! — фыркнул Хен Даллпен. — А ты хочешь, чтобы он появился на свет взрослым мужем, как Манавиддан? — спросил друид рядом с Блезом. Значит, среди ученых братьев есть и наши союзники. — Откуда мы знаем, что он — сын Талиесина? Кто это подтвердит? — спросил кто-то из недоверчивых. — Ты там был, Индег? А ты, Блез? А ты, мудрый предводитель, ты там был? А? — Там была я. — Это прозвучало неожиданно, потому что к этому времени все успели позабыть про мою мать. — Я была там, — продолжала она, выступая вперед. Да, за этим она и пришла: не только чтобы слышать, как ее сына провозгласят перед ученым братством, но и чтобы сгладить затруднения, которые, как теперь стало понятно, предвидел Хафган. «С этого дня, — сказал Хафган, — тебя начнут узнавать». Осторожный лис постарался, чтобы все прошло как можно более гладко. — Я выносила его и видела, как он родился. — Моя мать вошла в священный круг и встала рядом со мной. Так я стоял — по одну руку она, по другую Хафган — среди недовольных друидов, чувствуя, как вокруг бурлит природная сила рощи. Немудрено, что на меня что-то нашло, и я выкинул то, о чем и сейчас вспоминаю не иначе как с изумлением. Друиды смотрели, нимало не убежденные. — …родился мертвым. Талиесин песней пробудил жизнь в бездыханном теле… — говорила Харита. Воздух вокруг задрожал, таково было напряжение силы. Камни священного круга из серых стали синими, словно из наэлектризованного воздуха сгустилась стена мерцающего стекла; направленная на меня неприязнь друидов вместе с моим присутствием разбудила спящую мощь омфалоса — центра силы, над которым насыпали холм. Я видел обитателей Иного Мира, которые расхаживали среди камней. Один из них, высокий, с лучезарным ликом указал на Седалище друидов, где сидел перед тем Хафган. Я впервые видел Древнего, но отчасти ждал этого и потому не удивился. Никто больше его, понятно, не видел; я тоже не подавал виду, что происходит нечто необычное. Древний указал на каменную плиту в точке наибольшего сгущения силы. Я взглянул. Она, как и все остальные, была теперь синей и немного светилась. Я вскочил на камень и услышал за спиной изумленный вздох. Лишь верховный друид мог коснуться этой плиты и то, разумеется, не стопой! Однако я стоял на плите, и она поднималась в воздух — сила сгустилась настолько, что подняла камень вместе со мной. Отсюда, с высоты, я заговорил — вернее, через меня заговорил Древний, потому что слова были не мои. — Слуги Истины, довольно выть! Слушайте! Воистину вы счастливы между мужами, ибо ныне исполняются пророчества. Многие жили и умерли с мечтою об этом дне. Что вы дивились, когда мудрейший из вас возвестил вам Иисуса Христа, Который есть Путь и Истина? Не вы ли всемерно стремились к истине, что же ослепли теперь? Поверили вы, видя парящий камень? — Я видел, что они не верят, хотя многие испуганы и ошеломлены. — Может, вы поверите, если все камни пустятся в пляс? В тот миг я и впрямь верил, что мне это по силам, надо лишь хлопнуть в ладоши, или крикнуть, или подать какой-то иной знак — и камни сами вылезут из земли, чтобы закружиться в бешеном танце. Я верил, поэтому хлопнул в ладоши и громко крикнул. Голос показался мне чужим, так гулко раскатился он по долине, отдаваясь в соседних лощинах и балках; задрожали сами камни магического кольца. И тут один за другим камни полезли из земли. Они выдергивали свои основания, словно зубы из десны, волоча за собой грязные комья, и повисали в воздухе. А повиснув, древние камни начинали поворачиваться. Они кружились сперва медленно, потом все быстрее и быстрее — каждый камень, проносясь над землей, вращался вкруг собственной оси. Друиды смотрели в ужасе и изумлении, кто-то кричал от страха. Я про себя подумал, как это красиво: тяжелые синие камни вертятся волчком, пролетая в сияющем воздухе, словно во сне. Может быть, это и впрямь был сон. Если так, он пригрезился нам всем, ибо мы смотрели во все глаза, разинув рты от изумления. Камни пронеслись раз, второй, третий. Со своего места на Седалище друидов я услышал собственный голос, чужой, высокий. Он то ли пел, то ли смеялся тому, что камни танцуют в воздухе. Я снова хлопнул в ладоши, и камни рухнули на землю. Она заколебалась под их тяжестью, пыль поднялась столбом, а когда рассеялась, стало видно, что некоторые камни встали в прежние ямы, а другие остались лежать, где упали. Один-два раскололись на куски, и кольцо утратило былую правильность. Камень, на котором я стоял, опустился на свое место, и я сошел на землю. Блез бросился ко мне — лицо его горело изумлением. Он схватил бы меня за плечи, если бы Хафган не остановил его словами: — Не трогай его, пока не пройдет авен. Блез шагнул назад, взглянул на Седалище друидов и указал на него пальцем. — Да будет это знаком истины для тех, кто усомнится в виденном сегодня! Я взглянул, куда он указывал, и увидел свои следы, глубоко впечатанные в Седалище друидов. Так Великий Свет возвестили Ученому братству. Одни уверовали, другие нет. Хотя никто не мог отрицать увиденного, некоторые приписали чудо иному источнику. «Это Ллеу-Солнце!» — говорили одни. «Матонви! — уверяли другие. — Кто еще мог бы такое совершить?» Под конец Хафган вышел из себя. — Вы зовете меня мудрым предводителем, — горько произнес он, — но не хотите идти за мной. Ладно, отныне ступайте кто куда хочет. Я не останусь главным у таких глупцов и невежд! С этими словами он двумя руками поднял жезл и переломил его через колено, потом повернулся спиной и зашагал прочь. Ученое братство было распущено. Мы пошли за Хафганом — Блез, Харита, я и еще два-три человека — в лощину, где ждали дружинники. Здесь мы сразу свернули лагерь и двинулись на юг к Ир Виддфа. Хафган хотел еще раз взглянуть на великую гору и показать нам место, где он родился. Сперва он еще сердился, вспоминая Гарт Греггин, но это вскоре прошло, и он даже развеселился. Он пел, смеялся, долго беседовал с моей матерью, словно человек, сбросивший докучное бремя и исцелившийся от мучительной боли. Блез тоже заметил эту перемену и так мне ее объяснил: — Слишком разрывалось его сердце. Думаю, он торопил решение, так что теперь все кончено и он свободен идти собственным путем. — Между кем же он метался? — Между Иисусом и старыми богами, — отвечал Блез. — Верховный друид должен поддерживать в народе почитание древних богов, а с тех пор, как он познал Великий Свет, ему это претило. — Наверное, я нахмурился или как-то еще выразил недоумение, потому что Блез добавил: — Пойми, Мирддин Бах, не все пойдут к Свету. Ни тебе, ни кому другому этого не изменить. — Он покачал головой. — Даже если мертвые восстанут из могил и камни будут плясать в воздухе, они не обратятся. В голове не укладывается, но это так. Он меня не убедил. Правда, я видел, что он верит в свои слова, но при всем уважении к нему я чувствовал в душе: если люди не принимают истину, значит, еще не придумали, как ее до них донести. Можно сделать так, чтобы все уверовали, думал я, и я обязательно найду способ. Два дня спустя мы сидели на высоком холме, ветер трепал редкую траву и свистел среди голых камней. Мы глядели на холодную, увенчанную снежной шапкой, величественно-одинокую Ир Виддфа, Повелительницу снегов, Твердыню зимы. В этом бесприютном краю сумеречных гор и мглистых долин так легко было поверить в то, о чем шепчутся у огня, в сказки, которые вот уже сотни поколений переходят от родителей к детям: одноглазые великаны пируют в каменных чертогах; богини, обернувшись совами, летают в ночи на мягких бесшумных крылах; морские девы завлекают пловцов в губительные волны; в волшебных холмах плененные витязи спят столетия напролет, а далеко в океане лежат незримые острова, где боги танцуют в сумерках вечного лета… Легко поверить в невероятное среди этих полых холмов. Мы спешились и поели на вершине, потом устроились отдохнуть. Мне спать не хотелось, и я решил спуститься в ложбину — наполнить в ручье кувшины и бурдюки. Спуск был некрутой, дорога — недлинная, и я не особо старался запомнить путь, да меня бы это и не спасло. Я оступился и съехал с холма вместе с бурдюками и кувшинами, перекинутыми через плечо на ремнях. Быстрый ручей бежал посреди ложбины в густых зарослях боярышника и бузины. Я подобрался к воде и стал наполнять бурдюки. Не могу сказать, сколько времени это заняло, но явно недолго. Однако когда я приготовился идти назад и оглянулся, холма уже не было видно — густой серый туман спустился с Ир Виддфа и окутал все, словно густой шерстью. Я встревожился, но не испугался: в конце концов холм был прямо передо мной. Надо было только идти, чтобы оказаться на вершине, где ждали меня спутники. Я не стал мешкать: вдруг они проснулись, увидели, что меня нет, а туман сгущается, и забеспокоились. Я быстро отыскал тропку, по которой спустился, и начал подъем. Время шло, но вершина не показывалась. Я остановился, вгляделся в мятущуюся пелену, однако так и не смог разобрать, где я. Я крикнул… плотные испарения поглотили звук. Что делать? Кто знает, сколько продержится туман? Можно несколько дней плутать по склону холма, но так и не выйти на нужное место. Хуже того — а этим скорее всего и кончится, — можно споткнуться о камень, сломать ногу или упасть с кручи и разбиться насмерть. Я сел и задумался. Было ясно, что я хожу кругами и что туман сгущается. Мне ничего не оставалось, как снова тронуться в путь; не хотелось ночевать в промозглой сырости, прижавшись к валуну на склоне холма. Итак, я двинулся, но теперь уже медленнее, следя за тем, чтобы с каждым шагом подниматься в гору. Так я непременно доберусь до лагеря наверху, даже если это займет полдня. До верха я добрался, но мои спутники успели куда-то подеваться. Я бросил бурдюки и огляделся. Туман здесь был пореже, чем в долине; я, хоть и не без труда, сумел осмотреть вершину. Все ушли, не оставив и следа. Странно. И страшно. Я звал своих спутников снова и снова, но никто не ответил. Я вернулся туда, где мы ели, в надежде отыскать хоть какой-то знак нашего пребывания. Напрасно. Ни крошки, ни корочки не осталось на вершине холма, ни единого отпечатка копыта, ни одной примятой травинки… Я взобрался не на тот холм! В слепом стремлении вырваться из тумана я заплутал, а теперь надо ждать, когда пелена рассеется, и лишь тогда искать правильную дорогу. Пока же оставалось обратиться к средству, к которому следовало прибегнуть с самого начала, — сидеть и не дергаться. Щеки мои горели от стыда. Надо же быть таким дураком! Я сумел поднять в воздух камни, но не смог забраться на обычный холм, чтобы не заблудиться. Есть ли слова описать такую нелепость?!Глава пятая
Я устроился в ямке между камнями, завернулся в плащ и приготовился ждать, прекрасно понимая, что, возможно, проведу здесь целую ночь. Думать об этом не хотелось. Неужто полые холмы поглотят и мою жизнь? Про это тоже не хотелось думать. Когда сплошной туман потемнел и наступили сумерки, я сидел, обхватив руками колени, и силился перебороть страх. Вдруг я услышал легкое позвякивание конской сбруи. Кто-то из дружинников меня ищет! Я вскочил и закричал. Звяканье стихло. Как я ни вслушивался, мне больше не удавалось его различить. — Ты здесь? Блез! Кто там? Слова падали на землю, не обретая ответа. Я подобрал один из бурдюков и вновь забрался в свое убежище. Мне было очень плохо. Я плотнее закутался в плащ и стал думать, скоро ли волки разыщут меня.Наверное, я заснул, потому что увидел сон. Мне снился высокий исхудалый человек в комнате, расписанной чудными узорами. Он сидел за столом, положив перед собой ладони, запавшие глаза на длинном морщинистом лице были закрыты. Давно не стриженные волосы паутиной лежали на плечах, богатое темно-синее одеяние скрепляла на плече серебряная пряжка с крохотными лунными камешками. На столе перед ним на подставке резного дерева лежало нечто в форме большого яйца — вероятно, отшлифованный камень. По сторонам от камня горели в подсвечниках две свечи; через щели в стенах и ставнях проникал порывистый ветер, так что пламя трещало и колыхалось. Человек был не один. Женщину я не видел, но знал, как это бывает во сне, что она тоже здесь. Я понял, что это женщина, прежде чем увидел, как она медленно положила юную руку на пальцы мужчины. Он приподнял веки — я увидел отблеск свечи, но глаза его были, как колодцы мрака… мрака и смерти. Я вздрогнул и проснулся. Странный сон. Еще не пробудившись до конца, я отчетливо знал, что место это существует наяву, а мужчина и женщина, чью руку я видел, — настоящие живые люди. Я заморгал и огляделся. Была уже глубокая ночь, тьма стояла непроглядная. Налетел порыв ветра, и я вновь услышал то же позвякивание. На этот раз я не стал кричать, а остался сидеть тихо, затаившись между камнями. Звук приближался, но в тумане было не понять, откуда он идет. Я ждал. Внезапно во тьме возникло чуть более светлое пятно. Оно, покачиваясь, плыло ко мне в плотном, сыром воздухе. Свет становился все ярче, потом разделился на два мерцающих шара, похожих на глаза исполинской кошки. Звяканье исходило от огней, которые медленно приближались. Вот они остановились прямо надо мной. Я не шевелился, но они знали, где меня искать; по запаху, наверное, потому что в туманной мгле было темно, хоть глаз выколи. Их было четверо, смуглолицых мужчин в грубых кожаных куртках и юбках. Двое держали факелы, у двоих я различил железные браслеты на руках и копья с железными наконечниками. Все были жилистые и низкорослые, у каждого за поясом поблескивал бронзовый кинжал. Впрочем, я не испугался, потому что эти взрослые мужчины ростом были не выше меня, двенадцатилетнего. Глаза у них были темные, но хитрые, как у хорьков. Они смотрели на меня в тумане, на лицах дрожали тени. Те, кто держал факелы, подняли их выше, а двое других встали надо мной, звякая при каждом шаге. Я разглядел под коленом у ближайшего цепь с медными колокольчиками. Он присел на корточки и долго смотрел на меня. Черные глаза поблескивали во тьме. Потом он ткнул пальцем мне в грудь, почувствовал мясо и кость, хрюкнул. Увидел серебряную гривну, потрогал и ее. В следующий миг он вскочил и что-то отрывисто бросил через плечо. Речь его походила на лай. Остальные расступились, из мрака возникла еще одна фигура. Я стоял неподвижно, уронив руки, и ждал, пока этот кто-то подойдет. Он был ниже остальных, но держался, как вождь. Во всем его облике сквозила привычка повелевать, и я не сомневался, что он занимает высокое положение среди своих соплеменников. Вождь жестом приказал одному из факелоносцев приблизиться и посветить на меня. Пламя озарило его лицо, и я понял, что это женщина. Она тоже долго смотрела на мою гривну, но трогать не стала. Вместо этого она обернулась к одному из воинов с колокольчиками и что-то резко пролаяла. Воин и его напарник подхватили меня под мышки и тронулись в путь. Меня скорее несли, чем тащили; мои ноги едва касались земли. Мы спустились в лощину, перешли ручей и, судя по тому, что где-то рядом по-прежнему слышалось журчание, довольно долго двигались вдоль него, прежде чем снова начали подъем. Склон был пологий, потом совсем выровнялся и превратился в узкую тропку между двух косогоров. По этой тропке мы шли довольно долго — один факел освещал путь впереди, другой светил сзади. Воины меня не подгоняли, но и хватки не ослабляли, хотя о бегстве речи быть не могло: даже если бы я знал, куда бежать, в тумане ничего не было видно. Наконец дорога под ногами снова пошла вверх, и начался крутой подъем. Впрочем, он длился недолго, и вскоре я оказался перед круглым отверстием прямо в холме. Оно было завешено шкурой. Предводительница вошла и жестом приказала мне следовать за ней. Я шагнул внутрь и оказался в землянке из шкур и бревен. Закрытая снаружи землей и дерном, она, наверное, и днем ничем не отличалась от бесчисленных соседних холмов. Внутри было человек пятнадцать, они кучками сидели вокруг огня на покрытых шкурами соломенных лежанках — мужчины, женщины, дети и пара тощих собак. И все — люди и звери — таращили на меня глаза. Предводительница велела мне подойти и встать перед старухой — ростом с девочку, седая и сморщенная, как черносливина, та сидела и шила острой костяной иглой. Глаза у нее были черные и пронзительные. Она поглядела меня с нескрываемым любопытством, потянулась к моей ноге, ущипнула ее и похлопала, после чего, довольная результатом, кивнула предводительнице. По ее жесту меня отвели к лежанке и толкнули на солому. Казалось, обитатели холма потеряли ко мне всякий интерес. Я мог свободно рассматривать их. Если не считать нескольких случайных взглядов (да еще собака подошла обнюхать мне ноги), они словно перестали меня замечать. Я сидел на охапке соломы, накрытой шкурой, и пытался как можно больше рассмотреть. Кроме предводительницы и старухи, я насчитал восемь мужчин и четырех женщины. На полу копошились пятеро голых детишек — возраст их я угадать не мог, потому что и взрослые казались мне детьми! У всех взрослых на скулах выделялись синие от вайды шрамы — знаки принадлежности к фейну (это слово означает «племя» или «клан»), как я потом узнал. Четкие спирали наносят ножом и всыпают в рану синий порошок, так что цвет остается на всю жизнь. Члены одного фейна носят одинаковую татуировку. Я гадал, кто же они такие. Не пикты — хотя те тоже используют вайду. Для Раскрашенного народа они слишком малы ростом, к тому же те просто убили бы меня на месте. Они не принадлежали ни к одному из известных мне народов. Привычка жить под землей выдавала северян, но в таком случае они забрались далеко на юг от своих любимых вересковых пустошей. Получалось, что это не кто иные, как банши, Обитатели холмов. Их боятся за способность к колдовству и чудные обычаи, хотя и завидуют их богатству. По слухам, банши обладают недоброй силой и несметными сокровищами; и то и другое им нужно, чтоб мучить «людей-больших», которых они ловят и приносят в жертву своим грубым идолам. А я оказался у них в плену. Члены племени улеглись и один за другим погрузились в сон. Я притворился спящим, но на самом деле лишь дожидался времени, когда можно будет сбежать. Как только дружный храп возвестил, что все спят крепко, я подполз к двери и выбрался в темноту. Туман рассеялся, на небе сияли холодные и яркие звезды, луна уже скрылась за горизонтом. Соседние холмы чернели одной волнистой громадой на темной сини небес. Я набрал в грудь горного воздуха и посмотрел на звезды. Всякая мысль о побеге улетучилась. Достаточно было взглянуть в чернильную ночь, чтобы понять: бежать в такой тьме — значит наверняка сломать себе шею. И в тот же миг ветер донес до слуха вой охотящихся волков. Я понял, почему меня не связали. Если я отважусь сунуться к волкам — я пропал. Я смотрел на звезды, и вдруг сзади зашуршала шкура. Я обернулся и увидел предводительницу. Она положила руку мне на локоть — не грубо, а словно проверяя, по-прежнему ли я здесь. Довольно долго мы стояли рядом, так что я чувствовал кожей ее тепло. Мы оба молчали, не зная общих слов, чтобы объясниться друг с другом, однако что-то в ее прикосновении дало мне понять, что я им зачем-то нужен. Пусть не почетный гость, но я приведен сюда не из праздного любопытства. Мы еще постояли, потом она стала подталкивать меня к двери. Я опустился на свою лежанку, она — на свою. Я закрыл глаза и стал молиться, чтобы поскорее вернуться к родным.
Зачем я был нужен, стало ясно вскоре после рассвета, когда Вриса — предводительница Амсарад-фейна (так они себя называют; это значит «Люди убивающей птицы» или «Клан сокола») — отвела меня в святилище племени на макушке соседнего холма. Холм этот — самый высокий в округе, и карабкались мы довольно долго. На вершине моему взору предстал менгир — одиноко стоящий каменный столб, разрисованный синими спиралями, птицами и животными. Чаще других встречались изображения волка и сокола. За поясом у Врисы торчал длинный, блестящий, как зеркало, кинжал. Воин с колокольчиками — позже я узнал, что его звали Элак, — всю дорогу крепко сжимал мне руку повыше локтя. Два других воина несли копья. Остальные вереницею взобрались на холм и кольцом окружили нас. Они тихо напевали без слов — будто ветер шуршал сухой листвой. Мне крепко связали запястья кожаным шнуром, сняли с меня сняли плащ и уложили с солнечной стороны камня. Сомнений не оставалось — сейчас меня принесут в жертву, и, судя по разбросанным вокруг костям, не меня первого. Не сочтите за хвастовство, но я испугался гораздо меньше, чем оставшись один в тумане. В моих будущих убийцах не было ни ненависти, ни вражды. Они вовсе не желали мне зла. Да и что тут, с их точки зрения, дурного? Душа юноши возродится в другом теле, или же он переселится в Иной Мир, к Древним, в счастливый край, где не ведают зим и ночей. В любом случае можно сказать, что ему повезло. Ради этих завидных благ он должен погибнуть. Что ж, раз иначе нельзя, значит, и обсуждать тут нечего. А потом ему все равно умирать — раньше ли, позже ли. По их мнению, я не должен был обижаться. Итак, я лежал на земле, ждал, когда солнце взойдет над окрестными холмами. С первым его лучом на менгире Вриса должна была нанести удар, и я, как всякий христианин на моем месте, молился, чтобы мучения были краткими. Солнце озарило менгир, пение смолкло, стоящие вокруг завопили, нож блеснул и змеей метнулся ко мне. Я что есть силы зажмурился и услыхал крик. Я открыл глаза. Вриса левой рукой сжимала запястье. Лицо ее побелело от боли. Она кричала и скалила зубы. Рукоятка ножа лежала на земле, лезвие брызгами желтого стекла рассыпалось по траве. Элак выкатил глаза и так крепко стиснул копье, что кровь отхлынула от пальцев. Другие кусали кулаки, кто-то бросился на землю и завизжал. Я перекатился и сел. Мудрая старуха племени Герн-и-фейн протолкалась вперед, простерла руки и стала смотреть на встающее солнце, что-то бормоча нараспев. Потом она взмахнула руками и бросила короткое властное слово. Двое мужчин, обмирая от страха, подошли и развязали мне руки. Теперь будут говорить, что я сломал кинжал колдовством. Слышал я и такое — немудрено, мол, что он рассыпался. Знамо дело, бронза не берет заговоренных. Так вот, я был изумлен не меньше других и ничуть не чувствовал себя заговоренным. Да я тогда и не знал секретов древней науки. Я просто рассказываю, что случилось. Хотите — верьте, хотите — нет. Однако, когда жертвенный нож блеснул в воздухе, перед ним возникла рука — «облачная рука», как говорит Элак. Нож ударил в загадочную ладонь и рассыпался вдребезги. Запястье у Врисы уже распухло. Удар был такой сильный, что бедная девочка едва не сломала себе руку. Я говорю «девочка», потому что вскоре узнал, что она лишь на год-два старше меня, хоть уже стала предводительницей. Герн-и-фейн, ведунья с глазами, как острый кремень, и сморщенным бурым лицом, приходилась ей бабкой. Герн-и-фейн мигом распознала знамение. Она подняла меня на ноги (солнце уже взошло, яркий свет бил прямо в лицо) и долго смотрела в глаза, потом обратилась к остальным и что-то взволнованно залопотала. Ее соплеменники только таращили глаза, но Вриса медленно подошла, взяла меня за скулы, большими пальцами оттянула веки вниз и заглянула в глаза. Лицо ее озарилось. Забыв про боль, она стала звать остальных, чтобы и те посмотрели. Пришлось терпеть, пока все, один за другим, изучали цвет моих глаз. Убедившись, что у меня и впрямь золотые глаза сокола, Герн-и-фейн возложила мне на голову руки и возблагодарила Луга-Солнце за дивный дар. Потом я узнал, что это было время, когда клан считал, что нужно принести хорошую жертву, чтобы остановить череду несчастий, преследовавших их три лета подряд: трава не уродилась, овцы принесли мало ягнят, двое детей умерли от лихорадки, младшего брата Ноло убил вепрь. Они уже отчаялись, когда Элак, возвращаясь после неудачной охоты, услышал в тумане мои крики. Они решили, что их молитвы услышаны. Элак взобрался на холм, убедился, что я действительно там, добежал до землянки и рассказал о своей удаче остальным. Было решено взять меня в плен и наутро принести в жертву. Рассыпавшийся нож придал делу новый оборот — меня сочли подарком богов… пусть явленным в недочеловеческом обличье «большого», да еще и мальчишки, но все равно подарком. Мне не хотелось бы, чтоб банши предстали этакими умственно неполноценными детьми; впрочем, сказать о них «как дети», значит многое объяснить. Однако уж отсталыми-то назвать их никак нельзя. Напротив, они чрезвычайно сообразительны, быстро запоминают и наделены огромным запасом инстинктивного знания, которое впитывают с молоком матери. Просто банши считали, что все потребное для жизни — солнце и дождь, оленей для охоты и траву для овец — дают «Родители»: Земля-богиня и Луг-солнце. Сила их веры была такова, что они принимали окружающий мир как безусловную данность. В этом мире не было ничего невозможного. Небо могло внезапно превратиться в камень, реки — в серебро, а горы — в золото; под холмами дремали, свернувшись в кольца, драконы, великаны храпели в глубоких подземных пещерах, человек мог быть человеком, а мог быть богом или тем и другим вместе. Из ниоткуда могла возникнуть облачная рука и разбить нож, направленный в сердце их долгожданной жертвы. Раз так, это все надо принять. Означает ли это неполноценность? Не диво, что при такой вере они, раз приняв Истину, пронесли ее в сердце далеко-далеко.
Глава шестая
Я думал, что мы вернемся домой и меня отпустят. Не тут-то было. Живой дар богов еще лучше, чем жертва. Никто не собирался меня отпускать. Может быть, позже, когда я исполню то, ради чего послан. А до тех пор нечего и думать. Это мне недвусмысленно объяснили, когда на следующий день я попытался покинуть землянку. Я сидел у двери и, выждав момент, когда никто не смотрел на меня, просто встал и начал спускаться с холма. Я успел сделать шагов десять, прежде чем Ноло кликнул собак. Те, угрожающе скалясь и подвывая, окружили меня и заставили вернуться на место. Дни ползли медленно, и на сердце у меня становилось все тяжелее. Мои близкие где-то в этих холмах ищут меня, беспокоятся. В ту пору я еще не мог увидеть их мысленным взором, но на расстоянии ощущал тревогу былых спутников и чувствовал, как им плохо. По ночам я горько рыдал на соломе, вспоминая о тех неприятностях, что причинил матери, и о тяготах, что ей приходится из-за меня сносить. Великий Свет, молился я, прошу, услышь меня! Утешь их, дай им знать, что я жив. Обнадежь их, пусть знают, что я вернусь. Дай им терпение ждать, крепость духа, чтоб выдержать ожидание. Дай им силу перебороть усталость. Молитва эта надолго стала моей поддержкой. Да, нередко я шептал ее со слезами. Спустя четыре дня глубоких раздумий Герн-и-фейн взяла меня за руку, усадила на камень возле своих ног и начала говорить. Я не понимал ни слова, но слушал внимательно и вскоре начал различать определенный ритм. Время от времени я кивал, чтобы показать свое усердие. Она собрала лицо морщинками, обвела рукой подземное убежище, все и всех в ней. — Фейн, — произнесла она несколько раз подряд, пока я не повторил за ней. — Фейн, — сказал я, улыбаясь. Улыбка сотворила чудо. Подземные жители — веселый народ, улыбка у них означает гармонию с жизнью, и в этом они правы. — Герн-и-фейн, — произнесла она затем, ударяя себя в грудь. — Герн-и-фейн, — повторил я, потом сам ударил себя в грудь и сказал: — Мирддин. — Я нарочно употребил кимрскую форму своего имени, надеясь, что так будет ближе к их речи. — Мирддин. Она кивнула и несколько раз повторила слово, радуясь, что дар богов оказался таким смышленым. Она указала по очереди на соплеменников, занятых своими разнообразными делами. «Вриса, Элак, Ноло, Тейрн, Беона, Рилла…». Я старался повторять за ней, и поначалу мне это удавалось, но потом она стала называть неодушевленные предметы — землю, небо, холмы, облака, реку, камни, — и я сбился. Так закончился первый урок, положивший начало череде дней, когда я внимал Герн-и-фейн, как некогда Давиду и Блезу. Вриса тоже взялась за мое воспитание. Первым делом у меня забрали одежду, а взамен выдали шкуры. Я испугался, пока не увидел, что она аккуратно сложила мои вещи в отдельную корзину и подвесила ее под потолочной балкой. Может быть, я уйду нескоро, но по крайней мере в своей одежде. Потом она вывела меня наружу, без умолку щебеча, поминутно обнажая в улыбке белые зубы и приговаривая: «Мы тебе рады, большой-прибыток. Ты теперь семья». Она радовалась, когда я выучил ее имя и научил произносить свое. Все племя вопило от восторга, узнав, что меня зовут «Сокол» — выходило, что меня и впрямь послали Родители. Они с нетерпением следили за моими успехами в языке, любой пустяк приводил их в восхищение. Сидя за ужином у огня, они могли бесконечно рассказывать друг другу о моих достижениях. Сперва я относил это на счет своего особого статуса, но потом узнал, что так они относятся к детям вообще. Дети занимали в племени особое положение. Даже в их языке богатство и ребенок обозначались одним словом «прибыток». Они относились к детям, как другие относятся к чтимым гостям, — с вниманием и уважением. Само присутствие малышей становилось источником радости и поводом к ликованию. По летам я был для них почти взрослый, но, как неотесанный дикарь, оставался на положении дитяти, пока не освоил правила поведения. Вот почему первые месяцы я бывал среди детей не меньше, чем в обществе их родителей. Лето пронеслось незаметно. Я изо всех сил учил язык, чтобы рассказать, как тревожусь о своих близких, и узнать, зачем меня держат. Возможность представилась как-то холодной ночью вскоре после Лугназада. Мы, как нередко бывало, сидели у костра под звездами на самой вершине холма. Элак и Ноло — первый и второй мужья Врисы — вместе с несколькими соплеменниками провели весь день на охоте и, поужинав, стали рассказывать о дневных впечатлениях. В наивной простоте Элак повернулся ко мне и сказал: — Видели людей-больших в кривой балке. Все ищут дитя-прибыток. — Все? — спросил я. — Ты и раньше об этом знал? Он улыбнулся и кивнул, Ноло тоже закивал и добавил: — Мы давно их видим. — Почему же мне не сказали? — спросил я, стараясь не злиться на них. — Мирддин теперь фейн. Будешь фейн-брат. Скоро уходим; люди-большие поищут и уйдут. — Уходим? — Гнев мой испарился. Я повернулся к Врисе. — Что Элак говорит? Куда мы уходим? — Скоро снег. Уйдем в другой дом, фейн-брат. — Когда? — Отчаяние, подобно тошноте, подкатило к горлу. Вриса пожала плечами. — Скоро. До снега. Ну разумеется, я должен был догадаться: Обитатели холмов не могут долго оставаться на одном месте. Почему-то я не подумал, что скоро придет пора перебираться на север, в зимнее жилище. — Отведите меня к ним, — сказал я. — Мне надо их видеть. Вриса нахмурилась и повернулась к Герн-и-фейн. Та легонько покачала головой. — Нельзя, — отвечала она. —Люди-большие приберут дитя-прибыток. В их языке нет слова «украсть», они говорят «прибрать», и, надо сказать, сами изрядные мастера прибрать то, что плохо лежит. — Я был человек-большой, прежде чем стать фейн-братом, — сказал я. — Мне надо попрощаться. Они удивились. Для них не существует прощания и разлуки — даже смерть не воспринимается как окончательное расставание. Просто человек отправляется в путь, как, скажем, на охоту, и может в любой день вернуться в ином теле. — Что значит «по-про-ща-тя»? — спросила Вриса. — Не знаю такого. — Надо сказать им, чтоб прекратили поиски, — объяснил я. — Ушли из кривой балки и вернулись домой. — Нет, Мирддин-прибыток, — радостно успокоил Элак. — Люди-большие скоро кончат искать. Скоро уйдут. — Нет. — Я вскочил на ноги. — Они мне фейн-братья, родители. Они никогда не бросят искать дитя-прибыток. Никогда! Их представления о времени были очень неопределенными. Мысль о нескончаемом действии оказалась выше их разумения. Вриса только покачала головой: — Не знаю такого. Ты теперь фейн. Дар Сокольему народу от Родителей. Я согласился, но сдаваться не стал. — Да, я ваш дар. Но я должен поблагодарить фейн-братьев, что стал человеком Сокола. Это они поняли — кто же не хочет стать человеком Сокола? Любой будет безмерно благодарен за эту честь и непременно захочет выразить свою признательность. Да, они понимали, что я захочу сказать «спасибо» бывшим фейн-братьям. Более того, они увидели в этом знак моего взросления. — Это хорошо, Мирддин-брат. Завтра поблагодаришь Родителей. — И фейн-братьев, — не отступался я. — Как же ты их отблагодаришь? — с подозрением спросила Вриса. Она учуяла подвох, ее темные глаза настороженно сузились. Надо было отвечать с видом полнейшей невинности, иначе она отказала бы наотрез. — Я верну им одежду. Это тоже звучало понятно. Людям, не умеющим прясть, не знающим утка и основы, тканая одежда представлялась огромной ценностью. Врисе было жалко упускать из рук одежду-прибыток, но она понимала мое желание: если невозможно вернуть меня, прежний фейн будет рад получить в утешение такое хорошее платье. — Элак, — сказала она наконец, — Мирддин-брат пойдет с тобой завтра к костру людей-больших. Я улыбнулся. Понятно было, что сейчас я больше ничего от них не добьюсь. — Спасибо, Вриса-вождь. Спасибо, фейн-родичи. Они тоже заулыбались и весело защебетали, а я стал обдумывать план побега.Их было четверо в кривой балке. Я издалека узнал наших дружинников. Они разбили лагерь у ручья, и мерцающий свет костра отражался в бегущей воде. Судя по всему, они спали, потому что солнце еще не показалось из-за восточных холмов. Мы затаились на каменном козырьке выше по склону. — Теперь я спущусь к фейн-братьям, — сказал я Элаку. — Мы идем с тобой. — Он указал на Ноло и Тейрна. — Нет, я пойду один. — Я старался говорить твердо, как Герн-и-фейн. Он смущенно взглянул на меня, потом покачал головой. — Вриса-вождь сказала, ты не вернешься. В этом и состоял мой план. Элак покачал головой и встал рядом со мной. Руку он положил мне на плечо. — Мы пойдем с тобой, Мирддин-брат, не то люди большие возьмут дитя-прибыток назад. Теперь я все видел ясно, хотя и несколько запоздало. Если мы спустимся вместе, быть стычке. Воины Эльфина ни за что не отпустят Подземных жителей вместе со мной. Они попытаются меня отбить и скорее всего полягут под стрелами раньше, чем успеют обнажить меч. Возможно, погибнет и кто-то из малышей. Этого допускать нельзя. Моя свобода не стоит жизни тех, кого я зову друзьями. Что же теперь делать? — Нет. — Я сложил руки на груди и сел. — Не пойду. — Почему? — Элак в изумлении вылупил на меня глаза. — Иди ты. Он сел рядом со мной. Ноло нахмурился и протянул мне руку. — Она-вождь говорит, мужья идут с тобой. Не то люди-большие не отпустят дитя-прибыток. — Братья-большие не поймут. Они убьют фейн-братьев, думая, что спасают фейн-брата. Элака это убедило. Он мрачно кивнул, зная, как непонятливы бывают люди-большие. — Народ Сокола не боится людей-больших, — напыжился Ноло. — Я не хочу, чтоб убили моих фейн-братьев. Это очень огорчит Мирддин-брата. Очень огорчит фейн. — Я воззвал к Элаку. — Иди ты, Элак. Отнеси мое платье братьям-большим. — Я указал на груду одежды. Он подумал и согласился. Я как можно аккуратнее сложил плащ, штаны и рубаху, лихорадочно думая, как передать послание, чтоб его не истолковали превратно. В конце-концов я снял сыромятный ремень и перевязал им сверток. Одежду мои близкие узнают, но надо еще как-то показать, что я в безопасности. Я огляделся. — Тейрн, дай-ка стрелу. — Я протянул руку. Конечно, перо и пергамент пришлись бы более кстати, но Подземным жителям эти вещи так же неведомы, как перец и притирания. Они не доверяют писанине — свидетельство их мудрости. Тейрн вытащил стрелу. У Подземных жителей это короткая тростина с кремневым наконечником и оперением из черных вороновых перьев, бьющая без промаха; их меткость вошла в легенду. Северные племена боятся нестрашных на вид стрел и верной руки лучника. Я переломил стрелу пополам и подсунул обломки под пояс, в последний миг по наитию снял с плаща пряжку с волком и протянул сверток Элаку. — Отнеси это в лагерь людям-большим. Он взглянул на сверток, затем на разбитый внизу бивуак. — Луг-Солнце встает, — сказал я. — Иди, пока люди-большие не проснулись. Он быстро кивнул. — Они меня не увидят. — С этими словами он слез с козырька и пропал. Через несколько секунд он уже мчался к костру. Тихо и незаметно, словно тень, Элак проник в спящий лагерь и с характерной для него бесшабашной отвагой ловко уложил сверток рядом с головой одного из спящих. Он успел вовремя взобраться на козырек, и мы тут же тронулись к землянке. Мне стоило огромных усилий не обернуться. Оставалось надеяться, что аккуратно сложенные и оставленные среди лагеря вещи дадут понять: я жив и знаю, где дружинники, но сам к ним прийти не могу. Все говорило за то, что мое послание прочтут неправильно, но я положился на Всевышнего и надеялся, что хуже не станет. Что-то изменилось во мне в этот день. Пожертвовав одеждой, я как бы отринул мысль о побеге. И, интересное дело, на душе стало легче. Хотя порой накатывала тоска, я, кажется, тоже поверил, что попал в Племя Сокола не без какой-то цели. С этого дня я уже не мечтал убежать и постепенно смирился с пленом. Больше я не видел дружинников, а когда костер на Самайн отгорел, племя откочевало к северу, на зимние пастбища. Мне казалось диким, что летом они живут на юге, зимой — на севере, но таков уж был их обычай. Тогда я не знал, что в некоторых северных областях зимы помягче южных. Однако вскоре я убедился, что земли севернее Вала — не только продуваемые ветрами каменистые пустоши, как принято полагать. Есть здесь зеленые и уютные уголки, едва ли не лучшие в Британии. В один из них мы и въехали на мохнатых пони, гоня перед собой стадо маленьких жилистых овец. Здешнее убежище мало отличалось от летнего, за тем исключением, что было и впрямь вырыто в холме. Кроме того, оно было гораздо больше, потому что в морозные дни сюда же загоняли овец и пони. Оно выходило в укромную лощину и на посторонний взгляд ничем не отличалось от обычных холмов. Здесь была трава для пони и овец, ручей, впадавший неподалеку в морской залив. В убежище было темно и тепло. Пусть зимние ветры всю ночь завывали в камнях и расселинах, ища, куда бы запустить холодные пальцы, мы лежали у огня, закутавшись в меха и овчины, и слушали рассказы Герн-и-фейн о Старых днях, до того, как пришли люди-римляне с мечами, построили дороги и крепости, до того, как кровожадность погнала людей воевать друг с другом, и даже до того, как люди-большие поселились на Острове Могущественного. — Слушайте, — говорила она, — я поведаю вам о временах до времен, когда мир был новым-преновым, притани ходили без помех, еды хватало всем, наши родители улыбались, любуясь своим ребенком-прибытком, Великий Снег сидел взаперти на севере и ничуть не тревожил первенцев Матери… И она начинала сказание, и переливы ее голоса повторяли многовековую память народа, связывая слушателей с невообразимо далеким прошлым, оживавшим в словах старухи. Невозможно сказать, как давно возникло это предание, ибо для Обитателей холмов всякое время близко. То, что описывала Герн-и-фейн, могло случиться десять тысяч лет назад или вчера. Для них это было одно и то же. Луна убыла и вновь прибыла, затем другая, и однажды поздно вечером пошел снег. Мы с Элаком и Ноло взяли собак и спустились в лощину, чтобы загнать овец. Мы уже собирали их в кучу, когда Ноло вскрикнул. Я обернулся. Он указывал в долину: сквозь снежный буран к нам приближались всадники. Элак повел ладонью. Ноло положил стрелу на тетиву, пригнулся… и исчез. Он просто пропал, превратился в камень или кустик травы возле ручья. Я тоже пригнулся, как учили, гадая, удалось ли мне так же удачно слиться с землей. Собаки залаяли, Элак свистнул, и лай мигом оборвался. Три всадника — обычного человеческого роста — ехали на тощих, заморенного вида клячах. Первый из них что-то сказал, Элак ответил, и начался разговор на ломаном языке Подземных жителей. — Мы просим вас поколдовать, — кое-как объяснил всадник. — Зачем? — спокойно спросил Элак. — Умирает вторая жена нашего вождя. У нее лихорадка, она не ест. — Он с сомнением взглянул на Элака. — Придет ваша ведунья? — Я спрошу. — Он пожал плечами и добавил: — Только вряд ли она захочет колдовать над женщиной-большой. — Если она придет, наш вождь подарит ей четыре золотых браслета. Элак презрительно нахмурился, словно говоря: «Эти безделицы для нас — все равно что конский навоз», однако я знал, что притани высоко ценят золото людей-больших и весьма им дорожат. — Я спрошу, — повторил он. — А теперь уезжайте. — Мы подождем. — Нет. Уезжайте. — Элак не хотел, чтобы люди-большие узнали, в каком холме убежище. — Нам вождь приказал! — воскликнул всадник. Элак снова пожал плечами и отвернулся, делая вид, что будет сгонять овец. Всадники пошептались, и предводитель сказал: — Когда? Когда ты ее спросишь? — Когда люди-большие вернутся в свои дома. Всадники развернули коней и унеслись прочь. Элак выждал, когда они исчезнут из виду, и сделал нам знак выбираться из укрытий. Ноло убрал стрелу обратно в колчан, мы сбили овец в кучу и погнали к убежищу. Другие уже завели под крышу коней, так что Элак направился прямиком к Герн. — У вождя-большого жена в лихорадке, — сказал он. — Четыре золотых браслета за то, чтоб ее исцелить. — Видать, сильно ее лихорадит, — отвечала Герн. — Но я все равно к ней пойду. С этими словами она встала и вышла под снегопад. Мы с Ноло, Элаком и Врисой отправились вместе с ней. Пока мы дошли до поселка в устье реки, уже почти стемнело. Дом вождя стоял на деревянных сваях в окружении домишек поменьше, прилепившихся на самом краю вонючей прибрежной отмели. Вриса, Элак и Ноло пошли с Герн. Меня взяли, чтобы стеречь пони, однако Герн, оглядевшись, велела мне вместе со всеми идти к вождю. На двери висела грязная шкура. На свист Элака ее откинули, человек, приезжавший в лощину, вышел и сделал нам знак войти. Круглая бревенчатая избушка состояла из одного помещения с очагом посредине. Редкая солома на крыше и щелястые стены плохо защищали от ветра, в доме было сыро и знобко. Под ногами хрустели пустые раковины, рыбьи кости и чешуя. Вождь сидел у коптящего огня с двумя женщинами, каждая прижимала к груди грязного орущего младенца. Вождь засопел и указал в дальний угол, где на укрытой мехом охапке тростника лежала больная. Герн увидела ее и прищелкнула языком. Женщина была средних лет, однако сомнительная честь производить на свет наследников вождя состарила ее значительно раньше срока. Теперь она лежала в жару, запавшие глаза были закрыты, руки тряслись, кожа пожелтела так, что сравнялась цветом с подстилкой из овчины. Она умирала. Даже я, ничего тогда не знавший о целительстве, понял: ей не дотянуть до утра. — Дурачье! — прошептала Герн, — поздно они позвали меня колдовать. — Четыре браслета, — напомнил Элак. Герн со вздохом присела на корточки возле недужной, долго смотрела на нее, потом запустила руку в суму на поясе и вытащила горшочек с мазью, которую и принялась наносить ей на лоб. Женщина вздрогнула и открыла глаза. Я видел в них отблеск смерти, хотя под старухиными прикосновениями она вроде бы оживала. Герн начала заговор от лихорадки — утешительные слова, которые помогают прогнать жар. Она вновь запустила руку в суму, высыпала мне в ладонь горсть сушеных кореньев, листьев, коры, семян и кивнула на железный котел, подвешенный на цепи к потолочной балке над очагом. Я догадался, что смесь надо бросить в котел. Залив ее водой из горшка, я подождал, пока закипит. Герн рукой показала, чтобы я подал ей отвар; под приглушенную брань вождя я передал черпак. Герн приподняла голову больной и дала ей пить. Та слабо улыбнулась и снова откинулась на овчину. В следующий миг она уже спала. Старуха подошла к вождю и стала прямо перед ним. — Жить будет? — грубо спросил вождь. Можно было подумать, что он говорит о своей гончей. — Пока жива, — отвечала Герн-и-фейн. — Следи, чтоб она лежала в тепле и пила отвар. Вождь засопел, снял браслет и передал одному из своих людей. Тот, избегая прикасаться к старухе, торопливо бросил браслет в ее раскрытую ладонь. Обидный жест не ускользнул от внимания моих спутников. Элак подобрался. Ноло уже вытащил стрелу. Однако Герн взглянула на браслет и взвесила его в ладони. Похоже, олова в нем было больше, чем золота. — Ты обещал четыре браслета. — Четыре? Забирай, что дали, и убирайся! — проревел он. — Еще чего выдумала! Обитатели холмов выхватили оружие. Герн подняла руку. Элак и Ноло застыли. — Вождь хочет обмануть ведунью? — В тихих словах ясно слышалась угроза. Рука проделала сложное движение, что-то упало в огонь, и к потолку взметнулся столб искр. Женщины завопили и закрыли лицо руками. Вождь налился злостью, однако быстро снял еще три браслета и бросил их в горящие уголья. С молниеносной быстротой старуха выхватила браслеты из огня. Вождь и его родичи застыли от изумления. Золото исчезло в складках ее одежды. Гордо выпрямившись, ведунья вышла из дома. Мы последовали за ней, сели на пони и в зимних сумерках вернулись в свое убежище. Два дня спустя Элак и Ноло гнали овец на пастбище. Здесь их и отыскали прежние всадники. На этот раз с ними был вождь. Я спускался с холма и видел, как те во весь опор скачут на моих фейн-братьев, разгоняя овец. Я остановился и замер, мгновенно слившись со склоном. Когда всадники остановились, я побежал вниз. — Верните золото! — крикнул вождь. Элак выхватил кинжал, Ноло натянул лук. Однако противники были наготове. Каждый держал короткий меч и прочный деревянный щит, обтянутый бычьей кожей. Откуда они их взяли? Купили у скоттов? — Верни золото, вор! Элак, вероятно, не знал этого слова, но тон был вполне ясен. Элак напружинился, готовый ринуться в бой. Единственное, что его останавливало, это лошади. Будь Обитатели холмов на своих пони, они бы не страшились негодяев. Однако их было двое пеших против четверых всадников. Вождь твердо вознамерился вернуть золото или украсить головами моих братьев колья возле своего дома. А возможно, и то и другое. Глядя вниз, я почувствовал, что воздух вокруг сгущается, как в тот день, когда камни плясали над землей. Я знал — что-то произойдет, но не знал, что именно. Однако в тот миг, когда я ступил между вождем и Элаком, мне стало ясно — противники тоже что-то почуяли. — Зачем вы здесь? — спросил я, пытаясь говорить с непререкаемой властностью Герн-и-фейн. Люди-большие вытаращили глаза, как будто я вырос из земли прямо у их ног. Вождь крепче сжал меч и буркнул: — Женщина умерла, и ее закопали. Я вернулся за золотом. — Езжай назад, — сказал я. — Если думаешь мстить тем, кто тебе помог, то поделом будешь наказан. Возвращайся к себе, ничего ты здесь не получишь. Его тупая морда скривилась в мерзкой ухмылке. — Я получу и золото, и твой длинный язык в придачу, ублюдок! — Тебя предупредили, — сказал я и глянул на остальных. — Вас всех предупредили. Те были поумнее или просто трусливее вождя. Они что-то забормотали себе под нос, складывая пальцы для защиты от дурного глаза. Вождь расхохотался во всю пасть. — Я тебя выпотрошу, как селедку, и удавлю твоими же кишками, молокосос! — объявил он, направляя острие меча мне в горло. Элак напрягся, готовый прыгнуть. Я остановил его рукой. Острие, черное от запекшейся крови, придвигалось все ближе. Я обратил взор на зазубренное лезвие и представил жар, в котором его ковали, представил раскаленный докрасна кусок железа в горниле. Острие засветилось — сперва тускло, потом все ярче и ярче. Алая полоса расширялась по лезвию к рукояти. Вождь терпел, сколько хватило мочи, и за свое упрямство поплатился обожженной ладонью. Его вой прокатился по долине. — Убейте его! — кричал он; красная кожа на руке уже пошла волдырями. — Убейте! Его спутники не двинулись с места — их мечи тоже раскалились. Пряжки на поясах, кинжалы и браслеты стали обжигающе горячими. Лошади приплясывали на месте, сверкая белками глаз. — Убирайтесь отсюда и никогда больше не приходите. — Голос мой был спокоен, хотя сердце бешено колотилось. Один из всадников развернул лошадь и хотел уже скакать прочь, но предводитель был упрям, как бык. — Ни с места! — Лицо его почернело от гнева и досады. — Ты! — заорал он на меня. — Я тебя убью! Я… Мне ни разу не доводилось видеть человека в такой ярости. Позже привелось — раз или два, но тогда я не знал, что от сильного гнева можно и помереть. Вождь начал давиться, слова рыбьей костью застряли у него в горле. Задыхаясь, он ухватился руками за шею и, выкатив глаза, сполз с седла. Он был уже мертв, когда его тело коснулось земли. Всадники лишь раз взглянули на мертвеца и, поворотив коней, унеслись прочь, оставив его лежать. Когда они ускакали, Элак повернулся ко мне и заглянул в глаза. Он молчал, но вопрос читался ясно: «Кто ты? И что ты?» Ноло присел на корточки рядом с телом и вымолвил тихо: — Он мертв, Мирддин-прибыток. — Взвалим его на лошадь, пусть сам возвращается домой, — предложил я. Мы не без труда перекинули тяжелое тело через седло и, чтобы оно не соскользнуло, привязали запястья к лодыжкам, потом развернули бедную клячу, хлестнули ее по крупу, и она затрусила вослед товаркам. Я помолился за упокой его души — во мне не было ни ненависти, ни презрения. Мы проводили лошадей взглядом и вернулись в убежище. Элак и Ноло бежали впереди, так не терпелось им поведать о происшедшем. Услышав их рассказ, Вриса и Герн-и-фейн взглянули на меня понимающе. Герн-и-фейн подняла руки над моей головой и пропела мне победную песнь. Вриса выразила свое одобрение по-другому: обняла меня и поцеловала. В тот вечер я сидел за ужином рядом с ней, и она кормила меня из своей миски.
Глава седьмая
На севере шел снег. Холодными беспросветными днями и долгими черными ночами под завывание вьюги я сидел у огня возле ног Герн-и-фейн и внимал ее поучениям. Она наставляла меня в древней науке земли, огня, воздуха и воды, которую люди в своем невежестве зовут колдовством. Я усваивал на лету — учить Герн-и-фейн умела, и науку свою любила не меньше, чем Давид и Блез. Тогда я и стал видеть. Все началось с горящего торфа в очаге, с красивых вишневых и золотых языков. Не все ведуньи это умеют, но Герн-и-фейн могла, глядя в огонь, различать очертания вещей. С той поры, как она разбудила во мне эту способность, мы часами просиживали вместе, наблюдая за пламенем. Потом она спрашивала, что я видел, и я отвечал. Вскоре стало ясно, что я зорче ее. По мере того, как росло умение, я почти научился вызывать желаемые образы. Почти. Тем не менее как-то ночью я видел мать. Это было и радостно, и неожиданно. Я, не отрываясь, смотрел в пламя, опустошив свой мозг для грядущих образов и в то же время мысленно устремись к ним. Рассказать об этом невозможно. Герн-и-фейн описывала так: «Словно набираешь воду из ручья или убеждаешь робких зимних жеребят спуститься с холмов». Я всматривался в языки пламени, и передо мной мелькнул женский силуэт. Я потянул его к себе, удержал — словно огонек свечи в ладонях, — побудил принять форму и остаться. Это была Харита. Она сидела в комнате у жаровни с горящими углями. В тот миг, когда я ее увидел, она вскинула голову и огляделась, словно кто-то назвал ее по имени. Может быть, это был я; не знаю. Я отчетливо видел ее лицо и по спокойной умиротворенности черт заключил, что она получила и правильно истолковала мое послание. Во всяком случае, она не изводила себя тревогой. За ее спиной отворилась дверь, Харита полуобернулась и наградила вошедшего улыбкой. Я не видел, кто это, но он приблизился, и она протянула руку… Взяв ее ладонь в свою, он положил свободную руку ей на плечо и уселся на ручку кресла. Она повернула голову и коснулась губами его пальцев. Теперь я понял, кто это: Мелвис. Я так разозлился, что не удержал образ: он рассеялся в пламени и пропал. Я остался с шумом крови в ушах и вопросом: «Что это значит?» Меня не так поразило, что мать с Мелвисом. Нет ничего странного в том, что на время розысков она вернулась перезимовать в Маридун. Скорее меня задела ее нежность к другому — нежность, до сих пор безраздельно принадлежавшая мне. Тут тоже не было ничего особенного, но поди смирись с этим! Очень полезно убедиться в собственной незначительности. Несколько дней я бился над значением увиденного, потом бросил. Главное, мать под надежной опекой и не чахнет от тоски по мне. Я видел многое другое и все чаще и чаще узнавал людей и места. Вот Блез, закутавшись в плащ, сидит на холме и смотрит в звездное небо; священник Давид и дедушка Аваллах склонили головы над шахматной доской; Эльфин точит новый меч. Порою я не понимал, что вижу: в узкой каменистой расселине бьет из обрыва ключ; девушка с черными, как смоль, волосами, поджигает фитиль в ситовом светильнике; разгоряченные хмелем люди в чаду и шуме, оскалившие пасти псы… Почти все завершалось одинаково: образ пропадал в пламени, превращаясь в пепел и жар. Я не знал, происходит это в прошлом, настоящем или будущем. Умение различать пришло позже. Всему свое время. В те темные зимние дни Герн-и-фейн учила меня и другому. Она радовалась, что есть кому передать скопленные за долгую жизнь знания, а я с восторгом черпал из ее закромов. Наверняка она знала, что это не навсегда, что со временем я уйду и заберу полученное с собой. И все же она давала, не скупясь. Может быть, она знала и другое — как пригодятся мне со временем эти знания. Когда весна вернулась на Остров Могущественного, фейн снова откочевал на юг. Землянку выбрали другую, надеясь, что здесь трава будет сочнее. Наше летнее стойбище было недалеко от Вала, где между горами притаились укромные лощины и людское жилье встречается редко. Дважды за лето, выходя на охоту с Тейрном, я видел марширующие войска. Пригнувшись рядом с нашими пони, мы ждали, покуда они пройдут, и я чувствовал их мятущийся дух; ощущал клубящийся хаос, как завихрения воздуха вдоль идущих колонн. То было не единственное свидетельство великих и грозных событий, которые предначертанным чередом разворачивались в мире людей. Я стал слышать голоса. Это началось вскоре после того, как мы второй раз видели войска. Мы возвращались в землянку с дневной добычей и остановились напоить пони из ручья. Солнце садилось; желтое пламя охватило полнеба. Я обнял пони за шею — мы оба вспотели и устали. В ложбине не ощущалось ветерка, нас донимали мухи. Я отдыхал, глядя, как дробится свет на воде, и тут жужжание мух сложилось в слова: «…растолкуй им… ближе, чем когда-либо… может, несколько лет… юго-восток… Линд и Лугуваллий с нами… крепись, Констанций. Это не навсегда…». Слова доносились еле-еле — легкое шелестение на ветру, но это был не ветер. Воздух висел неподвижно. Я взглянул на Тейрна — слышит ли он. Однако он сидел на корточках у края воды и пил из горсти. Если он что и слышал, то не подал вида. «…всего шесть сотен… приказы, мой друг, приказы… Император!.. больше дани… в этот год, чем в прошлый, Митра нас защити!.. вытянуть все соки… вот печать, бери… значит, договорились… уж не отступаться… Ave Imperator!» Слова доносились отрывочно, разные голоса мешались, заглушали друг друга. Однако то были голоса, и я не сомневался, что где-то — далеко или близко — эти слова прозвучали на самом деле. Пусть в услышанном не было смысла, я, знал, что речь идет о чем-то чрезвычайно значительном. В тот вечер, да и потом я долго об этом думал. Что это значит? Что может означать? Увы, ответ пришел много позже. Впрочем, я ничего бы не смог изменить. Я сроднился с Племенем Сокола и давно оставил мысль о побеге, утвердившись, как и Герн-и-фейн, в мысли, что все это предопределено. Может быть, они ошибались, и не я был послан в дар им, а они мне. И, действительно, то, что я здесь узнал, сослужило мне в жизни большую службу. Непросто описать мою жизнь среди Сокольего народа. Даже мне произнесенные слова кажутся пустыми, тусклыми подобиями кипучей реальности, которая доселе жива в сердце. Я вспоминаю краски: осенняя медь папоротника; весенний царственный пурпур на склонах гор; зелень, нежная и свежая, как на заре творения, и сочная, как божественная идея; мириады оттенков синего в небе, море, бегущей воде ручья; несравненная белизна только что выпавшего снега; серость нависших туч; непроглядная чернота раскинутых крыл ночи… И еще: лучезарные дни безмерного света и радости; звездные ночи глубокого-глубокого сна; времена года сменяют друг друга в отведенные сроки, и каждый миг соразмерен и запечатлен в душе; земля медленно проходит неизменный круг рождений и смертей, веря в Создателя, исполняя свое древнее и чтимое обетование. Великий Свет, я не мог бы любить тебя больше, чем в то время. Ибо я видел, я разумел. Я видел порядок творения, понимал ритм жизни. Обитатели холмов жили близко к порядку, лад был у них в крови. Им не было надобности его понимать: он был в них, как и они — в нем, но через них я научился его чувствовать, через них приобщился к этому ладу. Братья мои, родичи! Долг мой вам неоплатен, но знайте, что я вас не забыл. И, покуда люди помнят старые сказки, покуда у слов есть смысл, вы будете жить, как сейчас живете в моем сердце. Я пробыл в Сокольем Племени еще год — зиму, весну и лето, Бельтан и Лугназад, после чего понял, что пора возвращаться к своим. Дни стали укорачиваться, и меня обуяло беспокойство. Под ложечкой сжималось, стоило лишь взглянуть на юг, сердце трепетало при любой мысли о доме, и по коже пробегал легкий зуд ожидания, что в далеких чертогах будущего жизнь моя обретает форму и кто-то где-то ждет, чтобы я появился. Все эти ощущения я переживал молча, но Герн-и-фейн понимала это. Она видела, что время мое на исходе, и как-то после ужина позвала меня на воздух. Я взял ее под руку, и мы молча поднялись к каменному кругу на вершине холма. Она, сощурясь, посмотрела на вечернее небо, потом на меня. — Мирддин-брат, ты уже мужчина. Я ждал, что она скажет дальше. — Ты покинешь фейн. Я кивнул: — Скоро. Она улыбнулась так ласково и печально, что душа моя всколыхнулась от нежности. — Иди своей дорогой, прибыток моего сердца. Слезы выступили у меня на глазах, в горле застрял комок. — Я не могу уйти, не услышав твоей песни, Герн-и-фейн. Ей это польстило. — Спою тебе на дорожку, Мирддин-прибыток. Особую песню спою. Она начала сочинять ее в ту же ночь. На следующий день ко мне подошла Вриса. Она поговорила с Герн-и-фейн и решила сказать, что все понимает. — Ты был бы хороший муж, Мирддин-брат. Я хорошая жена. Верно, она была бы прекрасной женой любому мужчине. — Спасибо, Вриса-сестра. Но… — Я перевел взгляд на южные холмы. — Надо возвращаться в землянку людей-больших, — вздохнула она. Потом, взяв мою руку, поднесла ее к губам, поцеловала и положила себе на грудь. Я почувствовал, как бьется сердце под мягкой и теплой плотью. — Мы живые, Мирддин-брат. Мы не люди-небесные и не Древние, у которых нет жизни. Мы плоть, и кость, и дух — первые дети-прибыток Матери… — Она печально кивнула, прижав мою руку обеими ладошками. — Теперь ты это знаешь. Я никогда и не сомневался. Она была так прекрасна, так полна жизни, настолько принадлежала своему миру, что я почувствовал соблазн остаться и стать ее мужем. Очень может быть, я так и сделал бы, но моя дорога вела прочь, и я уже видел себя на ней. Я поцеловал Врису, и она улыбнулась, отбросив черную прядь. — Ты всегда будешь в моем сердце, Вриса-сестра, — сказал я. Тремя днями позже мы справляли Самайн, Ночь мирного пламени, и благодарили Родителей за удачный год. Когда луна взошла над холмом, Герн-и-фейн зажгла костер в каменном кругу, и я увидел огни на других вершинах. Мы ели жареного ягненка с диким луком и чесноком, много говорили и смеялись, я спел песню на родном языке — все были в восторге, хотя ни слова не поняли. Мне хотелось оставить им хоть что-то свое. Когда я закончил, Герн-и-фейн встала и три раза медленно обошла костер по ходу солнца. Потом она встала надо мной и простерла руки над моей головой. — Внемлите, Народ Сокола, это прощальная песнь нашего Мирддина-брата. Она воздела руки к луне и начала петь. Она пела на вечный неизменный мотив холмов, но слова были новые, сочиненные в мою честь, в них описывалась моя жизнь в фейне. Она спела про все: как я попал к ним, как меня чуть не принесли в жертву, как я мучился с языком, как внимал ее наставлениям у огня, как помог прогнать людей-больших, как пас овец, принимал ягнят, охотился, ел, жил. Она закончила, а мы остались сидеть в почтительном молчании. Я встал, обнял ее, и все родичи, один за другим, стали подходить и прощаться — каждый брал мои руки и целовал их в знак благословения. Тейрн подарил мне копье, которое сам сделал, Ноло — новый лук и колчан стрел со словами: «Возьми, Мирддин-брат. В дороге понадобится». — Спасибо, фейн-брат Ноло. Возьму с радостью. Потом подошел Элак. — Мирддин-брат, ты большой, как гора. — (И правда, я так вырос, что возвышался над ними всеми). — Зимой тебе будет холодно. Возьми этот плащ. И он надел мне на плечи чудесный плащ из волчьего меха. — Спасибо, фейн-брат Элак. Буду носить с гордостью. Последней подошла Вриса. Она взяла мои руки и поцеловала их. — Теперь ты мужчина, Мирддин-брат, — тихо сказала она. — Тебе нужно будет золото для жены. Она сняла с руки два золотых браслета, надела их мне на запястья и крепко меня обняла. Если б в этот миг она попросила меня остаться, я бы остался. Однако вопрос был решен; она и другие женщины отошли за стоящие камни, и вскоре мужчины последовали за ними, чтобы страстным соитием обеспечить новый удачный год. Мы с Герн-и-фейн вернулись в землянку, она подала мне праздничную чару верескового меда, я выпил и уснул. С тяжелым сердцем покидал я на следующий день свою семью Подземных жителей. Они стояли у входа в землянку и махали руками, собаки и дети бежали рядом с моим черным пони до самого низа холма. Возле ручья они остановились — им нельзя было пересекать воду, и я, оглянувшись назад, увидел, что фейн исчез. Остались лишь холм да серое бесцветное небо. Я вновь был в мире людей-больших.Глава восьмая
Я держал путь на юго-восток в надежде выехать на старую римскую дорогу, идущую от Вала до самого Ардеридда, если не дальше. Она бы вывела меня к Дэве, северному Городу Легиона, и горам Гвинедда, где я в последний раз видел своих близких. Мысль у меня была одна — вернуться к холмам и ложбинам у Ир Виддфа, где я видел наших дружинников. Я не сомневался, что кто-нибудь там будет, как не сомневался в том, что солнце взойдет на востоке. Меня будут искать, пока не получат известия или знака, что я мертв. Надо было лишь отыскать дорогу. Время, впрочем, поджимало — со дня на день погода могла испортиться, и мои сородичи отправились бы зимовать домой. Солнце и так светило тусклее, ночами подмораживало. Если они не отыщутся в ближайшее время, придется ехать до самого Маридуна — трудное и опасное путешествие для одинокого странника. Я трогался в путь до света и ехал долго после заката. Так мне удалось довольно быстро пересечь большое пустое пространство. Фейн в преддверии зимы откочевал на север; я и не догадывался, как далеко, пока на горизонте не выросла черная громада Калиддонского леса. Видимо, в прошлом году, перебираясь на зимние пастбища, мы обогнули его с запада. Кратчайший путь на юг лежал через лес, но я страшился въехать в его тень. Однако время поджимало, и я, приготовив копье и лук, повернул на дорогу, которая вела в лес, надеясь пересечь его дня за три-четыре. В первые сутки не произошло ничего примечательного. Я ехал сквозь буйство осенних красок — багрянец и золото пламенели в косых лучах. Только шелест сухой листвы да треск сучьев под копытами пони, редкий птичий крик или беличье цоканье отмечали мой путь через лес. Средь огромных, обросших зеленым мхом ясеней и дубов, раскидистых рябин и вязов, стройных сосен и курчавого тиса царила тишина, и она ясно давала понять, что мы здесь лишние. На второй день упал туман, перешедший в мелкую морось, от которой вскоре на мне не осталось сухой нитки. Несчастный и промокший до костей, я продолжал путь, пока не оказался на заросшей папоротником поляне у быстрого ручейка. Покуда я решал, где его переехать, дождь перестал, тучи поредели и проглянуло бледное солнце. Я спрыгнул с пони, провел его через заросли папоротника к воде и стал поить. Видимо, поляна и просвет в небе подействовали на меня ободряюще, потому что я стянул мокрый наряд и разложил на камнях у ручья в надежде, что скоро совсем развиднеется. И я не ошибся. Однако, когда облака разошлись, неподалеку затрещали кусты. Я машинально затаился и стал невидимым. Шум приближался, и я, разумеется, его узнал — прямо на меня бежал дикий кабан, за которым гнался охотник. Через мгновение вепрь-исполин выбежал из подлеска в каком-то десятке шагов выше меня по течению. Его черная шкура была исчерчена белыми отметинами. Как подобает старому вояке, он не замедлил бега, со всего разгона влетел в ручей, пронесся по воде, поднимая фонтан брызг, и исчез на другом берегу. Следом появился всадник. В тот миг, когда конь с седоком вылетел из подлеска на берег, солнце пробило тучи, и луч света копьем ударил с небес, осветив дивное зрелище: красавец-конь цвета утренней дымки, длинноногий и легкий. Не конь — олень: белая грива плещет на ветру, ноздри раздуты от запаха вепря. Всадница, стройная и яростная, глаза расширены от охотничьего азарта, распущенные волосы цвета полуночи струятся за спиной, солнце бьет в начищенные бляхи серебряного нагрудного доспеха, тонкая рука сжимает серебряное копье — застывший лунный луч, подхваченный на лету. В тот же миг я узнал в охотнице девушку с волосами, как вороново крыло, которую видел в пламени. Еще через мгновение я усомнился, видел ли ее вообще, потому что конь вспорхнувшей птицей перелетел ручей. Вместе со своей ношей он опустился на другом берегу и пропал в зарослях вслед за кабаном. Если б не звук продолжающейся погони, я бы счел, что все это мне померещилось. Треск и топот удалялись, поэтому я быстро натянул одежду, перевел пони через ручей и поскакал вдогонку. След был виден отчетливо, но настигнуть их не удавалось, и я не видел ни вепря, ни охотницы, пока едва не наехал на них посреди зеленой поляны в самой чащобе. Огромный вепрь лежал на брюхе, подобрав ноги, тонкое копье уходило через могучую лопатку вглубь, где острый наконечник пронзил сердце, громадные клыки были желтые и загнутые, хитрые маленькие глазки сверкали жаждой крови. Девушка еще не спешилась, ее скакун победно фыркал и рыл копытом землю. Она не обернулась, хотя я с треском ломился сквозь тисовый лес — все ее внимание было приковано к вепрю. И впрямь, добыча досталась редкостная. Уж я-то всяких вепрей повидал и сам изведал охотничий трепет при виде мчащегося навстречу кабана. Однако такого великана я еще не видел, как и таких хладнокровных охотниц. Была то отвага или надменность? Победный блеск глаз, твердый подбородок, царственная осанка… во всех ее прекрасных чертах сквозила привычка повелевать. Передо мной была девушка, которая при всей своей юности — вряд ли она перешагнула пятнадцатую весну — ничего не страшилась, ни перед чем не отступала и никогда не признавала поражения. Только насытившись созерцанием убитого вепря, она снизошла до того, чтобы заметить меня. — Тебя не звали, чужак. После певучей речи Подземных жителей ее выговор показался мне странным, но слова я разобрал — почти так же говорили в Ллионессе. Я покаянно склонил голову. — Прости меня, я и впрямь чужак. — Вина твоя не в этом, — заметила она. Она перебросила ногу через седло, спрыгнула на землю, подошла к вепрю и остановилась, с удовлетворением глядя на него. — Он славно постоял за себя. — Не диво. Судя по шкуре, многие пытались его завалить, да все тщетно. Это ей польстило. — А я вот преуспела. — Она издала радостный военный клич. По лесу прокатилось и затихло эхо. Девушка обернулась ко мне. — Что ты здесь делаешь? — Она спросила так, словно весь лес принадлежит ей. — Как видишь, я путник. — Я вижу грязного мальчишку в вонючей волчьей шкуре. — Она высокомерно наморщила нос. — И на путника ты ничуть не похож. — Но я и впрямь держу путь в далекие края. — Верю. — Она внезапно повернулась, уперлась сапожком в лопатку поверженного зверя и рывком вытянула копье. С серебряного древка закапала темно-алая кровь. Заметив это, она вытерла древко о бок зверя. — Эта шкура будет знатным трофеем, — заметил я, подходя ближе. Она направила на меня копье. — Как и твоя, волчонок. — У вас в округе все такие невежи? Она рассмеялась — словно легкий звон рассыпался в воздухе. — Мне упрек. — В тоне не было и капли раскаяния. Она повесила копье в ременную петлю на седле. — Будешь стоять, как пень, или поможешь довезти добычу? Сказать по правде, я не знал, как везти это чудище без телеги, да и на телегу его было бы не взвалить без помощи трех-четырех дюжих мужчин. Разумеется, лошадям эта ноша была не по силам. Однако девушка не растерялась. Вытащив из-за седла топорик, она велела мне срубить по соседству от поляны несколько тонких березок. Я сделал, как она сказала, мы быстро обрубили ветки и ремнями связали из жердей что-то вроде волокуши. Работа продвигалась быстро и доставляла мне радость, так как позволяла любоваться ловкими движениями охотницы. Покуда я рубил березки, она сняла нагрудный доспех и теперь работала рядом со мной в голубой рубахе и короткой клетчатой юбке, какие носят горцы. Сапожки на ней были из мягкой оленьей кожи, запястья и горло украшали тонкие серебряные обручи с синими самоцветными камешками. Кто бы мог подумать, что столь изящно сложенная, тонкорукая девушка с молочно-гладкой кожей возьмется за нелегкую работу с такой страстью? Впрочем, я подумал, что, когда ей интересно, она во все кидается с головой. Мы почти не разговаривали, но нам обоим нравилось, как ловко спорится дело; у нас отлично получалось работать в лад. Когда волокуша была готова, встал вопрос, как втащить на нее огромную тушу. Я подвел к убитому вепрю свою лошадку, мы обвязали ему передние ноги ремнем и, используя одну из оставшихся жердей в качестве рычага, принялись взваливать тушу на место. Сопя, обливаясь потом и налегая что есть силы, мы перекатили зверя на волокушу, где он немедленно завалился мне на ногу. Девушка со смехом прыгнула помочь; когда она нагнулась ко мне, я различил теплый аромат женственности и благовонных масел. От прикосновения ее рук по коже пробежал огонь. Мне удалось высвободить ногу, и мы вернулись к нашему нелегкому занятию. Наконец мы привязали тушу к жердям, выпрямились и переглянулись. Лица наши раскраснелись от гордости и усилий, со лба бежал пот. — После охоты, — начала она, и в ее васильковых глазах блеснуло лукавство, — я имею обыкновение купаться. — Она помолчала и смерила меня взглядом. — Тебе это тоже не помешало бы, но… — она уклончиво подняла ладонь, — час уже поздний. По правде сказать, при мысли искупаться с такой красавицей у меня по чреслам пробежала волна наслаждения. Я вовсе не думал, что время позднее, но она, не дожидаясь ответа, вскочила в седло и проехала несколько шагов, прежде чем обернуться. — Ладно, ты заработал корочку хлеба у огня и охапку соломы на конюшне. Так что давай за мной, волчонок. Не дожидаясь второго приглашения (которое вряд ли последовало бы), я взял поводья и пошел вслед за ней. Тащить вепря оказалось нелегко, особенно через ручей. Однако, когда солнце коснулось западных холмов, мы увидели большой поселок — не меньше двадцати просторных бревенчатых домов на берегу глубокого горного озера. Чуть поодаль на холме высился замок, состоящий из башни, конюшни, кухни, житницы и храма. Все это было деревянное. Мы выехали из леса в поселок, и жители выбежали нас приветствовать. При виде вепря они разразились криками. Девушка принимала их восторги со скромным спокойствием, по которому я заключил, что она знатного рода. Ее отец — здешний правитель, а люди на улицах — его подданные. По их лицам я понимал, что ее здесь обожают. Надо сказать, меня принимали куда прохладнее. Те, кто меня замечал, хмурились, некоторые грубо указывали на меня пальцами. Им не нравился грязный приблудный мальчишка рядом с госпожой. Только скажи, и они прогнали бы меня камнями. Виню я их? Да ничуть. Я сам понимал, что недостоин ехать с ней рядом. А глядя на себя их глазами… Да, рядом с их прекрасной повелительницей трусил на лохматом пони еще более лохматый мальчишка в коже и волчьей шкуре, явно из диких северных краев — сомнительный и опасный чужестранец. Однако девушка словно не замечала их недовольства и моего смущения. Я озирался по сторонам, думая, что зря поехал за ней и надо было оставаться в лесу. Мы проехали через поселок, по прибрежной гальке и поднялись на холм. Сельчане не последовали занами, но остались на почтительном отдалении. — Что это за место? — спросил я, когда мы спешились. К нам бежали слуги. — Дом моего отца, — объяснила девушка. — Кто же твой отец? — Скоро увидишь. А вот и он! Я повернулся туда, куда она глядела, и увидел великана, который семимильными шагами приближался к нам. Он был ростом с двух Подземных жителей, выше даже Аваллаха, и при этом широк в плечах, в груди, с руками, как ствол тиса. Его длинные каштановые волосы были зачесаны назад, на голове — золотой обруч. Мягкие сапожки доходили до колен, юбка-килт была в красную и зеленую клетку. Следом за ним бежали два огромных волкодава. — Мой отец. — С этими словами девушка кинулась к нему. Он подхватил ее, обнял, оторвав от земли. Я сморгнул, ожидая услышать, как хрустнут ребра. Однако великан осторожно поставил дочку на место и подошел ко мне. Он взглянул на вепря, глаза его округлились, он открыл рот и захохотал, так что затряслась бревенчатая башня и эхо раскатилось по лесистым холмам. — Молодец, дочурка! — Он хлопнул в ладоши размером с большие плошки. — Молодец, моя славная! Он поцеловал ее и круто повернулся ко мне. — А ты откуда, приятель? — Он помог мне довезти вепря, — объяснила девушка. — Я сказала, что за труды он может поесть и переночевать. — Мне это было не в труд, — с трудом выговорил я. — Вот значит что, — промолвил великан. Видимо, он еще не решил, как ко мне отнестись. — Имя-то у тебя есть? — Мерлин, — отвечал я. Для меня самого это прозвучало странно. — Мирддин ап Талиесин среди моих родичей. — Так у тебя и родичи есть? Не шутишь? Чего ж ты не с ними? — Меня похитили Обитатели холмов, я только сейчас выбрался, — отвечал я, надеясь, что от меня не потребуют новых объяснений. — Мои родичи живут на юге. Я направляюсь к ним. — Где на юге? — В Летнем краю и в Ллионнессе. Он нахмурился. — Так ты говоришь. Не помню, чтобы слышал такие названия. Может, их и на свете нет. Как же зовется твой народ? — Кимры. — Это слово я по крайней мере слышал. — Он кивнул, глядя на мою серебряную гривну и золотые браслеты — подарок Врисы. — Это родичи твоего отца? — Да. Мой дед — Эльфин ап Гвиддно Гаранхир. Он был королем Гвинедда. — Что значит «был»? — Когда пикты с саксами напали на наши земли, ему пришлось перебраться на юг. Великан сочувственно вздохнул. — Тяжелые времена. И все же ему повезло — мог и голову сложить. — Его голос громыхал, как колеса телеги на дощатом мосту. — Так твой отец — королевский сын? — Мой отец умер вскоре после моего рождения. — А что твоя мать? Ты про нее не говорил. Странно: никто прежде так не допытывался о моем происхождении. Впрочем, меня прежде и не приглашала в гости царская дочь. — Мать моя зовется Харитой, она Ллионесская царевна. Мой дед — Аваллах, царь Инис Аваллаха. Он одобрительно кивнул, но глаза его сузились. Казалось, он мысленно меня взвешивает, может быть, прикидывая, как далеко сможет забросить в озеро и сильный ли будет всплеск. Однако сказал он вот что: — Королевская кровь по отцу и по матери. Неплохо. — Он перевел взгляд на меня и на тушу, которую его слуги разделывали прямо на месте. — Ну только глянь! Видел такого молодца? Завтра будем им пировать. И этот удивительный человек, повернувшись, зашагал обратно в башню, сопровождаемый собаками. — Отцу ты понравился, волчонок. Тебе здесь рады. — Правда? — Я тебе говорю. — Ты знаешь про меня все, а я не знаю ни твоего имени, ни имени твоего отца, ни что это за место, ни… Она легонько улыбнулась. — Какой ты любознательный. — Там, откуда я, это зовется обычной учтивостью. — Ты как-то отовсюду и ниоткуда. Ладно. — Она склонила головку и отвечала. — Я — Ганиеда. Мой отец — Кустеннин, король Годдеу в Калиддонском лесу. — Мои приветствия вам обоим. — Наши приветствия тебе, Мирддин ап Талиесин, — мило отвечала она. — Соблаговолишь зайти? — Конечно. — Я склонил голову. Она рассмеялась, и звук ее смеха жидким серебром разлился в мглистом вечернем воздухе. Потом она ухватила меня под руку и повлекла за собой. Сердце мое чуть не разорвалось. В ту ночь я спал на пуховой перине в опочивальне рядом с пиршественным чертогом Кустеннина вместе с несколькими его людьми, которые не обижали меня, но и особой приязни не проявили. Утром они разошлись по своим делам, я встал и вышел в зал, где несколько слуг убирали остатки вчерашней трапезы и посыпали пол свежим тростником. Никто не обращал на меня внимания. Я вышел во двор, сел на приступочку и зачерпнул воды из деревянного ведерка. Вода была ледяная, вкусная, я пил, думал о предстоящем сегодня пути — и ехать мне не хотелось. Я еще не поставил на место черпак, когда холодные пальцы коснулись моей шеи. Я втянул голову в плечи и резко повернулся. Ганиеда со смехом отскочила назад. — Ты, наверно, сильно устал, — сказала она. — Полдня проваляться в постели! И это путник, которому надо спешить! — Ты права, Ганиеда. — Мне нравилось произносить ее имя. Она была в той же голубой рубахе и юбке-килте, что и вчера, но для защиты от утренней прохлады надела длинный, отороченный овечьим мехом плащ. Серебро на шее и запястьях сверкало, гладко зачесанные черные волосы блестели на солнце. — Впервые за много дней, — продолжал я, — мне довелось спать на мягком, вот я и заспался. — Видно, что ты устал, — спокойно заметила она. — Значит, не стоит сегодня ехать. Отправишься завтра, когда отдохнешь. Так лучше будет. — Она с необычной робостью сделала шаг ко мне. — Я вот тут думала… — продолжала она серьезно, ну не то, чтоб совсем серьезно, это было не в ее характере. — Какие дивные глаза! Твои глаза, Мирддин… — Да? — Я чувствовал, как кровь приливает к щекам. — Они золотые — волчьи, сокольи… Никогда таких у людей не видела. — Ты мне льстишь, госпожа, — смущенно выговорил я. О чем же она думала? Она устроилась рядом со мной на каменную приступочку. — Тебе далеко ехать? — Да уж порядочно. — Ну как далеко? — Дальше некуда. — Ой. — Она замолчала, уперев локоть в колено и примостив подбородок в горсти. — А если б это было ближе, что тогда? Ганиеда пожала плечами. — Может… когда-нибудь. Я рассмеялся. — Ганиеда, объясни, к чему ты клонишь. О чем ты думала? Я здесь сижу, когда мне надо седлать коня и уезжать скорее. — Последние слова колом встали у меня в горле. Ганиеда скорчила рожицу. — Ты не знаешь дороги через лес. Тебя надо проводить. — До сих пор я обходился без провожатых. И тебя нашел без их помощи. — Тебе просто повезло, — важно отвечала она. — Отец говорит, опасно слишком полагаться на удачу. — Согласен. — Вот и хорошо. Остаешься? — Хотел бы, да не могу. Лицо ее опечалилось, и, готов поклясться, дневной свет потускнел. — Почему? — Мне далеко ехать, — объяснил я. — Зима надвигается, погода вот-вот испортится. Если я не хочу замерзнуть где-нибудь на горном перевале, надо трогаться в путь. — Это тебе так важно — вернуться домой? — Да. И я стал рассказывать, как все было. Ганиеда слушала, как зачарованная. Я рассказал больше, чем собирался, и говорил бы дальше, лишь бы она слушала. Однако, когда я излагал, как Обитатели холмов кочуют с места на место, раздался стук копыт. Ганиеда вспорхнула и бросилась навстречу всаднику. Тот спрыгнул с седла и поцеловал ее. Я медленно встал, ощущая в себе пустоту разочарования. Зависть, как нож, поворачивалась в моих кишках. Незнакомец обнял ее за плечи, и они вместе пошли ко мне. Ганиеда так и светилась от любви. Я умирал от ревности. — Мирддин, друг мой, — сказала она (по крайней мере со вчерашнего дня меня уже произвели в друзья, спасибо и на том), — познакомься с моим… Я смотрел на мерзавца, похитившего ее сердце, и не мог понять, что она в нем нашла. Здоровенный переросток с беспечными глазищами цвета орехового прутика, длинноногий и большелапый. Морда смазливая, возраст — года на четыре-пять старше меня. Однако при всем его превосходстве в росте, весе и возрасте я охотно схватился бы с ним за Ганиеду. Но состязание уже позади, награда досталась ему, мне оставалось лишь тупо улыбаться и беситься от зависти. Эти мысли пронеслись в моей голове, прежде чем Ганиеда закончила: — …с моим братом Гвендолау. Ее брат! Я готов был его расцеловать. Какой красивый! Какой умный! Да чего же прекрасен мир, где есть такие люди! Он мигом вырос в моих глазах, и я с жаром стиснул его руки в старинном приветствии. — Гвендолау, приветствую тебя как брата и друга. Он весело улыбнулся. — Твой слуга, Мирддин Вильт. Он со смехом ткнул пальцем в край моего волчьего плаща. Мерлин Дикий… от шутливого прозвища у меня по коже пробежал холодок. В нем слышался отзвук чего-то жуткого. Неприятное чувство пронеслось, как стрела в полночном лесу, и пропало, когда он похлопал меня по спине. Ганиеда объяснила: — Мерлин скоро едет на юг. Там его родичи. Он жил на севере с банши… — Вот как? — Гвендолау оглядел меня с любопытством. — Это объясняет волчью шкуру. Но как же тебя не убили? — Господь меня хранил, — отвечал я. — Со мной обошлись по-хорошему. Гвендолау добродушно кивнул и повернулся к сестре: — Дома отец? — Уехал рано утром, обещал вернуться до заката. Велел, чтоб ты его подождал. — Хм! — Он удивился, потом пожал плечами. — Ладно, ничего не поделаешь. Зато хоть отдохну до его приезда. Ну, всего тебе доброго, Мирддин. Пойду завалюсь в постель. Он взял усталую лошадь под уздцы и повел через двор в конюшню. — Далеко он ездил? — спросил я. — Да. У нас на западной границе беспокойно. Гвендолау ездил предупредить тамошних жителей. — А что за беспокойство? — Разве они бывают разные? — Ну, для набегов время уж больно позднее. — Только не для скоттов. Они приходят через пролив — это занимает у них меньше дня — и проводят свои кожаные челны по Аннану в самый наш лес. И потом, им сподручнее грабить осенью, когда собран урожай. Ее слова вернули меня в мир мечей и вечного противоборства. При мысли о жаркой крови на хладном железе меня передернуло. Я взглянул на озеро — в нем отражались синие небеса — и увидел могучего мужа в стальном боевом шлеме и нагрудном доспехе. Его горло пересекала черная рана. Я узнал его, и меня опять передернуло. — Если тебе холодно, пошли в дом. — Нет, Ганиеда, не холодно. — Я тряхнул головой, чтоб прогнать тягостное видение. — Если ты проводишь меня до конюшен, я тронусь в путь. Она нахмурилась, и в этот миг ей на щеку упала капля дождя. Она протянула руку — еще одна капля брызнула на ладонь. — Дождь, — победно объявила она. — Под дождем ехать нельзя. И сегодня мы жарим вепря. Ты помог его довезти, так что теперь помогай есть. По правде сказать, в небе висело лишь одно темное облачко, но мысль о холодной сырой дороге ничуть меня не манила. Ехать не хотелось, и я сдался на уговоры. Ганиеда потянула меня назад в дом завтракать мясной похлебкой, репой и овсяными лепешками. Весь день она не отпускала меня от себя, развлекала играми и музыкой — в замке была шахматная доска с резными фигурками, а у Ганиеды — лира. И в шахматы, и на лире она играла прекрасно — словно нарочно, чтобы отвлечь меня от предстоящего пути. День пронесся, как вспугнутый олень, и, когда я выглянул в дверь зала, небо на западе уже озарилось и солнце сквозь серые облака заливало янтарем вершины дальних холмов. «Ладно, — убеждал я себя, — пони нуждался в отдыхе. Хорошо, что мы задержались тут на денек. Но завтра с утра — в путь». Признаюсь, только увидев садящееся солнце, я понял, что из-за нерешительности потерял день. Верно, день был приятный, но все равно он потрачен впустую. С заходом солнца вернулся король Кустеннин. Он, едва спрыгнув с лошади, бросился в зал, его волосы и плащ развевались за спиной. Ганиеда кинулась к нему, он сгреб ее в охапку и закружил. Ясно, что он в ней души не чает, да и немудрено. Других женщин я в доме не видел, значит, дочь — единственная отрада короля. От одного ее вида он веселел, как от крепкого вина. Мигом появился Гвендолау в малиновой шелковой рубахе с черным широким поясом. Штаны на нем были в сине-черную клетку, как и плащ на плече, заколотый большой витой пряжкой из серебра. Гривна на нем тоже была серебряная. Одним словом, королевский сын с головы до пят. Ганиеда вернулась ко мне, а Гвендолау с отцом отошли обсудить дела. Некоторое время они серьезно переговаривались, хмуря брови и скрестив руки на груди, стоя в уголке у очага, где жарился, шипя и брызгая жиром, вепрь. С появлением господина зал начал наполняться людьми. Многие из них приехали с Кустеннином, другие пришли на пир из поселка. Король и его сын прервали беседу, и Кустеннин вышел встречать гостей. Каждого он приветствовал отдельно, каждого ласково обнимал. «Вот человек, — подумал я, — который умеет любить друзей. Как же он относится к врагам?» — Дело хуже, чем я думала, — тихонько поведала мне Ганиеда. — Откуда ты знаешь? — Я смотрел, как король приветствует гостей, шутит, смеется, передает по кругу рога с медом: счастливый монарх встречает старых друзей, на челе его — ни тени заботы. — Знаю, — прошептала Ганиеда. — Он ничего не рассказал мне и сразу заговорил с Гвендолау, даже не выпив кубка. Смотри, он и сейчас не прикасается к питью. Видишь — берет рог и передает дальше, не пригубив. Да, вести тревожные. Ночью будет военный совет. Все было так, как она сказала. Вглядевшись внимательнее, я тоже различил среди гостей скрытый ток беспокойства. Люди говорили и смеялись, но слишком громко и нарочито. Куда я влип? И вообще зачем я здесь? И я задумался о том, что ждет меня далеко на юге. Нет, все-таки зря я задержался. Но почему? Я пробыл в фейне Сокола три года и, хотя скучал по дому, никогда не чувствовал такой спешки. Впрочем, сейчас дело иное. Я задержался исключительно ради собственного удовольствия, потому что хотел быть рядом с Ганиедой. Да и она, не высказывая этого прямо, дала понять, что хочет, чтоб я остался. Ах, Ганиеда, как же я все это помню! Мы пировали в бревенчатом парадном покое, среди света и смеха; в чаду от жареного мяса блестели глаза и гривны, среди властителей Годдеу ходили по кругу окованные золотом рога, и те пили и пили, хотя их повелитель не прикоснулся к вину. После предупреждения Ганиеды я внимательно следил за происходящим, да и не я один. Гвендолау тоже следил — трезвый и настороженный — со своего места за высоким столом. Когда с едой было покончено и вожди потребовали песню, Ганиеда взяла лиру и запела. Я удивился не тому, что она поет, потому что голос у ней был и впрямь красивый, но тому, что у богатого и могущественного владыки нет барда, а то и двух. Да он мог бы держать полдюжины придворных певцов, чтобы те возносили ему хвалы и пели о мужестве его витязей. Закончив петь, Ганиеда подошла ко мне и потянула меня за рукав. — Идем. — Я хочу видеть, что будет. — Нас это не касается. Пошли. — Разумеется, она имела в виду, что не касается меня. — Пожалуйста, — взмолился я, — давай выясним, что будет. Если на севере неспокойно, об этом стоит знать и моим родичам. Она кивнула и села рядом со мной. — Зрелище будет не из приятных. — Голос ее был жестким, как каменные плиты на полу. Почти сразу Кустеннин поднялся и раскинул руки. — Друзья и родичи! — воззвал он. — Вы пришли сегодня есть и пить за моим столом, и это славно. Король должен поддерживать свой народ, делиться с ним во дни мира, оберегать его во дни бедствий. Те, кто сидел с ним рядом, одобрительно застучали по столу кубками и рукоятками кинжалов. Я заметил, что Гвендолау исчез из-за стола. — Еще одно право короля — сурово расправляться с врагами. Наши отцы защищали свою землю и людей в тяжелые времена. Тот, кто попустил врагу вторгнуться в свой край, убивать его подданных, жечь их поля и добро, — не достоин своего имени. — Верно! Верно! — закричали вожди. — И всякий, кто обратился против сородичей, такой же враг, как морские волки на боевой ладье. При этих словах зал смолк. Огонь трещал в очаге, за стенами выл ветер. Капкану оставалось только захлопнуться, но вожди еще не осознали этого. — Лоетер! — вскричал король. — Так ли это? Я стал искать глазами того, кого он назвал. Это оказалось нетрудно — после королевских слов вокруг него образовалась пустота. — Так, повелитель, — отвечал Лоетер, узколицый верзила с брюхом, как у борова. Он беспокойно огляделся. — Ну, Лоетер, как мы наказываем тех, кто предает собственных родичей? Теперь все глаза смотрели на Лоетера. У того на лбу выступил пот. — Мы лишаем их жизни, повелитель. — Мы убиваем их, Лоетер, так? — Да, повелитель. Кустеннин мрачно кивнул и оглядел вождей. — Вы слышали, этот человек сам изрек себе приговор. Да будет так. — Что за безумие? — закричал Лоетер. Он вскочил, держась за рукоять кинжала. — Ты меня обвиняешь? — Не я тебя обвинил, Лоетер. Ты сам себя обвинил. — В чем? Я ничего не делал. Кустеннин сверкнул глазами. — Не делал? Тогда ответь, откуда золото на твоей руке? — Оно мое, — огрызнулся Лоетер. — Откуда оно взялось? — спросил Кустеннин. — Отвечай без утайки. — Мне его подарили, повелитель. — Верно, подарили. Его подарили тебе скотты! Те, что затаились у самой нашей границы, готовя новый набег. В зале поднялся крик. Ганиеда вновь потянула меня к выходу. — Идем. Но было поздно. Лоетер увидел, что все против него, и, несмотря на хмель, решил сбежать, рассчитывая на поддержку друзей. — Урбген! Гвис! Идемте, не слушайте эту ложь! — Он повернулся, вышел из-за стола и двинулся к дверям, но никто за ним не последовал. — Ты продался скоттам, взял их золото в обмен на свое молчание. Твоя алчность навредила нам всем, Лоетер. Ты больше не имеешь права быть среди честных людей. — Я им ничего не давал! — Ты указал им, где высадиться! Укрыл под своим кровом! — взревел Кустеннин. — Дети спят сегодня без матерей, Лоетер. Жены оплакивают мужей. Догорают угли и остывает зола там, где был домашний очаг. Сколько еще людей погибнет из-за тебя? — Это не я! — взвыл несчастный, бочком подбираясь к двери. — Так кто ж? Отвечай мне, Лоетер! — Да я и помыслить такого не мог, — заскулил он. — Ты продал своих родичей, Лоетер. Те, о ком я обязан печься, лежат сегодня в темных покоях смерти. — Кустеннин воздел руку и указал на длинный кинжал за поясом у предателя. — Ты пойдешь за ними, Лоетер, так я говорю, и так будет, или я уже не король Годдеу. Лоетер еще отступил к двери. — Нет! Они только просили разрешения поохотиться! Клянусь! Я собирался отдать золото тебе… — Довольно! Не унижайся дальше. — Кустеннин пошел к Лоетеру, сжимая в руке кинжал. Тот метнулся к дверям. Там был Гвендолау с двумя псами и воины по обе стороны от него. — Не убивайте меня! — завопил Лоетер. Он попятился к Кустеннину. — Умоляю, повелитель! Пощади! — Твоя смерть будет легкой, чего не скажешь о тех, кто полег по твоей вине. Мне не хватит духу сотворить с тобой то, что делают с пленными скотты. Лоетер дико взвизгнул, рухнул на колени перед королем и зарыдал. Все смотрели на них в гробовом молчании. — Пощади меня, господин, пощади… Отправь в изгнание. Кустеннин, казалось, задумался. Он взглянул на распростертого предателя, затем обернулся к собравшимся. — Что скажете, братья? Пощадить его жалкую жизнь? Он не успел договорить, как Лоетер вскочил. В руке его был кинжал. Сталь метнулась к королевской спине, но в это мгновение послышался громкий рык, и что-то черное молнией пронеслось по воздуху… Лоетер лишь раз вскрикнул, прежде чем псы порвали ему горло. Изменник рухнул на пол, но псы продолжали рвать тело, пока Гвендолау не оттащил их за ошейники. Кровь текла с их морд. Кустеннин взглянул на растерзанный труп. — Вот что принесло тебе твое золото, — печально произнес он. — Ответь мне, стоило ли оно того? Он махнул рукой, и воины, стоявшие у дверей, вытащили тело из зала. Я повернулся к Ганиеде, которая сидела рядом со мной. Глаза ее яростно сверкали в свете факелов. — Он отделался легче, чем заслужил, — тихо сказала она и, повернувшись ко мне, добавила: — Так должно быть, Мирддин. Измену надо карать, иначе ты не король.Глава девятая
— Гнусная история, — говорил Кустеннин, — и не при госте бы ей случиться. Извини, сынок, ничего нельзя было поделать. — Я все понимаю, — отвечал я. — Тебе не за что просить извинения. Великан медвежьей лапой хлопнул меня по спине. — У тебя самого царская стать. Видна кровь. Правда, что ты в последние годы жил с Обитателями холмов? — Правда. — Как же так? — искренне подивился он. — Такой смышленый малец — и не придумал, как убежать? — Я бы мог убежать, если б хотел. Но я решил остаться. — Сам решил? — Не сразу, — объяснил я, — но потом понял, что так нужно. — Зачем? Пришлось сознаться, что я и сейчас толком не знаю. — Может быть, станет ясно потом. По крайней мере, я не жалею об этом времени. Я многому научился. Он только потряс головой. В этом был весь Кустеннин — он понимал или все, или ничего. Он действовал прямо и без промедления — как в случае с предателем Лоетером. Он ценил народное уважение и во всем стремился его заслужить. — Куда теперь, Мирддин? — спросил он. — Ганиеда сказала, ты рассчитываешь до зимы оказаться в Диведе. — Там у меня друзья. Мои родичи живут еще дальше. — Ты говорил. Путь неблизкий. Я кивнул. — Погода может испортиться в любой день, и зима застанет тебя в дороге. — Тем больше причин скорей отправляться в путь, — отвечал я. — И все же я просил бы тебя остаться. Перезимуй с нами, а весной в путь-дорожку. Я не сомневался, что все это затеяла Ганиеда. Она не решилась просить меня сама и уговорила отца. — И нам будет веселее. Вот увидишь, время пролетит незаметно, — продолжал он. — Вы добры и щедры, мне жаль, что я вынужден отказаться. — Ладно, сынок, раз ты решил, то езжай, не буду тебя переубеждать. Три года вдали от дома — немалый срок. Он проводил меня до конюшни, приказал седлать моего пони и с сомнением оглядел низкорослого конягу. — Крепкий-то он крепкий, да уж больно неказист для королевского сына. На моем быстрее доедешь. Кустеннин махнул конюшему, чтоб привели одного из его скакунов. — Да, ростом пони маловаты, — сказал я, — однако очень сильны и выносливы. Что ночью, что днем, они уверенно несут своих седоков, когда другим лошадям давно потребовался бы отдых. — Я похлопал по холке мохнатого маленького конька. — Спасибо, государь, но я поеду на своем пони. — Как хочешь, — отвечал Кустеннин. — Просто я думал, если ты возьмешь моего коня, у тебя будет повод вернуться. Я улыбнулся. Снова Ганиеда? — Твое гостеприимство — вполне достаточный повод. — Не говоря уже о моей дочери, — с улыбкой добавил он. — Она и впрямь прекрасна, — сказал я. — А ее воспитание делает честь ее отцу. В этот миг появилась сама Ганиеда и сразу увидела оседланную лошадь. — Так ты уезжаешь! — Да. — Мерлин три года не был дома, — мягко заметил Кустеннин. — В плен попал еще мальчишкой, а теперь, можно сказать, взрослый мужчина. Пусть едет. Она величаво приняла отказ, хотя я видел, что она расстроена. — Ладно, но его нельзя отпускать одного. Пошли кого-нибудь провожатым. Кустеннин задумался. — Кого же ты посоветуешь? — Пошли Гвендолау, — просто отвечала она, как будто ничего естественней и быть не могло. Они разговаривали, словно меня здесь нет, но сейчас Ганиеда обернулась ко мне: — Мой брат не помешает тебе в дороге? — Нет, конечно, — отвечал я, — но это не нужно. Я найду дорогу. — А заодно и смерть в снегу, — сказала Ганиеда. — Или хуже — на острие разбойничьего копья. Я рассмеялся. — Пусть разбойники прежде меня поймают. — А ты такой ловкий? Такой неуязвимый? — Она выгнула бровь и сложила руки на груди. Будь у меня Архимедов рычаг, я все равно не сдвинул бы ее с места. Нет нужды говорить, что я тронулся позднее задуманного, зато с двумя спутниками. Гвендолау охотно согласился меня сопровождать, но сказал, что возьмет своего человека, Барама. «Чтоб не возвращаться в одиночку, если ты встретишь своих друзей». Я не мог ничего возразить на это. Лишний человек означал не только лучшую защиту, но и неизбежную задержку. Впрочем, к полудню провизию и фураж погрузили на вьючную лошадь, и мы покинули замок Кустеннина. Ганиеда стояла, выпрямившись, и не махала рукой, а просто не отводила взгляда, пока мы не скрылись из глаз.Через два дня мы въехали на старую римскую дорогу над Ардериддом. Она шла прямо, как стрела. Если не считать густого боярышника и зарослей папоротника по обочинам, не было видно никаких признаков разрушения. Римляне строили на века, чтобы их труд пережил само время. Тут мы двинулись поскорее, несмотря на начавшиеся ливневые дожди. Днем ехали под набухшим стальным небом, низвергавшим на нас потоки воды; ночью ледяной ветер качал деревья, и волки выли в холмах. Мы настолько вымокли и промерзли, что не согревались даже у костра. Гвендолау оказался прекрасным спутником и поддерживал в нас дух, насколько позволяла непогода. Он распевал нелепейшие песенки и рассказывал длинные, неимоверно запутанные истории о своих охотничьих подвигах. Послушать его — так все зверье в лесах трепещет при одном его имени. Еще он поведал, что случилось в мире, пока я был у Подземных жителей. Мне он нравился, и я не жалел, что мы едем вместе. Барам, напротив, был неразговорчив и сдержан. Он без лишних слов делал свое дело, уверенно правил лошадьми и следил за дорогой. Ничто не ускользало от его внимания, хотя, если его не спрашивать, он оставлял свои наблюдения при себе. Часто, когда мне казалось, что он с головой ушел в свои мысли, лицо его расплывалось в улыбке в ответ на балагурство Гвендолау. Вечером пятого дня мы были в Лугуваллии, который местные жители зовут Каерлигвалид, или, чаще, Каерлигал. Я предлагал проехать его быстрее и заночевать у дороги — очень уж не хотелось мешкать так близко от цели. Однако Гвендолау не пожелал об этом и слышать. — Может, ты, Мирддин, и в силах ехать без остановки, как банши, а я нет. Если я не просохну, мои кости размякнут и превратятся в кашу. Шкура уже давно размокла. Мне нужно глотнуть теплого и забраться под крышу, с которой не льет всю ночь. Короче, заворачиваем в корчму. Молчаливый Барам встал на его сторону, и мне оставалось лишь согласиться. — Ладно, будь по-вашему. Но я здесь впервые. Корчму ищите сами. — Положись на меня. — Гвендолау пришпорил лошадь, и мы галопом влетели в город. Наше появление вызвало у жителей интерес, впрочем, вполне доброжелательный. И вскоре Гвендолау, который убедил бы даже устрицу раскрыть перед ним свои створки, обзавелся полудюжиной друзей и добился того, чего хотел. Сказать по правде, путников здесь не видали давным-давно и любую новость ловили с открытым ртом. Корчма оказалась старым строением в римском стиле с большой общей комнатой, маленькими спальнями и конюшнями, которые от дома отделял чисто выметенный двор — в прежние дни сановники редко приезжали верхом. И дом, и конюшни были сухие и чистые, корма для лошадей хватало. Другими словами, место было теплое и уютное, пропахшее пивными и хлебными дрожжами. В очаге горели дрова, на вертеле жарилось мясо. Барам без единого слова шагнул к очагу, подтащил табурет и уселся, вытянув к огню длинные ноги. — Теперь, когда казармы опустели, — сказал владелец, с любопытством глядя на нас, — мы редко видим новые лица. Его собственное лицо было круглым и красным — он явно не отказывал себе в еде и питье. — Казармы опустели? — удивился Гвендолау. — То-то я вижу: у ворот никого. Но вряд ли это давно. — А я разве сказал, давно? Да будь я пиктом! Еще прошлым летом были полны-полнехоньки, да и начальства толклось, словно собак нерезаных. А теперь… — Что стряслось? — спросил я. Он оглядел меня, мою одежду — полагаю, за спиной он сложил пальцы от сглаза, — но отвечал напрямик: — Ушли, все ушли. Разве я не это говорю? Все ушли. — Куда? — спросил я. Хозяин нахмурился и закрыл рот, но не успел я задать еще вопрос, как вмешался Гвендолау: — Я слыхал, каерлигальское вино особенно хорошо в дождливую ночь. Ты, небось, и не наливал его с тех пор, как простился с легионерами? — Вино? Где ж мне достать вина? — Он закатил глаза. — Но у меня есть такое пиво, что вы про вино и думать забудете. — Так тащи! — вскричал Гвендолау. Хозяин побежал за пивом, а Гвендолау сказал мне: — Не стоит задавать слишком прямых вопросов. Мы, северяне, предпочитаем лучше узнать собеседника, прежде чем выкладывать все без утайки. Появился хозяин с тремя кружками темного пенистого пива. Гвендолау одним глотком осушил полкружки, утер рот ладонью, причмокнул губами и сказал: — А-ах, ну и пиво! Сам Гофаннон задохнулся бы от зависти. Решено, ночуем у тебя, если ты согласен. Хозяин расплылся в улыбке. — А куда вам еще податься? Да и у меня других постояльцев нет, так что мой дом — ваш дом. Кровати небольшие, но сухие. Меня зовут Каракат. Барам опустил пустую кружку на стол. — Хорошее пиво, — сказал он и вернулся на свое место у очага. — Сухие! — воскликнул Гвендолау. — Слыхал, Мирддин Вильт? Сегодня ночуем в сухости. — В долгой дороге забывается прелесть домашнего ночлега, — заметил хозяин. — Так мне по крайней мере говорили. — Отнюдь, — отвечал Гвендолау. — Мы в пути семь ночей и семь дней, и все мои мысли — о миске горячей похлебки и теплом месте у очага. Каракат подмигнул и сказал доверительно: — Женщин у меня нет, но если вы пожелаете… — Спасибо, — отвечал Гвендолау, — но сегодня я устал как собака, и женщинам мало будет от меня радости. Мы в седле с первых лучей солнца. Хозяин выразил сочувствие. — Время для путешествий неподходящее. Я сам, если бы тронулся в путь, то лишь по великой нужде. «Тебя и впрямь нелегко было бы оторвать от пивной бочки», — подумал я. Вслух же сказал: — Мы не по своей охоте. Надо думать, легионеры тоже уходили без радости. Хозяин хитро подмигнул. — Верно сказано. Уж сколько слез было пролито! Улицы затопило слезами — женщины провожали мужей и возлюбленных. — Жалко оставлять друзей и близких, — заметил Гвендолау, — но, думаю, они скоро вернутся. Они всегда возвращаются. — Только не в этот раз. — Хозяин печально покачал головой. — Нет. Это все император… — У Грациана своих дел невпроворот, так что… — начал Гвендолау. — Я разве сказал «Грациан»? Или «Валентиниан»? — фыркнул Каракат. — Я знаю одного императора — Магна Максима! — Максима! — Гвендолау выпрямился от изумления. — Его самого, — улыбнулся хозяин, гордый своей осведомленностью. — В прошлом году об эту же пору он объявил себя императором. Теперь, клянусь Цезарем, нас перестанут ущемлять. Давно пора было. Так вот о чем рассказывали мне голоса! При поддержке верных легионов Максим провозгласил себя императором Западной Римской империи и забрал с севера войска. Причина может быть только одна — он должен высадиться в Галлии, чтобы разбить Грациана. Иначе ему не удержаться. Мне стало жутко. Легионы ушли… — Вот увидишь, они вернутся, — повторил Гвендолау. Хозяин фыркнул и пожал плечами. — Да хоть бы вовсе не возвращались, лишь бы пикты нас не трогали. Мы такие стены не для собственной прихоти завели. Раскатистый храп Барама положил конец разговору. — Я вас накормлю, судари, чтобы вы могли идти спать, — сказал Каракат, торопливо направляясь в кухню. — Еда и сон. — Гвендолау счастливо зевнул. — В дождливую ночь нет ничего лучше. Похоже, Барам не стал нас дожидаться. Мы ели замечательно вкусную говяжью ляжку. Я три года не пробовал говядины и почти забыл вкус хорошо прожаренного мяса. Кроме того, Каракат принес репу, сыр, хлеб и еще темного пива из своего погреба. После еды сразу потянуло в сон — нас проводили к чистым соломенным лежанкам, мы расстелили на них плащи, устроились поудобнее и крепко проспали до утра. Проснулись мы с птицами и увидели, что кони уже оседланы. Радушный хозяин дал нам в дорогу ржаных хлебцев и проводил в путь, заручившись обещанием останавливаться только у него, если будем в Каерлигале. — Помните Караката! — кричал он вслед. — Лучший постоялый двор во всей Британии! Помните меня! Утро на удивление выдалось без дождя. Барам первым выехал в ворота, я пристроился сзади. Кроме нас Каерлигал покидали другие путники — купец и его слуги, и Гвендолау подъехал к ним обменяться новостями. Я грыз хлеб и обдумывал услышанное вчера. Итак, Максим провозгласил себя императором (или его провозгласили легионы) и теперь забрал свое войско в Галлию — забрал наше войско в Галлию. Популярное решение, судя по всему. Вот и Каракат его одобряет. Оно будет по душе многим, кто считает, что наши подати уходят неведомо на что. Да, популярное. Но губительное. Я помнил Максима. Помнил и другое — как я почувствовал тогда, что больше его не увижу. Он отважный человек, бесстрашный военачальник. Долгие годы военной службы многому его научили. На поле брани хладнокровие ему не изменит. Легионеры боготворят его. Без сомнения, они пойдут с ним до самого Рима и дальше. Разумеется, есть надежда, что император Максим сделает для нас в Галлии больше, чем военный наместник Максим мог сделать в Британии, и что замирение далеких варваров подарит мир Острову Могущественного. Слабая надежда, но и ее не стоит отвергать. Если кто и способен на такие свершения, то это Максим.
Сухая погода держалась. Дорога шла вверх, к горам, уже накинувшим зимние снеговые покровы. Мы, не теряя времени, двигались на юг. Несколько ночей подряд мы вставали на ночлег вместе с попутчиками — купцом и его слугами. Он торговал по ту сторону Вала, на западе и на востоке, а с приближением зимы заторопился назад в Лондон. Как выяснилось, он, по купеческому обыкновению, много разъезжал и торговал со всяким, кто мог предложить золото или серебро и при этом не спрашивал у них, откуда это богатство и как оно добыто. Соответственно он вел дела с пиктами, скоттами, саксами и бриттами, не делая между ними различий. Это был приятный, общительный человек по имени Обрик, он вступал в пожилой возраст с тем спокойствием, какое дает богатство. Он знал свое дело, и рассказы его внушали доверие, потому что не отдавали бахвальством и пустозвонством. Больше того, в этот год он торговал по обе стороны Вала и хорошо знал, какие войска ушли. — Я их видел, — говорил Обрик, шевеля палкой угли в костре. Вид у него был невеселый. — В Галлии дела плохи. Грациан долго не продержится, а саксы и англы уважают одну силу… силу и острие меча, да и то не всегда. Гвендолау долго обдумывал его слова, потом спросил: — Сколько он взял с собой войска? Обрик покачал головой. — Довольно… даже слишком. Весь гарнизон Каерсегойнта, войска из Эборака и Города Легионов на юге. Семь тысяч, а то и больше. Слишком много, как я сказал. — Ты говоришь, что видел, как они уходили, — спросил я. — Как же так получилось? — Я не глух и не слеп. — Он пожал плечами, потом улыбнулся. — И сплю вполглаза. Но в любом случае это не тайна. Почти все, с кем я имел дело, рвались в Галлию. Их мысли были полны грядущей добычей — кому-то мерещились чины, кому-то золото. Они и покупали: подарки своим женщинам, всякую мелочь в дорогу. Я и прежде видал, как они уходят, — это всегда одинаково. И уж будьте уверены, пикты проведали об этом. Уж не знаю, откуда — я им не говорил, — но проведали. — И что они? — Кто знает? — Но они осмелеют? — Они и без того всегда готовы напасть. — Обрик потыкал палкой в огонь. — Однако, когда я сказал вам, что больше не поеду так далеко на север, я говорил правду. Вот я в этом году и задержался подольше. Нет, больше я сюда не вернусь. Максим переправился в Галлию, забрав войска, и врагу это известно. Даже в лучшие времена только легионы и сдерживали пиктов, а сейчас время отнюдь не лучшее. Гвендолау знал это не хуже меня. Осознав, чем это чревато, он помрачнел лицом. — Как ты можешь с ними торговать? — со злобой спросил он и, переломив палку, швырнул ее в костер. — Ты же знаешь, какие они. Обрику такие слова были не внове. Он смиренно улыбнулся. — Они люди. У них есть нужды. Я продаю товар тем, кто готов его купить. Не дело купца решать, кто друг, а кто враг. Половина племен на этом паршивом острове воюет с другой половиной. Союзы заключаются и расторгаются по два раза на дню. — Вот насадят твою голову на кол, а шкуру прибьют к воротам, тогда узнаешь, кто тебе друг. — Если они убьют меня, то уничтожат единственный источник соли, меди и тканей. Живой я гораздо нужнее. — Он похлопал рукой по кожаной мошне на боку. — Серебро есть серебро, золото есть золото. Я продаю тому, кто готов купить. Гвендолау эти слова не убедили, но вслух он ничего не сказал. — Я долго был на севере, — сказал я, — и с благодарностью выслушал бы новости с юга. Обрик прикусил губу и поворошил уголья в костре. — Ну, юг, как всегда. Здоровый. Сильный. Были, конечно, набеги, без них никогда не обходится. — Он помолчал, припоминая, потом сказал: — В прошлом году в Лондоне собирался совет — несколько королей, лордов и магистров съехались обсудить свои проблемы. Их принял правитель и викарий, хотя тот давно выжил из ума и, говорят, все время спит. — Что-нибудь решили? Обрик хохотнул и помотал головой. — Решить-то решили! — Так что же? — Что хорошо бы Рим присылал больше денег на содержание войск, а император сам приехал взглянуть, как тут плохо и опасно, людей бы нам побольше и оружия, да еще новых сторожевых башен на юго-восточном побережье, да восстановить укрепления вдоль Вала, да построить боевые корабли… Короче, вот бы с неба год и один день сыпались динарии. — Торговец вздохнул. — Дни Рима миновали. Не жди помощи с Востока, сынок, наша Мать-Империя нас больше не любит.
На третий день мы въехали в Мамикий, заброшенный поселок на развилке дорог. Одна вела на запад в Дэву, другая изгибалась на юго-восток к Лондону. Здесь мы простились с купцом Обриком и направились в Гвинедд. Мы должны были добраться за шесть дней, но ехали много дольше, и то диво, что доехали, а не сгинули в горах под ледяными ливнями. Однако спутники мои не проронили ни слова жалобы. Спасибо им. Хотя со мной их послала Ганиеда, я все равно считал себя в ответе за их жизнь и здоровье. В Дэве, бывшем северном Городе Легиона, мы спросили о моих родичах. Никто не слышал о пропавшем мальчике или о том, чтобы его искали. Мы купили еды и продолжили путь в горы, забирая на юг к Диганви и Каерсегойнту. Так было дальше от Ир Виддфа, зато дорога лучше, и по пути можно было заглядывать в извилистые лощины и балки. В девяти днях езды от Дэвы нас застал снег. Мы выжидали в ложбине у ручья, пока не распогодилось. Однако к тому времени, как вновь проглянуло солнце, снег был лошадям по бабки, и Гвендолау объявил, что дальше искать бесполезно. — Мы никого не найдем до будущей весны, Мирддин. Да и что толку искать, они уже дома. Мне пришлось согласиться. — Ты наверняка знал, что этим все кончится. Зачем же поехал со мной? На губах его мелькнула улыбка. — Честно? — Конечно. — Ганиеда попросила. — Ты поехал ради нее? — И ради тебя. — Почему? Я тебе никто — чужак, проведший одну ночь под кровом твоего отца. Глаза его весело сверкнули. — Ганиеда так не считает. Ладно, я все равно бы поехал, если б отец сказал. А теперь, когда лучше тебя узнал, то рад, что так получилось. — Но уж теперь ты свободен. Дальше я поеду один. Может, ты еще успеешь вернуться домой до… Гвендолау мотнул головой и хлопнул меня по спине. — Поздно, братец Мирддин. Надо ехать дальше. Слыхал я, на юге снега поменьше, хочу проверить, правду говорят или врут. Откровенно говоря, мне самому не хотелось продолжать путь в одиночестве, так что я согласился. Еще до вечера того же дня мы повернули коней на юг и больше не оглядывались. Довольно будет сказать, что путь в Маридун ничуть не напоминал поездку трехлетней — неужели только трехлетней? Мне казалось, полжизни прошло! — давности. Мучениям нашим не было конца. Никто — ни римляне, ни бритты — не проложил дорог по диким просторам Камбрии. Мы вскоре потеряли счет времени. Иногда целый день уходил на то, чтобы пересечь заснеженную долину или подняться на одинокий, обмерзший водораздел. Дни стали короче, мы по большей части ехали в темноте под ледяным, пробирающим до мозга костей дождем. Неунывающий дух Гвендолау помогал продолжать путь и тогда, когда мы с Барамом готовы были сдаться от холода и усталости. И хотя горные перевалы занесло снегом, нам удалось отыскать объездной путь и пробиться-таки в Дивед, край, населенный деметами. Никогда не забуду наш въезд в Маридун. Город блестел под свежевыпавшим снегом, черные деревья тянули к серому небу тощие ветви. Смеркалось, воздух уже искрился и голубел. Однако в душе моей пылал яркий костер, ибо я вернулся; спустя три года все-таки вернулся. Я надеялся, что Мелвис окажется в городе. Я понимал, что и без него меня встретят с радостью, но очень хотел его видеть, чтобы спросить про мать и друзей, узнать, что случилось в мое отсутствие. Мы проехали по пустым городским улицам и по дороге к вилле. На свежем снеге уже отпечатались следы лошадиных копыт, так что мы не удивились, увидев во дворе коней. Когда мы подъезжали, из дома как раз вышли слуги с факелами, чтобы их расседлать и отвести в конюшню. Мы спешились и окликнули слуг. — Мы приехали издалека повидаться с лордом Мелвисом, — сказал я. — Он дома? Слуги подошли и, подняв факелы, принялись разглядывать нас. — Кто его спрашивает? — Скажите, что Мирддин здесь. Слуги переглянулись. — Мы тебя знаем? — Вы, может, и не знаете, а Мелвис знает. Скажите, что сын Талиесина просит разрешения его видеть. — Мирддин ап Талиесин! — Глаза у слуги округлились. Он пихнул в бок товарища. — Бегом! Последовало неловкое молчание, пока мы ждали возвращения посланного. Тот так и не вернулся, потому что двери распахнулись и во дворхлынул людской поток. Впереди всех бежал Мелвис. На мгновение он замер, глядя на меня. — Мирддин, мы тебя ждали… Он схватил меня руками за плечи, и я увидел слезы в его глазах. Я ждал дружеской встречи, но чтобы король Диведа при виде меня заплакал от радости… Это превосходило все мои ожидания. Я не знал, что и думать. Я и видел-то его всего один раз. — Мерлин… Толпа любопытных расступилась, и Мелвис шагнул в сторону. Имя это произнесла Харита. Она стояла, озаренная светом из дверей, высокая, царственная, в тонкой золотой гривне, с волосами, заплетенными в косу, как это делают благородные женщины у деметов. На ней было длинное шелковое платье и богато расшитый голубой плащ. Никогда на моей памяти она так не походила на королеву. Она шагнула ко мне, раскрыла объятия, и я упал ей на грудь. — Мерлин… ой, соколик мой, сынок… как же долго… как же долго я ждала… — Ее теплые слезы капали мне на шею. — Мама… — У меня в горле и глазах тоже стояли слезы — я и надеяться не смел встретить ее здесь. — Мама… я хотел вернуться быстрее, я бы вернулся… — Ш-ш-ш, не сейчас. Ты здесь и цел… цел… Я знала, что ты вернешься. Знала, что сумеешь добраться… и вот ты здесь… здесь, мой Мерлин. — Она положила руку мне на щеку и нежно поцеловала, потом схватила мою руку. Казалось, кроме нас, никого во дворе нет. — Идем. Согрейся. Есть хочешь, сынок? — Мы почти не ели последние два дня. Мелвис подошел ближе. — В доме есть дичь, и хлеб, и мед. Все сюда, заходите! Выпьем за возвращение Мерлина! А завтра устроим пир! Нас увлекли в зал. Здесь было светло от факелов, пламя ревело в очаге, столы были накрыты, и трапеза уже началась. Быстро приготовили еще стол и внесли блюда. Мама крепко держала меня за руку, и тревога долгих месяцев рассеивалась под лучами радости, в то время как домашнее тепло согревало замерзшие кости. Не забыли и о Гвендолау и Бараме. Я о них не тревожился — они легко смешались с людьми Мелвиса. И впрямь, мне было так хорошо, что я почти совсем позабыл о них. Старый Пендаран, отец Мелвиса, встал мне навстречу с кресла-трона и сказал: — Как я погляжу, странствия пошли тебе только на пользу. Вид у тебя здоровый, ты строен, силен и ясноглаз, что твой тезка кречет. Зайди ко мне попозже, покалякаем. Было не похоже, что мама отпустит меня от себя хоть на миг сегодняшним вечером, да и в ближайшие дни. Однако я обещал ему, что мы скоро поговорим. — Мне многое надо было сказать тебе, Мерлин, — промолвила Харита, — но сейчас, когда ты здесь, у меня все вылетело из головы. — Мы вместе. Все остальное неважно. Мне подали огромное блюдо с мясом и хлебом и рог с медом. Я отхлебнул теплого питья и принялся за еду. — Ты вырос, сынок. Последний раз, когда я тебя видела… — Голос Хариты сорвался, она опустила глаза. — Ешь. Ты голодный. Я столько ждала, подожду и еще немного. Несколько раз откусив, я забыл про голод. Мать смотрела на меня, как будто никогда прежде не видела. — Я что, так изменился? — И да, и нет. Верно, ты уже не тот мальчик, но ты мой сын, и для меня всегда будешь одинаков, что бы ни случилось. — Она стиснула мою руку. — Как хорошо, что ты снова со мною. — Если б ты знала, сколько раз за последние три года я думал об этой минуте… — А если б ты знал, сколько ночей я провела без сна, думая о тебе, о том, где ты, что поделываешь… — Я плакал, когда думал, как ты тревожишься. Молился, чтобы хоть как-нибудь передать тебе весточку. Вот почему, когда Элак увидел наших людей в долине, я послал одежду и сломанную стрелу. Я хотел, чтоб это был знак. — Да, и я приняла его как подтверждение. Я знала, что ты жив и здоров… — Откуда? — Я точно так же узнала бы, если бы ты страдал от раны или погиб. Думаю, у каждой матери есть такая способность. Я почувствовала, когда принесли одежду, хотя мне сперва не хотели ее показывать. Они решили, что банши тебя убили, а теперь издеваются над твоими друзьями. Я знала, что это не так и что у тебя есть важные причины поступить именно таким образом. — Она помолчала и вздохнула. — Что стряслось, Мерлин? Мы вернулись за тобой. Искали. Нашли бурдюки для воды, нашли место, где ты сидел в тумане… Что случилось? И я начал рассказ о том, что случилось после той странной ночи. Я говорил, а она ловила каждое слово, и расстояние в три года постепенно сжималось в ничто, так что под конец мне стало казаться, что я никуда не пропадал. Наверно, мы проговорили заполночь, потому что когда я кончил, то увидел, что все разошлись, факелы коптят и в очаге догорают алые уголья. — Я рассказывал всю ночь, — сказал я, — а ведь еще так о многом надо поговорить. — А мне бы только слушать и слушать. Но я не думаю о тебе, а ты ведь устал с дороги. Идем, тебе надо отдохнуть. — Она наклонилась и надолго заключила меня в объятия. — Сколько раз я об этом мечтала! Мы встали, и она повела меня в приготовленный покой. Я еще раз поцеловал ее. — Я люблю тебя, мама. Прости, что заставил столько мучиться. Она улыбнулась. — Доброй ночи, Мерлин, сынок. Я люблю тебя и рада, что ты вернулся. Я вошел в спальню и уснул как убитый.
Глава десятая
Мелвис сдержал обещание: на следующий день был пир, да какой! Сразу после завтрака слуги начали украшать зал. Мы с Мелвисом и Харитой сидели в креслах у очага и говорили о том, что случилось в мое отсутствие. Вдруг двери распахнулись и с заснеженного двора вбежали смеющиеся служанки с охапками остролиста и зеленого плюща. Они тут же принялись сплетать зеленые гирлянды и развешивать их по стенам — над дверьми и на креплениях для факелов. Веселая девичья болтовня мешала разговору. Я спросил, в чем дело, Мелвис ответил со смехом: — Ты забыл, какой сегодня день? — Ну, недавно был солнцеворот… а что за день? — Ну как же, Рождество. У нас дома вошло в обычай справлять церковные праздники. Сегодня отмечаем твое возвращение и рождение Спасителя. — Да, — подтвердила Харита. — Кстати, тебя ждет приятная неожиданность: Давид приедет служить обедню. То-то он обрадуется! Он непрестанно о тебе молился. — Давид приедет сюда? — удивился я. — Но это же очень далеко. Он может и не добраться. Мелвис ответил: — Не так и далеко. Он начал строить монастырь в полудне езды отсюда. Так что он здесь будет.. — Так церковь в Инис Аваллахе опять заброшена? — Мне стало грустно. Я любил маленький круглый храм с узким крестообразным окном. В нем обитала святость: стоило ступить под его свод, как на душу нисходил мир. Харита помотала головой. — Отнюдь. Там теперь Коллен и с ним еще двое монахов. Мелвис подарил Давиду землю для строительства церкви здесь и аббатства неподалеку. — Работы почти закончены, — гордо объявил Мелвис. — К весеннему севу начнут собираться его чада. Мелвис и Харита обменялись взглядами. Король встал. — Прости меня, Мирддин, я должен заняться подготовкой к вечернему торжеству. — Он помолчал, потом широко улыбнулся, глядя на меня. — Господи, как же приятно тебя видеть — ты так похож на отца. С этими словами он поспешил прочь. — Он нам друг, Мерлин, — заметила мама, провожая его взглядом. Я ничуть в этом не сомневался. Но ее слова звучали как оправдание. — Да, конечно, — сказал я. — И он любил твоего отца… — Голос ее изменился, стал тихим, почти виноватым. — Тоже верно. — Я пристально глядел ей в лицо, пытаясь понять, к чему она клонит. — Мне не хватило духу его обидеть. Пойми. И еще, сознаюсь, мне было одиноко. Тебя не было так долго… Я пробыла здесь первую зиму после того, как ты пропал… это было естественно, и Мелвис так радовался… — Мама, что ты хочешь сказать? — На самом деле я уже догадался. — Мы с Мелвисом в прошлом году поженились. — Она смотрела на меня, чтобы понять, как я среагирую. При ее словах у меня возникло странное чувство, что все это уже было или что я знал это заранее. Может быть, я догадался в ту ночь, когда увидел их в языках пламени Герн-и-фейн. Я кивнул, ощущая стеснение в груди, вслух же произнес: — Да, понимаю. — Он так этого хотел. Я не могла его оттолкнуть. Из-за меня он не женился в надежде когда-нибудь… — Ты счастлива? — спросил я. Она ненадолго замолчала. — Мне хорошо, — сказала она наконец. — Он очень меня любит. — Ясно. — И все-таки в этом тоже есть счастье. — Она отвела глаза и голос ее сорвался. — Я по-прежнему люблю Талиесина и всегда буду любить. Но я не предала его, Мерлин, пойми. В некотором смысле я осталась верна твоему отцу. Я вышла замуж не ради себя, а ради Мелвиса. — Можешь не извиняться передо мной. — Хорошо, когда кто-то тебя любит, даже если ты не можешь сполна ответить на эту любовь. Мелвис мне приятен, однако сердце мое навсегда принадлежит Талиесину. Мелвис понимает. — Она кивнула, чтобы подчеркнуть свою мысль. — Я говорила, он хороший человек. — Знаю. — Ты не сердишься? — Она вновь повернулась ко мне, впилась глазами в мое лицо. Ее волосы блестели в мягком зимнем свете, на лице читалось сомнение. Наверное, решение далось ей нелегко, но я чувствовал, что она поступила правильно. — Как я могу сердиться? То, что приносит такое счастье, не может быть дурным. Пусть умножится любовь — разве не так говорил Давид? Она печально улыбнулась. — Ты говоришь, как Талиесин. Он сказал бы в точности то же самое. — Она опустила глаза, и меж ресниц просочилась слезинка. — Ой, Мерлин, иногда мне так его не хватает… так не хватает. Я взял ее за руку. — Расскажи мне про Летнее царство. Она подняла глаза. — Пожалуйста, я так давно не слышал про него от тебя. Мне хочется послушать, как ты произносишь эти слова. Она кивнула, выпрямилась в кресле, закрыв глаза, в молчании подождала, пока вернутся воспоминания, и начала рассказ, знакомый с младенчества. — Есть земля, сияющая добротой, где каждый защищает достоинство брата, как свое собственное, где забыты нужда и войны, где все народы живут по одному закону любви и чести. Это земля, светлая истиной, где слово — единственная порука, где нет лжи, где дети спокойно спят в материнских объятиях, не ведая страха и боли. Это страна, где цари вершат правосудие, а не разбой, где любовь, доброта и сострадание изливаются, как река, где чтят добродетель, истину, красоту превыше довольства или корысти. Земля, где мир правит в сердцах людей, где вера светит, словно маяк, с любого холма, а любовь, подобно огню, горит в любом очаге, где все поклоняются Истинному Богу и соблюдают Его заповеди… Есть золотое царство света, сын мой. Имя ему — Летнее царство.Мы с Мелвисом надели теплые шерстяные плащи и поехали в Маридун, где он встречался с жителями, заходил в их дома, раздавал золотые и серебряные монеты вдовам и беднякам. Он давал не как иные господа — в надежде на будущие выгоды, но из заботы о нуждающихся и по собственному благородству. И каждый призывал на него благословение Того Бога, Которому поклонялся. — При рождении меня нарекли Эйддон Ваур Врилик, — сказал он мне на обратном пути, — однако твой отец дал мне имя, которое я ношу теперь: Мелвис. То был величайший дар в моей жизни. — Я прекрасно помню, — сказала моя мать. — Мы только что приехали в Маридун… — Он пел, как никто на моей памяти. Если б я только мог передать это тебе, Мирддин: внимая ему, душа раскрывалась к небесам, и дух, свободный, парил с орлами или носился с оленями. Его песня была ответом на все безымянные томления души, вкусом мира и радости, который не передать словами. Ах, если бы ты слышал его, как я! Я преподнес ему золотую цепь или что-то в таком роде, а он в благодарность дал мне имя: «Встань, Мелвис, — сказал он. — Я узнал тебя». Я ответил, что меня зовут иначе, и он сказал: «Сегодня ты Эйддон Щедрый, но придет день, и люди назовут тебя Мелвисом, Благороднейшим». Так и стало. — Вот уж воистину. Пусть он дал тебе имя, но заслужил ты его сам, — сказал я. — Ах, если б ты его знал, — произнес Мелвис. — Вот что я подарил бы тебе, будь это в моих силах. Остаток пути до виллы мы проделали в молчании, не потому что загрустили, просто думали о прошлом и о событиях, которые соединили нас всех. Короткий зимний день ненадолго вспыхнул золотом меж голых черных ветвей и погас совсем. Когда мы въезжали во двор, несколько людей Мелвиса как раз вернулись с охоты. Они были в холмах с утра и загнали оленя. С ними оказались Гвендолау и Барам, чему я нимало не удивился. Я вспомнил, что забыл представить друзей, и мне стало стыдно. — Мелвис, Харита, — начал я, как только они подъехали, — вот кого надо благодарить за то, что я добрался живым… В этот миг я увидел мамино лицо и похолодел. — Мама, тебе плохо? Она застыла, как в столбняке, и часто, порывисто дышала. Я коснулся ее руки. — Мама? — Кто вы? — выговорила она странным, неестественным голосом. Гвендолау успокаивающе улыбнулся и повел было в воздухе рукой, но так и не завершил жеста. — Простите меня… — Скажи мне, кто вы! — потребовала Харита. Кровь отхлынула от ее лица. Мелвис открыл рот, чтобы вмешаться, смутился и взглянул на меня, ища поддержки. — Мы должны были убедиться наверняка, — отвечал Гвендолау. — Прости, госпожа, мы не хотели тебя обидеть. — Просто скажи, — повторила Харита хрипло, почти угрожающе. — Я Гвендолау, сын Кустеннина, сына Мейрхиона, короля Скафы… — Скафа… — Она медленно, ошеломленно тряхнула головой. — Как давно я не слышала этого имени… Скафа… Откуда-то из глубин моей памяти всплыло: одно из Девяти Царств погибшей Атлантиды. Вспомнились и другие рассказы Аваллаха. В Великой войне Мейрхион принял сторону Аваллаха и Белина. Он помог Белину захватить корабли Сейтенина — те самые, на которых уцелевшие атланты добрались до каменистых берегов Острова Могущественного. Как же это я, выросший среди Дивного Народа, не узнал своих сородичей в Годдеу? О, я что-то почувствовал — самый звук их речи вызывал смутное ощущение чего-то домашнего и одновременно недоумение: как я сюда попал? Нет, я должен был догадаться. — Мы не хотели обманывать тебя, царевна Харита, — объяснил Гвендолау. — Но мы должны были убедиться. Когда мой отец услышал, что Аваллах жив, что он здесь… ну он захотел проверить. Надо было выяснить, что и как. — Мейрхион, — прошептала Харита. — Я и подумать не могла… мы и ведать не ведали… — Мы тоже, — молвил Гвендолау. — Мы много лет прожили в лесу сами по себе. Отец родился здесь, я тоже. Я не знаю другой жизни. Когда появился Мирддин, мы подумали… — Он не закончил мысль. — Но мы должны были проверить. У меня голова шла кругом от значимости услышанного. Если Мейрхион с частью спутников уцелел, то сколько еще атлантов могло спастись? Гвендолау продолжал: — Увы, дед долго не протянул — умер вскоре после высадки на остров. И многое другие тоже — тогда и в последующие годы. — Так и у нас, — отвечала Харита, смягчаясь. Они снова замолкли и просто глядели друг на друга, словно на призраков погибших друзей. — Тебе надо будет съездить к Аваллаху, — сказала Харита наконец. — Весной, как только наладится погода. Он непременно захочет с тобой повидаться. Я сама тебя отвезу. — Сочту за честь, госпожа, — учтиво отвечал Гвендолау, — и обещаю, что мой отец в долгу не останется. Заговорил молчавший до сих пор Мелвис: — Вы были желанными гостями и вчера, но сегодня как родичи моей жены желанны вдвойне. Поживите у нас, друзья, пока мы не сможем все вместе отправиться в Инис Аваллах. Как же удивительно встретить соотечественников, когда уже давно смирился с утратой родины! В этом странном чувстве соединились радость и боль. Конюхи подошли забрать лошадей, мы спешились и направились к дому. Поднимаясь по наклонному скату к входу, я заметил, как похожи Гвендолау и Барам на жителей Инис Аваллаха и Ллионесса. Они во всем напоминали придворных Аваллаха. Я дивился своей слепоте, но потом решил, что, возможно, проглядел сходство, потому что мне не дано было его увидеть. Может быть, их истинный облик был от меня скрыт. Мысль эта еще долго преследовала меня. Другая неожиданность подстерегала в зале. Мы гурьбой вошли в сияющий факелами и ситовыми светильниками дом. Посреди зала стоял со свечами в руках старый Пендаран. Он беседовал с человеком в длинном темном плаще, а вокруг суетились слуги. Вместе с нами в зал ворвался порыв холодного ветра, и беседующие оглянулись. — Давид! Священник перекрестился, сложил руки в благодарственной молитве и раскрыл мне объятия. — Мирддин, ох, Мирддин, хвала Иисусу! Вернулся… дай-ка взглянуть на тебя, сынок… Господи, да как же ты вырос! Взрослый мужчина. Слава благому Богу, что ты вернулся невредимым. — Он широко улыбнулся и хлопнул меня по спине, словно желая убедиться, что я живой человек из плоти и крови. — Я как раз ему рассказывал, — вмешался Пендаран, — вот в эту самую минуту. — Я вернулся, Давид, друг мой. — Дай-ка на тебя глянуть, сынок. Господи милостивый, да на тебя и посмотреть приятно. Странствия не причинили тебе вреда. — Он перевернул мою руку, потер ладонь. — Твердая, что твой камень. Да еще в волчьей шкуре. Где ты был, Мирддин? Что с тобой стряслось? Когда я услышал, что ты потерялся, у меня словно сердце вырвали. Что мне такое Пендаран начал рассказывать о Подземных жителях? — Ты заслуживаешь самого подробного рассказа, — отвечал я. — Так что тебе предстоит выслушать все. — Только не сейчас, — промолвил Давид, — надо готовиться к литургии… — И к пиру, который за ней последует… — вставил Пендаран, с детской радостью потирая руки. — Скоро поговорим, — пообещал я. Давид устремил на меня сияющий взор. — Какая же радость снова тебя видеть. Воистину, Бог милостив. Не помню, чтобы кто-нибудь так служил, как Давид в эту рождественскую ночь. Он весь, словно маяк, излучал доброту и любовь, воспламеняя паству духом истинного служения Богу. Зал был украшен плющом и остролистом, светильники горели, как звезды, бросая вокруг отблески, нас окружало тепло, окутывала любовь, радость изливалась и текла от одного к другому. Прочитав Слово Божие, Давид поднял лицо и раскрыл нам руки. — Радуйтесь! — возгласил он. — И паки реку, радуйтесь! Ибо Царь Небесный царит над нами, и имя ему — Любовь. Я расскажу вам о любви: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает и не слабеет, хотя всякий дар Божий приходит к концу, любовь же не прекратится. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше». И с этим словами он призвал нас вкусить хлеба и вина — Тела и Крови Христовых. Мы спели псалом, и Давид сказал: — Послушайте, написано: где двое или трое собрались во имя Его, там и Христос с ними. Сегодня Он с нами, друзья. Ощущаете ли вы Его присутствие? Чувствуете любовь и радость, которые Он принес? Мы и впрямь чувствовали: не было в зале ни одного, кто не ощутил бы присутствие Бога. И многие, слышавшие мессу, уверовали в Спасителя. «Вот, — думал я, — основание, на котором встанет Летнее Царство. Вот раствор, который скрепит его стены». На следующий день Давид повез меня смотреть новую церковь. Всю дорогу мы разговаривали. Был ясный зимний денек, когда весь мир искрится, как только что сотворенный. Высокое чистое небо сияло голубизной, словно хрупкое птичье яйцо. В безоблачной шири кружили орлы, в зарослях бузины вышагивали куропатки. Дорогу перебежал чернохвостый лис с фазаном в зубах. Он остановился и опасливо взглянул на нас, прежде чем исчезнуть в березняке. Пар изо рта серебрился в морозном воздухе. Я рассказывал, как жил у притани. Давид зачарованно качал головой. Наконец доехали до церкви — квадратного бревенчатого здания на каменном основании. Место для нее выбрали возвышенное. Острую крышу покрывала солома, скаты доходили почти до земли. За церковью бил родник, так что образовалось небольшое озерцо. Два оленя, пришедшие на водопой, при нашем появлении скрылись в зарослях. — Вот моя первая церковь, — гордо объявил Давид. — Первая из многих. Ах, Мирддин, как же тучны здешние нивы — люди всем сердцем стремятся к Слову. Знаю, Господь наш Иисус Христос избрал Себе этот край. — Аминь, — отвечал я. — Да приумножится свет. Мы спешились и вошли. Внутри пахло, как в любом новом доме: стружкой, соломой, строительным раствором. Мебели не было, только стоял деревянный алтарь со сланцевой плитой наверху, да на стене над ним висел вырезанный из каштана крест. На алтаре в золотом подсвечнике (явно из дома Мелвиса) горела единственная восковая свеча, а перед алтарем лежала шерстяная подушечка, на которой Давид преклонял колени во время молитвы. Света не было — узкие окна в боковых стенах закрыли на зиму промасленными шкурами. Храм напоминал тот, что в Инис Аваллахе, но был гораздо больше: Давид ожидал, что его небольшая паства будет расти, и строил в расчете на это. — Хорошее место, Давид, — сказал я. — На востоке церкви гораздо больше, — промолвил он. — Говорят, у некоторых золотые крыши и резные колонны из слоновой кости. — Возможно, — отвечал я. — Но есть ли у них священники, которые могут, как ты, привлекать сердца словами о мире и радости? Он весело улыбнулся. — Не бойся, Мирддин, я не стремлюсь к золоту. — Он раскинул руки и медленно повернулся. — Здесь мы начинаем, и это хорошее начало. Предвижу время, когда на каждом холме будет часовня и в каждом городе — церковь. — Мелвис сказал, ты строишь еще и монастырь. — Да, неподалеку отсюда, чтобы и жить по отдельности, и видеться часто. Начнем с шести братьев, они приедут из Галлии по весне. Тогда и работа пойдет быстрее. Но главное — школа. Если мы хотим насадить на этом острове Истину, надо учить. Нужны книги и учителя. — Прекрасный сон, Давид, — сказал я. — Это не сон, а предвидение. Я знаю, Мирддин, так и будет. Мы еще немного поговорили, потом вышли прогуляться по нетронутому снегу до озерца. У меня возникло предчувствие, что это неспроста: под ложечкой засосало, голова стала пустой. Мы подошли к кустам у озерка возле того места, где олени, чтобы напиться, разбили тонкую корочку льда. Кусты — три невысоких орешины — скрывали за собой дубовый столбик с привязанной крест-накрест перекладиной. Я долго стоял и смотрел на земляной холмик под снегом, прежде чем обрел голос: — Хафган? Давид кивнул. — Он умер прошлой весной. Мы только-только заложили фундамент. Он сам выбрал это место. Я осел на колени прямо на снег и ничком растянулся на могиле. Земля была холодная, холодная и жесткая — тело моего наставника лежало глубоко в промерзшей земле. Не для него кромлех и курган — его кости покоятся в земле, посвященной иному Богу. Снег таял там, куда падали мои слезы. «Прощай, Хафган, друг мой, да будет легким твой путь. Великий Свет, упокой его душу и покрой ее Своей любящей добротой. Он честно служил Тебе тем светом, который нес в себе». Я встал и стряхнул снег с одежды. — Он мне не рассказывал, — промолвил Давид, — но я понял, что у вас что-то случилось по дороге в Гвинедд и это его огорчило. Да, еще бы ему было не огорчиться! — Он надеялся привести к Истине Ученое Братство, но они отказались. Как архидруид, он, полагаю, увидел в этом непочтение к его власти и открытый бунт. Они повздорили, и он распустил Ученое Братство. — Я предполагал что-то в таком роде. Когда он вернулся, мы много с ним говорили… — Давид тихо рассмеялся… — о самых темных богословских вопросах. Он хотел знать все про Божию милость. — Судя по тому, что он лежит в освященной земле, ответ все-таки сыскался. — Он сказал, чтобы его похоронили здесь, не потому, мол, что в церковной земле костям будет покойнее, но в качестве знака, дабы все видели его верность Господу Иисусу. Я думал, он захочет лежать в Каеркеме, среди соплеменников, но он был непреклонен. «Слушай-ка, брат-священник, — сказал он, — дело не в земле: глина есть глина, и камень есть камень. Просто я хочу, чтобы те, кто будет меня искать, нашли меня здесь». И мы исполнили его волю. Это было очень похоже на Хафгана. Я легко мог представить, как он произносит эти слова. Значит, он не умер в Гвинедде, как собирался. Может быть, после стычки с друидами он изменил решение. — Как он умер? Давид недоуменно развел руками. — Его смерть — загадка для меня, да и для всех остальных. Он был здоров и весел — я видел его у Мелвиса, мы поговорили и выпили. На следующий день он скончался, говорят, во сне. Он пел у Мелвиса после ужина, потом сказал, что утомился, и ушел в свою комнату. На следующее утро его нашли в постели уже остывшим. — Он умер с песней на устах, — прошептал я. — Да, кстати! — воскликнул Давид. — Он кое-что для тебя оставил. Я на радостях чуть не позабыл. Идем. Мы вернулись к церкви, при которой у Давида была своя комнатка. Тростниковая лежанка, застеленная овчиной, стол и табурет у очага, плошка и котелок — вот и все его пожитки. В углу у лежанки стояло что-то, завернутое в ткань. Я сразу понял, что это. — Хафганова арфа, — сказал Давид, поднимая и протягивая ее мне. — Он просил сберечь ее до твоего возвращения. Я взял такой любимый инструмент и с благоговением развернул. Дерево тускло блеснуло в слабом свете, струны легонько загудели. Хафганова арфа… сокровище. Сколько раз на моей памяти он касался ее перстами! Сколько раз я сам играл на ней, покуда учился! Это едва ли не первое, что я о нем помню: длинная закутанная фигура у очага, склоненная над арфой, из которой льется в ночь живая и волшебная музыка. Или еще: он стоит в королевском чертоге, смело ударяет по струнам и поет о великих деяниях и великих ошибках, славе, надеждах и муках витязей нашего народа. — Он знал, что я вернусь? — Ни минуты не сомневался. Сказал: «Отдай Мирддину, когда вернется. Ему нужна будет арфа, я всегда хотел, чтоб она досталась ему». «Спасибо, Хафган. Ты бы удивился, узнав, когда и где я играл на твоей арфе». Мы вернулись на виллу как раз к обеду. Мама и Гвендолау увлеченно беседовали, не видя и не слыша ничего вокруг. Мелвис и Барам ели в обществе двух подвластных Мелвису вождей из северной части страны. — Садитесь с нами, — позвал Мелвис. — Есть новости из Гвинедда. Один из вождей, смуглолицый, с короткими черными волосами и бронзовой гривной на шее (его звали Тегур) сказал: — Мои родичи с севера сообщили, что некоего Кунедду поставили королем в Диганви. Барам подался вперед, но ничего не сказал. — То есть как поставили? — не понял я. — Император Максим отдал ему эти земли, — прямо отвечал Тегур. — Вроде бы как для защиты. Прямо так и отдал в вечное владение ему и его племени. — Большая щедрость со стороны нашего императора, — заметил Мелвис. — Щедрость и глупость. — Тегур сильно тряхнул головой, показывая, что думает об этом решении. — Земля пустовала, и это плохо. Кто-то должен на ней жить — хотя бы для того, чтобы сдерживать ирландцев, — указал я. — Кунедда сам ирландец! — взорвался Тегур. Второй вождь плюнул и вполголоса ругнулся. — И теперь он у нас под боком! — Не может быть, — проговорил Барам. — Если так, это плохо. В скупой речи Барама звучала непреложная уверенность. — Вы его знаете? — спросил Мелвис. — Знаем. — И знаете о нем что-то дурное? Барам мрачно кивнул, но ничего не сказал. — Говори, — потребовал Тегур. — Сейчас не время держать язык за зубами. — Мы слышали, у него три жены и выводок сыновей. — Верно сказано, выводок! — зло рассмеялся Барам. — Змеиный выводок, так будет еще точнее. Кунедда пришел на север много лет назад и захватил там земли. С тех пор от него одни неприятности. Да, мы его знаем и не питаем любви ни к нему, ни к его сынкам. — Так для чего же Максим поселил его среди нас? Почему не кого-то из наших? — удивился Мелвис. — Того же Эльфина ап Гвиддно. — Он указал на меня. — Прежде это были их земли. — Мой дедушка сказал бы тебе спасибо, — отвечал я, — но он не вернется в Диганви. Слишком много страданий приняли там наши люди. Когда-то, когда я был еще маленьким, Максим предложил ему вернуться и получил отказ. — Это не повод сажать там пса-Кунедду, — фыркнул Тегур. — Ирландец лучше защитит от других ирландцев, — задумчиво произнес Мелвис. — Вам придется за ним приглядывать, — сказал Барам. — Он уже старик — у его старших сыновей свои сыновья. Однако он хитер, как старый кабан, и так же опасен. Сыновья его ничуть не лучше. Их восемь, и они крепко держатся что за меч, что за мошну. Одно скажу — свое добро они берегут. Коли получили землю, будут защищать ее до последнего. — Утешительного мало, — пробормотал Тегур. Барам пожал плечами. Он наговорился на месяц вперед, и больше из него было и слова не вытянуть. Я посчитал, что вопреки мнению Тегура и ему подобных в приходе Кунедды нет ничего дурного. Землю надо обрабатывать и защищать. С тех пор как Эльфин ушел на юг, никто не претендовал на Гвинедд, и даже захватчики, пограбив, вернулись восвояси. Эльфин прав — к прошлому возврата не будет. Пусть там сидит известный разбойник, вроде Кунедды, который хоть за своей выгодой проследит, чем разбойник неведомый. Пожаловав Кунедде землю, Максим явил незаурядный ум. Прежде чем забрать легионы в Галлию, он укрепил область, поселив здесь сильное племя. С другой стороны, старый кабан польщен императорской милостью и, быть может, даже умерит свою жестокость, чтобы заслужить уважение соседей. Время покажет. Разговор перешел на другие заботы, и я, извинившись, ушел с арфой к себе, где принялся настраивать ее и пробовать руку. Так давно я не держал арфу — с той самой ночи, когда пел в чертоге у Мелвиса. Дивный инструмент — арфа — изготавливается умельцами с помощью орудий и знаний, которые хранятся и совершенствуются на протяжении более тысячи лет. Лучшее дерево — сердцевина дуба или каштана — тщательно, искусно вырезано и вручную заглажено. Затем покрывают лаком, чтобы сохранить дерево от порчи. Струны из жил или меди. Хорошая арфа поет сама по себе — слегка гудит на ветру. Когда же рука барда коснется струн, песня взмывает к небу. У бардов говорится, что все песни, которые когда-либо сочиняют, дремлют в сердце арфы и только ждут, когда их пробудит рука арфиста. Я тоже это чувствовал, ибо порой песня словно сама учит пальцы играть. К рукам постепенно возвращался былой навык. Я попытался сыграть одну из любимых песен и лишь несколько раз споткнулся в трудных местах. Почему-то, когда я держал арфу, мне вспомнилась Ганиеда. Я думал о ней с тех самых пор, как покинул лесное убежище Кустеннина. Правда, ее отец сам решил послать со мной Гвендолау, но это не умаляет ее заботы о мне. Угадала ль она, как отец, что я веду род от Дивного Народа? Не это ли влекло ее ко мне, а меня — к ней? О да, меня влекло к ней, можно даже сказать, что меня сокрушила ее красота в тот миг, когда она, не разбирая дороги, мчалась по лесу за вепрем. Сперва шум погони, потом вепрь, бегущий через ручей, потом… потом она возникает в луче света с копьем в руке, сверкая очами, решительная, устремленная вперед. Ганиеда, дочь Дивного Народа — простое ли это совпадение? Неужто нас свел слепой случай? Или все же что-то иное? Так или иначе ни я, ни она не сможем жить, как прежде. Рано или поздно надо будет решаться. В глубине сердца я уже знал ответ и надеялся, что он верен. Вот такие мысли навеяла мне арфа. Вероятно, музыка была для меня составляющей красоты, которая уже тогда ассоциировалась у меня с Ганиедой. Как ни мало мы были знакомы, она стала частью меня, вошла в мои мысли и сердце. Знала ли это ты, Ганиеда? Чувствовала ли, как я?
Глава одиннадцатая
Пендаран Гледдиврудд — король деметов и силуров в Диведе — ослабел от старости, жилы под пергаментной кожей одрябли, но глаза смотрели все так же зорко и ясно, а ум сохранял цепкость и быстроту. Под конец жизни он стал на удивление прост, подобно многим другим, с которых годы смыли все наносное. Через день-два после того, как я побывал у Давида, мы с мамой вернулись с прогулки и застали Пендарана на его излюбленном месте у очага. Он кочергой ворошил сгоревшие поленья, разбивая их на угольки. — А! Мирддин, сынок. Все остальные с тобой вдоволь наговорились. Теперь мой черед. Иди сюда. Мама извинилась и ушла, а я уселся в кресло напротив старика. — События мчатся во весь опор, а, Мирддин? Но так было всегда. — Да, — согласился я. — Ты много чего успел перевидать в жизни. Гледдиврудд означает Алый Меч, и я гадал, чем он заслужил такое прозвище. — Больше многих. — Он подмигнул и снова помешал уголья. — Что ты думаешь о Максиме и его императорстве? — спросил я. Мне было любопытно услышать его мнение. — Ба! — скривился он. — И зачем его туда потянуло? — Может быть, он думает, что сумеет добиться для нас мира, позаботиться о наших нуждах. Пендаран мотнул лысой головой. — Мира! И потому он забирает легионы и плывет в Галлию? Зачем ему это, я тебя спрашиваю? — Он вздохнул. — Сказать? Из тщеславия, сынок. Наш император Максим — человек тщеславный, падкий на лесть. — Он — великий воин. — Не верь, когда тебе это говорят! Настоящий воин сидел бы дома и берег свое добро, а не совался к соседям. С кем он там будет воевать? С саксами? Как бы не так! Он вцепится в глотку Грациану. — Старик ехидно хохотнул. — Этого нам недоставало — чтобы два надутых павлина выклевывали друг другу глаза, покуда морские волки будут резать нас, словно овец в овчарне. — Если он добьется мира в Галлии, то вернется с новыми войсками и положит конец разбою. — Ха! — Пендаран даже расхохотался. — Какое там! Он раздавит этого недомерка Грациана и двинется на Рим. Попомни мои слова, Мирддин, больше мы Максима не увидим. Ты хоть раз слышал, чтобы кто-нибудь вернулся из Рима? Кто за море попал, тот пропал. Жаль только, что он забрал с собой наших лучших воинов. — Он печально покачал головой, словно отец, жалеющий заблудшего сына. — Да, жалость, большая жалость, — продолжал он. — Глупое тщеславие! И себя погубит, и нас! Глупец. Старик Алый Меч на удивление точно разобрался в происходящем. За долгие годы он научился не обманываться внешней стороной дела и политическими маневрами. Более того, он показал мне, что я слишком верил в идеализм властолюбца. — Но ты-то, Мирддин, как возмужал. Жаль, Салаха нет. Он бы хотел на тебя взглянуть. — Где же твой младший сын? — Принимает сан. Спасибо, Давид пособил. Сейчас он в Галлии, учится. — Старик вздохнул. — Священнику надо столько всего изучить — он там уже давно. Я никогда не видел Салаха, хотя и слыхал о нем. Он был с моим отцом в день его гибели. — Ты, наверное, им гордишься? Это здорово — быть священником. — Горжусь, — подтвердил он. — Король и священник в одной семье! Нам повезло. — Он обратил ясный взор на меня. — А ты, Мирддин? Кем ты станешь? Я улыбнулся и покачал головой. — Кто может знать, дедушка? Мое обращение ему понравилось. Он улыбнулся и похлопал меня по руке. — Ладно, ладно, успеешь еще решить. Времени хоть отбавляй. — Он резко встал. — Пойду-ка сосну. — И он вышел. Я проводил его взглядом, гадая, почему последний вопрос так выбил меня из колеи. И мне пришло в голову, что надо скорее повидаться с Блезом. События, как сказал Пендаран, неслись во весь опор. Покуда я дремал в своем полом холме, мир продолжал вращаться, и дела людские не стояли на месте: совершались набеги, провозгласили нового императора, забрали войска, оставили без защитников крепости, заселили земли новыми племенами… Теперь я вновь оказался в самой гуще, и что-то от меня требовалось, хоть я и не знал, что. Не исключено, что Блез поможет найти ответ. В любом случае я не видел его четыре года и очень соскучился — не только по Блезу, но и по Эльфину и Ронвен, Киаллу и прочим обитателям Каеркема. Конечно, я и раньше о них думал, но сейчас потребность видеть их вдруг сделалась нестерпимой. Увы, у меня не оставалось иного выбора, кроме как дожидаться, пока сойдет снег. Прошел месяц, за ним еще один. Вместе с Гвендолау и другими я охотился или скакал по холмам в окрестностях Маридуна. Дни были короткими, зато оставались долгие вечера для бесед или игры в шахматы у очага. А когда вернулось мастерство, я снова начал петь. Нет нужды говорить, что в покоях, где некогда пел отец, были рады моим песням и сказкам. Мы отдыхали, набираясь сил на будущий год. Я старался умерить свой пыл и не сетовать на бездействие, а наслаждаться тишиной и покоем. В этом я преуспел лишь отчасти. Внутри все бурлило, и казалось, что я прикован к дому Мелвиса, в то время как мир стремительно проносится мимо. Так или иначе, но пришел наконец день, когда мы простились с Давидом и Пендараном и двинулись к Инис Аваллаху и Летним землям. Для меня это было путешествие в прошлое: все осталось в точности таким, каким сохранилось в памяти. Ничто не изменилось и, похоже, не собиралось меняться. С нами ехали Мелвис, Гвендолау, Барам и часть людей Мелвиса. Да, мы представляли собой внушительный отряд, когда ехали попарно лесной дорогой или вставали лагерем на весенней поляне. Дни летели стрелой, и однажды в полдень я увидел его: Тор, встающий в мглистых озерных водах. А на Торе — дворец Аваллаха, короля-рыболова. Даже с такого расстояния меня потрясла его необычность — а ведь я там вырос! То, что дом моего детства показался вдруг чем-то нездешним, ошеломило, как внезапная оплеуха. Неужели я столько прожил среди смертных, что забыл утонченную красоту Дивного Народа? Немыслимо, чтобы такое изящество и соразмерность изгладились из моей памяти. Мне казалось, что я впервые вижу дворец: высокие наклонные стены с узкими башенками, высокие своды и купола, массивные воротные столбы с развевающимися знаменами. И впрямь, дворец принадлежал иному миру. Сейчас я видел свой дом, каким он выступил бы из тумана перед случайным путником, и понимал, как легко поверить в рассказы об эльфах и колдовстве. Разве самый этот дворец — не чародейство? Полускрытый в тумане, одиноко стоящий на самой вершине Тора, окруженный водами озера — то слепяще-голубыми, то свинцово-серыми, неспокойными, — Инис Аваллах представлялся наваждением Иного Мира. Впрочем, хотя дворец показался мне чужим, никак нельзя было сказать того же об Аваллахе. Ворота перед нами распахнулись, и сам царь встретил нас на дороге. Он с криком бросился ко мне, я спрыгнул с лошади и кинулся в его объятия. Что за встреча! Аваллах не изменился — со временем я понял, что он не меняется, но, кажется, я отчасти ожидал найти в своем доме такие же перемены, что и во мне самом. Однако все осталось прежним, как в день моего отъезда. С тем же пылом Аваллах приветствовал и моих спутников, но при виде Гвендолау и Барама застыл на месте и взглянул на Хариту. Та шагнула к нему. — Да, отец, — тихо произнесла она, — они тоже из Дивного Народа — это родичи Мейрхиона. Король-рыболов поднес ладонь ко лбу. — Мейрхион, мой старый соратник! Как же долго я не слышал этого имени… — Он поглядел на незнакомцев и тут же расплылся в улыбке. — Сюда, друзья мои, сюда! Как я вам рад! Идемте в дом, я хочу скорее выслушать ваш рассказ! В тот вечер Аваллах принимал Гвендолау, Барама, Мелвиса и меня в опочивальне. Рана снова терзала его, поэтому он пригласил нас к себе, где мог возлежать на алой шелковой лежанке. Лицо его над черной курчавой бородой было белее снега. Он слушал рассказ Гвендолау и медленно качал головой. В глазах его стояло видение невозвратных времен. — Мне говорили, что кораблей было два, — сказал Гвендолау. — В море их разметало, до острова добрался один. Мы так и не узнали, что сталось с другим, хотя по-прежнему не теряем надежды. Вот почему, когда отец увидел Мирддина, он решил, что отыскались спутники нашего деда. — Гвендолау замолк, затем просветлел. — Однако то, что мы нашли вас, ничуть не хуже. Жаль, Мейрхион не дожил до этого дня. — Мне тоже жаль, что Мейрхион мертв; нам бы столько надо было сказать друг другу, — печально произнес Аваллах. — Он когда-нибудь говорил о войне? — Он умер еще до моего рождения, — молвил Гвендолау. — Барам его знал. — Отвечай, — потребовал Аваллах. — Я хочу знать. Барам ответил не сразу. — Он редко о ней говорил. Жалел, что принимал в ней участие. — Он сделал красноречивую паузу. — Но он признавал, что без кораблей нам было бы не спастись. — Насколько мы поняли, твой брат, Белин, тоже спасся, — сказал Гвендолау. — Да, с горсткой своих людей. Они поселились на юге, в Ллионессе. Вместе с ним правит мой сын Майлдун. — Аваллах нахмурился и добавил: — У нас вышла размолвка, и мы уже много лет не общались. — Госпожа Харита об этом нам рассказала, — заверил Гвендолау. — По-моему, она говорила еще об одном корабле. Аваллах медленно кивнул. — Был еще корабль — на нем плыли мой старший сын Киан и Элейна, жена Белина… — Он вздохнул. — Но корабль этот сгинул, как и все остальное. Давно же я не вспоминал о пропавшем корабле! Киан и Белин похитили корабли у врага и спасли уцелевших атлантов. Киан отправился забрать жену Белина Элейну, и никто их с тех пор не видел. В детстве я, конечно, слышал этот рассказ, но для меня корабль всегда был частью исчезнувшего и невозвратного мира. Однако сейчас, сидя в царской опочивальне с Аваллахом и Гвендолау, я усомнился: а впрямь ли корабль погиб? Не может ли быть, что он, как корабль Мейрхиона, сумел подойти к берегу? И где-нибудь есть еще поселение уцелевших, вроде лесного убежища Кустеннина? Присутствие Гвендолау и Барама вселяло в меня уверенность. Но если такое поселение существует, где его искать? — Отец поручил заверить тебя в нашей дружбе и предложить тебе и твоим близким наше гостеприимство на веки вечные. — Спасибо за честь, королевич Гвендолау, — произнес Аваллах. — Я был бы рад сам воспользоваться вашим гостеприимством, да видишь… — Он приподнял руку, показывая перевязанный бок, — дорогу мне не осилить. Однако пусть это не будет помехой дружбе — дозволь мне отправить вместо себя посланца. — В этом нет нужды, государь, — заверил Гвендолау. — Тем не менее я решил. — Аваллах обратил взор ко мне. — Как насчет тебя, Мерлин? Сослужишь такую службу? — Конечно, дедушка, — отвечал я. А я-то гадал, как мне попасть в Годдеу к Ганиеде, и вдруг оказалось, что я уже почти там. — Однако прежде… — Аваллах повернулся к Гвендолау, — тебе стоило бы поговорить с Белином. Знаю, он будет благодарен за твою весть. Что скажешь? Гвендолау взглянул на Барама, который, по обыкновению, ничем не выдал своих мыслей и чувств. — Понимаю, ты торопишься домой, но уж коли вы так далеко заехали… — Какой разговор, — отвечал Гвендолау. — Отец одобрил бы такое решение, да и задержка невелика. Да, но для меня она означает лишний месяц, а то и два без Ганиеды. — Мы уже настолько задержались, — продолжал Гвендолау, — что не будет никакой разницы. Нам это только с руки. Да, ничего не поделаешь. Наверное, первый раз в жизни государственные дела смешали мои планы. Первый, но не последний. Мы проговорили заполночь. Гвендолау и Аваллах еще беседовали, а Барам, не любитель чесать языком, давным-давно похрапывал в уголке. В ту ночь мне снилась Ганиеда и огромный пес с горящими глазами, не пускавший меня к ней.Наутро мы с Аваллахом, как встарь, отправились на рыбалку. Мы вместе качались в челне, солнце золотило воду, в тростнике кричали лысухи и куропатки, и казалось, что детство вернулось вновь. День был прохладный, солнце не жарило, ветерок то и дело морщил водную гладь. Рыбы мы, правда, не наловили, но мы и не очень старались. Дед хотел знать все о моих приключениях. Для человека, никогда не покидавшего своих владений, он был на удивление наслышан о делах остального мира. Разумеется, Эльфин исправно снабжал его новостями, да и заезжих купцов в замке привечали всегда. Когда мы вернулись, во дворце уже ждал Коллен. Зимой, пока царь был прикован к ложу, монах начал читать ему Священное Писание — Евангелие, недавно присланное Давиду из Рима. Чтение оказалось настолько полезно обоим, что встречи решили продолжить. Иногда Коллен с братией приходили отслужить обедню для короля-рыболова и его домочадцев. Очнувшись от изумления, Коллен тепло приветствовал меня, и мы немного поговорили о моих «мытарствах» у Подземных жителей, после чего он отправился к Аваллаху, наказав мне побывать у него в храме. Я сказал, что зайду, и на следующий же день исполнил свое обещание. Храм Спасителя и по сей день стоит на холме над болотистою низиной. В половодье Тор и Храмовый холм превращаются в острова, порою под водой оказывается даже ведущая от Тора старинная дамба. Однако в тот год дождей было мало, и дамбу не залило. Храм остался таким, каким я его помнил. Мазаные стены только-только заново побелили, остроконечная соломенная крыша лишь немного потемнела от времени. Кто-то водрузил над ней плетеный тростниковый крест, а чуть поодаль появился домик священников. Однако других перемен я не заметил. Я стреножил лошадь у основания холма и наверх поднялся пешком. Из домика вышел Коллен и с ним два монаха немногим старше меня. Они приветствовали меня улыбками и рукопожатиями на галльский манер, робко поздоровались и тут же словно языки проглотили. — Робеют, — объяснил Коллен. — Слышали о тебе, — загадочно добавил он, — от Хафгана. Я заключил, что Хафган рассказал им про пляску камней. Мы вместе пошли к храму. Есть особая телесная радость, несхожая с остальными, в которой столько же счастья, сколько стремления к чему-то иному. Думаю, это томление плоти и крови по восторгу, которое испытывает душа, приближаясь к истинному своему обиталищу. Тело сознает, что оно — прах, и в прах возвратится, и печалится о себе. Душа же знает, что бессмертна, и торжествует. И тело, и душа стремятся к полноте своей славы, нынешней или будущей. Однако если дух крепок в своей надежде, то плоть слаба, и потому в те редкие мгновения, когда она прозревает истину — что восстанет в нетлении, что унаследует все, принадлежащее духу, и что они сольются в одно, — тогда, в эти редчайшие мгновения, она ликует, и веселье ее не передать словами. Вот эту-то радость я почувствовал, войдя в храм. Здесь, где добрые люди освятили языческую землю молитвами, а позже — своей кровью, живет особая радость. Здесь, в этом святом месте, я ощутил иной, небесный покой. Пол в храме был чисто выметен, пахло свечами, маслом и ладаном. Алтарь — каменная плита на двух каменных же опорах — был очень стар. Вокруг царила глубокая и светлая тишина. Я стоял посреди храма, солнечный свет струился сквозь крестообразное окно на алтарь. Я смотрел, как пляшут пылинки в желтых косых лучах, словно крохотные ангелы, летящие к земле на помощь страждущим людям. Пока я смотрел, глаз различил легкое смещение света и тени. Что-то двигалось, перетекало в неподвижном на первый взгляд воздухе. Неужели это духи злобы, о которых рассказывал Давид, властители тьмы вторгаются под самый святой кров? Словно в ответ на эту попытку вторжения, луч света на алтаре сузился, стал тоньше и ярче. Камень вспыхнул, тени отступили. И тут, на моих глазах круг бело-золотого света сгустился, обрел состав и форму — форму винной чаши серебристого металла, какие подают на свадьбе. Она была простая, небогатая, без всякой отделки. И тем не менее весь храм наполнился таким благоуханием, что мне припомнились все золотые летние дни, все цветущие луга, все ласковые лунные ночи. Смотреть на чашу значило ощущать невыразимый мир, целостный и неприступный, вместилище непреходящей власти, которая всегда невидимо рядом, всегда бдит и вовеки необорима. Мне подумалось, что взять эту чашу — значит отчасти обрести этот мир. Я шагнул к алтарю и протянул руку. Чаша сверкнула, образ померк, мои пальцы сжали пустоту. Остался лишь свет, струящийся из окна, да моя рука на холодном камне. Тень сгустилась и приблизилась, поглотив последние остатки сияния. И я ощутил, как моя собственная сила уходит, словно вода в иссушенную зноем землю. Великий Свет, сохрани Свой храм, облеки его слуг мудростью и мощью, препояшь их для будущих битв! Сзади послышались шаги, и в темное, прохладное помещение вошел Коллен. Он внимательно посмотрел мне в лицо — наверное, на нем еще оставались следы увиденного, — но ничего не сказал. Быть может, он знал, что я увидел. — Да, это святое место, — сказал я. — Вот почему тьма особенно упорно стремится его разрушить. Чтобы мои слова его не встревожили, я добавил: — Однако не бойся, брат, ей не преуспеть. Господь сильнее всякой земной силы; тьма не победит. Потом мы вместе помолились. Я разделил с братьями их скромную трапезу, мы поговорили о моих странствиях, об их трудах в храме, и я вернулся в замок.
В следующие дни я заново открывал для себя Инис Аваллах, обходил знакомые с детства уголки — и мне подумалось, что королевство фей долго не простоит. Слишком оно хрупко, слишком зависимо от силы и расположения окружающего мира людей. Когда оно рухнет, сгинет и Дивный Народ. Мысль эта не веселила. Однажды утром я зашел к маме в ее комнату. Она стояла на коленях перед деревянным сундуком. Я видел его сотни раз, но никогда не видел открытым. Я знал, что это память об Атлантиде, что сделан он из дерева гофер с инкрустацией слоновой костью и что на нем вырезаны фантастические существа: головы и передние ноги бычьи, а дальше хвост, как у морского змея. — Заходи, Мерлин, — сказала она, видя, что я встал в дверях. Я подошел и сел в кресло рядом с сундуком. Харита вынула несколько маленьких, аккуратно перевязанных свертков, в том числе длинный и узкий, обмотанный полосками кожи. — Я кое-что ищу, — объяснила она и стала рыться дальше. Среди других вынутых вещей на пол легла книга. Я бережно поднял ее и раскрыл хрупкие страницы. На первой был зелено-золотой остров в ослепительно синем море. — Это Атлантида? — спросил я. — Да, — отвечала Харита, забирая у меня книгу. Она погладила страницу нежно, словно любимого человека. — Мама больше всего гордилась своей библиотекой. У нее было много книг — некоторые ты видел. Но эту — последнюю из всех — она считала истинным сокровищем. — Харита перелистнула страницы, вгляделась в незнакомое письмо и вздохнула, потом улыбнулась, глядя на меня. — Мне даже не довелось узнать, о чем она. Я сберегла ее ради рисунка. — Это и впрямь сокровище — сказал я. Мой взгляд упал на длинный сверток, я взял его и развязал. Глазам моим предстала рукоять меча. Бережно, но торопливо я снял промасленную кожу и вскоре уже держал в руке длинное, сверкающее лезвие, легкое и быстрое, как сама мысль, клинок мечты, выкованный для божества, прекрасный, хладный, смертоносный. — Это отцовский? — спросил я, смотря, как свет, словно вода, дрожит на дивном клинке. Она села на корточки и слегка мотнула головой. — Нет, Аваллаха, вернее, предназначался ему. Я заказала его оружейникам Верховного царя в Посейдонисе, первым искусникам мира. Мне говорили, что атланты умели делать невероятно прочную сталь и ревниво хранили секрет своего мастерства. Я привезла этот меч Аваллаху в знак примирения. — И что? Мама протянула руку к мечу. — То было трудное время. Он болел… его рана… он отверг мой подарок, усмотрев в нем насмешку. — Она тронула клинок. — Но я все равно его сохранила, наверно, думала, что найду ему применение. Он все-таки очень ценный. Я поднял меч и несколько раз резко рубанул воздух. — Может быть, его время еще не настало. Я сказал это просто так, потому что пришло в голову, но Харита серьезно кивнула: — Да, конечно, поэтому я его и сохранила. Эфес составляли сплетенные змеиные тела, а завершали их головы с изумрудами и рубинами вместо глаз. Прямо под золотой рукоятью был выгравирован девиз. — Что тут написано? — спросил я. Харита положила меч на ладони. — Тут говорится «Возьми меня», — отвечала она и перевернула меч: — А здесь «Отбрось меня». Странный девиз для царского меча. Что заставило ее выбрать эти слова? Не почувствовала ли она смутно ту роль, которую мечу предстояло сыграть в страшном и славном рождении нашей нации? — Что ты с ним будешь делать? — спросил я. — А что, по-твоему, надо? — Таким мечом можно завоевать королевство. — Так возьми его, сын, и завоюй. — Она встала передо мной на колени и протянула меч. Я потянулся было к рукояти, но что-то меня остановило. В следующее мгновение я сказал: — Нет, нет, он предназначен не мне. Во всяком случае, пока. Может быть, когда-нибудь мне потребуется такое оружие. Харита не стала ничего спрашивать. — Он будет тебя ждать. — И она вновь принялась укутывать меч. Мне хотелось остановить ее, прицепить красавец-клинок себе на пояс, ощутить в ладони его приятную тяжесть. Однако время еще не приспело. Я знал это и потому молчал.
Глава двенадцатая
Итак, я снова оказался в седле — на сей раз на пути в Ллионесс. Впрочем, до отъезда я выкроил несколько деньков, чтобы погостить в Каеркеме у дедушки Эльфина. Сказать, что мне там обрадовались, значит не сказать ничего. Все просто обезумели от радости. Ронвен осталась такой же красавицей, какой я ее помнил. Она суетилась вокруг меня и беспрерывно кормила все то время, когда мы с Эльфином и Киаллом не сидели за чаркой. Естественно, разговор зашел о том, что всех беспокоило. Здесь, как и везде, были недовольны, что Максим провозгласил себя императором и уплыл с войсками в Галлию. И ничего хорошего не ждали. После того как чара с пивом прошла по кругу четыре или пять раз, Киалл подытожил общее мнение: — Мне он по сердцу — я готов сразиться с любым, кто скажет иначе. Но… — он подался вперед, — опрометчиво было забирать с собой все британское воинство. Уж больно на многое он замахнулся. Впрочем, он всегда был хват. — Ничего доброго из этого не выйдет, — согласился Турл, сын Киалла (теперь один из воевод Эльфина). — Крови прольется море, и чего ради? Чтобы Максим смог надеть лавровый венок? — Он громко фыркнул. — Ради пригоршни листьев? — Они проходили здесь по пути в Лондон, — пояснил Эльфин. — Император звал меня с собой. — Эльфин с сожалением улыбнулся, и я догадался, как много значило для него это предложение. — Я не мог… — Ты не говоришь по-латыни! — хохотнул Киалл. — Воображаю тебя в тоге — да как бы ты там ужился! — Нет, — рассмеялся Эльфин, — не ужился бы. Подошла Ронвен и подлила пива. — Мой супруг чересчур скромен. Из него вышел бы прекрасный наместник. — Она наклонилась и поцеловала его в макушку. — А император — еще лучше. — По крайней мере, я бы не поплыл искать неприятностей на чужой стороне. Почему бы не устроить столицу прямо здесь? — Эльфин раскинул руки, словно хотел обнять всю свою землю. — Представьте себе! Британский император, и весь остров — его столица! Вот с кем пришлось бы считаться! — Верно, — согласился Киалл, — Максим сделал большую ошибку. — Тогда он заплатит своей жизнью, — прорычал Турл — плоть от плоти своего отца. — А мы — своей, — промолвил Эльфин. — То-то и грустно. Платить будут невинные — наши дети и внуки. Разговор принял печальный оборот, и Ронвен поспешила сменить тему. — Как тебе жилось средь Обитателей холмов, Мирддин? — Они на самом деле едят своих детей? — спросил Турл. — Не говори глупостей, сын, — укорил его отец и тут же добавил: — Но, я слышал, они умеют превращать железо в золото. — Они мастерски обрабатывают золото, — сказал я, — но своих детей ценят много выше, выше даже собственной жизни. Дети — воистину единственное их сокровище. Ронвен, чей собственный ребенок родился мертвым, понимала, как это может быть, и поддержала меня: — Одна их старуха каждое лето приходила в Диганви покупать спряденную шерсть. Она расплачивалась кусочками золота, которые отбивала от слитка. Я давно о ней не думала, но помню так, как если бы это было вчера. У жены нашего вождя были судороги и жар, так она вылечила ее кусочком коры и глиной. — Они знают много тайн, — произнес я, — и все же им недолго осталось жить на земле. Для них уже нет места. Уже и сейчас люди-большие теснят их: отбирают лучшие пастбища, заставляют уходить все дальше и дальше на северо-запад, в бесплодные пустоши. — Что же с ними будет? — спросила Ронвен. Я помолчал, вспоминая, и ответил словами Герн-и-фейн: — На западе есть земля, которую Мать создала и оставила своим первенцам. Давным-давно, когда люди начали кочевать по земле, ее дети разбрелись и позабыли путь в Счастливый край. Но однажды они все вспомнят и отыщут дорогу назад. — Закончил я уже от себя: — Притани верят, что им будет знамение, появится избранник, который поведет их за собой. Они верят, что день этот близок. — Интересно ты рассказываешь, Мирддин, — заметил Киалл, медленно качая седой головой. — Мне это напомнило об одном моем старом знакомом. — И он могучей пятерней взъерошил мне волосы. Киалл не шибко умен, но верность его крепче смерти. Бывало, король мог похвалиться дружиной в шестьсот всадников, но дай мне двенадцать таких ратников, как Киалл, и я стал бы императором. — Надолго к нам, Мирддин? — спросил Эльфин. — Нет. — Я рассказал о намеченном путешествии в Ллионесс и Годдеу. — Через несколько дней выезжаем. — Ллионесс, — пробормотал Турл. — Оттуда до нас доходят странные слухи. — Он выразительно закатил глаза. — Что за слухи? — полюбопытствовал я. — Знамения и чудеса. Там поселилась великая волшебница. — Турл огляделся, словно прося подтвердить его слова. Никто его не поддержал, и он пожал плечами. — Так я слышал. — Уж больно ты легковерный, — промолвил его отец. — Но хоть эту-то ночь у нас переночуй, — сказала Ронвен. — Эту и следующую, если место отыщется. — У нас что, нет конского стойла или телячьей клетушки? — Она крепко обняла меня. — Конечно, я найду тебе место, Мирддин Бах. Время пролетело незаметно, и вскоре я уже прощался с Каеркемом. Жалел я об одном (если не считать краткости моего пребывания) — что не повидал Блеза. Эльфин сказал, что после смерти Хафгана он много путешествует и редко бывает в каере. Со слов друида он поведал, что в Ученом Братстве раскол и Блез всеми силами старается предотвратить кровопролитие. Вот и все, что Эльфин знал. В тот же день, когда я вернулся из Каеркема, мы отправились в Ллионесс. Я никогда не был в южных низменных землях, знал лишь, что они принадлежат Белину и что Майлдун, Харитин брат и мой дядя, живет вместе с ним. Во дворце Ллионесскую ветвь нашей семьи упоминали редко. Несколько слов о размолвке, которые я услышал совсем недавно, — вот, наверное, и все. Никто мне не говорил, что за человек царский брат и какая нас может ожидать встреча. Весна только-только начиналась, все зеленело, обещая богатый урожай. Впрочем, здешняя местность суровее нашей, трава ниже, склоны круче, почва тоньше и каменистее. Далеко ей до щедрости Диведа или Летнего края. Торчащий в море, как палец, Ллионесс с его кривыми балками и скрытыми от глаз лощинами отличается от Летнего края и Инис Аваллаха решительно во всем. В любое время дня или ночи с моря может наползти туман, яркое солнце — спрятаться за тучу. Резкий ветер пахнет морской солью, слух наполняет неумолчный рокот волн — отдаленный и в то же время близкий, как биение крови в жилах. Короче, я сказал бы, что здешняя земля дышит скорбью. Нет, это слишком сильное слово, лучше сказать — грустью. Каменистый мыс оседал под бременем своей горести, его холмы были тоскливы, а долины угрюмы. Я ехал и пытался понять, отчего местность выглядит столь безотрадно. Солнце ли тусклее, небо ли не такое голубое, холмы ли менее зелены? В конце концов я решил, что у мест, как и у людей, есть свой характер. Подобно человеку, страна может быть дружелюбной или печальной, веселой или унылой… Возможно, со временем земля обретает черты своего хозяина и раскрывается путнику в виде таких вот впечатлений. Думаю, важные события тоже накладывают на окрестности неизгладимый отпечаток. Таков был Ллин Ллионис, который звался теперь Ллионесс. Я понимал, откуда взялись разговоры о мрачных чудесах — Ллионесс не располагал к себе. Ощущение тоски росло по мере того, как мы приближались к дворцу, стоящему лицом на запад на высоком морском обрыве. Подобно Инис Аваллаху, он был обнесен надежной стеной с воротами и башнями. Внутри же он оказался просторнее, поскольку с Белином осталась большая часть уцелевших атлантов и лишь немногие ушли с Аваллахом на север. Белин принял нас учтиво, но сдержанно. Мне казалось, он нам рад, хотя и держится настороже. Мое первое впечатление было таким: вот разуверившийся в жизни человек, которому ничто не мило. Даже объятие его было холодно, словно прикосновение змеи. Майлдун, мой дядя, которого я никогда прежде не видел, оказался ничуть не лучше. Лицом он походил на Белина и Аваллаха — семейное сходство сказывалось очень сильно. Он был красив и статен, но держался надменно и своенравно. Подобно земле, на которой он жил, тоска окутывала его, как плащом. Однако Гвендолау и Барам сделали все, чтобы развеять подозрения: вручили подарки, присланные Аваллахом, подробно объяснили цель нашего приезда и вообще вели себя словно братья, соскучившиеся в разлуке. Наверное, они поняли характер людей, с которыми столкнулись, так что к концу нашего пребывания сумели завоевать Белина, если не Майлдуна. Думаю, они заключили какие-то важные договоры, но я этого не помню. Мое внимание было занято другим. С того момента, как мы въехали во двор, я ощущал на душе какую-то тяжесть, почти удушье. Не страх — тогда я еще не научился страшиться этого чувства, — но тягостную, неотвязную близость чего-то гадкого и жалкого. Я понял, что приехал сюда ради этого и ничего другого. Мое дело — выяснить, откуда исходят эти миазмы. Я совершил необходимые визиты вежливости, а потом постарался, не привлекая внимания, осмотреться во дворце. Первым моим открытием оказался молоденький кравчий по имени Пеллеас. Никаких особых обязанностей у него не было, так что я завязал с ним дружбу. Он с охотой показал мне дворец, я же был рад такому толковому проводнику. Пеллеас кое-что знал о придворной жизни и не делал секрета из своих знаний. — Все, что ты здесь видишь, построено позже, — сказал он мне в ответ на мои расспросы. — Чуть дальше по берегу есть старая крепость — башня и загон для скота, ничего больше. В предшествующие два дня мы исследовали многочисленные дворцовые постройки, но так и не нашли того, что я искал. Время поджимало — Гвендолау с Барамом заканчивали переговоры. — Отведи меня туда, — сказал я. — Сейчас? — Почему нет? Разве кравчий не должен исполнять любое желание гостя? — Но… — Я желаю непременно осмотреть ту башню, о которой ты говорил. Мы оседлали коней и немедленно тронулись в путь, хотя солнце уже клонилось к закату. Морские обрывы в Ллионессе по-своему красивы: одинокие и зубчатые, возвышаются они над волнами, что неустанно бьют в основания черных скал и раз за разом расстилаются белой пеной. С морской стороны редкие смельчаки-деревья вырастают кривыми и уродливыми — их тонкие, изломанные ветви постоянно плещут на ветру. Дорога к башне шла с подветренной стороны холмов, так что морской ветер не очень нам досаждал, но ритмичные удары волн в глубоких подземных гротах отдавались под копытами наших коней. Солнце коснулось водной глади, и далекий горизонт залило расплавленной медью, когда мы наконец увидели башню. Что бы ни говорил Пеллеас, выглядела она величественно. Многие британские короли, заполучив такую, и не мечтали бы о большем. Она была сложена из того же странного белого камня, что и дворец Белина, а лучи предзакатного солнца окрасили ее в цвет старой кости. Четырехугольная в основании, она венчалась круглыми башенками, и с дороги казалась толстой шеей с лицами на все четыре стороны света. Так вот где последние дети Атлантиды вступили на чужой неприютный берег. Вот куда вынесло три потрепанных бурей корабля, вот где Аваллах и Белин поселились, прежде чем отправиться на завоевание новых земель. Крепость окружал земляной вал с каменным загоном для скота, теперь местами разрушенным. Вереск цвел повсюду, словно второе море, выстилая землю и взбираясь на каменное основание башни. Мы привязали лошадей с внешней стороны вала и через пролом в стене проникли во двор. Башня казалась необитаемой, но усилившееся чувство тоски, безнадежности явно говорило о том, что я у цели. В башне кто-то есть, и я скоро узнаю, кто. Мы вошли во двор, наши тени легли на заброшенную землю и потемневший камень. Пеллеас робко окликнул хозяев, никто не отозвался; впрочем, мы и не ждали ответа. Мой спутник толкнул деревянную дверь, и мы вошли. Сквозь узкие стрельчатые окна струился закатный свет, но внутри уже царила тень. Напротив входа висел над очагом котел и стояли два кресла, но пепел в очаге давно остыл. В дальнем конце комнаты была деревянная лестница наверх. Я направился к ней. Пеллеас взял меня за локоть и покачал головой. — Там никого нет. Идем отсюда. — Все будет хорошо, — отвечал я, однако слова мои прозвучали жалко и неубедительно. Верхний ярус был разделен на множество комнатушек, соединенных друг с другом. Дважды я видел в раскрытые окна море и раз — дорогу, по которой мы приехали. В одной из комнат обнаружилась еще одна лестница, каменная. Она привела нас в единственную каморку под крышей. Я вошел в нее первым. Пеллеасу не по вкусу были мои поиски, и если он все-таки шел следом, то лишь из страха остаться одному. Сперва я подумал, что сидящий в кресле у окна мертв — может быть, умер только что, сегодня, час назад. Однако, когда я переступил порог, он повернул голову, и стало ясно, что он спал. Судя по виду, он проспал не один год. Его белые, тонкие, как паутина, волосы висели клоками, иссохшие руки были сложены на груди, и я видел желтые, непомерно отросшие ногти. Лицо казалось лицом покойника — серое, в коричневых пятнах, лысину как будто проела моль. Запавшие, с красными веками глаза слезились. С этим жалким обликом никак не вязалось его одеяние — богатое, бархатное, расшитое замысловатыми знаками золотой и серебряной нитью. Правда, висело оно на нем, как саван. Он ничуть не удивился, и я видел, что это не притворство. — Итак, — произнес он несколько мгновений спустя. Пеллеас потянул меня за рукав. — Я — Мерлин. (Я нарочно назвался тем именем, под которым меня знали родичи моей матери.) Он не подал виду, что оно ему знакомо, просто спросил: — Зачем ты здесь? — Я искал тебя. — Ты нашел. — Он положил руки на колени. Они мелко подрагивали. Да, я нашел его и теперь не знал, о чем говорить. — Что дальше, Мерлин? — спросил он, чуть помолчав. Глаза он не поднял. — Убьешь меня? — За что? Я не желаю тебе зла. — А что? — выговорил несчастный. — Смерть — единственное, что мне осталось, и я ее заслужил. — Не мое дело — отнимать у тебя жизнь, — сказал я. — Конечно, конечно. Ты веришь в любовь, так ведь? Веришь в добро — в этого вашего нелепого Иисуса? — (Насмешка ранила больно, на миг мне показалась и впрямь нелепой моя вера.) — Ну? — Да, верю. — Тогда убей меня! — выкрикнул он, резко поворачиваясь ко мне. На губах его блестела слюна. — Убей прямо сейчас. Это и будет доброта. — Может быть, — отвечал я, — но я не стану отнимать у тебя жизнь. Он взглянул на меня мертвыми глазами. — Как же нет, если я виновен в смерти твоего отца. — От его улыбки мне стало нехорошо. — Да, я убил Талиесина. Я, Аннуби, убил его. Даже в тот миг, когда он произносил эти чудовищные слова, я ему не поверил. Да, он сгорал от ненависти, но не ко мне и не к моему отцу. Если б он мог убить, думаю, он скорее убил бы себя. Но он не мог, и это тоже его терзало. И все же он знал… да, он знал, кто убил Талиесина. — Так ты Аннуби? Я слышал о нем — не от матери, а от Аваллаха. В рассказах о погибшей Атлантиде фигурировал и царский провидец. С его слов я мог представить что угодно, только не эти живые мощи. — Что тебе здесь нужно? — Ничего. — Тогда зачем ты пришел? Я беспомощно поднял ладонь. — Пришел… чтобы узнать… — Уходи отсюда, мальчик, — сказал Аннуби, отводя от меня потухший взор. — Если она тебя здесь застанет… — Он вздохнул и добавил шепотом: — …но поздно… поздно. — Кто? — спросил я. — Ты сказал «она». О ком ты? — Уходи. Я ничего тебе не говорил. — Кто не должен меня застать? Я заметил, как на лице его промелькнуло какое-то чувство. Это была не злоба и не отчаяние, но что именно, я не понял. — Надо ли спрашивать? Кто, если не Моргана?.. Я ничего не ответил, и он снова поднял глаза. — Это имя ничего тебе не говорит? — А должно? — Мудрый Мерлин… Прозорливый Мерлин… Сокол Познания. Ха! Ты даже не знаешь, кто твои враги. — Моргана — мой враг? Рот его свела судорога. — Моргана — враг всякого человека, мальчик. Верховная богиня Ночи, она — алчность и ненависть. От ее прикосновения кровь застывает в жилах, от ее взгляда сердце останавливается в груди. Смерть ей отрада… единственная отрада. — Где она? — чуть слышно прошептал я. Он только мотнул головой. — Если б я знал, ужели сидел бы здесь? Пеллеас снова потянул меня за руку. Солнце садилось. Внезапно мне стало совсем жутко и захотелось поскорее уйти. Однако, может быть, что-то можно сделать? — Да, иди, — хрипло проговорил Аннуби, словно читая мои мысли. — И не возвращайся, не то можешь встретить Моргану. — Тебе что-нибудь нужно? — Он был так жалок в своем несчастье, что я не мог не спросить. — Белин обо мне заботится. Я кивнул и повернулся к лестнице. Мне пришлось бежать бегом, чтобы поспеть за Пеллеасом, который так мчался по ступеням, словно Моргана дышала ему в спину. Входную дверь мы оставили открытой, и юноша стремглав вылетел во двор. Я не отставал, но, прежде чем уйти совсем, преклонил колени на пороге и прочел молитву о спасении от злых сил. Потом собрал с дорожки пригоршню белых камешков и выложил перед дверью крест. В предостережение. Пусть Моргана знает, с кем решила сразиться.На следующий день наш отряд выехал в путь, но ощущение разлитой в воздухе обреченности преследовало меня еще долго. Безрадостный пейзаж только ухудшал и без того гадкое настроение. Гвендолау и Барам тоже ощущали что-то недоброе, но не так остро. Поначалу Гвендолау пытался, по обыкновению, балагурить, потом смолк и погрузился в мрачное молчание. Тягость на душе сохранялась до тех пор, пока над болотами не возникла вершина Тора. При виде Стеклянного Острова сердца наши радостно забились. Мама встречала меня у ворот — сначала я удивился, потом понял, что она догадалась про Моргану и Аннуби. — Они пропали в ту ночь, когда погиб твой отец, — сказала она тихо. Было уже поздно, мы сидели в уголке у очага. Все остальные разошлись спать. — Я так и не знала, куда они делись. — Но ты догадалась. — Ллионесс? Да, могло быть и так. — Она повела ладонью. — Мне следовало тебе сказать. Я молчал. — Знаю, надо было все открыть тебе давным-давно… но я все не могла собраться с силами, а потом ты пропал. И вот… — Она повторила тот же странный жест, словно загораживалась ладонью от невидимого противника. В следующий миг она овладела собой, выпрямилась и расправила плечи. — Да, ты должен знать правду. После того, как в страшной резне убили мою мать… — Голос ее сорвался. — Прости, Мерлин, я не знала, что так больно будет произнести эти слова. — Твою мать убили? — С этого началась война между Аваллахом и Сейтенином. Так вот, на девятый год Аваллаха ранили в бою. Я ничего об этом не знала, я танцевала с быками в Верховном храме. Когда я вернулась, у отца была вторая жена, Лиле — молодая женщина, целительница, которая его выходила. В благодарность он женился на ней. — Лиле? Не помню ее. Что с ней сталось? — Ты и не можешь ее помнить. Она пропала, когда ты был совсем маленький. — Пропала? — Слово меня удивило. — Что значит «пропала»? Харита медленно покачала головой. В этом движении было больше недоумения, чем скорби. — Никто не знает. Это случилось через несколько месяцев после гибели Талиесина, я как раз вернулась сюда жить. Мы с Лиле не были близки, но научились друг друга уважать и не ссориться. — Харита улыбнулась воспоминанию. — Ты ей нравился, Мерлин. «Как сегодня мой соколик?» — спрашивала она, когда тебя видела. Она любила брать тебя на руки, качать… — Она снова тряхнула головой. — Я никогда ее не понимала. — Что с ней сталось? — В последний раз ее видели в саду; Лиле очень любила свои яблони. Представляешь, многие саженцы она привезла из Атлантиды. Саженцы… в такую даль… сквозь все треволнения. И они прижились, плодоносят… так далеко от родины… — Харита сглотнула и продолжала. — Было темно. Солнце село. Чуть раньше конюх видел, как она выезжала: она сказала, что едет в сад. Она подолгу бывала там. Когда она не вернулась, Аваллах отправил на поиски слуг. Они нашли лошадь привязанной к дереву и обезумевшей от страха. Ее круп был в крови, на холке зияли раны, словно от когтей дикого зверя, хотя прежде никто не видел подобных отметин. — А Лиле? — Ее так и не нашли. — И вы никогда о ней не упоминаете. — Да, — призналась мама. — Если ты спросишь, почему, я не смогу ответить. Просто кажется, что не надо о ней говорить. — Может быть, ее унес волк или медведь, — предположил я, прекрасно понимая, что это не так. — Может быть, — отвечала Харита, как будто такая мысль впервые пришла ей в голову. — Или кто-то еще. — Ты не рассказала про Моргану, — напомнил я. — Моргана — дочь Лиле и Аваллаха. Когда я впервые увидела Лиле, Моргане шел четвертый год. Это была очень красивая девочка. Мне она нравилась. Впрочем, я редко ее видела, потому что готовилась покинуть Атлантиду, и это занимало все мое время. Помню, она играла в саду… и уже тогда с Аннуби. Она всегда была рядом с Аннуби. — Сейчас она не с ним. Харита задумалась. — Да, наверное. Итак, после катастрофы мы оказались здесь, и она росла, как все дети. Я не очень обращала на нее внимание — у нее были свои интересы, у меня свои. Однако она за что-то невзлюбила меня, и мне всегда было с ней тяжело. Между нами возникла неприязнь, я так и не поняла, из-за чего. Когда появился Талиесин, Моргана попыталась его у меня отбить. Делала она это неумело, и у нее, конечно, ничего не вышло. Она только сильнее меня возненавидела. — Харита помолчала, тщательно подбирая слова. — Вот почему я думаю, что в смерти Талиесина виновна она. Не знаю, как все вышло, может быть, она хотела убить меня. Во всяком случае, я всегда знала, что это ее рук дело. Я кивнул. — Ты права, мама. Аннуби сказал, что вина на нем, но он лгал. — Аннуби? — В ее голосе была жалость и боль. — Думаю, он хотел, чтобы я разозлился и прикончил его. Он мечтает об избавлении, но я не мог этого сделать. — Бедный, бедный Аннуби. Даже сейчас я не могу презирать или ненавидеть его. — Аннуби теперь во власти Морганы. Его страдание безгранично. — А ведь мы когда-то дружили. Однако наш мир изменился, а он остался прежним. Грустно. — Она подняла взор от гаснущих угольков и улыбнулась печально. — Теперь ты все знаешь, сынок. Она встала, поцеловала меня в щеку и ненадолго задержала руку у меня на плече. — Я иду спать. Не засиживайся слишком поздно. — Она повернулась, чтобы уйти. — Мама, — произнес я ей вслед. — Спасибо, что сказала. Она кивнула и ответила: — Я не собиралась делать из этого тайны, соколик.
Глава тринадцатая
Я не стану рассказывать про обратный путь в Годдеу, замечу только, что все было иначе, нежели прошлой зимой. То ли дело путешествовать летом! И Аваллах, и Мелвис отправили с нами людей — оба стремились заручиться дружбой могущественного союзника на севере. Северяне желали того же. Настроение жителей переменилось, страх нарастал, медленно расползался по пустынным холмам, наполняя сердца и умы. Я читал его в лицах тех, кого мы видели по дороге, слышал в их голосах, ловил в шуме ветра, который, казалось, воет: «Орлы ушли! Надежды нет! Мы обречены!» Меня изумило, что перемена произошла так быстро. Да, легионы заметно поредели, но все-таки ушли не все. Никто не бросил нас на произвол судьбы. Да мы и никогда не рассчитывали только на Рим. Спокон веков человек полагался на свой меч и отвагу своих сородичей. Pax Romana, Римская империя — хорошо и прекрасно, но люди ждали защиты первым делом от короля и лишь потом от Рима. Зримый, живой король куда надежнее смутных толков о кесаре, что сидит на золотом троне в далекой неведомой стране. Неужто мы так ослабели и размякли, что уход нескольких тысяч воинов поверг нас в панику? Если нас что и погубит, то только страх, а не вторжение разбойников-саксов и их размалеванных синей краской приспешников-пиктов. В конце концов, набеги случались и при римлянах. Теперь Орлы улетели. Что с того? Неужто Британии уже не страшатся? Неужто мы не в силах сами постоять за себя? Я был убежден, что в силах. Коли Эльфин и Мелвис сумели собрать дружины, сумеют и остальные. И в этом, а не в защите римских легионов, наше будущее. Я утверждался в этой мысли с каждой римской милей, приближавшей нас к северу. Кустеннин принял нас с радостью. Он был счастлив, что брошенное им семя принесло такой урожай. Дары лились рекой. Даже я за свой ничтожный вклад удостоился кинжала с золотой рукоятью. Ликование его было так велико, что на третью ночь был устроен пир в честь союза наших народов. Пир, как водится, был пышный, его готовили целых два дня, однако без того разудалого веселья, что у дедушки Эльфина. Я еще прошлый раз подметил эту сдержанность — она выражалась в таких мелочах, как отсутствие барда, но тогда я не понял ее причины. Теперь все разъяснилось: Кустеннин, несмотря на свое бриттское имя, был по рождению атлантом, а значит, не привык выставлять свои чувства напоказ, в точности как Аваллах. Однако при нынешнем числе гостей-бриттов разгул и сдержанность смешались в идеальной пропорции. Было вдоволь еды и пахнущего дымком верескового меда — уж не знаю, где Кустеннин его достал, разве что Обитатели холмов выучили его подданных варить этот дивный напиток. Кажется, я громко и много пел и не всегда под арфу. Хотя вряд ли кто-нибудь заметил этот мой промах. Кроме Ганиеды. Везде, куда бы я не повернулся… Ганиеда: ждет, смотрит, молчит, себе на уме, ее блестящие синие глаза повсюду следуют за мной. В первый день она холодно встретила меня и с тех пор не сказала и трех слов. Я ждал большей приязни. Не града поцелуев, но хоть улыбки, приветственной чарки, чего-нибудь. Вместо этого я стоял, как столб, только что с дороги, в покоях ее отца, она же едва удостоила меня взглядом, словно вывешенную для продажи овчину. Впечатление было настолько схожим, что я решил пошутить: раскинул руки и медленно повернулся кругом. — Сколько дадите за эту прекрасную шкурку, госпожа? Ганиеда, видать, не оценила шутки. — Тоже мне, прекрасную! Зачем благородной даме такая грязная и вонючая шкура?! — холодно отвечала она. Правду молвить, за много недель в седле я утратил приличный вид и благоухал отнюдь не полевыми цветами. Я подумал, что купанье в лесном озере могло бы исправить дело, но побоялся продолжать разговор. Может быть, мне померещилось, будто между нами возникли какие-то чувства. Или она передумала. Времени было вдоволь. Хуже того, в следующий раз мне удалось перемолвиться с ней словом лишь под вечер четвертого дня. Бегала она от меня, что ли? Через два дня нам предстояло пуститься в обратный путь. Я чувствовал, что время уходит, поэтому подстерег ее в кухне позади пиршественного зала. — Если я чем-то тебя прогневал, — сказал я прямо, — не обессудь. Только объясни, в чем дело, и я исправлюсь. Она как будто задумалась, поджала губки и нахмурила брови. Однако голос ее остался холоден, как лед: — Ты себе льстишь, волчонок. Это чем же ты мог бы меня прогневать? — Тебе отвечать. Не могу вспомнить, что я такого сделал. — Мне совершенно все равно, что ты делаешь. — Она повернулась и пошла прочь. — Ганиеда! Она застыла при звуке своего имени. — Почему ты так со мной обращаешься? Она стояла спиной ко мне и ответила, не оборачиваясь: — Тебе, похоже, почудилось, будто между нами что-то есть. — Мне это не почудилось. — Вот как? — Она взглянула на меня через плечо. — Да. — В моем голосе было больше уверенности, чем в душе. — Значит, ты обознался. — Однако она не уходила и по-прежнему смотрела на меня. — Возможно, — согласился я. — Разве не ты — бесстрашная охотница, сразившая Турха Труйта, Великого Калиддонского Вепря, одним ударом копья? Разве не ты — хозяйка этого славного дома? Разве не твое имя — сладость устам, не твой голос — ласка для слуха? Если нет, то я и впрямь обознался. Она поневоле улыбнулась. — Язык у тебя хорошо подвешен, волчонок. — Это не ответ. — Ладно, ладно, ответ — да. Я та, о ком ты говоришь. — Значит, я не ошибся. — Я сделал шаг вперед. — В чем дело, Ганиеда? Почему ты так холодно меня встретила? Она скрестила руки на груди и вновь отвернулась. — Твои родичи живут на юге, мое место — здесь, на севере. Все просто и ничто нельзя изменить. — Твои выкладки безупречны, госпожа, — отвечал я. Это заставило ее обернуться. Синие глаза сверкнули гневно. — Не пытайся делать из меня дуру! — Тогда сама не веди себя, как дура! Она нахмурилась. — Ты сказал это, и ты прав. Только дура может желать невозможного, понимать, что это невозможно, и все равно желать. Я не мог такого вообразить: чтобы она чего-то хотела и не добилась. — Так что тебе нужно, Ганиеда? — Ты что, не только глуп, но еще и слеп? — Слова были резкие, но голос звучал нежно. — Так что это? Только скажи, и я добуду тебе все, что смогу, — пообещал я. — Ты, Мирддин. Я только смущенно заморгал. Она потупила взор и смущенно стиснула руки. — Ты спросил, я ответила… Мне нужен ты, Мирддин. Как ничто и никогда. Молчание становилось угрожающим. Я потянулся к ней, но так и не посмел коснуться ее. — Ганиеда. — Мой хриплый голос испугал меня самого. — Ганиеда, разве ты не знаешь, что я уже твой? С того мига, как я увидел тебя на сером жеребце, летящую через водный поток в вихре алмазных брызг, а солнце плясало на твоих волосах, — с этого самого мига я стал твоим. Я думал, она обрадуется. Она и впрямь улыбнулась. Однако улыбка тут же сошла, и лоб снова нахмурился. — Твои слова добрые… — Больше того, правдивые. Она покачала головой, солнце блеснуло на серебряной гривне. — Нет, — вздохнула она. Я шагнул ближе, взял ее за руку. — В чем дело, Ганиеда? — Я уже сказала: твое место на юге, мое — с моим народом. Тут ничего не поделаешь. Она заглядывала куда дальше вперед, чем я. — Может, и не придется ничего делать — пока. А там видно будет. Она приникла ко мне. — Зачем я тебя полюбила? — прошептала она. — Я ведь не хотела. — Можно искать любовь и найти. Чаще любовь нас находит, когда мы ее не ищем, — сказал я, и сам устыдился самонадеянности своих слов. Да что я об этом знаю? — Любовь нас отыскала, мы не в силах ее прогнать. Обнимая Ганиеду, ощущая запах чисто вымытых волос, живую теплоту тела, нежную гладкость кожи, я сам верил в то, что говорил. Верил всем сердцем. Мы поцеловались, и я, коснувшись губами ее губ, понял, что она тоже мне верит. — Ну вот, — вздохнула Ганиеда. — Это ничего не решает. — Ничего, — согласился я. Однако какое мне было дело? Можно не говорить, что, когда пришла пора возвращаться в Дивед, я принялся всячески тянуть время в надежде отложить отъезд до бесконечности. Мне удалось выгадать несколько дней полнейшего счастья. Мы с Ганиедой катались верхом, гуляли вдоль озера, играли в шахматы у огня, я пел и играл на арфе, мы говорили ночи напролет, так что утром шатались от усталости и зевали, но так и не находили силы расстаться. Короче, мы делали все, что положено влюбленным, и, поглощенные друг другом, сами не замечали, что делаем. Я и сейчас вижу ее: черные волосы перевиты серебряным шнурком, синие глаза сверкают из-под длинных темных ресниц, перси колышутся под тонкой лазоревой сорочкой, длинные стройные ноги легко ступают по земле, выше локтя поблескивают золотые браслеты… Она была для меня средоточием женственности: ясная загадка, облеченная красотой. Увы, я не мог вечно откладывать отъезд. Пришло времявозвращаться в Дивед. Впрочем, я и это постарался представить как благо для нас обоих. Итак, пока остальные готовились в путь, мы с Ганиедой рука об руку бродили по гальке у озера. Чистая вода плескалась у наших ног, ласточки носились над водой, задевая ее крыльями. — Когда я вернусь, то вернусь за тобой, радость моя, чтобы забрать от отцовского очага к моему собственному. Мы поженимся. Я думал ее утешить, но какое там! — Давай поженимся прямо сейчас. Тогда тебе не надо будет уезжать. Останемся здесь навсегда. — Ганиеда, ты же знаешь, у меня нет своего дома. Прежде, чем нам пожениться, я должен отыскать тебе место, а для этого — сперва найти место себе. Она поняла — благородная душа! — и неожиданно улыбнулась. — Что ж, волчонок, езжай. Станешь королем, возвращайся за своей королевой. Я буду ждать. Она приникла к моей груди и коснулась губами моих губ. — Это чтобы ты помнил, кто тебя ждет. — Она снова меня поцеловала. — Это чтобы ты не мешкал с исполнением своих планов. — Она руками притянула к себе мою голову, и наши губы слились в долгом страстном лобзании. — А это чтобы ты скорее вернулся. — Госпожа, — отвечал я, когда смог наконец дышать, — если ты поцелуешь меня еще раз, я не смогу уехать. — Тогда езжай сейчас, любимый. Сию минуту, чтобы вернуться как можно скорее. — Это может занять время, — предупредил я. В надежде облегчить расставание, я снял с руки золотой браслет и протянул ей. — Его дала мне Вриса, Обитательница холмов, моя сестра, для будущей жены. Отныне ты — мое достояние. — Я надел браслет ей на запястье. — И я непременно за тобой вернусь. Она улыбнулась, обвила мою шею руками, притянула к себе. — Буду жить ради этого дня, любимый. Я крепче прижал ее к груди. — Возьми меня с собой, — прошептала она. — Конечно. Прямо сейчас, — отвечал я. — Будем жить в шалаше, питаться каштанами и крыжовником. Она рассмеялась от всего сердца. — Терпеть не могу крыжовник! Потом, взяв меня за руки, развернула и стала толкать к дорожке, ведущей обратно на холм. — Я не буду жить на ягодах и орехах в лесной лачуге с тобой, Мирддин Вильт. Так что забирайся на своего жалкого конька и немедленно поезжай прочь. И не возвращайся, пока не завоюешь мне королевство! Ах, Ганиеда, ради тебя я завоевал бы весь мир!В Маридун мы вернулись в разгар лета. Бельтан прошел, пока мы были в дороге. Ночью мы видели огни на вершинах, полночный ветер доносил до слуха таинственные крики Подземных жителей. Однако сами мы не жгли костра в самую короткую ночь и не заглянули на праздник в какое-нибудь из придорожных селений. Христиане все больше и больше отходили от былых обычаев, пропасть между старым и новым становилась все глубже. Разумеется, многие из подданных Мелвиса приняли христианство, особенно после того, как Давид поселился в этих местах. Впрочем, были среди нас и те, кто держался старой веры. Чтобы им не грустить о пропущенном веселье, я стал петь, подыгрывая себе на арфе. И вот, покуда я пел, глядя на круг лиц у походного костерка, на темные искры глаз, примечая, как песня зарождается и разгорается в их душах, — так вот, покуда я пел, мне пришло в голову, что путь к человеческой душе лежит не только через ум, но и через сердце. Какими бы разумными ни были доводы, если сердце холодное, все будет напрасно. Вернейший путь к сердцу лежит через песнь и сказание: простая повесть о благородных и возвышенных деяниях скажет людям больше, чем все Давидовы проповеди. Не знаю, что это должна быть за повесть, но, думаю, так оно и есть. Я видел, как простые люди собирались на службу в лесную церковь. Они с должным почтением преклоняли колени пред алтарем, ничего толком не разумея. И все же я видел, как отверзались очи их душ, когда Давид читал: «В далеком краю жил человек, у которого было два сына…». Может быть, мы так устроены, может быть, слово истины проникает в нас через сердце, а язык сердца — это песни и сказки. В ту ночь мои спутники услышали песнь, которой доселе никто не слышал, — песнь о той самой далекой стране, о которой вещал Давид. Я уже давно сочинял песни, хотя редко пел их на людях. В тот вечер я спел, и им понравилось. Когда мы наконец въехали в Маридун, был базарный день, мощеные улицы наполнились блеяньем, ржаньем, визгом и громкими криками торговцев. Мы устало протискивались в толчее, когда внезапно до меня донеслись возгласы: «Узрите, бритты! Узрите своего короля!» Я вытянул шею, но в потоке толпы никого не увидел и продолжал путь. Вновь тот же голос возгласил: — Сыны Брана и Брута! Внемлите своему барду. Говорю, мимо вас едет ваш король, воздайте ж ему должные почести! Я натянул поводья и обернулся. Толпа расступилась перед бородатым друидом. Он был высок и худощав, в синем одеянии, подпоясанном сыромятным ремнем, через плечо свисала простая кожаная сума. Он поднял посох, и я увидел, что посох этот — рябиновый. Он приближался. Мои спутники тоже остановили коней, чтобы посмотреть. — Кто ты, бард? — спросил я. — И почему кричишь мне вслед такие слова? — Имя называют в ответ на имя. — Среди здешних людей меня называют Мирддин, — сказал я. — Славно сказано, друг, — произнес он. — Ты Мирддин, но станешь Вледигом. При этих словах у меня по коже пробежали мурашки. — Я назвал тебе свое имя, — сказал я, — и хочу услышать твое, если нет на то какого-нибудь запрета. Бурое от загара лицо собралось мелкими морщинками. — Запрета нет, но не в моем обычае называть имя там, где его и без того знают. Он медленно подошел почти вплотную. Мои спутники принялись делать знаки от сглаза, но друид их словно не видел — его глаза были устремлены на меня. — Скажи теперь, что ты меня не знаешь. — Блез! В следующий миг я уже спрыгнул с коня и крепко обнимал своего наставника за плечи, чувствуя под ладонями тугие жилы и кости. Это и впрямь был Блез, хотя мне пришлось коснуться его, чтобы удостовериться. Он сильно переменился: постарел, похудел, стал жилистым, словно сосновый ствол, глаза горели, как смоляные факелы. — Блез, Блез. — Я тряс его и колотил по спине. — Уж прости, не узнал. — Не узнал учителя? Фу, Мирддин, у тебя что, с головой не в порядке? — Скажем так — я менее всего ожидал от тебя глумливых выкриков из толпы. Блез покачал головой. — Я над тобой не глумился, государь мой Мирддин. — И я не государь, Блез, о чем ты прекрасно знаешь. — Его разговор начал меня смущать. — Вот как? — Он запрокинул голову и расхохотался. — Ах, Мирддин, твоей наивности нет цены. Оглядись, сынок. Кого провожают глазами на улицах? О ком перешептываются украдкой? Рассказы о ком облетели всю страну? Я недоуменно пожал плечами. — Если ты обо мне, то, безусловно, ошибаешься. На меня никто не обращает внимания. Эти слова прозвучали в почти полной тишине: рынок затих, толпа в молчании ловила каждое слово. — Никто! — Блез воздел руку, указывая на запруженную народом улицу. — В час испытания эти люди пойдут за тобой до гроба и дальше — а ты назвал их «никто». — А ты говоришь слишком много… и слишком громко. Едем с нами, несносный друид, я заткну тебе рот хлебом и мясом. На сытое брюхо ты заговоришь поразумней. — Верно, я не ел много дней подряд, — согласился Блез. — Но что с того? Мне это в привычку. А вот чарочку, чтобы смыть с глотки пыль, я бы пропустил с удовольствием, да и с другом поболтать не прочь. — Будет тебе и чарочка, и разговор, и многое другое. — Я вскочил в седло и, ухватив его за руку, втянул на круп лошади. К вилле Мелвиса мы подъехали вместе, и всю дорогу разговаривали. Начались обычные приветствия, которым я обрадовался бы, если б они не разлучили меня с Блезом. Нам столько надо было друг другу сказать, и только теперь, когда мы встретились, я понял, как это необходимо. Мне нужно было побеседовать с ним немедленно! Однако прошло довольно много времени, прежде чем мы смогли поговорить с глазу на глаз. Мне уже стало казаться, что легче уединиться на рыночной площади! — Расскажи, Блез, где ты был? Что поделывал с нашей последней встречи? Странствовал? Слышал, о Братстве нестроения, что ты об этом знаешь? Он отхлебнул разведенного вина и подмигнул мне из-за чаши. — Если б я помнил, что ты такой любопытный, не стал бы останавливать тебя в городе. — Можно ли пенять? Сколько лет мы не виделись? Пять? Шесть? — Да уж не меньше. — Зачем ты кричал мне такое посреди площади? — Хотел привлечь твое внимание. — А заодно внимание каждого мужчины, женщины, ребенка и собаки в Маридуне. Блез добродушно пожал плечами. — Я всего лишь сказал правду. Мне безразлично, кто ее слышал. — Он поставил чашу и подался вперед. — Ты вырос, Сокол. Детские задатки не обманули. Ты сдюжишь. — Мне кажется, я вырос в седле. Скажу тебе, Блез, сам Бран Благословенный столько не разъезжал по этому острову, сколько я в последние годы. — И что же видели твои золотые глаза, Сокол? — Я видел, что настроение изменилось и далеко не к лучшему, что страх распространяется по стране, как моровое поветрие. — Я тоже это видел и могу придумать зрелище попригляднее. — Он допил остатки вина и утер усы рукавом. — В нашей стране неспокойно, Сокол. Люди поворачиваются спиной к истине и усиленно сеют ложь. — Ты про Ученое братство? — Хафган, упокой Господи его душу, правильно распустил Братство. Сперва некоторые пошли за нами, но сейчас большая часть снова взялась за старое. Они избрали нового архидруида, некоего Хена Даллпена, если помнишь такого. — Помню. — Итак, Ученые продолжают собираться на советы и наблюдать за звездами, Хен Даллпен ими руководит. — Голос его сорвался на хрип. — Однако, Сокол, они скатываются к старым обычаям, к тому самому, что я пытался предотвратить. — О чем ты, Блез? Какие обычаи? — Истина в сердце, сила в длани, честность на устах, — произнес он, повторяя вековечную триаду. — Этому друиды учили на протяжении сотен поколений. Но не всегда было так. Было время, когда мы, подобно непросвещенным, верили, что лишь живая человеческая кровь удовлетворит богов. — Он замолчал и с большим усилием продолжил: — Всего несколько дней назад в ночь Бельтана, на холме неподалеку отсюда, верховный друид Ллеухр Нора запалил костер Плетеным Человечищем. — Нет! Разумеется, я слышал о человеческих жертвах — да что там, меня самого чуть не принесли в жертву! Но то, о чем рассказывал друид, было темнее, страшнее, противоестественнее. — Поверь мне, — мрачно промолвил Блез. — Четверо несчастных сгорели заживо в огромной плетеной клетке. Мне больно об этом говорить, Сокол, но друиды убедили себя, будто все наши нынешние беды исходят от нерадения старым богам и веры во Христа и без мощной магии тут не справиться. Вот они и возрождают смертоубийственные обряды. — Что же делать? — Погоди, Мирддин Бах, это еще не все. Они обратились против тебя. — Меня? Почему? Что я… — Тут до меня дошло. — Из-за плясавших камней? — Отчасти. Они считают, что Талиесин сбил Хафгана с пути и склонил его к христианству. За это они злы на Талиесина, но поскольку он мертв и недоступен для них, то решили уничтожить тебя, его наследника. Считается, что в тебе живет его душа. — Он развел руками, объясняя: — В тебе такая сила, какой они прежде не могли себе вообразить. Я только тряхнул головой. Сперва Моргана, теперь Ученое Братство… Я, за свою короткую жизнь никого пальцем не тронувший, вызвал ненависть могущественных врагов, о которых даже не подозревал! Блез почувствовал мое смятение. — Не тревожься, — сказал он, беря меня за руку, — и не страшись. Тот, Кто в тебе, больше того, кто в них, верно? — За что они хотят меня погубить? — Потому что боятся. — Он стиснул мой локоть железной хваткой. — Скажу тебе правду, Мирддин, это из-за того, кто ты есть. — Кто же я, Блез? Он не сразу ответил, но и глаз не отвел. Его пристальный взор, казалось, проникает в самый мой мозг. — Разве ты не знаешь? — спросил он наконец. — Хафган говорил о Поборнике. Он назвал меня Эмрисом. — Вот видишь! — Всего не вижу. — Ладно, наверное, пришло время. — Он выпустил мой локоть и откинулся назад, чтобы взять посох. Потом, подняв надо мной гладкий рябиновый жезл, заговорил нараспев: — Мирддин ап Талиесин, ты — Долгожданный, чей приход возвестили небесные чудеса. Ты — Ясный Свет Британии, отгоняющий мрак. Ты — Эмрис, бессмертный пророк-бард, Хранитель души своего народа. С этими словами он встал на колени, отложил посох и поцеловал край моего одеяния. — Не прогневайся на своего слугу, владыка Эмрис. — Ты с ума спятил, Блез? Это всего лишь я, Мирддин. — Сердце мое бешено колотилось. — Я совсем не то, что ты говоришь. — Ты станешь им, Сокол, и ты уже он, — отвечал Блез. — Но зачем так убиваться? Наши враги еще не ломятся в дверь. — Он рассмеялся. Напряжение рассеялось. Мы вновь были двумя друзьями у очага. Вошел слуга снова наполнить кубки. Я поднял свой и сказал: — Твое здоровье, Блез, и здоровье врагов наших врагов! Мы выпили, и старые узы стали еще крепче. Двое друзей… Может быть, есть силы мощнее дружбы, но мало таких же прочных.
Глава четырнадцатая
В конце осени, когда наступили холода, мы с Блезом вернулись к прерванным много лет назад занятиям. Я взялся за учебу с еще большим рвением, потому что стремился наверстать упущенное: твердил на память народные песни и сказания, развивал наблюдательность, все больше узнавал о земле и о том, что на ней, о повадках зверей, птиц, рыб и гадов, совершенствовался в умении играть на арфе, проникал в загадки воды, огня, земли и воздуха. Впрочем, вскоре оказалось, что в той области знаний, которую люди называют магией, я знаю больше Блеза. Наука Герн-и-фейн не пропала даром; Обитатели холмов знали многое, о чем не ведало Ученое Братство. Теперь и я владел этими знаниями. Зима шла своим чередом, один холодный серый день сменялся другим, но вот наконец солнце стало подольше задерживаться на небе, а земля — согреваться в его лучах. В эти дни я исчерпал знания Блеза. — Я ничего больше не могу тебе дать, Сокол, — сказал он. — Клянусь жизнью, я не знаю, о чем еще тебе рассказать. А вот ты можешь научить меня многому. Я вытаращил глаза. — Да ты что… я так мало знаю. — Твоя правда, — расплылся он. — Не это ли начало истинной мудрости? — Я серьезно говорю, Блез. Ты наверняка знаешь что-то еще. — И я серьезно говорю, Мирддин Бах. Мне нечему тебя больше учить. Да, наверное, остались какие-то неважные побасенки из жизни нашего народа, но ничего существенного. — Не мог же я выучить все! — упорствовал я. — Опять правда. Тебе еще многое предстоит узнать, но только не от меня. Отныне ты должен учиться сам. — Он покачал головой. — Да не вешай ты голову, Сокол. Не зазорно ученику превзойти учителя. Такое случается. — Но разве ты не пойдешь со мной? — Туда, куда ты идешь, Мирддин Эмрис, мне не дойти. — Блез! Он предостерегающе поднял палец. — Не уподобляйся другим и не путай знание с мудростью. Мы продолжили занятия, но уже иначе. Все чаще и чаще оказывалось, что я учу Блеза, а тот в ответ пел такие дифирамбы, что мне скоро стало стыдно открывать рот. Однако в целом эта зима дала мне многое. Когда сошел снег и просохли дороги, мы с Мелвисом и семью его людьми, вооружившись, впервые в том году отправились по его землям. Мы беседовали с вождями, а те рассказывали, что произошло в их селениях за зиму. По мере надобности Мелвис разрешал споры, которые мог разрешить только король, или сам объявлял решения, которые из уст вождя кому-то могли показаться обидными. Еще он сообщил каждому вождю, что собирает юношей в дружину и что с этого года все избытки пойдут на ее содержание. Никто не возражал; более того, многие предвидели, что так будет, и охотно взялись помогать. Мелвис показал себя мудрым правителем: мог пожалеть и дать поблажку, а мог проявить непреклонность. Но всегда и во всем он был честен и справедлив. — Люди не любят произвол, — сказал он как-то раз, — и ненавидят лицеприятие. Это медленный, но смертоносный яд. — Тогда тебе нечего страшиться, государь, твой суд справедлив и нелицеприятен. Мелвис склонил голову набок, вглядываясь в меня. Остальные ехали сзади и беспечно переговаривались. — Харита сказала, что ты отдал сердце дочери короля Кустеннина. Его слова прозвучали, как гром с ясного неба. Я и не знал, что моя мать так все угадала. Я залился румянцем, но отвечал честно: — Да, ее зовут Ганиеда, и я ее люблю. Мелвис задумался. Некоторое время я слышал лишь тихое шлепанье копыт по молодой траве. Потом король сказал: — Думал ли ты о своем будущем, Мирддин? — Да, государь, — сказал я, — и в сердце своем решил, как только смогу, забрать Ганиеду от отцовского очага к моему собственному. — Значит, у вас все решено. — Да. — Тогда, возможно, по приезде в Маридун нам надо будет поговорить. Больше он не добавил ни слова, да в этом и не было нужды. Вскоре мы въехали в последний поселок, Каернид, — россыпь домишек и обсаженных шиповником загонов неподалеку от крепости на холме. Мелвис торопился засветло вернуться в Маридун, поэтому мы старались побыстрее разобраться с делами. К полудню мы все закончили и тронулись в путь, как только смогли это сделать, не обижая местных жителей. До Маридуна было рукой подать, так что спешить было некуда. Впрочем, я заметил, что чем ближе к дому, тем тревожней становится Мелвис. Вслух я ничего не сказал, и, похоже, никто другой этого не видел. Однако губы его были крепко сжаты, он говорил отрывисто и надолго замолкал. Я пытался понять, что его гнетет, и напрасно терялся в догадках… пока не увидел дым. Мы заметили его одновременно. Я крикнул «Пожар!» в тот же миг, когда Мелвис дернул поводья. Он взглянул на далекую цепочку холмов и тут же что есть силы хлестнул коня. — Маридун! Мы сломя голову устремились за ним. Серая струйка дыма превратилась в мощный черный столб. Мы уже различали запах паленого и слышали крики горожан. Разбойники напали, пока короля не было в городе. Наверное, они неустанно благодарили своих языческих богов за то, что жители остались почти без защиты. Однако они слишком долго выжидали, а может, замешкались на побережье. Так или иначе, мы застигли их врасплох в самый разгар грабежа — налетели с мечами в руках в то время, когда они были рассеяны по старой рыночной площади. Ирландцы защищались мужественно, но куда им было тягаться с конными мстителями! Через несколько минут тела двух десятков грабителей уже лежали на мостовой. Мы спешились и принялись срывать с крыш горящую солому, чтобы пламя не распространилось дальше, а покончив с этим, вернулись к убитым — забрать награбленное. Бой закончился, от сердца немного отлегло. Город затих, в неподвижном воздухе слышался лишь треск пламени да карканье начавших слетаться на пир ворон. Нам бы сообразить, что это неспроста, но никто не ожидал засады. Мы даже не поняли, что произошло, когда первые копья засвистели в воздухе. Кто-то вскрикнул, два наших спутника рухнули, пронзенные насквозь. В следующий миг ирландцы выскочили из-за укрытия. Позже мы узнали, что в Тови пристали три большие ладьи — по тридцать воинов в каждой. Все они, кроме тех двадцати, чья кровь обагрила камни рыночной площади, с диким ревом бросились на нас. Семьдесят против семи. Произошло замешательство. Мы бросились к коням и вскочили в седла. Однако разбойники бежали со всех сторон, и мы не могли атаковать их в конном строю. Кроме того, в тесноте негде было как следует размахнуться мечом. На моих глазах одного из воинов Мелвиса стащили с коня и закололи на месте. Мелвис ринулся ему на выручку, рубя направо и налево. Вражеские копья разлетались в щепки под его ударами, противники с криком валились наземь. Я издал боевой клич и устремился на подмогу. Путь мне преградили двое воинов с копьями. Лошадь отпрянула и вздыбилась, едва не сбросив меня на землю, поскользнулась на гладком камне и опрокинулась на бок, придавив мне ногу. Мимо уха просвистело копье, другое нацелилось мне в грудь. Я размахнулся и отбил его мечом. В этот миг лошадь начала вставать, и я рывком выдернул из-под нее ногу. Я перекатился и увидел еще двоих врагов — всего выходило четверо. Железные наконечники их копий были направлены на меня. Ближайший воин с криком ринулся вперед. Я видел наступающих противников, смуглые искаженные лица в мелких капельках пота, сверкающие сталью глаза. Их руки крепко сжимали древки, костяшки пальцев побелели, шейные жилы напряглись… Я видел это и многое другое с жуткой, леденящей кровь ясностью. Ревущий поток времени превратился в медленные капли. Все вокруг остановилось, как если бы всех вокруг внезапно сковал сон. Острия копий надвигались медленно и лениво. Мой собственный меч взлетел и упал стремительно, рассек деревянные древки, срубил наконечники, словно головки чертополоха. Я позволил инерции удара развернуть меня вполоборота, так что, когда враги добежали, сжимая затупленные копья, меня уже и след простыл. Я оглядел площадь. Повсюду кипело сражение. Стоял неумолчный рев, схожий с гулом крови в ушах. Наши воины рубились не на жизнь, а на смерть. На противоположном конце Мелвис, нагнувшись в седле, рубил сплеча, меч его равномерно вздымался и падал, оставляя за собой алые ленты крови. Впрочем, враги уже распознали в нем вожака и теперь стекались к нему со всех концов площади. Моему обостренному восприятию представлялось, что они ползут, как сонные мухи. Я схватил уздечку, вскочил в седло и направил коня к Мелвису. Скакун плавно нес меня по площади, и я рубил, рубил, рубил направо и налево, так что клинок превратился в сияющий круг света. Враги падали, как деревянные чурки, а я летел на выручку королю. Меч мой пел, неутомимый, как прибой в шторм, издавал ясный звон при каждом ударе. Мы сражались на пару, Мелвис и я, и вскоре камни под ногами у наших коней обагрились густой кровью. Однако враги все так же остервенело кидались на нас, сжимая кинжалы и копья. Страшась моего меча, они метили в лошадь, норовя поразить ее в ноги или живот. Какой-то болван с воем ухватился за уздечку, чтобы пригнуть лошадиную голову вниз. Я отсек ему ухо, и он взвыл уже по-настоящему. Другой лишился руки при попытке ударить лошадь кинжалом в бок. Еще один попытался достать меня клинком и осел на землю, как куль, получив удар плашмя по кожаному боевому шлему. Все это я делал легко, почти шутя, у меня было вдоволь времени примериться и ударить, я успевал думать на два удара вперед. Включившись в этот таинственный ритм боя, я обнаружил, что неуязвим для охваченных странным оцепенением врагов. И так, разя вновь и вновь, рубя и стремительно разворачиваясь, покуда противники неуклюже тыкались, бесполезно размахивая руками, я влился в прекрасный и страшный танец. Барды с трепетом говорят об Оран Мор, Великой Музыке — неуловимом источнике всех мелодий и песен. Лишь у немногих есть дар его различать. Такой — или даже больший — дар был у Талиесина. Но я в упоении битвы слышал Оран Мор, она билась в моих членах, в моей разящей руке, мой меч повторял ее нездешний напев. Я стал частью Оран Мор, Оран Мор — частью меня. Послышался боевой клич, и домовая стража Мелвиса под стук копыт вылетела на площадь. Воины прискакали с виллы, на которой укрылись горожане, и, напрасно прождав нападения, ринулись нам на помощь. В следующий миг я понял, что победа за нами. Во мне поднялась волна неуемной радости, я различил высокий боевой клич, торжествующий вопль, и узнал свой собственный голос. Враги, как один, повернулись на этот звук, и я с немыслимой ясностью увидел, как отчаяние исказило их лица. Они поняли, что обречены. Мой клич перешел в победную песнь. Я бросился на выручку теснимым братьям по оружию, упоение разливалось по жилам и рвалось из глотки словами песни. Никто не мог устоять передо мной. Ирландцы бежали в страхе. В один миг я был здесь, отбивал товарища у врагов, тащивших его на смерть, в другой — на противоположном конце площади, вырывал оружие у противника и отдавал другу. Раз я успел подхватить и усадить обратно выпавшего из седла воина. И все это время голос мой звенел не смолкая. Я был неуязвим. Мелвис подъехал ко мне, трое наших воинов — за ним. Я отсалютовал мечом и увидел, что лицо короля бледно под кровью и потом, глаза остановились. Правая рука была рассечена, но он не обращал на это внимания. Мелвис коснулся меня дрожащей ладонью, я видел, что губы его шевелятся, но слова даются с трудом. — Довольно, Мирддин. Все позади. Я осклабился и дико захохотал. — Гляди! — воскликнул он, тряся меня за плечо. — Посмотри вокруг. Мы победили! Я вгляделся сквозь застилавший глаза туман. По всей площади лежали трупы. Запах мертвечины царапал ноздри. Меня стал бить озноб. Последнее, что я увидел, — солнце прямо в глаза и облака, словно птицы, несущиеся по кругу. Помню, как мы въехали на виллу, помню невнятный гул голосов. Помню, что пил какую-то горечь, и потом меня рвало. Помню, что проснулся в холодном поту от звона стали о сталь, тьму вокруг озаряли языки пламени. Помню, что плыл в необъятном море, а вокруг ревела и грохотала вода. Помню, наконец, что взбирался на крутой склон и стоял на пронизывающем ветру, а впереди наливалась кровью заря… Боевое исступление пришло и ушло. Когда я снова проснулся, мама внимательно разглядывала меня, щупала лоб, но признала, что ночной недуг покинул меня. — Мы беспокоились о тебе, Мерлин, — сказала она. — Думали, ты ранен, но на тебе нет даже синяка. Как ты себя чувствуешь? — Хорошо, мама. — Вот все, что я сказал. Не мог же я объяснить то, чего сам не понимал! После завтрака я услышал какой-то шум за дверьми и вышел во двор, где нашел Мелвиса и стражников, многие из которых сражались вчера бок о бок с нами. Впрочем, на вилле они все вместе собирались редко, поскольку король поочередно отправлял их нести дозор на границе. Весть о вчерашнем нападении собрала всех вождей и воинов. Пришли и многие горожане, так что на дворе яблоку негде было упасть. Мелвис обращался к ним, но, когда я вышел, воцарилась тишина. Без всякой задней мысли, думая просто присоединиться к собравшимся, я встал рядом с королем. Кто-то протиснулся ко мне из толпы, и я узнал Блеза. Он воздел посох и запел громко:Книга вторая Лесной владыка
Глава первая
Глава вторая
О волчица, счастливая волчица, повелительница зеленых холмов! Ты одна мне и друг, и подруга. Говори же со мной. Одари меня мудрым советом. Заступись за меня, встань на мою защиту. Тебе нечего поведать, мудрец? Что это? Сказание? Как пожелаешь, о владыка холмов! Я беру свою арфу. Слушайте, дети праха! Слушайте хорошенько, что я вам расскажу.Во время оно, когда роса творения еще была свежа на земле, великий Манавиддан ап Ллир был королем и господином семи кантрефов Диведа. И вот что тогда случилось. А надо сказать, Манавиддан был братом Брана Благословенного, который правил Островом Могущественного и всей землей владел, как своей собственной, а все короли и князья были под его рукой. Однако Бран отправился странствовать в Иной Мир и долго не возвращался, и Манавиддан, согласно обычаю, принял бразды правления. И не было во всем мире лучше короля, и не было места лучше, чем дикие холмы Диведа, ибо здешние земли прекраснее всех прочих. И вышло так, что некий Придери, князь Гвинедда, явился к Манавиддану просить о дружбе. Манавиддан принял его ласково и закатил пир. И вот, два друга пировали и веселились, услаждаясь приятной беседой, пением искусного барда по имени Аннуин Ллау и обществом прекрасной королевы Рианнон, о которой повествуют многие удивительные сказания. В первый вечер, когда пришло время расходиться, Придери обратился к Манавиддану. — Слыхал я, — сказал он хозяину дома, — будто охотничьи угодья в Диведе хороши несравненно и лучше их нету в мире. — Так поблагодари того, кто тебе это сказал, ибо никто еще не произносил более правдивых слов. — Может, поохотимся вместе? — предложил Придери. — Ну что ж, брат, давай поохотимся завтра, если ничто тебе не препятствует, — отвечал Манавиддан. — А я-то уж думал, что успею состариться, прежде чем ты меня позовешь, — весело отвечал Придери. — Мне как раз ничего не мешает, так что поедем завтра. На следующее утро друзья в компании отважных спутников отправились на охоту. Они охотились весь день и наконец остановились передохнуть. Покуда их спутники поили усталых коней, они взобрались на ближайший холм и заснули. И вот, когда они спали, ударил гром, да так громко, что они пробудились. И вслед за ударом грома всю землю окутал густой туман — такой плотный, что не видно было на расстоянии вытянутой руки. Когда туман наконец рассеялся, стало так светло, что люди заморгали и закрыли лица руками. Когда друзья открыли глаза, то, оглядевшись, увидели, что все переменилось. Исчезли реки, деревья, стада и селения. Ни зверя, ни дыма, ни огня, ни человека, одни холмы — и те голые. — Увы! — вскричал Манавиддан. — Что стало с нашими спутниками и со всем моим королевством? Пойдем и отыщем их, если сможем. И они вернулись в его дворец и нашли только вереск и терн на месте богатых чертогов. Тщетно обшаривали они лощины и балки, ища человеческое жилье, — им попалось лишь несколько хворых птиц. И оба они весьма опечалились: Манавиддан о своей супруге Рианнон, ожидавшей его в покоях, и об отважных спутниках, а Придери — о дружине и богатых дарах, что дал ему Манавиддан. Однако ничего не попишешь, запалили они костер из вереска и легли в тот вечер голодные, на холодной сырой земле. Поутру услыхали лай собак, как будто преследующих добычу. — Что бы это значило? — подивился Придери. — Чего сидеть и гадать, если можно поехать и выяснить? — промолвил Манавиддан и тут же вскочил в седло. Они поехали на лай и въехали в укромную лощину, заросшую березняком. И вот навстречу им из березняка выбежала целая свора гончих. Псы дрожали от страха и поджимали хвосты. — Сдается мне, — заметил Придери, — что в этом лесу какое-то колдовство. Не успел он произнести эти слова, как из леса вылетел ослепительно белый вепрь. Псы еще больше оробели, но Придери и Манавиддан подбодрили их криками, и свора устремилась за зверем. Друзья следовали за собаками, пока не увидели, что вепрь остановился и готов напасть на преследователей. При виде людей белый вепрь побежал вперед. И вновь они пустились за ним и снова увидели, что вепрь обороняется от собак, и опять при их появлении он помчался прочь. Так они преследовали вепря, пока не оказались подле большой крепости, которой прежде не видели. Вепрь и гончие вбежали в крепость, и, как ни вслушивались друзья, они не различили больше не звука. — Войду-ка я в эту крепость и узнаю, что приключилось с собаками, — сказал Придери. — Ллеу свидетель, нехорошо ты придумал, — промолвил Манавиддан. — Ни ты, ни я прежде тут крепости не видали, и вот тебе мой совет — держись подальше от этого странного места. Может быть, крепость поставил тот же, кто наложил заклятие на страну. — Может, ты и прав, да не по сердцу мне терять такую славную свору. — И, не послушав доброго совета, Придери направил лошадь вперед и въехал в ворота крепости. Внутри он не увидел ни человека, ни зверя, ни вепря, ни собак, ни башни, ни покоя, а только большой мраморный круг, а над ним, на четырех золотых цепях, которые уходили в небесную высь, прекраснейшую чашу из чистого золота. И хотя Придери много в жизни повидал золотых вещей, эта была лучше всех. Подошел он к мраморному кругу и увидел Рианнон, жену Манавиддана, которая стояла неподвижно, как камень, и рукой держалась за чашу. — Госпожа, — спросил Придери, — что ты тут делаешь? Она не ответила. Чаша была до того хороша, что Придери, не чая беды, подошел и коснулся ее рукой. В тот же миг рука его прилипла к чаше, а ноги — к кругу, и он застыл, как каменное изваяние. Той порою Манавиддан ждал и ждал, но Придери не появлялся. — Ладно, — сказал он себе, — ничего не поделаешь, нужно идти следом. И вошел в ворота. Здесь он, как и Придери, увидел великолепную золотую чашу на золотых цепях. Увидел и свою жену Рианнон, которая держалась за чашу, и Придери рядом с ней. — Любезная супруга, — промолвил он, — и друг Придери, что вы здесь делаете? Ни тот, ни другая не ответили, но едва он произнес эти слова, как по крепости раскатился мощный удар грома и повис густой туман. Когда же туман рассеялся, Рианнон, Придери и сама крепость пропали, как и не бывали. — Горе мне! — вскричал Манавиддан. — Один я остался, нет со мной ни друга, ни даже собаки. Ллеу свидетель, не заслужил я такой участи. Что же мне делать? Пришлось ему жить одному. Он ловил рыбу, охотился на диких зверей и посеял в землю несколько зерен пшеницы, которые нашел в кармане. Пшеница дала богатый урожай, и со временем он смог засеять целое поле, потом еще и еще. Да и не диво, ведь пшеница была лучшая в мире. Манавиддан ждал, и вот пшеница поспела. Он уже чувствовал во рту вкус будущего хлеба. И вот, глядя на свою ниву, сказал себе: «Глупец я буду, если не уберу ее завтра». И вернулся к себе в шалаш навострить серп. Ранним утром вышел он жать пшеницу, глядь: стебли торчат, а колосьев нет. Унес кто-то все зерно, оставил одну солому. В печали бросился Манавиддан на второе поле. Колышутся на ветру спелые колосья. Сказал себе Манавиддан: «Глупец буду, если не уберу их завтра». Назавтра проснулся он засветло и пошел жать пшеницу. Пришел на поле, глядь: одни голые стебли стоят. Унесли зерно. — Увы мне! — вскричал он. — Что за враг вздумал меня погубить? Если он и третье поле разорит, придет мне погибель! Поспешил Манавиддан на третье поле и увидел, что зерно поспело. — Глупец буду, если не уберу его завтра, — сказал он себе, — да и вообще не жить мне больше, ибо это моя последняя надежда. И сел он, где стоял, чтобы всю ночь сторожить поле и подкараулить врага. Смотрел он, смотрел и к полуночи услышал ужасающий шум. Глядь — бежит видимо-невидимо мышей. Столько их было, что он глазам своим не поверил. Не успел он охнуть, как мыши рассыпались по полю, каждая взбежала по стеблю, отгрызла колос и сбежала вниз, унося зерна во рту. Манавиддан бросился спасать свое поле, да мышей уже и след простыл. Одна мышь была тяжелее других и не могла бежать так быстро. Манавиддан поймал ее, посадил в рукавицу, а отверстие перевязал шнурком и понес мышь-пленницу в свою лачугу. — Видит Ллеу, — сказал он мыши, — как повесил бы я вора, укравшего мой урожай, так и тебя повешу. На следующее утро пошел Манавиддан на холм, с которого начались все его злоключения, и взял с собой мышь в рукавице. Здесь, на самой вершине холма, воткнул он в земле две рогульки. Тут же у подножия холма появился человек на тонконогой кляче, одетый в нищенские лохмотья. — Добрый день тебе, господин, — окликнул нищий Манавиддана. Манавиддан повернулся к нему. — Ллеу да будет добр к тебе, — отвечал он. — Вот уж семь лет, как не видел я ни одного человека во всем моем королевстве. Ты первый. — Я просто проезжал через эти пустынные земли, — сказал нищий. — Скажи, господин, чем ты занят? — Казню вора. — Что за вор? Существо, которое я вижу в твоей руке, больше похоже на мышь. Неприлично великому владыке прикасаться к такой твари. Уж точно ты ее отпустишь. — Ллеу клянусь, нет! — с жаром воскликнул Манавиддан. — Эта мышь и ее товарки лишили меня пропитания. Я намерен казнить ее, прежде чем умру с голоду. Нищий уехал, и Манавиддан стал прилаживать на рогульки перекладину, но тут его снизу окликнул голос: — Привет тебе, господин. — Ллеу меня разрази, здесь становится людно, — пробормотал Манавиддан. Он огляделся и увидел у подножия холма благородную даму на серой кобыле. — Добрый день и тебе, госпожа, — сказалон, — что тебя привело сюда? — Я проезжала мимо и увидела, что ты тут трудишься. Чем ты занят? — с учтивостью спросила она. — Вешаю вора, — объяснил Манавиддан, — если это для тебя важно. — Для меня это и впрямь неважно, — сказала дама, — но мне представляется, что твой вор — мышь. Я бы сказала, повесь ее всенепременно, не будь унизительно для человека твоего сана и достоинства связываться с поганой тварью. — И что же я, по-твоему, должен сделать? — с подозрением промолвил Манавиддан. — Дабы ты себя не бесчестил, я бы дала золотую монету за ее свободу. — Она чарующе улыбнулась, и Манавиддан чуть было не поддался. — Ты очень убедительно заступалась за эту несчастную мышь, но я решил загубить ее жизнь, как она загубила мою. — Ну что ж, господин, — величественно произнесла дама, — поступай, как тебе угодно. Манавиддан вернулся к своему делу и, сняв с рукавицы шнурок, завязал один конец у мышки на шее, когда же стал поднимать ее к перекладине, услышал снизу крик. — Ни одной живой души не видел я все семь лет, а тут вдруг одолели, — проворчал он про себя. С этими словами он повернулся и увидел архидруида со свитой учеников. — Ллеу в помощь, — произнес архидруид. — Какой работой занят господин? — Коли хочешь знать, вешаю воришку, который меня сгубил, — отвечал Манавиддан. — Прости господин, но уж больно легко, выходит, тебя сгубить. Ибо сдается мне, в руке у тебя мышь. — Все равно это вор и разбойник, — буркнул Манавиддан. — А я не обязан держать перед тобой ответ. — Я не прошу ответа, — отвечал архидруид. — Только горько мне видеть, что столь славный муж карает беспомощное создание. — Тоже мне, беспомощное! Видел бы ты, как эта мышь со своими товарками опустошала мои поля, лишая меня пропитания! — Ты человек разумный, — промолвил архидруид, — и позволишь мне выкупить это ничтожное создание. Я дам за нее семь золотых слитков. Манавиддан твердо покачал головой. — Нет, я не продам эту мышь ни за какое золото. — Негоже человеку твоего звания убивать мышь, — возразил архидруид. — Посему дозволь ее выкупить за семьдесят золотых слитков. — Позор мне будет, если соглашусь хоть за дважды по семьдесят! Архидруид не сдавался. — И все же, господин мой, не стоит тебе марать руки об эту тварь. Я дам тебе сто коней, и сто воинов, и сто крепостей. — Я повелевал тысячами, — отвечал Манавиддан, — и не соглашусь на сотню. — Коли ты от всего отказываешься, — промолвил архидруид, — то сам назови свою цену. — Ладно. Есть цена, на которую я готов согласиться. — Говори и получишь. — Желаю, чтобы ты освободил Рианнон и Придери. — Будет по-твоему, — отвечал архидруид. — Ллеу клянусь, это еще не все. — Что же еще? — Сними заклятие с королевства Дивед и со всех моих владений. — Будет по-твоему, только отпусти эту мышь. Манавиддан кивнул и взглянул на пленницу. — Отпущу, только скажи прежде, что тебе в этой мыши. Архидруид вздохнул. — Ладно, твоя взяла. Она моя жена, не то не стал бы я ее выкупать. — Твоя жена! — воскликнул Манавиддан. — Неужто я поверю в такую чушь! — Поверь мне, господин, так оно и есть. Это я наложил заклятье на твои земли. — Кто ты и почему хочешь моей погибели? — Я — Хен Даллпен, верховный друид Острова Могущественного, — отвечал архидруид, — и тебя хотел погубить из мести. — За что? Чего я тебе сделал? — Манавиддан в жизни никого не обидел, будь то друид или жрец. — Ты занял престол Брана Благословенного, не спросясь Ученого Братства. За это я наложил заклятие на твое королевство. — А зачем ты уничтожил мои поля? — спросил Манавиддан. — Когда мои спутники проведали о пшенице, они попросили обратить их в мышей, чтобы расхитить твой урожай. На третью ночь моя собственная жена отправилась с ними, а она на сносях, не то бы тебе ее не поймать. Однако, коли так вышло, я верну тебе Рианнон и Придери и сниму заклятье с твоих земель. — И архидруид закончил словами: — Теперь, когда я все тебе рассказал, отпусти мою жену. Манавиддан поднял взор на Верховного друида. — Глупец я буду, если сейчас ее отпущу. — Чего же еще ты хочешь? — вздохнул архидруид. — Скажи и покончим с этим делом. — Обещай, что, сняв заклятие, не наложишь нового ни сейчас, ни в будущем. — Обещаю. Так отпустишь мышь? — Еще нет, — твердо отвечал Манавиддан. Архидруид вздохнул. — Что ж, мы до вечера не столкуемся? Давай, говори. — Обещай не мстить за то, что случилось здесь, — отвечал Манавиддан, — ни Рианнон, ни Придери, ни моим землям, ни людям, ни имуществу, ни скоту. — Он взглянул архидруиду прямо в глаза. — Ни мне самому. — Ллеу свидетель, мудро ты придумал. Ибо, не скажи ты этого, были бы твои новые страдания горше прежних. Манавиддан пожал плечами. — Каждый оберегает себя, как может. — Теперь отпусти мою жену. — Не отпущу, пока не увижу Рианнон и Придери, идущих ко мне навстречу. — Тогда смотри, — устало промолвил архидруид. — Вот они идут. Появились Рианнон и Придери; Манавиддан бросился к ним, радостно приветствовал и начал рассказывать обо всем случившемся. — Я сделал все, что ты просил, и больше, чем сделал бы, не попроси ты об этом, — взмолился архидруид. — Исполни же единственную мою просьбу: отпусти мою жену. — Охотно, — произнес Манавиддан, разжал кулак, и мышь выпрыгнула на землю. Архидруид нагнулся, прошептал ей на ухо слова на тайном древнем наречии, и в тот же миг мышь обернулась пригожей беременной молодкой. Манавиддан оглядел свои земли, глядь, все на месте: дома, и люди, и скот, будто никуда и не пропадали. Только Манавиддан знал, что это не так. Здесь кончается Мабиноги о Манавиддане, милая моя волчица. Да, печальная местами история, но, думаю, ты согласишься, что конец искупает все. Что ты сказала? Да, здесь заключено больше, чем кажется на первый взгляд. Как же ты проницательна, о мудрая волчица! Конечно, глаз или ухо различают далеко не все. Внутри сказания заключена тайна. Имеющий уши да слышит!
Глава третья
Вороны каркают на меня с древесных вершин. Они не ведают уважения к сану, они кричат: «Почто не умираешь, сын праха? Почто лишаешь нас нашей пищи?» Я — король! Как вы смеете меня оскорблять! Слушай, волчица, кое-что я должен тебе сказать… Нет, не могу… Не могу. Прости, прости, я не могу этого выговорить.Да, я страдаю. Тонкая струйка воды, сочащаяся из камня, — моя жизнь, моя кровь. Слушай, как воет ветер среди камней. Слушай, как он стенает. То тихо и жалобно, то словно хочет вырвать основание мира, то словно вздыхает или шепеляво напевает, как беззубая карга. Я брожу без цели и смысла, будто бесцельной ходьбой стремлюсь искупить грехи, о которых страшатся сказать уста, будто, бессмысленно переставляя ноги, могу обрести избавление. Ах! Нет мне избавления! О смерть, забравшая остальных, почему ты не забрала и меня?
Я кричу. Я бешусь. Я кричу в океане тьмы, и слова мои падают в бездну молчания. Ответа нет. Такова тишина могилы. Такова беспросветная тишина отчаяния, черного и вечного. Я был королем. Я и сейчас король. Камень, на котором сижу, — вот все мое королевство, все, что от него осталось. Некогда мне принадлежали другие земли. На богатом юге воздвиг я свой трон, и Дивед благоденствовал. Мы с Мелвисом правили вдвоем, как повелось издревле у гордых кимров. Мир вокруг все чернее, древние обычаи не в чести, они позабыты. В древних обычаях — опора и некое утешение. Но нет мира. Слушай же, если хочешь, моя волчица, историю одного человека. В честь победы устроили пир. О, как сиял мой меч! Да, он был и вправду прекрасен. Может быть, я слишком его любил. Может быть, я чересчур на многое замахнулся. Однако скажи мне, Господи Иисусе, кто замахивался на большее? Мы бросили трупы ирландцев в их же ладьи, подпалили и оттолкнули от берега. Шел отлив. Алое пламя плясало над водой, черный дым уходил в небеса, сердца наши радостно бились. Маридун был спасен, лишь несколько домов успели сгореть, да еще несколько остались без крыш. Десять человек погибли, из них шесть воинов. Однако мы выстояли, а по весне начали прибывать и первые дружинники. В тот год их приехало восемьдесят человек. На следующий — шестьдесят. Деметы и силуры — два этих клана в Диведе рождали отважных воинов. Великий Свет, я вижу их и сейчас: верхом на крепких пони, с кожаными щитами через плечо, наконечники копий блестят, клетчатые плащи развеваются за спиной, гривны и браслеты сверкают, волосы заплетены и подвязаны на манер конских хвостов или свободно рассыпаны по плечам, глаза темны и суровы, словно кимрский сланец, лица решительны. Вести таких людей за собой — радость. Мы вместе объезжали заставы по границам нашей страны. Мы воздвигли бревенчатые платформы на прибрежных холмах, чтобы в случае нападения зажигать сигнальный огонь. С первого же лета дозорные стояли на них до самой зимы, пока наступление холодов не положило конец тревогам. Да, на нас нападали снова и снова — варвары знали, что Максим отплыл в Галлию, забрав с собой цвет британских войск, но ни разу не заставали врасплох. То было доброе время для Маридуна. Погода расстаралась — дни были ясные и солнечные, вечером дождь смачивал подсохшую землю. Все зеленело, наливались плоды. Несмотря на частые набеги, стада приумножались, люди были сыты и довольны. В первую же осень моего правления, как только все устоялось, я открыто поведал матери и Мелвису о своей любви к Ганиеде. Решено было тут же послать гонца к Кустеннину, известить его о моих намерениях. Мы выбрали шесть дружинников и отправили их в Годдеу с дарами и письмами королю и моей невесте. Я поехал бы сам, но обычай требовал иного, к тому же я был нужен в Маридуне. Гонцы выехали ядреным осенним деньком, сразу после Самайна. Летнее тепло кончилось, но дни еще стояли погожие, и первый багрянец едва коснулся зелени. Я стоял на дороге, провожая уезжавших взглядом, и думал, что лишь зима, несколько серых, промозглых месяцев, немного сумрака и мороза отделяют меня от моего светоча Ганиеды. Лишь зима. А потом я сам отправлюсь за своей суженой. Все вышло примерно так, как я себе представлял. Всю зиму я не находил себе места, часто охотился или просто смотрел на переменчивые небеса, с которых сыпал то дождь, то снег. Возился с гончими Мелвиса, купался в теплой бане, играл с Харитой в шахматы и чаще проигрывал, выносил арфу и пел в зале по вечерам, а больше всего бродил по вилле, как бесприютная тень, ожидая, когда дни станут длиннее и проклюнутся зеленые почки. — Успокойся, Мерлин, ты весь подобрался, как кошка перед прыжком, — сказала мне Харита. Была середина зимы, мы недавно справили Рождество, а сейчас сидели за шахматами. Харита играла каждый вечер со мной или Мелвисом. — Ты не в силах ускорить течение дней. — Прекрасно знаю, — отвечал я. — Был бы в силах, давно бы наступила весна. — Ты так торопишься, милый. — Она взглянула на меня поверх доски, и я уловил в ее голосе печальную нотку. — О чем ты, мама? Она улыбнулась и сделала ход. — Годы и сами пролетят. Так ли давно Талиесин вошел с арфой в дом моего отца? — Она коснулась ладонью моей щеки. — Ты очень похож на него, Мерлин. Твой отец гордился бы таким сыном. — Она опустила руку, подвинула фигуру кончиком пальца и вздохнула. — Мой труд почти завершен. — Твой труд? — Я переставил фигуру, не замечая, какую и куда. Харита сделала ответный ход. — С этой поры о тебе будет печься Ганиеда, Соколик. — Ты говоришь так, как будто я переезжаю за море, а не в другие покои через двор от твоих. — Для меня это будет, словно ты переедешь на край света, — серьезно сказала она. — Со дня свадьбы вы с Ганиедой станете одно. Ты отдашь себя целиком, она — себя. Вы вдвоем станете целым миром — так и должно быть. Мне там места не будет. Я понимал, что она говорит правду, но не придал значения ее словам. Не хотелось верить, что событие, столь радостное для меня, доставит любимому существу такую сильную боль. Я хотел, чтобы все радовались вместе со мной. И Харита радовалась, но к сладости для нее примешивалась горечь — иначе и быть не могло. Позже, когда мы пожелали друг другу спокойной ночи, она прижала меня к себе чуть крепче обычного. Это было одно из множества мелких прощаний, которые помогали облегчить грядущую большую разлуку. Наконец пришел день моего отъезда в Годдеу. Я взял с собой двадцать воинов. Мы не ждали нападения по дороге, но враг год от года становился все более дерзким. К тому же мы слышали, что зима за Валом была суровой — оголодавшие пикты и скотты могли раньше обычного отправиться на разбой. Выехать с двадцатью лучшими воинами было делом разумным, да и им не мешало размяться после зимнего безделья. Но, если не считать вздувшихся рек и еще не растаявших перевалов, ничто нам не препятствовало. Мне уже казалось, что я так часто здесь езжу, что знаю на память каждый камень, куст, каждый брод по дороге в Годдеу. В попутчиках недостатка не было. Несмотря на слухи о разбойниках, купцов оказалось даже больше обычного. Видимо, люди поняли, что сношению с далекими областями приходит конец, и торопились как можно больше наторговать до тех пор. Да, поездка оставляла ощущение чего-то веселого, бесшабашного — а может быть, дело было в моем собственном настроении. Одним словом, чудесное вышло путешествие. В тот день, когда я подъезжал к озерной крепости Кустеннина, сердце мое готово было разорваться. Погода стояла чудесная, солнце сияло и дробилось на глади озера. Небо — чистейшее, лазурное, дикие цветы распространяли в воздухе нежный аромат, деревья гудели от птичьего пенья. У каждого день свадьбы должен быть таким. Когда я въехал в Годдеу и увидел Ганиеду у дверей королевских чертогов в белом плаще с золотой бахромой и изумрудно-зеленой вышивкой, с белыми цветами в темной прическе, — в этот день, в этот миг душа моя сочеталась с ней браком. Мы были так счастливы! Не помню, как подхватил ее и усадил перед собой в седло, хотя говорят, так я и сделал — подлетел к ней на полном скаку и умчал прочь. Помню только касание ее рук и губ, когда мы неслись по краю блистающего озера и копыта взметали в воздух ливень алмазных брызг. — Как ты узнала, что я сегодня приеду? — спросил я, когда мы наконец спешились у дворца. — Я не знала, господин мой, — с притворной серьезностью отвечала она. — Однако ты была готова и ждала. — Я жду тебя каждый день с тех пор, как распустились цветы. — Мое изумление заставило ее рассмеяться. — Как же иначе! Неужто мой любимый застал бы меня врасплох! — Я люблю тебя, Ганиеда, — сказал я. — Люблю сердцем и душой. И я по тебе стосковался. — Давай никогда больше не разлучаться, — промолвила она. В этот миг меня окликнули и появился Гвендолау. — Мирддин Вильт! Тебя ли вижу? Когда б не эта волчья шкура, не узнал бы. Отпусти мою сестрицу и дай на тебя взглянуть. — Гвендолау, брат мой! — Мы крепко взялись за руки, и он весело похлопал меня по плечам. — Ты изменился, Мирддин. В плечах-то как раздался. А это что? — Он тронул мою гривну. — Золото? Я-то думал, золото носят одни короли. — Ты отлично знаешь, что это так, — вмешалась Ганиеда. Я улыбнулся, услышав в ее голосе хозяйские нотки. — Разве он не король с головы до пят? — Тысяча извинений, госпожа, — рассмеялся он. — Вижу, можно не спрашивать, как поживаешь. Вон какой вымахал! — И ты, Гвендолау. — (Он тоже изменился за этот год — стал еще больше походить на Кустеннина, настоящий великан.) — Рад тебя видеть. — Давай займусь твоими людьми и конями, — сказал он. — Вам с Ганиедой есть о чем поговорить, а мы побеседуем позже. — Он с размаху хлопнул меня по спине и тут же пошел прочь. — Идем, — потянула меня Ганиеда, — пройдемся немного. — Да, но сперва я должен засвидетельствовать почтение хозяину дома. — Успеешь. Он на охоте, вернется после заката. Мы пошли гулять, и дорожка завела нас в лес, где мы отыскали рощицу и присели на теплой от солнца траве. Я держал Ганиеду в объятиях, и мы целовались, и, если бы я мог остановить течение времени, я бы это сделал. Ощущать ее сладостное, отзывчивое тело было для меня небом и землей. Великий Свет, я больше не вынесу!
Глава четвертая
Нет… нет, волчица, послушай, ум мой спокоен. Я продолжаю. Кустеннин всем сердцем одобрил наш союз. Полагаю, Гвендолау расписал моих родственников в самых лестных выражениях. Брачные узы между нашими домами должны были скрепить давнюю связь. Аваллах и Мелвис стремились к тому же. Юг нуждался в севере, нуждался отчаянно. Набеги врагов, с каждым годом проникавших все дальше, шли с севера; именно здесь жили пикты, скотты, круитни и аттакоты. А ирландцы и саксы, которые год от года становились все более дерзкими, приплывали из-за моря и высаживались на Инис Придеин все на том же незащищенном севере. Непрекращающиеся нападения заставили последних оседлых бриттов, живущих к северу от Вала, перебраться на юг, если они, как Эльфин, не сделали этого раньше. Ничто теперь не отгораживало цивилизованный юг от воинственного севера. Без сильных союзников на севере южане становились все более уязвимыми. Римляне построили Вал — скорее символическую границу, нежели реальную защиту, хотя он и сдерживал натиск с севера, покуда его стерегли легионы. Однако по-настоящему юг берегла сила северных королей. Сила эта ослабела. Не диво, что южные бритты с растущим страхом смотрели на север, хотя оттуда шли не только их беды, но и спасение. Союз был бы на пользу всем, так как нет связи прочнее кровной. Родство устоит там, где не устояла чиновничья мощь Рима. Мы или победим, или погибнем вместе. Это было мое дело, поскольку я был королем. Я видел, возможно, яснее других необходимость согласия между королевствами. Прежние редкие попытки наладить дружбу севера и юга, увы, ничего не дали. Чтобы выжить, надо было как-то поддержать северные королевства. Это значило отбросить мелочное тщеславие, позабыть про междоусобицы ради общего блага. От этого зависело наше будущее. Мы или вместе выстоим, или погибнем вместе. Я начал думать об объединении всех королевств в одно, в котором каждое оставалось бы независимым и каждое вносило бы свою долю в общее богатство и защищенность. Не империя, не государство: союз племен и народов, управляемый Советом королей, в котором каждый государь имел бы равный голос. Это очень важно: чтобы устоять перед натиском варваров, надо сплотиться и стать стеной, а не нынешней хрупкой россыпью удельных владений. Я мечтал, чтобы этим королевством управлял один Верховный король, избираемый Советом. Верховный король, которому подчинялись бы все короли, князья, вожди и знатные люди. Да, многие считали это глупостью, в лучшем случае блажью самоуверенного юнца. Нужно, говорили они, вспомнить, что мы граждане величайшей империи мира, и добиваться своих прав. — Просить Рим! — кричали они. — Мы — граждане. Мы имеем право на защиту. Послать петицию императору. Пусть вернет легионы. Теперь императором Максим, он нас послушает. Не позволит, чтобы нас жгли и убивали варвары. Однако Максим недолго носил пурпурную тогу и лавровый венок. Когда он пошел на Рим — как я и предвидел, точнее, как предсказал Пендаран Гледдиврудд, — то был разбит и взят в плен Феодосием, сыном Феодосия Завоевателя. Его привели в Сенат в цепях и через несколько дней обезглавили в Колизее. И не только он был убит в этот день — мечта об империи испустила дух на пропитанном кровью песке перед улюлюкающей, кричащей толпой. Вернуть легионы! Да, вернуть легионы. Много будет от этого проку! Неужто все ослепли? Неужто никто не видит? Мы никогда не жили под сенью римских орлов. Мы были этими орлами. Когда первые римляне, построив первые дороги и крепости, занялись другими делами, кто продолжал строить по их образцу? Кто надел нагрудные доспехи, взял римский меч и пику? Чьи сыновья пополняли легионы все эти годы? Кто брал римские имена и платил налоги римской монетой? Кто возводил города и виллы? Рим ли? Да, пусть орлы вернутся. Пусть они увидят, как ловко бритт научился владеть оставленными орудиями. Потому что так оно и есть. Рим ушел давно, только мы этого не знали. Просто мы льстили себе и охотно внимали лести, говорившей о том, что мы — любимые дети Рима. Приемные дети, может быть. Не скажу — приблудные, потому что когда-то Рим был к нам расположен и время от времени слал людей помочь разобраться в наших делах. Разумеется, не бесплатно. Наша дражайшая матушка-империя всегда больше интересовалась не нашим благосостоянием, а зерном, говядиной, шерстью, оловом, свинцом и серебром, которые мы производили и отправляли ей в виде податей. И это, друзья, в самое лучшее время. Что, по-вашему, она думает о нас нынче и думает ли вообще? Истина — горькая чаша, но, выпив ее, мы обретем силы. Мы не слабы, у нас есть надежда. Это наши сердца и острая сталь в наших руках. Да, я видел, как вольный народ сам правит собой без вмешательства далеких бесчувственных императоров, бритты правят бриттами ради блага всех, кого приютила это прекрасная земля, — от первого до последнего… Это было то, о чем мечтал Талиесин: Королевство Лета.Глава пятая
Небесное воинство звезд описывает круги, времена года проходят в медленном танце лет. Я сижу на камне, мои лохмотья трепещут на ветру. Летнее солнце печет и сжигает кожу, зимний ветер срывает мясо с костей, весенний дождь просачивается в душу, осенний туман леденит сердце. Да, Мерлин жив. Судьба ждет, покуда Мерлин сидит на камне под темными кронами Калиддонского леса. Владыка леса… Сын Цернунна… Лесной дикарь… Мирддин Вильт… тот самый чародей, что некогда дружил с королями, а ныне в поисках пропитания собирает гнилую падалицу… Будущее же пусть потерпит. Что-что, волчица? Вступление на престол? Не рассказал? Тогда слушай. В день пира, когда мы отмечали победу, приехал Давид. Он и помазал меня на царство. Вместе с Мелвисом, Харитой и несколькими вождями мы отправились в церковь. Здесь, в сладостной тишине у алтаря, мы преклонили колени и призвали Божье благословение на мое царствование. Потом Давид помазал меня святым миром, начертав на лбу крест. Помазал и мой меч со словами: «За этой стальной стеною да будет возрастать Христова Церковь». На это мы сказали «аминь». Он прочитал отрывок из Священного Писания, облобызал меня, я — его, все же остальные встали на колени и в знак покорности коснулись ладонями моих стоп. Все, кроме Мелвиса, разумеется — тот по-отечески меня обнял. Так я стал королем Диведа. Правление я начал так же, как, полагаю, начинали его многие до меня — выставил богатое угощение своим будущим сподвижникам, раздал всем подарки и принял клятву верности. Было, конечно, и пение: пришел Блез с четырьмя друидами, и они спели нам такую песню — прямо королевскую. Праздничное пиршество продолжалось еще три дня. Перед моим венчанием на царство Блез (я по-прежнему считаю, что это его заслуга, но не вижу здесь ничего дурного: древние друиды выбирали королей — это было их право) куда-то пропал и объявился вновь с золотой гривной. Пендаран хотел отдать мне свою вместе с троном, на котором восседал без малого пятьдесят лет. Однако это было бы несправедливо, ведь он по-прежнему принимал участие в делах правления. Поскольку никогда прежде в Диведе не было трех королей сразу, Мелвис предложил изготовить новую гривну. Блез, вероятно, предвидел такой ход событий, потому что вступил в зал с гривной в руках, неся ее так, будто в ней была заключена сама королевская власть. При его появлении все смолкли и уставились на гривну. Неужто они впервые увидели кусок золота? Признаюсь, он умел войти и исчезнуть эффектно, но я не заметил ничего необычного в его появлении с гривной. Может быть, потому, что для меня он прежде всего являлся другом, а для остальных — бардом, и это придавало ему особую значимость. Так или иначе, он произвел немалое впечатление. Он велел мне встать на колени, сам же держал гривну, словно некий талисман. Полагаю, кимры были уверены, что она заколдована. Они верили в силу церковных обрядов, но еще больше — в силу обрядов древних, освященных вековой традицией. Неплохо, что короля помазал священник в церкви. Однако будет куда лучше, если он примет королевскую гривну из рук друида. А мне досталось и то и другое. — Нужно ли это? — прошептал я. Зал молчал, все глаза были устремлены на меня. — Меня уже помазали. — Ничего, не умрешь, — прошептал он, изгибая мягкий желтый металл по форме моей шеи. — Молчи и не мешай. Гривна была у меня перед глазами, и я разглядел, что ее концы отлиты в виде двух медвежьих голов. На каждой — ошейник из маленьких рубинов, а глаза — из таких же сапфиров. Я остолбенел. — Ты что, украл ее? — спросил я шепотом, когда он надевал гривну на мою шею. — Да, — отвечал он. — А теперь тихо. Он слегка свел два конца гривны и, подняв ее над моей головой, произнес положенные слова на древнем наречии. Сомневаюсь, что кто-нибудь в зале, да и во всем Диведе понимал древнебриттский язык, на котором говорили до прихода римлян, — «темное наречие», как называли его люди. Однако так получалось даже внушительнее. Блез, дай ему Бог здоровья, желал мне помочь. Он показал собравшимся, что их новый король соединил прошедшее с грядущим. Он напомнил им о старых обычаях, как Давид указал путь в будущее. «Однако старые обычаи — мерзость», — слышал я от иных клириков. Невежды! Впрочем, не диво, что служители новой веры не принимают обрядов служителей веры старой. Я согласен, в прежней религии было много дурного; только дурачье хочет раздуть из погасших углей новое жаркое пламя. Однако я не спешу откреститься от того доброго, что было у нас в старину. А доброе было, уверяю вас. В каждой эпохе есть что-то доброе. Господь вездесущ и всегда открыт тем, кто Его ищет. Я знаю, потому что искал сам. Блез тоже все понимал. Он хотел, чтобы мою власть освятило и прошлое, и будущее, полагая, что так люди охотней пойдут за мной. Он тоже верил в Летнее царство. Впрочем, он в отличие от меня полагал, что людей надо убеждать. Я-то думал: распахни двери, и они радостно кинутся внутрь. Разумеется, я был так молод. Блез, конечно, видел все намного яснее, потому и рассказывал обо мне на каждом углу. — Люди пойдут за тем, в кого поверят, — говорил он. — Их сердца открыты, все люди хотят верить. Очень мало кто пойдет за мечтой, пусть даже прекрасной и правильной. А вот за тем, кто станет олицетворением этой мечты, пойдут. — Он хитровато улыбнулся. — Этого кого-то я им и даю. В тот миг, когда он надел на меня гривну, признаюсь, я почувствовал себя королем. Не знаю, где он ее взял, но ее явно прежде носил король. Может быть, целая череда королей. Да, в ней была заключена огромная мощь. Эту гривну, волчица, я ношу и сейчас. Видишь? Ганиеде она тоже нравилась. Да, нравилась. После этого мы с Мелвисом начали думать, как восстановить крепости по границам страны — не то чтобы они были разрушены, но туда уже не завозили провиант и воду, колодцы заилились, кое-где не хватало крепких ворот, стены местами обвалились. Провалы засаживали терновником или шиповником, что защищало от скота, но вряд ли остановило бы саксов или ирландцев. В самих укреплениях давным-давно никто не жил. Однако Мелвис считал, что скоро нам потребуются пограничные форты, снабженные прочными воротами, наполненные припасами и людьми. Кроме того, мы стали строить сигнальные вышки вдоль побережья; как я уже упоминал, первые появились в то лето, как начала собираться дружина. И на вилле, и в Маридуне жизнь била ключом. Все пребывали в приподнятом состоянии духа. В общем, то было хорошее лето. У меня нечасто выдавалась минутка задуматься о своем везении, но молился я в те дни, как никогда прежде: о своем народе, о силе, о мудрости, чтобы вести людей за собой. Больше всего о мудрости. Королю так одиноко! Даже на пару с Мелвисом бремя было слишком тяжелым для меня. Например, дружинники помоложе явно считали меня своим предводителем и ждали, что я буду ими распоряжаться. Мелвис помогал, как мог, Харита тоже, но, когда рассчитывают именно на твое руководство, от остальных проку мало. Вся ответственность целиком лежит на тебе. Множество ночей мы с Мелвисом провели в разговорах. Точнее, Мелвис говорил, а я внимательно слушал, ловя каждое слово. Он учил меня, как управлять людьми, и попутно делился житейской мудростью. Еще я часто виделся с Блезом и Давидом. Осенью же, перед самым Самайном и последним сбором урожая, вместе с Харитой посетил Инис Аваллах, а после побывал в Каеркеме у дедушки Эльфина и его родичей. Там (какие славные люди, какие благородные сердца!) я прожил до тех пор, пока не задули холодные ветры с моря и с деревьев не опали последние листья, после чего вернулся на вершину Тора, где меня дожидалась Харита, чтобы вместе ехать в Дивед. На Острове Яблок, как некоторые стали его теперь называть, все оставалось прежним. Казалось, время застыло: никто не старится, не происходит никаких перемен. Ничто не смеет потревожить священную тишь. Остров высился над течением дней, обитель почти духовная, в которой силы природы — смена времен года и человеческих возрастов — подчинены другим, возможно, более древним законам. Аваллах теперь почти все время изучал Священное Писание с Колленом или с кем-то еще из братии с Храмового холма. Думаю, он и сам вознамерился стать своего рода служителем церкви. Из короля-рыболова должен был получиться странный, хотя и неотразимый служитель. Как я помню, той осенью он впервые начал выказывать интерес к чаше, из которой Иисус пил на Тайной вечере и которую аримафейский торговец оловом Иосиф привез с собой во времена первой церкви на Храмовом холме. По какой-то причине я не рассказал ему о видении чаши. Почему, не знаю. Он бы очень заинтересовался моим рассказам, но что-то меня удержало, как будто не пристало говорить об этом так рано. «Скажу потом. Сейчас надо возвращаться в Маридун». Хотя особо спешить было некуда, я чувствовал, что лучше тронуться в путь. Той же осенью я послал гонцов к Ганиеде, а сам приготовился пережидать самую томительную и бесконечную зиму в моей жизни. Впрочем, об этом я уже рассказал…Глава шестая
Как давно, волчица? Как давно, подружка моя, сижу я на этом камне и смотрю на смену времен года? Их уносит к Деснице, Которая их посылает. Они летят, как дикие гуси, но не возвращаются никогда. Так как насчет Мерлина? Лесного дикаря? Неужто и он никогда не вернется? Было время, когда… Ладно, волчица, это неважно. Пояс Ориона, Лебедь, Большая Медведица — вот что важно. Пусть все остальное выцветает и блекнет. Только вечные звезды пребудут, когда все перейдет в бессмысленный прах. Я смотрю, как зимние звезды блещут в морозном небе. Если б во мне оставалась хоть капля жизни, я бы наколдовал огонь, чтобы согреться. Вместо этого я наблюдаю, как холодные небеса совершают таинственный труд. Я гляжу на изморозь на камнях и вижу узор жизни; гляжу на черную воду в моей плошке и вижу тени возможного и неизбежного. Рассказать про неизбежное, волчица? Я расскажу, и тогда ты будешь знать столько же, сколько я. Мы жили в Диведе. Я правил, мало-помалу раскрывая перед людьми свое видение Летнего королевства. Я был уверен: стоит показать форму и плоть задуманного — и все устремятся за мной. Мне было невдомек, какие силы собираются против меня. Да, мы сражаемся с искусным врагом. Это точно. Мы ходим по тонкой земляной корочке и думаем, что видим мир таким, какой он есть. А на самом деле видим то, что вообразили сами. Ни один человек не видит мир, как он есть. Разве что это прозрение дарует ему враг. Но я о нем говорить не буду. Спросите Давида, он вам расскажет. Ему проще, он никогда не стоял с ним лицом к лицу. Слова бессильны описать все омерзение, все отвращение, всю гнусность… Ладно, не будем. Ладно, ладно, Мерлин. Довольно об этом. Помню, как он впервые ко мне пришел. Помню юношеское лицо, полное смущения и надежды. Он плохо соображал, что делает, дурачок, но он вбил себе в голову, что это последний шанс, и больше ничего не хотел знать. Конечно, мне было немного лестно, и я видел выгоду для нас обоих, иначе б не согласился. А так… Как не сказал? Пеллеас, волчица. Я говорю о Пеллеасе, своем юном слуге. О ком же еще? Вместе с Гвендолау и несколькими людьми Аваллаха я прибыл в Ллионесс посовещаться с Белином. Мы надеялись заключить союз, чтобы вместе противостоять осмелевшим варварам. Нам нужна была помощь тех, кто живет южнее Хабренской губы и вдоль южного побережья. Именно там, в укромных бухточках, высаживались ирландцы, а дальше путь на север и восток был свободен. Мелвис с Аваллахом надеялись положить конец разбою, опоясав побережье цепью дозорных и сигнальных башен. Если ирландцев всякий раз будут встречать с оружием в руках, если их потери превысят размер добычи, они рано или поздно оставят грабежи и займутся чем-нибудь другим. Мы рассказали Белину о своем плане. Убедить его было нелегко: он любил ирландцев не больше нашего, но привык сам быть хозяином себе и не желал ни с кем иметь дело. Однако в конце концов Майлдун принял нашу сторону и убедил Белина сделать это. Накануне нашего отъезда ко мне пришел Пеллеас. — Прости, господин мой Мерлин, что тревожу твой покой, — сказал он. (Я в тот вечер рано ушел спать: уговаривать всегда трудно, и я за три дня изрядно устал.) — Заходи, Пеллеас, заходи. Я собирался выпить кубок перед отходом ко сну. Присоединяйся. Он принял кубок, но пить не стал. По лицу его я видел, что войти ко мне ему стоило немалых трудов и что речь пойдет не о безделице. Несмотря на усталость, я не стал его подгонять, а позволил не торопясь подобраться к сути. Я присел на край кровати, а ему предложил стул. Он сел, держа кубок и глядя на вино. — Что за места на севере? — спросил он. — Дикие. По большей части лес, есть горы и пустоши, на которых растет только торфяной мох. Одиноко там, это да, но совсем не так страшно, как люди воображают. А что? Он пожал плечами. — Я никогда не бывал на севере. Что-то в его голосе заставило меня спросить: — Ты думаешь, я там живу? — Разве нет? Я рассмеялся. — Конечно, нет, приятель. Дивед — сразу за Хабренским заливом, недалеко от Инис Аваллаха. Он был явно обескуражен, а я продолжал: — Тот север, о котором я говорил, далеко. До него надо ехать много-много дней. Это за Валом. Он кивнул. — Ясно. — Просто я там жил. Он вскинул голову. — Да. Жил с фейном Сокола — одним из племен Обитателей холмов, они кочуют со своими стадами по всем тамошним краям. Но есть земли еще дальше на севере. — Неужто? — Да, есть. Там живут пикты. Это действительно страшный край. — А правда, что пикты разрисовывают себя синей краской? — Правда. Есть разные способы. Некоторые даже выкалывают на коже причудливые узоры — это самые яростные воины. — Интересно, наверное, на них посмотреть, — с опаской произнес он. — Тебе бы стоило взглянуть, — произнес я, догадываясь, куда он клонит. Пеллеас со вздохом покачал головой — думаю, он отрепетировал это заранее. И вновь я сказал то, что от меня требовалось: — Почему же нет? — Я никогда нигде не побываю! — произнес он громко и жалобно. — Я даже в Инис Аваллахе не бывал! Наконец-то мы подошли к тому, что он собирался сказать. — В чем дело, Пеллеас? — спросил я. Он так быстро вскочил со стула, что немного вина выплеснулось из кубка. — Возьми меня с собой. Знаю, ты завтра едешь. Я бы стал твоим слугой. Ты король, у тебя должен быть кравчий. — Он помолчал и добавил с отчаянием в голосе: — Пожалуйста, Мерлин. Если я не выберусь отсюда, то умру. Это прозвучало так убедительно, что мне явственно представилась картина: я уезжаю, а он падает и умирает. Я не нуждался в кравчем, но знал — у Мелвиса в доме место всегда найдется. — Ладно, спрошу Белина, — сказал я. Он снова рухнул на стул. — Он меня не отпустит. Он ненавидит меня лютой ненавистью. — Глубоко сомневаюсь. У короля есть другие заботы, кроме… — Кроме благосостояния его собственного сына? — Сына? — Я всмотрелся в него пристальнее. — О чем ты? Пеллеас торопливо отхлебнул из кубка. Секрет выплыл наружу, и теперь он собирался с духом для предстоящего боя. — Я сын Белина. — Прости, — отвечал я, вспоминая нашу первую встречу. А я-то обращался с ним, как со слугой. — Я спутал королевича с челядинцем. — Я челядинец и есть. Во всяком случае, я не королевич, — фыркнул он. — Объясни, пожалуйста, толком. Я устал. Он кивнул, не поднимая глаз. — Моя мать — служанка в доме. Я все понял. Он внебрачный сын Белина, и король его не признает. Пеллеас считает, что единственный шанс чего-то добиться в жизни — это уехать из Ллионесса как можно дальше. По той же причине, по которой король его не признает, он не захочет его отпустить. Я ему все это сказал. — Но попытаться-то можно? — взмолился он. — Пожалуйста! — Попытаться можно. — Так ты его попросишь? — Попрошу. — Я встал и забрал у него кубок. — А теперь иди, я лягу спать. Он встал, но к двери не двинулся. — А если он откажет? — Утро вечера мудренее. Что-нибудь придумаю. — Может, я зайду за тобой утром? Пойдем к нему вместе. Я вздохнул. — Пеллеас, предоставь это мне. Я сказал, что помогу, если получится. Пока ничего больше обещать не могу. Подожди до утра. Он согласился без охоты, но мне не показалось, что он расстроен. Тем не менее наутро с первыми петухами Пеллеас стоял у моих дверей и с нетерпением ждал, куда качнется его судьба. Отделаться от него было невозможно, и я обещал пойти к Белину, как только будет удобно. Однако случай поговорить с королем наедине представился только перед самым отъездом. Я посчитал, что без посторонних глаз скорее добьюсь успеха, и терпеливо ждал, несмотря на жалобные взгляды Пеллеаса. — Позволь перемолвиться словом, — обратился я к Белину, когда мы выходили из зала. Гвендолау, Барам и остальные уже вышли во двор, а мы немного отстали. — Да? — неприветливо отозвался Белин. — Речь пойдет об одном из твоих слуг. Белин остановился и взглянул на меня. Если он и догадался, к чему я клоню, то не подал виду. — Что такое, господин мой Мерлин? — Я недавно стал королем, и своих слуг у меня нет. — Поэтому ты решил взять моего? — Он холодно улыбнулся и потер подбородок. — Ладно, скажи, кто это и, если я смогу без него обойтись, забирай. — Ты очень щедр, господин, — сказал я. — Так кто это? — рассеянно спросил Белин, снова направляясь к дверям. — Пеллеас. Белин резко повернулся и впился глазами в мое лицо, пытаясь понять, что именно мне известно. — Насколько я понимаю, у него нет определенных обязанностей, — добавил я, чтобы разрядить молчание. — Нет… определенных нет. — Он лихорадочно соображал, взвешивая возможные последствия. — Пеллеас… ты говорил с ним об этом? — Да, в двух словах. Я не очень распространялся, решив прежде посоветоваться с тобой. — Разумно. — Он снова отвернулся, и я решил, что разговор окончен. Однако он продолжал. — И что Пеллеас? Как, по-твоему, он согласен? — Думаю, что сумею его уговорить. — Тогда забирай. — Белин шагнул к дверям и замялся на пороге, словно передумал. — Спасибо, — сказал я. — Обещаю, что буду хорошо с ним обращаться. Король только кивнул и пошел прочь. Мне показалось, что он вздохнул свободнее. Возможно, такое решение стало для него выходом. Пеллеас, разумеется, был вне себя от радости. — Собирай вещи и седлай коня, — сказал я. — Времени в обрез. — Я оседлал коня, перед тем как идти к тебе. — Ты очень в себе уверен, не так ли? — Я верил в тебя, господин, — весело отвечал он и побежал за пожитками. Если я думал, что на этом все треволнения закончились, то ошибался. Не успел Пеллеас убежать, как я почувствовал на себе чей-то взгляд. Я обернулся и увидел, что зал больше не пуст. В самом его центре стоял кто-то, с головы до ног закутанный в черное. Моим первым побуждением было бежать, и словно в ответ на мои мысли из-под черного покрывала раздалось: — Стой! Закутанная фигура приблизилась. Длинный черный плащ и высокие сапоги украшала причудливая вышивка черной и золотой нитью, черные перчатки закрывали руки почти до локтя, голову венчал колпак с полупрозрачным черным покрывалом, совершенно скрывавшим лицом. Странная фигура остановилась подле меня, и мне показалось, что каменный пол проваливается под ногами, течет, как жидкая глина. Я схватился рукой за косяк. Глаза из-под черного покрывала внимательно изучали мое лицо — я различал их блеск. — Мы встречались раньше? — Жуткая фигура заговорила неожиданно вкрадчивым голосом. Женским голосом. — Нет, госпожа, я бы непременно запомнил нашу прошлую встречу. — Тем не менее полагаю, что мы друг другу известны. Разумеется, она была права, потому что я прекрасно знал, с кем разговариваю. Не догадайся я сам, мне подсказал бы страх. — Моргана, — имя само вырвалось у меня. — Приятная встреча, Мерлин, — любезно отвечала она. При звуке моего имени я испытал приятный чувственный трепет, словно человек, поддавшийся запретному удовольствию. О, она владела многими силами и знала, какую когда применить. В этот миг я и впрямь испытывал к ней влечение. — Как поживает моя дражайшая сестрица? — спросила она, приближаясь на полшага и приподнимая покрывало. Теперь мы стояли лицом к лицу. Моргана была прекрасна и очень напоминала Хариту, однако я меньше всего думал в тот миг о матери. Я впился глазами в совершенную с виду и неотразимую красоту. Говорю «с виду», потому что не убежден, что тут обошлось без наваждения. Разумеется, дочь Дивного Народа, она обладала природным изяществом своего племени. Но этого мало. Моргана была прекрасна, как неземное видение: безупречное, безукоризненное совершенство черт. Ее волосы лучились, как золотая нить, светлая и мерцающая; глаза, большие и блестящие, сверкали зеленым, словно два изумруда, из-под длинных золотистых ресниц и ровных, плавно изогнутых бровей, молочная белизна кожи оттеняла кровавую алость губ. Зубы были ровные и красивые, как жемчуг. И все же… все же за ее спинойили вокруг нее распростерлись черные крылья — живая невидимая тень. Я видел ореол, темный и жуткий, словно составленный из всех безымянных ужасов ночи. Мне казалось, что он — живое, бьющееся в корчах страдание, что он цепляется за нее, хотя кто кому принадлежит — он ей или она ему, — я определить не мог. Однако он был реален, как реальны бывают страх, ненависть и жестокость. — Ты замешкался с ответом, Мерлин, — сказала она, поднося руку к моему лицу. Даже сквозь тонкую кожу перчатки я почувствовал лед ее касания. — Что-то стряслось? — Харита здорова, — отвечал я, чувствуя, что предаю мать уже тем, что называю ее имя. — Рада слышать. — Она улыбнулась с таким искренним участием, что у меня сжалось сердце. Может быть, я ошибся, и этот страшный ореол мне привиделся? Однако она добавила небрежно, словно только что вспомнила: — А что Талиесин? Слова эти были сама жестокость — отравленный кинжал в руках заклятого и ловкого врага. — Талиесин погиб много лет назад, — ровным голосом отвечал я, — о чем тебе прекрасно известно. Она сделала вид, что ошеломлена этой вестью. — Нет, — выговорила она, в притворном изумлении тряся головой, — он был такой живой, когда я последний раз его видела. Вот змея! Я не посчитал нужным ответить. — Ладно, — продолжала Моргана, — вероятно, иначе и быть не могло. Полагаю, Харита сломлена его гибелью. — Каждое слово разило точно, словно кинжальное острие. Я тоже взялся за оружие. — Да, но у нее есть определенное утешение. Это ее заинтриговало. — Какое ж тут может быть утешение? — Надежда, — отвечал я. — Мой отец верил в Истинного Бога и по милости Господа Иисуса Христа получил вечную жизнь. Однажды они соединятся в раю. Эта надежда и дает ей силы жить дальше. Я чувствовал, что мой удар достиг цели. Она снова улыбнулась и протянула руку, будто хотела похлопать меня по щеке. Я чувствовал, что сила так и клокочет в ней. — Не будем обсуждать такие печальные вещи, — произнесла Моргана. — Нам и без того есть о чем поговорить. — Вот как, госпожа? — Не здесь и не сейчас. Приезжай ко мне в гости, — предложила она. — Дорогу ты знаешь. Или попроси Пеллеаса, он покажет. Мы с тобой должны стать друзьями. Я бы хотела подружиться с тобой. — Она зажмурила свои обворожительные зеленые глаза. — Да и ты не пожалеешь. Знаю. Я многому могла бы тебя научить. Такая сила была заключена в этой женщине, что я поверил ей, хотя слово «дружба» очень мало подходило к ее устам. Она могла очаровать и обвести вокруг пальца кого угодно, представить любую гнусную нелепость разумной и привлекательной. Я промолчал, и она продолжила: — Впрочем, ты ведь скоро уезжаешь, да? Ладно, в другой раз. Да, мы еще встретимся, Мерлин. Не сомневайся. При этих словах мороз пробрал меня до мозга костей. Великий Свет, укрой меня под кровом твоих крыл! Она вновь опустила покрывало и отступила на шаг. — Не буду тебя задерживать, — и, повернувшись, слегка взмахнула руками. Я вновь обрел способность двигаться и, не мешкая, поспешил на улицу, торопясь оказаться как можно дальше от Морганы. Кони уже были оседланы, и я, не оглядываясь, запрыгнул на своего. Гвендолау ждал вместе с остальными. Он внимательно поглядел на меня, видимо, почувствовал мое замешательство. — Придется еще подождать, — сказал я. — С нами поедет Пеллеас. — Ты здоров? — спросил он. — У тебя такое лицо… краше в гроб кладут. Я натужно рассмеялся. — Ничего, немного проеду, все выветрится. Он тоже залез в седло. — Точно? — Да, брат. — Я сжал его крепкую руку, и на душе сразу полегчало. — Все равно спасибо за заботу. Великан дружелюбно пожал плечами. — О себе забочусь. Сестрица с меня шкуру сдерет, если с ее муженьком что-то случится. — Ради твоей непомерной шкурищи постараюсь, чтобы этого не произошло, — со смехом отвечал я и почувствовал, как рассеиваются чары Морганы. В следующую минуту подъехал Пеллеас. В руке у него была небольшая чересседельная сумка, лицо сияло улыбкой. — Я готов! — радостно объявил он. — Тогда в путь, — крикнул Гвендолау. — Время не ждет! Мы проехали через двор и дальше в ворота. Никто не провожал нас.Глава седьмая
Говорят, будто Мерлин сразил тысячи тысяч, земля обагрилась кровью, трупы заполнили реки, смрад стоял от Ардеридда до Каерлигвалида, стаи ворон закрывали солнце, а дым погребальных костров достиг небесного свода… Говорят, будто Мерлин обернулся кречетом-мстителем, взвился в небеса и улетел в горы… Да, голоса высланных на поиски звенят по всему лесу, но где Мерлин укрылся? В какую яму залез и сидит, пока его кличут? Мудрая волчица, ответь, зачем я лишился дневного света? Зачем у меня вырвали из груди живое кровоточащее сердце? Зачем я брожу в пустынной чащобе, слыша лишь собственный голос да горькие жалобы ветра в голых камнях? Скажи, красавица-сестрица, как долго я здесь? Сколько лет провел я в недрах Калиддонского леса? О чем ты? А, Моргана… Я и сам частенько гадаю, что такое Моргана. Разумеется, та первая встреча была пробой сил перед боем. Она хотела знать, кого убивает. Насладиться предвкушением, прежде чем уничтожить. Так кошка играет с мышью, пробуя острые коготки. Не думаю, впрочем, что я был вполне ясен ей. Она хотела меня увидеть, потому что умна и не станет кидаться в бой, не оценив противника. Может быть, покажется странным, но я верю, что дружбу свою она предложила искренне — насколько она вообще способна на искренность. Она говорила от сердца, впрочем, совершенно не представляя себе, что такое дружба; это понятие для нее абсолютно чуждое. Она настолько пуста, настолько лишена естественных проявлений, что может вызвать в себе любое состояние духа. Чувства для нее — накидки, которые она меняет по мере надобности. Однако она верит в то, что испытывает, будь то расположение, искренность или некая извращенная любовь, покуда не приходит время отбросить их ради другого, более действенного оружия. И все же в устах Морганы даже такое несуразное предложение звучало искренне, поскольку она сама верила своим словам, по крайней мере, пока их произносила. В этом смысле она не расставляла западню. Она и впрямь вообразила, что со мной лучше договориться, и потому не кривила душой. В этом отчасти и состоит ее коварство: переменчивая, как ветер, она в сиюминутное намерение вкладывает себя всю. Ибо для Морганы есть единственный идеал, единственная побудительная сила — ее собственное всепоглощающее желание. В ней не сохранилось ни капли человеческого сострадания, ни крупицы жалости, к которой можно воззвать. Только Моргана, редкая красавица, губительная и холодная, как лед, источающая сладкий яд, теплый поцелуй смерти. О, я не обманываюсь: она безусловно желала мне зла. Но в тот день Моргана не собиралась скрестить со мной меч, она хотела только испытать свое оружие и посмотреть мое. Не знаю, что она про меня выяснила, но я про нее понял довольно много. Она была необыкновенно тщеславна! Подобное тщеславие редко для человеческих душ. Впрочем, Моргана — не обыкновенное человеческое существо, и душа у нее тоже не из обычных.Глава восьмая
Ганиеда! Где ты, душа моя? О-о-о, как бело твое тело… Вернись, вернись, я не вынесу… Вернись, пожалуйста. Выпей воды, Сокол. Ты хочешь пить, ты буйствуешь. Ржавая водица из родника поможет тебе прийти в чувство. Боги ручья и воздуха, холмов и высот, родников и ключей, перекрестков, кузницы, домашнего очага… Призываю вас всех в свидетели! Посмотрите на этого смертного. В чем он провинился, за что так страдает? За какие грехи ему эта нескончаемая кара? За то, что слишком многого хотел, слишком высоко замахнулся? Отвечайте, заклинаю вас! Боги молчат. Идолы с немыми каменными устами. Они не ответят. Взгляни на Оленью поляну… День сейчас или ночь? Солнце и звезды разом… Светло-то как!Что это значит, волчица? Смотри и отвечай напрямик. Отвечай, что ты там видишь? Да, алый Марс встает в угольно-черном небе. Что означает его ярко-рубиновый цвет? Смерть одного царя и восстание другого? Разумеется, но царей на земле не счесть. Что их закат и восход для небесных сфер? Великих царей, говоришь? Да, величайших! А ты, прекрасная Венера, следующая за Солнцем, что означает твой двойной луч, расколовший небеса пополам? Не иначе как разделение. Королевство разрублено, словно саксонским мечом. Смерть короля, воцарение нового короля, разделение. Дальше, надо думать, разброд и смута. Кто среди нас настолько могуч, чтобы противостать им? Кто настолько мудр, чтобы дать нам совет? О, Талиесин, поговори со своим сыном. Отец, как бы я хотел услышать твой голос! Что это? Арфа? Но я не вижу арфиста, здесь нет поблизости барда. И все же я слышу ее — дивную музыку арфы. Вот он, волчица! Талиесин! Видишь, он взбирается по горной дороге, синий плащ ниспадает с его плеч, его жезл — из прочной рябины, рубаха атласная, белая, штаны из крашеной кожи. Он сияет! Я не в силах воззреть на его чело. Он лучится светом Иного Мира. Его лик затмевает небесный свет. Отец! Поговори со своим жалким отпрыском! Дай мне мудрый совет.
Смотри, Мирддин, я явился на твой зов. Я буду говорить с тобой, сын, открою тебе премудрость. Слушай же, если желаешь, и узнай все, что узнал я за свое путешествие в этом царстве миров. Хвалите Создателя, Владыку безграничного сострадания! Да поклонится ему всякая тварь! Собственными очами я зрел Его, мы вместе были в раю. Мы часто смотрели оттуда на тебя, Мирддин, мой сын, слышали твои вопли и говорили о твоем горе между собой, Господь и я. Не страшись ничего, Соколик. Царь Небесный покрывает тебя Своею десницей. И сейчас Его ангелы окружают тебя и готовы повиноваться твоим велениям. Слушай того, кто знает, что говорит: жизнь дана тебе ради определенной цели. Что назначено, сбудется. Итак, мужайся и забудь про свои горести. Через некоторое время в твое святилище придет отшельник. Не гони его, сын, а приветь; исполни то, что он скажет, а он тебя благословит. Получив благословение, возвращайся обратно в мир, к своим землям и своему народу. Снова возьми посох, отважный Мирддин. Труд предстоит великий. Истинно говорю: пока ты лежал, раздавленный горем, Тьма не бездействовала. Итак, пора встать, препоясаться мечом и надеть на голову шлем. Пора, Мирддин, пока тропки в Царство Лета не заросли травой, не затерялись. Коли затеряются, Яркая Звезда, их не найдешь, сколько ни ищи. Помни про Царство Лета, да будет тебе его свет путеводной звездой… его песнь — песней твоей победы… да осияет тебя его слава, прекрасный мой сын…
Нет! Не уходи, отец! Не бросай меня одного! Прошу, побудь хоть немного… Талиесин! Он ушел, волчица. Но ты видела, как сияло его лицо? Это не было видением помраченного мозга. Талиесин ко мне приходил, отец говорил со мной. Да, он говорил со мной, я слышал его голос. Да, и я слышал его суровый совет.
Глава девятая
Если я безумен… если разум мой помрачен… Да, я безумен и нет избавления Мирддину. Но пусть я жалок в глазах мира, пусть я тощ и космат, пусть продрог в своих грязных лохмотьях, и оводы кусают мой срам, я не всегда был таким. Скажи мне, волчица, был ли Мирддин царем в Диведе? Да, был… был… и никогда больше не будет. Дикий лесной житель — вот кто я теперь. Да, покуда я жив, лесные твари внимают мне, ибо я — их повелитель. Пусть же владыка леса произнесет пророчество! Нет при мне ни писцов, ни слуг, некому запомнить мои слова. Пеллеас, где ты, дружок? Неужто и ты покинул меня, Пеллеас? Разумные слова бросаются на ветер. Никто не внемлет мудрым словам мудрейшего. И пусть, и пусть. Вдохновение барда не свяжешь цепью, оно приходит, когда пожелает, и не смертной руке его удержать. Пусть себе вещает, глупец! Повороши пламя, вглядись в уголья, скажи что-нибудь хорошее. Великий Свет, ты знаешь, что в этом тоскливом месте нас надо чем-то ободрить. Что там сияет мне из угольев и пепла? Вот! Ганиеда в льняном наряде, белом, как свежевыпавший снег. Хранительница моей души, владычица моего сердца, она идет по ковру из розовых лепестков, несравненная, сияющая, чистая перед своим господином. Улыбка ее — солнечный луч, смех — серебряный дождик. Восхвали Бога, сотворившего нас, Давид! Возблагодари за радость, ниспосланную нам днесь. Аминь! Моя свадьба была такой, как дай Бог каждому. Помню, бабушка рассказывала о своей свадьбе с Эльфином и о пышном празднестве. В отличие от Талиесина и Хариты, которые обошлись без брачного пира, Эльфин и Ронвен сочетались по обычаю древних кельтов, и так же хотели женить меня. Кимры из Каеркема привнесли в этот день огонь и живость своего веселья. Мелвис не хотел никому уступать — думал устроить пир, но отец Ганиеды настоял на своем праве выставить угощение. Мелвису пришлось удовольствоваться тем, чтобы разместить у себя гостей. По правде сказать, я мало что помню из того дня. Все было тенью рядом с солнечным лучом Ганиедой, ясной моей звездочкой. Никогда она не была столь прекрасной, спокойной и величавой. Клянусь, она была для меня воплощением любви, надеюсь, я для нее тоже. В этот радостный день мы встали в церкви перед Давидом, обменялись кольцами по обычаю христиан, и принесли обеты, связавшие наши души воедино, как уже соединились наши сердца и как предстояло соединиться нашим телам. Черные волосы Ганиеды были расчесаны и сияли, в длинных косах сверкали серебряные нити, венок весенних цветов, розовых, как девичий румянец, наполнил всю церковь благоуханием. На ней был белый, вышитый белым же наряд с бахромой из золотых колокольцев, брачный плащ (клетчатый, как принято на севере — имперский пурпур и небесная лазурь) она сама соткала за зиму; на плече его удерживала большая золотая заколка. На запястьях и выше локтя блестели золотые браслеты. На ногах были сандалии из белой кожи. Прекраснейшая дочь Дивного Народа, она казалась виденьем. Не помню, во что был одет я, никто меня не замечал рядом с ней, я сам себя не замечал. В руках у меня была тонкая золотая гривна — свадебный дар Ганиеде. Ей предстояло стать королевой, а значит, носить гривну. Давид в чисто вычищенной темной рясе, сияя, словно молодожен, поднял на всеобщее обозрение священную книгу и совершил брачный обряд. Потом мы вместе положили руки на страницы священной книги и, как учил нас Давид, произнесли обеты, а он тем временем молился о нас. Священник был так добр, что разрешил Блезу выйти и спеть под арфу старинную брачную песнь. Все собравшиеся были в восторге. Есть что-то в звуках арфы и в голосе истинного барда, что возвышает и облагораживает слушателя. И я подумал: доживи Талиесин до свадьбы своего сына, он бы тоже, наверное, пел в церкви. Когда стихли последние отзвуки арфы, мы вышли из храма и увидели, что во дворе собрался весь Маридун. При виде нас народ разразился криками. Громче всех кричали мои дружинники; можно было подумать, что это они обзавелись королевой, — такое стояло ликование. С Кустеннином прибыли повара и стольники, а также все необходимое для пира, в том числе шесть упитанных бычков, десятки бочек пива и вересковый мед. Остальное — свиней, барашков, рыбу, горы репы и других овощей — он купил на рынке в Маридуне. Мелвис рвался поделиться своими припасами, но Кустеннин не желал об этом и слышать. Правда, кое-какие забытые поварами приправы ему все же пришлось просить. Пир был роскошный. При одном воспоминании слюнки текут, хотя тогда я не замечал еды; все мои мысли были о Ганиеде. Наверное, это был самый длинный день в моей жизни, казалось, солнце никогда не зайдет. Я постоянно смотрел на небо и всякий раз обнаруживал, что еще светло. Мы пели, чаши и кубки ходили по кругу, подавали мясо, и горячие хлебы, и овощи, и сласти. Мы снова пели — Блез и его друиды играли на арфах; не думаю, чтобы сам Талиесин сыграл лучше. Однако Талиесин был с нами в тот вечер. Да, волчица, довольно было взглянуть на мамино лицо, чтобы понять: дух Талиесина пронизывал все вокруг, его присутствие ощущалось повсюду, как тонкий аромат. Харита светилась, как никогда. Мне подумалось, что на моей свадьбе она проживает свою. — Мама, тебе хорошо? — спросил я. Ненужный вопрос: слепой бы увидел, как она радуется. — Ой, Мерлин, соколик мой, ты дал мне такое счастье. — Она притянула меня к себе и поцеловала. — Твоя Ганиеда — замечательная. — Ты одобряешь мой выбор? — Очень мило с твоей стороны делать вид, будто тебе это важно. Но уж коли ты спросил, отвечу: да, одобряю. Всякая мать мечтала бы о такой дочери и о такой жене для своего сына. Большего нельзя и желать. — Харита погладила мою щеку. — Так что благословляю вас, благословляю тысячу раз. Для Хариты очень важно было это сказать, ведь ее отец отказался благословить их брак, и им с Талиесином пришлось бежать. Хотя потом Аваллах примирился с этим браком, оба очень страдали. Неисповедимы пути Господни — если бы Эльфину и его людям не пришлось покинуть Каердиви, если бы Кимры не пришли в Инис Аваллах, если бы Харите и Талиесину не пришлось бежать с Острова Яблок, если бы они не оказались в Маридуне… если бы… если бы… Если бы я не родился и не попал к Обитателям холмов, я не встретил бы Ганиеды, не стал бы королем Диведа и не стоял бы в этот день у алтаря.Свет Великий, Движитель всего, что движется и пребывает в покое, будь мне Путем и Целью, будь мне Нуждой и Исполнением, будь мне Севом и Жатвой, будь мне радостной Песнью и горестным Молчанием. Будь мне Мечом и крепким Щитом, будь Фонарем и темною Ночью, будь моей неиссякаемой Силой и моею плачевной Слабостью. Будь мне Приветом и прощальной Молитвой, будь моим ясным Зрением и моей Слепотою, будь моей Радостью и Горем, скорбною Смертью и желаемым Воскресением! Да, Ганиеда понравилась Харите, чему я несказанно обрадовался. Приятно было видеть, как они вместе хлопочут, готовясь к свадьбе, и сознавать, что их породнила любовь ко мне. Да приумножится такая любовь! Обе были истинные королевы фей: высокие, грациозные, идеально сложенные — воплощение совершенства. При виде их дыхание перехватывало, и хотелось вознести хвалу щедрому Богу. Говорят о красоте, которая сражает насмерть. Думаю, бывает и такая. Но есть красота, которая исцеляет всякого, кто на нее смотрит. Такой красотой и обладали Харита и Ганиеда. И как же радовались этому Мелвис и Кустеннин — оба короля просто сияли от счастья. Правду говорю, не собиралось еще под одной крышей столько счастливых и веселых людей, сколько под кровом дома Мелвиса в день моей свадьбы. Да, волчица, это был чудный и радостный день. А за ним наступила невероятная и волшебная ночь. Ее тело было создано для меня, мое — для нее. Наших любовных восторгов хватило бы, думаю, на целый народ. И сейчас при запахе чистого тростника и новой овчины, восковых свечей и овсяных лепешек кровь быстрее бежит в моих жилах. Мы выскользнули из зала незаметно — а может, пирующие сделали вид, что не замечают нашего ухода, — и выбежали во двор, где уже ждал Пеллеас с оседланной лошадью. Я выхватил у него поводья и взлетел в седло, подхватил Ганиеду, усадил ее перед собой, обнял, забрал у Пеллеаса приготовленную сумку и поскакал прочь. Вопреки традиции никто нас не преследовал. Обычно изображают, что девушку похитили враги из другого клана и ее надо спасать. Невинная забава, но на нашей свадьбе ей не было места: притворяться, что происходит что-то недолжное, значило бы оскорбить высокое и священное таинство. Луна ярко светила в россыпи посеребренных облаков. Мы ехали в пастуший домик, который для нас приготовили и убрали заранее. То была мазанка под толстой соломенной крышей, внутри помещались только лежанка да очаг. Служанки Мелвиса превратили грубую лачугу в теплое и уютное пристанище для молодой пары. Пол чисто вымели, очаг вычистили, стены побелили. Ложе сделали из свежего тростника и ароматного вереска, застелили новыми овчинами и мягким мехом выдры. Поставили свечи, заготовили дрова, всю комнату убрали пучками весенних цветов. Ночь была теплая, и мы развели слабенький огонек — только чтобы испечь ячменные лепешки, которые, по обычаю, мне предстояло разделить с Ганиедой. В дрожащем свете лачуга казалась дворцом, а деревянная миска, в которой Ганиеда мешала муку с водой, — золотой. Мне подумалось, что Ганиеда — лесная волшебница, а я — странствующий рыцарь, плененный любовью к ней. Я сидел на ложе, скрестив ноги, и следил за ловкими движениями ее рук. Когда камень раскалился, она слепила маленькие лепешки и положила их печься. Мы молчали, словно это были и не мы уже, а все юноши и девушки, когда-либо любившие друг друга и сочетавшиеся браком, последние звенья живой цепи, протянувшиеся сквозь бесчисленные эпохи к первому очагу, к первому супружескому ложу. Для такой минуты просто нет слов. Лепешки испеклись быстро. Ганиеда сложила их на вышитый подол платья и поднесла мне. Я взял одну, разломил, половинку съел сам, а другую вложил ей в рот. Она медленно прожевала и взяла чашу, которую наполнила, пока пеклись лепешки. Я поднес чашу к ее губам, она сделала глоток, и я одним махом допил теплое сладкое вино. Чаша со звоном упала на пол, ее руки обвили мою шею, наши губы соединились, я навзничь рухнул на ложе, увлекая за собой Ганиеду. От запаха ее шелковистой кожи кружилась голова. После была только ночь и наша страсть, а потом — сладкая тьма и сон друг у друга в объятиях. Я проснулся под утро и услышал в шуме ветра тихий протяжный свист. Я выбрался из-под меха и выглянул в дверь. В свете заходящей луны четко вырисовывался силуэт Гвендолау. Всю ночь он на почтительном расстоянии объезжал дозором лачугу, дабы никто не потревожил наш сон. Я скользнул под одеяло в объятия Ганиеды и снова заснул под ровное дыхание жены.
Глава десятая
В черном сердце Калиддонского леса с волками, оленями и вепрями обитает Мерлин. Жив он или мертв? Один Бог знает. О счастливая волчица, посмотри в огонь и скажи нам, кого ты видишь. А, стальных людей. Я тоже их вижу. Стальных от шлема до пят. Высокие, бесстрашные, они ощетинились копьями, словно лес. Видишь их могучие мускулы, смертоносные движения сильных рук, их решимость? Они знают, что для них этот день может стать последним, но не страшатся. Вот этот, видишь? Взгляни на разворот его плеч, волчица. Взгляни, как он сидит в седле — он словно слит с конем. Любо-дорого посмотреть. Имя его — Кай — вселяет ужас в сердца врагов. А вот и еще! Видишь его, волчица? Богатырь из богатырей. Плащ его ал, как кровь, на щите — крест Христов. Имя его будут воспевать поколения бардов — Бедуир, Светлый мститель. А эти двое! Гляди! Видела ли ты прежде такую мрачную решимость, такие суровые лица? Сыны Грома. Вот этот зовется Гвальхмай, Сокол мая. Другой — Гвальхавед, Сокол лета. Они близнецы, едины сердцем, едины умом, едины в деле, схожи настолько, насколько могут быть схожи двое. Никто не сравнится с ними в стремительности удара. Каждый из них достоин стать королем, каждый владеет своими землями. Кто сможет их возглавить? Кто станет их предводителем? Кто истинный король над королями? Я не вижу его, волчица. Давно высматриваю, но тщетно. Нет, этих людей еще нет на свете, и родятся они не скоро. Их пора еще не пришла. Еще есть время подыскать вожака. Мы отыщем его, волчица… мы обязаны это сделать. На следующий день после того, как приходил Талиесин (назавтра, через год — какая в сущности разница), появился обещанный отшельник. Я сидел на корточках у своей жалкой пещеры, высоко в горах, и заметил его издалека. Он медленно взбирался по склону вдоль ручейка, который вился от пещеры вниз, к одной из бесчисленных речек Калиддонского леса. Он шел медленно, и у меня было время его рассмотреть. Наряд его составляли бурый плащ, высокие сапоги и широкополая шляпа от солнца. «Странновато для отшельника», — подумал я. Спустя некоторое время стало ясно, что он не просто бредет куда глаза глядят, а уверенно направляется к моей пещере. Он пришел сюда, чтобы найти Безумного Мерлина. Что ж, ему это удалось. — Привет тебе, друг, — крикнул он, увидев, что я на него смотрю. Я подождал, пока он подойдет ближе. Что толку кричать? — Присядешь? Если хочешь пить, вот вода. Мгновение он стоял, озираясь, потом остановил взгляд на мне. Глаза у него были синие, как небо над головой, и столь же холодные и пустые. — Не откажусь от чашки воды. — Родник здесь. — Я указал на место, где из камня била вода. — О чашке ничего сказано не было. Он улыбнулся, подошел к роднику, нагнулся и выпил несколько глотков — для видимости, решил я, настоящую жажду так не утолишь. А ведь с ним не было бурдюка. Он сел, снял шляпу, и я увидел соломенно-желтую шевелюру, как у саксонского принца, хотя по речи он казался добрым бриттом. — Скажи мне, друг, что ты делаешь тут, в горах? — Могу задать тот же вопрос, — проворчал я вместо ответа. — Это не тайна, — со смехом отвечал он. — Я искал одного человека. — И что, нашел? — Да. — Значит, тебе повезло. Он широко улыбнулся. — Ты тот, кого зовут Мерлин Амброзий — Мирддин Эмрис. Верно? — Кто меня так зовет? — Может быть, ты не знаешь, что люди говорят о тебе. — Может быть, мне это неинтересно. Он снова рассмеялся, словно желая завоевать мое расположение. Однако смеялся он, как и улыбался, — одними губами. — Да ладно, наверняка тебе любопытно. Говорят, что ты — король эльфов и фей. Что ты неуязвимый воитель. — Говорят ли, что я безумен? — А ты безумен? — Да. — Безумец не говорил бы так связно, — заверил он. — Может быть, ты просто разыгрываешь безумие. — Зачем человеку разыгрывать то, что ему ненавистно больше всего на свете? — Наверное, чтобы притвориться безумным, — задумчиво ответил путник. — Что само по себе безумие, не правда ли? Незнакомец вновь рассмеялся, и я внезапно почувствовал, что звук этот приводит меня в бешенство. — Говори прямо, — произнес я с вызовом, — чего тебе от меня надо? Он вновь улыбнулся пустой улыбкой. — Просто поговорить с тобою немного. — Тогда ты напрасно проделал столь долгий путь. Я не желаю ни с кем разговаривать. — В таком случае ты, возможно, согласишься послушать. — Он подобрал палку и принялся чертить по земле, потом вскинул голову и, заметив, что я на него гляжу, продолжал. — Я обладаю кое-каким влиянием и мог бы тебе помочь. — Что ж, сделай одолжение — ступай отсюда. — Я могу многое для тебя сделать, Мирддин Эмрис. Назови, что пожелаешь, что угодно, Мирддин, и я это исполню. — Я уже сказал, чего желаю. Он придвинулся ближе. — Ты знаешь, кто я? — А что, должен? — Возможно, нет, но я-то знаю, кто ты. Я знаю тебя, Мирддин. Понимаешь, я тоже Эмрис. При этих словах меня внезапно объял неодолимый ужас. Я почувствовал себя очень старым и очень слабым. Он коснулся меня — его рука была холодна, как лед. — Я могу помочь тебе, Мирддин, — продолжал он. — Дозволь тебе помочь. — Я не нуждаюсь в помощи. Это — дворец, — отвечал я, обводя рукою голые камни. — У меня есть все. — Я дам тебе все, чего ты захочешь. — Я хочу покоя, — буркнул я, — ты властен даровать мне покой? — Я властен даровать забвение — в конечном счете тот же покой. Забвение… Какое счастье! Страшные образы преследуют меня в часы бодрствования и лишают сна ночью. Забыть… Да, но какой ценой? — Боюсь заодно с дурным позабыть и доброе, — отвечал я. Незнакомец весело улыбнулся и пожал плечами. — Дурное, доброе — что с того. В сущности это одно и то же. — Он подался еще ближе. — Я многое могу для тебя сделать, Мирддин. Я дам тебе силу, власть, о какой ты не смел и мечтать. — Мне довольно моей силы. Зачем Дикому Мирддину больше? Он отвечал без запинки, и я подумал о том, скольких же он соблазнил своими пустыми посулами. Да, теперь я знал, с кем говорю. Уроки Давида не прошли даром. Я уже не твердо верил в Направляющую Десницу, но не видел причин переходить в стан врага. — Мирддин, — сказал он, и это имя в его устах прозвучало издевкой, — для меня это сущий пустяк. Миг — и готово. Смотри. — Он указал палкой на восток, за черными просторами Калиддонского леса. — Вот где встает солнце, Мирддин. Вот где бьется сердце империи. — И мне почудилось, что я различаю на горизонте имперский город, его дворцы и мощные стены. Он продолжал: — Ты станешь императором и будешь повелевать миром. Ты сотрешь с лица земли ненавистных саксов. Подумай, скольких ты избавишь от страданий. И по мановению твоей руки, Мирддин. — Он протянул мне раскрытую ладонь. — Идем со мной, и ты станешь величайшим императором, какого зрел мир. Ты будешь несметно богат, твое имя будет жить вечно. — А Мирддин не будет, — отвечал я. — Об этом ты тоже позаботишься. Уходи, я устал. — Неужто ты такой честный? — Он презрительно сплюнул. — Такой праведный? — Слова, слова. Я ничего такого не утверждал. — Мирддин… взгляни на меня. Почему ты на меня не смотришь? Мы с тобой друзья. Твой господин тебя бросил, пора отыскать более надежного. Идем со мной. — Его пальцы уже почти касались моих. — Только идти надо прямо сейчас. — Почему при твоих словах я слышу лишь пустое могильное завывание? Он разозлился так, что даже переменился в лице. — Думаешь, ты лучше меня, Мирддин? Я тебя уничтожу! — Как уничтожил Моргану? Его глаза злобно сверкнули. — Она прекрасна, не правда ли? — У смерти много лиц, — отвечал я, — но воняет она одинаково. Меня обдало жаром его гнева. — Даю тебе последний шанс, Мирддин. Собственно, даю тебе Моргану, прекраснейшее из моих творений. — Он явно успокоился, нащупав новую тактику. — Она твоя, Мерлин. Забирай. Делай с ней, что хочешь. Захочешь убить ее — убей. Убей, как она убила твоего отца. Ярость заклубилась перед моими глазами, как черный рой. Тело забила дрожь. Во рту стало горько от желчи. Меня словно подбросило на ноги. — Это ты убил моего отца! — закричал я так, что эхо прокатилось по лощинам у подножия гор, потом сунул два пальца в рот и протяжно свистнул. — Убирайся, пока не поздно. — Ты не можешь меня прогнать, — отвечало создание. — Я там, где и когда пожелаю. В этом миг на тропу выбежала волчица — шерсть дыбом, уши прижаты, зубы оскалены. Он рассмеялся. — Не вздумай меня пугать. Ничто на земле не может причинить мне вред. — Вот как? Именем Иисуса Христа, проваливай! Волчица прыгнула, готовая сомкнуть зубы на его горле, но он успел увернуться. Зверь изготовился для второго прыжка, но незваный гость уже бежал вниз по склону. Волчица пустилась бы вдогонку, но я подозвал ее, и она подошла, все еще скалясь. Я гладил ее, покуда шерсть на ее загривке не улеглась.Итак, первый гость ушел, не попрощавшись. Меня еще била дрожь, когда волчица вновь предостерегающе зарычала. Я взглянул вниз, думая, что возвращается давешний незнакомец. Кто-то шел в гору, но даже с такого расстояния я видел, что это не он. Новый посетитель был тощий и длинный — настоящая жердь — с грубыми чертами лица, заросший длинными волосами, в шкурах по меньшей мере шести разных животных. Он поднимался широким ровным шагом человека, привычного к долгой ходьбе, и не смотрел ни вправо, ни влево, но двигался напрямик, как будто торопился. А поспешить стоило. Внезапно, как это бывает в горах, налетела гроза. По склону сбегали черные клочья облаков, в сразу посвежевшем воздухе запахло дождем. Над камнями клубился туман, скрывая от меня идущего. Я ждал, успокаивая волчицу. — Тихо, тихо, послушаем, что скажет этот. Может быть, его слова придутся нам больше по вкусу. Мне в это слабо верилось, но я помнил отцовское обещание и не собирался с ходу прогонять гостя. Он снова появился, выступив из тумана совсем рядом, и громко окликнул нас: — Здрав будь, Лесной Дикарь! Я принес тебе привет из мира людей. — Садись, друг. Если хочешь пить, вот вода. — И вода сгодится, если вина в недостатке. — Он склонился над водой и принялся шумно пить, зачерпывая горстью. Я подумал, что он не похож на человека, привычного к пиршественному кубку. Ну и что с того? Разве я сам похож на короля деметов? — Пока взберешься на твою гору, Мирддин, вся глотка пересохнет. — Откуда ты знаешь мое имя — если оно мое? — О, я знаю тебя давным-давно. Разве слуга не должен знать господина? Я оторопело вытаращил глаза. Лицо у него было длинное, лошадиное, брови — черные, щеки — красные, обветренные. Волосы свисали по плечам, словно у женщины. Я был твердо уверен, что вижу его впервые. — Ты говоришь о господах и слугах. С чего ты взял, что это имеет ко мне отношение? — спросил я и тут же придумал более насущный вопрос. — Как ты узнал, где меня искать? — Тот, кто меня послал, указал мне дорогу. При этих словах сердце мое подпрыгнуло. — Кто тебя послал? — Друг. — Есть ли у друга имя? — У каждого есть имя, как тебе прекрасно известно. — Он в последний раз зачерпнул воды, выпил и вытер руки о кожаные штаны. — Мое, например, — Аннвас Адениаок. Странное имя — Древний Крылатый Слуга. — Я не вижу крыльев, и ты не такой древний, как подразумевает твое имя. К тому же в этом мире и впрямь много господ, а слуг — и того больше. — Все смертные служат. Бессмертные — тоже. Но я пришел не затем, чтобы говорить о себе. Я пришел говорить о тебе. — Тогда ты пришел напрасно. — Слова вырвались раньше, чем я сумел их сдержать. «Не отсылай его прочь», — сказал Талиесин. Впрочем, я мог не беспокоиться — гостя не задела моя грубость. — Язык разболтается — не остановишь, верно? — добродушно промолвил он. Аннвас явно получал удовольствие от происходящего. Он оглядел мое каменистое обиталище, затем обратил взгляд на запад, на мятое зеленое сукно Калиддонского леса. — Говорят, свет умирает на западе, — как бы между прочим заметил он. — Но если я скажу, что он рождается там, поверишь ли ты мне? — Так ли важно, во что я верю? — Мирддин… — Он легонько покачал головой. — За долгие годы одиноких раздумий ты мог бы убедиться в важности веры. — Так это были долгие годы? — Да уж немалые. — Зачем было приходить ко мне именно теперь? Он передернул костлявыми плечами. — Так пожелал мой господин. — Должен ли я знать твоего господина? — Ты знаешь его, Мирддин. По крайней мере, когда-то знал. — Аннвас повернулся и взглянул мне прямо в лицо. Я чувствовал, как от него исходит сострадание. Он неуклюже опустился на землю и скрестил ноги. — Расскажи, — мягко предложил он. — Расскажи о битве. И тут начался дождь.
Глава одиннадцатая
Первые капли застучали по земле, но ни я, ни он не шелохнулись. Небо стало черно-багровым, как открытая рана, и оттуда, словно кровь, пролился дождь. — Битва, Мирддин. Я пришел, чтобы услышать о ней. — Аннвас выдержал мой взгляд и не шелохнулся, хотя ливень хлестал как из ведра. Я не сразу смог заговорить. — О какой битве? — спросил я, страшась ответа. Тьма клубилась вокруг меня, вокруг самой моей горы, в обличье выползшего ниоткуда полуночного тумана. Ветер поднялся и завыл в расселинах. — Думается, ты знаешь, — мягко произнес Аннвас. — А мне думается, что ты знаешь слишком много такого, чего один человек знать о другом не может! — Я чувствовал, как в моей душе вновь закипает гнев. Ветер хохотал над моей злобой. — Расскажи, — мягко, но настойчиво молвил он. — Только начни, а там станет легче. — Уходи! — Я ненавидел его за то, что он заставляет вытаскивать из земли давно истлевшие кости. Волчица вскочила на ноги и оскалилась. Аннвас поднял руку, и она, заскулив, вновь опустилась на землю. — Мирддин! — Он говорил ласково, словно мать, утешающая дитя. — Ты исцелишься. Но прежде надо вырезать язву, что отравляет тебе душу. — Мне и так хорошо, — буркнул я, задыхаясь. Ветер ревел, ледяной дождь хлестал сплошным потоком. Аннвас Адениаок худощавой рукой взял меня за плечо. — Не может быть хорошо в аду, Мирддин. Ты довольно нес свое бремя. Пора снять его. — Пусть оно тяжело, но это бремя — все, что у меня осталось! — вскричал я. Слезы ярости и боли мешались с дождем на моих щеках. Отшельник встал и вошел в пещеру. Я сидел снаружи, покуда он меня не окликнул. Когда я поднял голову, у самого входа уже ярко горел костер. — Иди из-под дождя, — позвал Аннвас. — Я что-нибудь сварю, чтобы подкрепиться за разговором. Я поймал себя на мысли, что уже не помню, когда ел горячее. Ноги сами несли меня к огню. Не знаю, где гость раздобыл горшок для мясной похлебки, да и само мясо, где взял зерно, чтобы испечь хлеб, но, покуда я смотрел, как он готовит, и обонял аромат трапезы, во мне совершалась борьба, и наконец я сбивчиво начал рассказ… Господи помилуй, я рассказал ему все.Весной Ганиеда отправилась на север, к отцу в Калиддонский лес. Вероятно, всякой женщине хочется рожать среди близких. Я возражал, но мою жену было не переспорить, и вышло по ее. Я снарядил ее в путь, лично позаботившись о каждой мелочи, потому что сам не мог их сопровождать. Она всячески старалась рассеять мою тревогу. — Летом в Годдеу замечательно. Приезжай, как сможешь, душа моя. Эльма обрадуется. — Она поцеловала меня. — Спасибо, что беспокоишься, но ничего со мной не случится. — Это не утренняя прогулка в лесу. — Ты совершенно прав, но я на таком маленьком сроке, что совсем не буду уставать в седле. — Она выпрямилась и разгладила платье на плоском еще животе. — Видишь? Еще ничего не заметно. К тому же ты сам знаешь, я без промаха бью копьем. Со мной будет все хорошо. Господи, мне надо было ехать с ней! — Я и мысли не допускаю рожать без Эльмы, — продолжала она. Повитуха Эльма принимала саму Ганиеду и во многом заменила ей мать. Как я говорил, женщине, когда приходит ее срок разрешиться от бремени, хочется быть с родными. — Напрасно ты тревожишься, Мирддин. Гвендолау выедет нам навстречу. И если я не тронусь в самом скором времени, он успеет доехать досюда. — Хорошо бы, — заметил я. — Так поезжай с нами. — Ах, Ганиеда, ты же знаешь, что я не могу. Крепости, кони… дружину надо учить. Она подошла ближе, положила руки мне на плечи и легонько опустилась на мои колени (я сидел в кресле). — Поедем со мной. Я вздохнул. Этот разговор начинался не в первый раз. — Приеду, как только смогу, — отвечал я. Нам предстояло расстаться на каких-то несколько месяцев. Ганиеда должна была отправляться сейчас, пока дорога безопасна и не очень трудна, я — осенью, завершив намеченные на лето дела. Ребенку предстояло появиться на свет в середине зимы — я бы приехал в Годдеу загодя. Хлеба уже всходили, когда она наконец тронулась в путь. Я отправил с ней тридцать дружинников, она прихватила четырех своих женщин. Вполне достало бы и половины воинов, но береженого Бог бережет, решил я, и Мелвис меня поддержал. — На твоем месте я поступил бы так же, — сказал он. Пора набегов еще не приблизилась, так что серьезная опасность путникам не грозила, к тому же я проложил для них маршрут подальше от побережья. Неспокойные места начинались у Вала, но там их должен был встретить Гвендолау с пятьюдесятью бойцами. Страшиться было нечего. Итак, ясным утром Ганиеда со спутниками покинула Маридун. Я вышел провожать, ощутил на губах тепло ее поцелуя, после чего она села на коня и вместе со всеми выехала со двора на старую дорогу. Это была веселая компания. А почему бы нет? Ганиеда ехала домой, чтобы произвести на свет нашего ребенка, и мир был прекрасен. Она махала мне рукой, пока не скрылась из виду, и я махал, покуда отряд не свернул за холм. Потом я помолился о ее благополучии в пути — не первый и не последний раз, заметьте — и принялся за дела. Весна сменилась летом. Тридцать моих дружинников вернулись и рассказали, что путешествие прошло успешно. Они довезли Ганиеду до отцовского дома и пробыли там несколько дней, набираясь сил для обратной дороги. Кустеннин безмерно обрадовался дочери, он слал приветы и сообщал, что все хорошо в его доме и королевстве. Лето выдалось тихое — разбойники их не тревожили. Я успокоился и с легким сердцем принялся за дела, чтобы как можно скорее отправиться к Ганиеде. Мы с Мелвисом трудились не покладая рук, с восхода и до заката, так что каждый вечер падали без сил. Не раз Пеллеасу приходилось меня будить, когда я засыпал за обеденным столом, и сонного провожать в спальню. Харита вела королевское хозяйство и следила, чтобы мы ложились сытыми, не заботясь о том, откуда берется еда, не то, боюсь, мы бы просто умерли с голода. Дозорные башни на побережье были почти закончены, мы начали устраивать подставы по дороге. Прибыли новые необученные дружинники, наш табун увеличился на двадцать восемь голов, пришлось расчищать участки под будущие пастбища. Дело в том, что я уже тогда возмечтал вывести крупных, сильных, смелых и выносливых лошадей, чтобы создать конницу, подобную римской. Но вот настала ранняя осень, и я мог двинуться в путь. Я выбрал тридцать дружинников, вернее, взял три десятка из трех сотен, домогавшихся ехать со мной. Первой мыслью было ограничиться десятью, но остальные так горевали, что я добавил еще дважды по десять. За день собрали припасы и выехали в Калиддонский лес. Дни стояли и впрямь золотые. Лето выдалось отличное, богатые хлеба уже созрели для жатвы, скот выглядел здоровым и тучным, в каждом селении выросли новые дома или даже палаты. Народ, привыкший в последние годы жить в постоянном страхе, ободрился — вот что значит даже короткая передышка! Всюду ощущалось веселье и надежда. Наконец добрались до Ир Виддфа. По сравнению с богатым югом этот край казался скудным и заброшенным, однако и здесь лето сотворило чудеса: стада умножились, люди были довольны. Как-то звездной ночью мы стали лагерем на высоком горном перевале, а проснувшись, увидели иней на горном вереске. Мы оседлали фыркающих коней и двинулись вниз, к Валу. День был такой ясный, что я различал вдали у горизонта темную громаду Калиддонского леса. Еще несколько дней, и мы будем на его краю. А там еще несколько дней, и я снова буду спать в объятиях Ганиеды. На въезде в лес я, думая обрадовать Кустеннина и Ганиеду, выслал вперед несколько человек — сообщить о нашем приезде. О, моя беспокойная душа! Я и не знал, что так стосковался в разлуке — при мысли о жене моетело наполнило мучительно-сладостное томленье. Седло превратилось в темницу, время ползло. Я почти не спал, думая о Ганиеде и нашем ребенке, изводился желанием ее видеть. Мне столько надо было ей рассказать! Я готов был скакать всю ночь, если б не боялся заплутать на Калиддонских тропах. Мука была сладкой, но все равно мукой. Наконец забрезжил день нашего приезда. Я проснулся раньше всех, зная, что, поднажав, мы доберемся до дворца Кустеннина к полудню. Гонцы должны были доехать еще вечером. Я знал, что Ганиеда ждет, и не хотел ее томить. Мы ехали по узкой дорожке, а вокруг просыпался лес. Когда рассвело, мы остановились позавтракать. Я разрешил дружинникам спешиться, но только на время еды; закончив, мы тут же вскочили в седла и поскакали дальше. К полудню мы были на гребне последнего холма. Дальше дорога расширялась и вилась через лес к Годдеу. Крепость скрывали деревья, но мы знали, что она близко. Первый тревожный знак ждал нас чуть дальше. Мы остановились у ручья передохнуть и напоить лошадей перед последним рывком. Несколько моих дружинников переехали ручей, чтобы освободить место задним, и рассредоточились вдоль берега. Я наклонился попить, и тут раздался крик. — Господин Мирддин! — Мое имя эхом отдавалось в лесу. — Господин Мирддин! — Я здесь, — отвечал я. — В чем дело? Ко мне бежал один из воинов-четверогодков. — Господин Мирддин, я кое-что нашел, вам надо взглянуть. — Что такое, Балах? На лице его читалась тревога. — Человеческие следы на берегу. — Он указал рукой вниз по течению. — Вон там. — Много? — Не знаю. Пусть господин сам посмотрит. — Тогда показывай. Он повел меня к тому месту, где видел следы. Я последовал за ним, плеща по воде, перешел на другую сторону и увидел на глинистом берегу отпечатки нескольких десятков подошв. С нашей стороны следов не было — эти люди не пересекали ручей, они из него вышли… Саксы! Так поступают саксы, идя через густой лес. Не зная дорог, они следуют вдоль ручьев… И сейчас они в Калиддоне. Более того, они нас опередили; насколько, я мог только гадать. Следы были довольно свежие — их оставили несколько часов назад. Саксы незнакомы с местностью, они будут двигаться медленно. Мы верхами еще можем их нагнать. Великий Свет, дай нам их настигнуть! Я приказал немедленно садиться в седла и приготовить оружие на случай засады. Мы поскакали. Предосторожности оказались излишними. Следов мы больше не встретили, и, если бы я не видел их своими глазами, то посчитал бы Балаха выдумщиком. Время от времени мы останавливались и прислушивались, но ничего не различали, кроме беличьей трескотни да переклички ворон. Мы ехали к Годдеу. Страшное предчувствие леденило сердце. Страх выползал из пронизанного солнцем леса — шепотки беспокойства, приглушенный голос тревоги. Я гнал вперед. Лошади нервничали. Думаю, они издалека чуют кровь. Оторвавшись от своих дружинников, я взлетел на гребень холма, увидел мирную гладь озера и город Годдеу. Яркое солнце освещало дорогу и лежащие на ней тела. В следующий миг я был подле них и спрыгивал с лошади. Убитые были женщинами… О, Господи, нет! Ганиеда! Я упал на колени и перевернул первую лицом вверх. Чернокосая девушка. Горло перерезано. Следующую убили ударом копья в сердце — ее белое платье пропитала багровая кровь. Тело еще не остыло. Ганиеда, душа моя, где ты? Ослепленный ужасом, я кое-как добрел до груды кровавых тел и зарыдал, скрежеща зубами, при виде того, что сотворили с девической красотой саксонские топоры. С несчастных срывали платья, прежде чем убить, и подвергали издевательствам. Смерть их была ужасна. Пусть небеса навеки закроются для меня, лучше б мне было умереть в тот день! Убитых было семь, но Ганиеды среди них не оказалось. Отче Любящий! В сердце вспыхнула крохотная надежда. Позади уже гремели копыта — дружинники меня нагоняли. Не знаю, что заставило меня свернуть с дороги. Быть может, бледно-голубой отблеск в тени деревьев… Я шел к старому поваленному стволу. По дальнюю сторону от него лежали еще три женщины — одна внизу, двое на ней. Медленно, нежно, я сдвинул их на землю… Девушки Ганиеды погибли, закрывая ее своими телами. Варвары видели, что Ганиеда беременна, и устроили из ее убийства отдельную забаву. Великий Свет, мне этого не снести! О, Аннвас, я видел ее тело… чувствовал его ускользающую теплоту… ощущал губами вкус ее крови, прильнув к холодной щеке… нет, не могу… не заставляй меня рассказывать дальше! Но ты хочешь слышать. Хочешь, чтобы я выговорил слова, ненавистней которых нет ничего на свете… Ладно, я расскажу до конца, чтобы все знали мое горе и мой позор. На ее теле зияло множество ран, платье пропиталось запекшейся кровью — его порвали, пытаясь сдернуть, одну прелестную грудь отсекли, гордо вздымавшийся живот пронзили мечом… О Боже Любящий, нет! Пронзили, и не единожды, а снова и снова… Ноги мои подкосились. Я с криком упал на тело моей милой, потом поднялся и обхватил руками прекрасное лицо. Оно уже не было прекрасным, его черты исказила мука, испачкала кровь, ясные глаза замутились. Звери! Варвары! И тут я увидел… в одной из ран на животе… Боже Милостивый!.. тянущуюся к жизни, которой уже не обрести, крохотную нерожденную ручку. Синий и неподвижный, в тонкой сеточке жил, крохотный кулачок торчал из мертвого лона… рука моего младенца, милого моего дитятки…
Глава двенадцатая
В голове грохотало. В ушах гудел рой ядовитых ос. ЗВЕРИ! ВАРВАРЫ! Земля при каждом шаге вздымалась и уходила из-под ног, как бурное море. Я оступился, упал, вскочил и побежал. Отче Милосердный, я бежал, блюя желчью, давился, задыхался и все равно бежал. Позади раздался крик, звук вынимаемых мечей. Запел рог. Мои дружинники увидели саксов. Прощай, Ганиеда, душа моя, я любил тебя больше жизни!Человек, который бесстрашно помчался в тот день на врага, был уже совсем другим Мерлином. Меч мой — царский клинок Аваллаха — сверкал на ярком солнце, конь во весь опор врезался в саксонский отряд, но я не помню, как вытащил меч и как взмахнул поводьями. Мерлина больше не было: я отошел в сторону и смотрел издалека на неразмышляющее, бесчувственное тело, в то время как оно наносило затверженные удары. Тело было мое, но Мерлин исчез. Я видел перед собой лица… перекошенные рты изрыгали брань на неведомом мне наречии… искаженные ненавистью лица исчезали под взметнувшимися копытами… жутко кривлялись отрубленные головы на острие моего меча… Пламенем объяло меня исступление битвы, и белое каление ярости жаром обдало врагов. Никто не мог устоять передо мной, и немногочисленный отряд саксов был вскорости перебит. Дружинники собрались вокруг меня. Некоторые вытирали с мечей кровь. Я сидел в седле, тупо глядя на солнце и опустив меч. Кто-то тронул меня за плечо. — Господин Мерлин, — промолвил Пеллеас. — Что случилось? — Голос его был нежен — так мать говорит с лежащим в жару ребенком. — Что ты увидел? Из крепости впереди клубами вздымался дым, ветер доносил далекие крики. Я тряхнул поводьями. — Господин Мерлин, — продолжал спрашивать Пеллеас, но я не отвечал. Я не мог говорить, да и что тут можно было ответить? Варвары, с которыми мы сразились на дороге, возвращались к броду — наверное, чтобы укрыться в засаде и напасть на тех, кто решил бы прийти на выручку Кустеннину. Главный отряд двигался на Годдеу. Мои дружинники еще соображали, что к чему, а я уже во весь опор мчался по склону к озеру, отделявшему нас от бревенчатых палат Кустеннина. И снова мое тело двигалось само по себе. Я глядел со стороны, как чужой, не зная, но лишь догадываясь, что делает этот человек с мечом. На месте боя я оказался первым и сразу ринулся в гущу. Если в моей голове и была сознательная мысль, то лишь эта: скоро ненавистные саксонские топоры доберутся до моего сердца. Враг уже поджег первые здания, до которых сумел добраться. Дым, густой и черный, клубился в воздухе. На земле лежали убитые, по большей части женщины — их настигли, когда они бежали укрыться в королевских палатах. Я зарубил шестерых врагов, прежде чем понял, что уже сражаюсь; еще пятеро саксов погибли раньше, чем успели поднять на меня топор. Всего их было человек сорок, мои тридцать дружинников и те из людей Кустеннина, кто не уехал охотиться с Гвендолау, легко взяли над ними верх. Все кончилось, почти не успев начаться. Мои люди спешились и вытирали мечи, искали раненых среди убитых или оценивали ущерб, когда мы услышали стук приближающихся копыт. Гвендолау и его спутники увидели дым и во весь опор поскакали защищать свой дом. Они на полном скаку влетели в селение: Гвендолау с Барамом впереди всех. Гвендолау натянул поводья и взглянул сперва на отца — тот стоял на пороге дома и удерживал за ошейник собаку, которая, не успокаиваясь, кидалась на труп загрызенного врага, — потом увидел меня. — Мирддин! Ты… — начал он. Улыбка его мгновенно погасла — он догадался. Даже Кустеннин еще ничего не понял. — Нет! — вскричал юноша так громко, что спутники его вздрогнули. — Ганиеда! Он бросился ко мне, вцепился в уздечку. — Мирддин, она собиралась тебя встречать! Она так радовалась, так… — Он с ужасом обернулся на дорогу, по которой мы прискакали, уже понимая, но все еще не веря, что Ганиеда не идет следом за нами. Он взглянул на меня, ожидая ответа, но я стоял нем перед братом моей возлюбленной и моим братом. Кустеннин шагнул вперед. Я никогда не узнаю, понял ли он, что случилось с его дочерью, ибо в этот самый миг мы услышали звук, от которого кровь похолодела в жилах. Низкое, раскатистое гудение, похожее на звук охотничьего рога, но ниже, страшнее — зверский скрежещущий рев, призванный внушать отчаяние и ужас. Тогда я услышал его в первый, но не в последний, Господи Милостивый, не в последний раз, и, хотя я прежде его не слышал, я сразу понял, что это такое… Большой боевой рог саксонского воинства. Мы, сколько нас было, повернулись, как один человек, и увидели, как с холма на нас надвигается гибель — пять сотен вооруженных саксов! Они бежали, вопя. Клянусь, земля дрожала под их ногами! Кое-кто из воинов помоложе впервые видел саксов в полном боевом облачении. Сейчас их взорам предстали полуголые варвары, исполненные воинственного духа: топоры сверкают в ярком солнечном свете, мощные ноги бегут неудержимо, длинные соломенные косы развеваются на ветру. Многие вокруг меня проклинали день своего рождения и готовились умереть. Десять на одного — не нужно быть ученым, чтоб сосчитать! Но мы были верхом, а опытный боевой конь — неоценимый помощник, особенно против пеших. Страх, охвативший нас при виде врага, был отброшен. Мы снова уселись в седла и приготовились к нападению. Гвендолау выкрикнул мое имя, но я не ответил, потому что уже мчался вперед. Я хотел в одиночку встретить все войско саксов. Мне кричали «Остановись!», «Подожди!», но я не слушал. Тогда Гвендолау, взяв командование на себя, разделил наш маленький отряд на две части в надежде расколоть набегающий людской вал. Нашей единственной надеждой было вновь и вновь врезаться в их боевые ряды, не давая себя окружить. Их было слишком много, нас — слишком мало, по отдельности мы бы не выстояли. У меня же не было вообще никакой надежды, никакого расчета. Мне хотелось только мчаться и убивать, чтобы уложить как можно больше убийц моей милой, прежде чем уложат меня. Я не хотел жить, не хотел дышать воздухом мира, в котором больше нет Ганиеды. О смерть! Ты взяла мою душу и сердце, возьми ж и меня впридачу! Я мчался так, что воздух свистел, рассекаемый острым клинком. Из-под конских копыт летела земля. Плащ развевался за спиной, изо рта рвался крик… Да, я кричал на дьявольское отродье, бегущее мне навстречу, и голос мой был страшен:
Глава тринадцатая
Я поднял глаза и взглянул на укрытые мглой долины. Дождь перестал, звезды сияли ярко. Пахло вереском и сосновой хвоей, из леса у подножия склона коротко взвыл, выходя на охоту, волк. У моих ног волчица навострила уши, золотые глаза блеснули во тьме, но она не двинулась с места. Костерок, который развел Аннвас, еще горел, похлебка булькала в котелке, лепешки пеклись. Сам гость смотрел на меня печально и ясно. — Ты ненавидишь меня, Аннвас? — спросил я под тихий треск костерка. — Теперь, когда ты знаешь, что я совершил, — ты меня презираешь? Вместо ответа он взял котелок, наполнил миску и протянул ее мне. — Я не могу ненавидеть, — сказал он мягко, — и сейчас не время судить. — Он разломил горячий хлебец и протянул мне половину. — Сейчас мы поедим, и тебе станет лучше. Мы ели в молчании. Похлебка была вкусной, и мне действительно полегчало. Огонь согревал, от еды — как давно я не ел мяса? — накатила сонливость. Я подобрал коркой остатки варева, отставил миску и завернулся в плащ. — А теперь спи, Мирддин, — сказал Аннвас. — Спи спокойно. Показалось, что прошло только мгновение, но, когда я раскрыл глаза, солнце уже озарило вершины гор, и с неба золотым дождем сыпалась песнь жаворонка. Аннвас снова разжег костер и принес мне воды в горшке. — Значит, ты еще здесь, — заметил я, переливая воду в свою плошку и поднося ее к губам. — Да, — кивнул он. — Я не пойду с тобой, — были мои следующие слова. — Тебе решать, Мирддин. — Тогда ты напрасно теряешь время. Я не уйду отсюда. — Ты уже говорил. Но я здесь не затем, чтобы увести тебя вниз. Чего же ему от меня надо? — Тогда зачем ты здесь? — Чтобы спасти тебя, Мирддин. — От чего бы это? — Твой труд не закончен, — отвечал он. — В мире людей события по-прежнему несутся стремительно, и Тьма поглотила почти все. Она достигла даже этих берегов. Да, Великая Тьма, которой страшатся люди, уже здесь, она закрепилась на Острове Могущественного. Я смотрел на него в упор; слова эти всколыхнули меня сильнее, чем мне хотелось. — И при чем здесь, по-твоему, я? — Я просто рассказал, как обстоят дела. — Аннвас протянул мне половину испеченного вчера хлебца. — А что делать, это решать тебе. — Кто ты, Аннвас Адениаок? Почему ты пришел ко мне? Он мягко улыбнулся. — Я уже отвечал на этот вопрос. Я твой друг. — С этими словами он встал и шагнул к выходу из пещеры. — А теперь идем со мной. — Куда? — недоверчиво спросил я. — Внизу в лощине есть ручей… Надо пойти туда. Больше он ничего не добавил, просто повернулся и пошел по тропе вниз. Я некоторое время смотрел ему в спину, решил не идти, но он остановился, обернулся и позвал меня. Я встал и пошел. Ручей был неширок, но от вчерашнего дождя уровень поднялся, и в ямах у камней собралась вода. К одной из таких ям и вел меня Аннвас. — Сними плащ, — велел он, заходя в воду, — и одежду. То, что он великодушно назвал одеждой, было не более чем повязкой, кое-как прикрывавшей мои чресла. Она спала, стоило ее тронуть. — Я уже крещен. — Знаю. — Аннвас протянул мне руку. — Я просто хочу омыть тебя. — Я сам могу помыться. — И я сделал шаг назад. — Знаю, знаю. Но позволь мне на этот раз. Я шагнул в холодную воду. Кожа пошла мурашками, зубы застучали. Аннвас взял меня за руку и повернул лицом к себе, потом зачерпнул плошкой воды и вылил мне на голову. Затем вытащил мыло — твердое, желтое, древние кельты варили его целыми глыбами на весь клан, а каждая семья отрезала себе, сколько надо, — и принялся меня мыть. Намылив руки и грудь, он повернул меня и принялся тереть спину. — Сядьте, сударь, — приказал Аннвас, и я сел на камень, а он вымыл мне ноги, грязные спутанные волосы и бороду. Все это он делал споро и весело, словно исполнял главное назначение своей жизни. Я не противился, но думал, что это странно: меня, взрослого человека, моет другой взрослый. Ощущение и впрямь было странное. Мне было приятно, более того, я чувствовал, что так должно быть. Так, думал я, восточные императоры вступали на трон. Но как же хорошо быть чистым. Чистым! Как давно это было? Он вымыл волосы, потом, к моему изумлению — хотя пора уже было перестать удивляться, — вынул ножницы и бритву греческого образца и, опустившись на колени прямо в ручей, сперва коротко подстриг мои спутанные кудри, а затем чисто выбрил подбородок и щеки. Закончив, он снова полил меня водой из плошки и сказал: — Встань, Мерлин, и ступай навстречу дню. Я встал — вода бежала с меня ручьями — и почувствовал, как немощь прошедших лет, растраченных в тоске и горечи, сбегает вместе с водой. Я встал, и короста бессилия спала с меня, я вновь сделался чист — чист и здоров рассудком. Я шагнул из воды и подобрал плащ, как ни противно было вновь прикасаться к грязному. Аннвас это предвидел. — Оставь, он тебе не понадобится. Что ж, возможно, в этом была правда. Яркое солнце согревало — но не всегда же так будет. По ночам в горах холодно — как же мне без плаща. Я снова нагнулся. — Оставь, — повторил он и указал на дорогу. — Смотри, вот идет тот, кто оденет тебя по сану. Я взглянул и увидел на тропе одинокого пешехода, который вел в поводу двух оседланных лошадей. — Кто это? — обратился я к Аннвасу. — Тот, чьей любви тебе никогда не измерить. — Его слова обожгли мне сердце, но во взгляде не было укоризны. — Он идет, и мне пора уходить. — Останься, друг. — Я протянул руку. — То, зачем я пришел, исполнено. — Встретимся ли мы снова? Он на мгновение склонил голову набок, словно оценивал меня. — Нет, думаю, в этом не будет надобности. — Останься, — взмолился я. — Прошу, останься. — Мирддин, — промолвил он, крепко сжимая мне руку, — я был с тобой всегда. Одна из лошадей заржала. Я обернулся и увидел, что путник приблизился. Его силуэт показался мне знакомым. Кто это может быть? Я шагнул на тропу. — Прощай, Мирддин, — произнес Аннвас. Когда я обернулся, его уже не было. — Прощай, Аннвас Адениаок, до встречи, — ответил я и сел на камень дожидаться нового гостя.Глава четырнадцатая
Ждать пришлось недолго. Тропа вела по осыпи к тому самому ручью, у которого я сидел. Путник меня не видел — его глаза были устремлены на пещеру, в которой он думал меня найти. Как ни странно, я его не узнал. Он шел по тропе, а когда остановился у ручья, я встал, изрядно напугав его; согласитесь, странно увидеть на рассвете в горах совершенно голого человека. — Привет, друг, — сказал я, вставая. — Прости, что напугал тебя, я не хотел. — Ой! — Он с криком отпрыгнул назад, как от змеи. Однако в следующий миг лицо его изменилось. Тут я узнал его, но в первое мгновение не поверил своим глазам. Он тоже узнал меня. — Господин мой Мерлин! Он выпустил поводья и упал на колени. В глазах его стояли слезы. Руки, протянутые ко мне, дрожали, он улыбался, как сумасшедший. — Господин мой Мерлин, я не смел и надеяться… Я неуверенно шагнул к нему. — Пеллеас? — Господин мой… — Слезы струились по его лицу. Он схватил мою руку и прижал к груди, трясясь от волнения. — Пеллеас? — Я все еще не мог поверить. — Пеллеас, это правда ты? Ты здесь? — Здесь, повелитель. Пеллеас здесь. Наконец-то я вас нашел! Я дрожал от холода, и он немного пришел в себя, хотя и продолжал ликовать. Он вскочил, подбежал к лошадям, которые успели отойти на несколько шагов, залез в чересседельную суму и вытащил пестрый сверток. — Вы замерзли, — сказал он, — но это вас согреет. — И, развернув сверток, принялся раскладывать на камне одежду. Я надел желтую рубаху тончайшего полотна, синие в черную клетку штаны, сел, натянул коричневые кожаные сапоги и завязал их под коленом. Когда я снова встал, Пеллеас протянул мне синий плащ с опушкой из волчьего меха. Это был королевский плащ, точнее, мой собственный, заново сшитый — подарок Подземных жителей. Я надел его на плечи, и он шагнул ко мне с пряжкой. Я узнал рисунок — два оленя, сцепившиеся рогами, яростно глядят друг на друга рубиновыми глазами. Эта пряжка принадлежала Талиесину; Харита хранила ее среди прочих сокровищ в деревянном сундуке в Инис Аваллахе. Пеллеас заметил мой изумленный взгляд. — Твоя мать прислала ее вместе со своим приветом, — сказал он, скрепляя плащ на моем плече. Внезапно мне захотелось спросить сразу о многом, и я задал первый пришедший в голову вопрос: — Скажи, как ты узнал, где меня искать? — А я не знал, господин, — просто ответил он, застегнул пряжку и отступил на шаг. — Ну вот, теперь вы снова король. — Ты хочешь сказать… — Я вытаращил глаза. — Ты хочешь сказать, что искал меня все это время… сколько же лет? Ведь прошли годы, не так ли? Конечно, да, достаточно взглянуть на тебя, Пеллеас, ты уже совсем возмужал. Я… Пеллеас, скажи, сколько прошло времени? Как долго меня не было среди людей? — Да порядочно, господин. Много лет. — Очень много? — Да, господин, очень. — Сколько? Он пожал плечами. — Не столько, чтобы на этой земле забыли Мирддина Эмриса. По правде сказать, ваша слава многократно умножилась. Нет на Острове Могущественного уголка, где бы вас ни знали и ни страшились. — Он снова упал на колени. — Ой, Мерлин, господин мой, я так рад, что наконец вас нашел… — Сколько же ты искал… ты что, так и не прекращал поиски? — До сего дня — нет. А если бы не нашел сегодня, продолжал бы искать дальше. Его преданность повергла меня в трепет и в то же время пристыдила. Я отвел глаза. — Я не достоин твоего самопожертвования, Пеллеас. Только Бога надлежит любить так сильно. — Разве тот, кто заботится о ближнем, не служит Богу? Мне показалось, что я узнал слова одного знакомого священника. — Ты слушал брата Давида. — Епископа Давида, — с улыбкой отвечал он. — Епископа? И как он? — Здоров, — отвечал Пеллеас. — Здоров и счастлив. Весь день в трудах по монастырю, и люди в два раза моложе не могут за ним угнаться. Сердце его по-прежнему юно. Все королевство на него не нарадуется. — А Мелвис? В добром ли он здравии? — Господин мой, Мелвис перешел к праотцам. Не знаю, какого я ждал ответа, но чувство утраты больно сжало мне сердце. До меня внезапно дошло, что означало мое отсутствие. — А Эльфин? Что Эльфин? — Он тоже, господин. Много лет назад. И госпожа Ронвен. Глупец! О чем ты думал, сидя в норе, бродя меж камней, как призрак. О чем ты думал? Не знал, что у людей иной отсчет лет, что век их короче? Покуда ты сидел тут и выл, лелея свое постыдное горе, твои друзья и родичи состарились и умерли. — Ясно, — произнес я, опечалившись. Мелвис, Эльфин, Ронвен — все умерли. И сколько еще других? Великий Свет, а я ничего не ведал! Пеллеас ушел к лошадям и теперь вернулся с едой. — Вы голодны? У меня тут хлеб, сыр и немного меда. Еда вас ободрит. — Давай поедим вместе, — сказал я. — Приятнее всего мне будет разделить трапезу с другом. За едой он немного рассказал о своих поисках, в которых обошел чуть не все уголки Калиддона. — Мне думалось, ты погиб, — сказал я, когда он закончил. — Все полегли: Кустеннин, Гвендолау, моя дружина… Ганиеда, все погибли, и ты с ними. Я не мог этого вынести. Отче Милостивый, прости меня, я обратился в бегство. — Многие погибли в тот день, — печально отвечал он, — но все же не все. Я остался жив, и Кустеннин тоже. Я видел, как вы скакали прочь, знаете? Я даже кричал вам вслед, но вы не слышали. Уже тогда… — Лицо его просветлело. — Уже тогда я знал, что когда-нибудь вас найду. — Уж очень ты был в себе уверен. Даже двух коней взял. — Каллидонский лес велик, господин, но я всегда сохранял надежду. — Твоя вера вознаграждена. Я тоже наградил бы тебя, но у меня ничего нет. Да будь у меня даже девять королевств, никакой дар не сравнился бы с даром твоей преданности, Пеллеас. Ни у кого еще не было такого друга! Он медленно покачал головой. — Я получил награду, — тихо сказал он. — Единственное мое желание — снова служить вам. Мы в молчании закончили трапезу, я встал и стряхнул крошки с одежды, потом глубоко вдохнул горный воздух — воздух изменившегося мира. Покуда я укрывался в пещере, тьма окрепла. Теперь надо узнать, горит ли еще свет и насколько ярко. Пеллеас собрал остатки еды и подошел ко мне. — Куда вы намерены отправиться, господин Мерлин? — Толком не знаю. — Я взглянул на ручей и пещеру. Теперь она казалась холодной, заброшенной и чужой. — Кустеннин по-прежнему живет в Калиддоне? — Да, господин. Я заезжал к нему в начале весны. — А моя мать — она по-прежнему в Диведе? — Она вернулась в Инис Аваллах. — Понятно. А сам Аваллах? — Неплохо. Но увечье по-прежнему его мучит. Я повернулся и резко спросил: — Если Харита в Инис Аваллахе, то кто правит в Диведе? — Теодриг — племянник Мелвиса. — А в Летнем краю? — Правитель по имени Эливар, — отвечал Пеллеас и, замявшись, словно не хотел сообщать неприятную новость, добавил: — Но над ним есть другой, Вортигерн. Вообще-то этот… этот человек провозгласил себя королем над всеми британскими государями. — А, верховным королем. Вортигерн. Да, я видел твое лицо в огне, видел тень твоего прихода. И слышал грохот твоего падения. — Что такое, господин? — Ничего. Говоришь, Вортигерн правит в Летнем краю? — А также в Гвинедде, Регеде и Ллогрии. Он неимоверно тщеславен и жесток. Ни перед чем не останавливается. — Я знаю о нем, Пеллеас. Но не тревожься, его дни на этой земле не так долги. — Господин? — Я видел это, Пеллеас. — Взор мой упал на долину, где темные кроны деревьев жались к подножью горы. По берегу ручья к нам направлялись четверо всадников. Мне следовало удивиться, ведь за все эти годы я не видел ни души, но отчасти я этого ждал, потому что с первого взгляда понял, кто они и зачем едут. Знал я и другое — кто привел их ко мне. — Враг не теряет времени, — сказал я, вспоминая недавнего гостя и его вкрадчивую повадку. Да, я устоял — в помрачении сердца и разума я, по милосердию благого Бога, все же не покорился. А теперь я снова здоров. Я исцелился и полон сил. Древний враг, что бы ты ни задумал, я, Мирддин Эмрис, не покорюсь! Пеллеас некоторое время наблюдал за всадниками. — Может быть, нам уйти, господин? — Нет, — отвечал я. — Ты спросил, куда мы пойдем. Думаю, эти люди едут, чтоб нас проводить. — Куда? — К местному диву — человеку, поставившему себя выше всех королей древности. — Люди Вортигерна! Господин Мирддин, за мной никто не следил, клянусь! — Нет, не следил. Их послал другой. — Еще есть время, бежим. — Что ты, Пеллеас, нам нечего страшиться этих людей. К тому же я хотел бы увидеть Вортигерна лицом к лицу. Я еще никогда не видел Верховного короля. Пеллеас скорчил гримасу. — Говорят, там и смотреть-то не на что. А те, кому дорога жизнь, вообще стараются держаться подальше. — Тем не менее, я пойду и засвидетельствую почтение человеку, который правил королевством в мое отсутствие. Мы ждали. Всадники медленно поднимались по крутому откосу, и у меня было время внимательно их разглядеть: три плечистых воина с бронзовыми браслетами выше локтя и кожаными щитами, и еще один, судя по дубовому посоху за седлом, — друид. Несмотря на раннее утро, все четверо были истомлены дорогой, их кони спотыкались от усталости. Значит, поручение настолько спешное, что они ехали без сна и отдыха всю ночь. Когда они подъехали поближе, я крикнул: — Привет, путники, Лесной Владыка вас ждет! Они натянули поводья и переглянулись, что-то бормоча. — Кто ты? — спросил друид. — Ты знаешь, ибо я назвался. Мог бы и я спросить, кто ты такой, да не имею обыкновения задавать вопросы, если знаю ответ. — Ты знаешь, кто мы? — спросил один из его спутников, опасливо приближаясь. — Знаю, — заверил я. — Тогда, возможно, ты знаешь, зачем мы приехали. — Он бросил неодобрительный взгляд на Пеллеаса, как будто тот лишил их приезд задуманной внезапности. — Вы приехали отвезти меня к вашему повелителю, который зовется Вортигерном и провозгласил себя королем. Ответ им не понравился, но придраться было не к чему, ибо я говорил учтиво. — Мы приехали, — сказал друид, — чтобы отыскать того, кого называют Мерлином Эмрисом. — Вы его нашли, — сказал я, — он с вами говорит. Друид не поверил. — Тот, кого мы ищем, был стариком еще в моем детстве. Ты не можешь быть Мерлином. — Если так, ты и впрямь не знаешь, кого ищешь. Он на мгновение растерялся. — Говорят, Мерлин ведет род от эльфов и фей, — заметил его спутник. — Тогда все понятно. — Ваши кони устали, вы сами чуть не падаете из седел. Спешивайтесь, дайте отдых себе и коням. Поешьте, наберитесь сил, прежде чем мы пустимся в путь. Эти слова подействовали на них сильнее всех предыдущих. Они собирались схватить меня силой. Мысль, что я пойду своей волей, не приходила им в голову. — Мы намерены взять тебя с собой, — упрямо предупредил второй всадник. — Разве я не сказал уже, что пойду? Мое желание — говорить с вашим владыкой. Друид кивнул и сделал остальным знак спешиться, сам тоже соскочил на землю и встал передо мной. — Не пытайся бежать. Я друид и обладаю силой. Твои штучки со мной не пройдут. Я рассмеялся: — Что мне твоя сила, друг, я ведь знаю, откуда она исходит. Скажу правду — я видел твоего господина и не поддался. Куда уж тебе взять надо мной верх. Тьма не властна над светом, никакая сила на земле не сдвинет меня, покуда сам не пожелаю. Я иду с тобою по доброй воле. Он нахмурился и, повернувшись к спутникам, велел расседлать и напоить коней. — Отдохнем немного, — сказал он. — Помоги им, Пеллеас, а я пойду попрощаюсь. — Я встал и пошел вверх, к пещере, искать волчицу. Однако ее оказалось не так просто отослать прочь. Сперва я испугался за коней, но напрасно: увидев волчицу со мной, они приняли ее за собаку и отнеслись к ней, как к обычной гончей. С людьми дело оказалось сложней. — Убери свою зверюгу! — завопил один из воинов, вскакивая и вытаскивая кинжал — хотя как бы он им защищался, не представляю. — Сядь, — сказал я, — и не шуми. Она тебя не тронет, если сам ее не раздразнишь. И убери кинжал — уж коли она захочет тебя загрызть, ничто не поможет, тем более этот жалкий клинок. Воин взглянул в золотые глаза волчицы, потом в мои, левой рукой осенил себя от зла и что-то беззвучно пробормотал. Я слышал, что он сказал, и произнес: — Не бойся, Иддек. Однако он все еще боялся и судорожно сжимал рукоять. — Откуда ты знаешь мое имя? — хрипло спросил он. — Я много чего знаю. Один из его спутников услышал мои слова и подошел ближе, почтительно обходя волчицу. — Тогда ты знаешь и наши намерения… — начал он. — Да, Данед, знаю. — Молчать! — завопил друид. — Это уловка! Не говори ему ничего! — Он знает! — заорал Данед. — От него ничего не скроешь! — Ничего он не узнает, если ты не скажешь! — Он назвал меня по имени, — проговорил Иддек. — Обоих нас… Он нас обоих знает. Друид (я знал, что его зовут Дуах) подбежал к воинам. — Он слышал, как вы говорили между собой. Вы, небось, с приезда уже сто раз назвали друг друга по имени. Воины переглянулись, неубежденные, и, ворча, продолжили расседлывать лошадей. Дуах повернулся ко мне. — Не трожь их, — сказал он. — Может, они по дури и верят в твою ложь, но живо перережут тебе горло, если велю. Волчица зарычала, друид отступил на шаг. — Прогони ее, если тебе дорога жизнь. — Не пытайся больше задеть меня ни словом, ни жестом, Дуах, если тебе дорога твоя. Пеллеас, молча наблюдавший за этой сценой, подошел ближе. — Господин, мне не нравится, как они себя ведут. Быть может, не следует ехать с ними. Я положил руку ему на плечо. — Не тревожься. Все, что случится со мной, предначертано заранее. Как я сказал, мы едем с ними потому, что я так решил, а не они. — Он еще сомневался, и я добавил: — К тому же это самый скорый способ возвестить миру, что Мирддин Эмрис вернулся на землю живых.Глава пятнадцатая
Вортигерн, с жидкой рыжей бороденкой и хитрыми глазами-щелочками, был когда-то толковым военачальником. Нынче он сидел на роскошном троне, старый пресыщенный обжора, усталый, жалкий, измученный страхами. Некогда могучие плечи ссутулились, мышцы одрябли и превратились в жир, под расшитой мантией явственно вырисовывалось брюхо. Впрочем, несмотря на рой осаждавших его тревог, он, сидя в окружении приспешников и прихлебателей, сохранял царственный вид, а в заплывших глазках еще читались изворотливость и хватка, снискавшие ему власть. Первый взгляд на человека, который принес Острову Могущественного столько невзгод, ничуть не изменило моего мнения о нем — воистину, он проклятие своей страны! Однако, наблюдая, с каким усилием сохраняет достоинство этот загнанный в угол старый барсук, я лучше его понял и решил не упрекать в содеянном. Я знал, что кара его близка и не мне что-нибудь менять. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это был хитрый и расчетливый малый, переживший трудные времена. Хотя он больше руководствовался своей выгодой и меньше благом народа, он по крайней мере на время сдержал надвигающуюся саксонскую волну. Впрочем, это тоже было в его интересах. Да, теперь он пожинал плоды своего безумия, но не все его решения были дурны. Он, как мог, расхлебывал кашу, которую ему оставили. От вечно ноющих приближенных было мало проку. И если б я в своем безумии не бросил народ и землю — кто знает? — может быть, Вортигерн не так легко вскарабкался бы на трон. Не оставь я Британию на произвол судьбы, все могло бы повернуться иначе. Ладно, теперь ничего не поправить. Что случилось, то случилось, и прошлого не вернуть. Однако час расплаты для Вортигерна близился, и я это знал. По крайней мере я решил не поднимать на него руку и обойтись с ним по возможности милосердно. Бог свидетель, он действительно нуждался в друге. Четверо отправленных на розыски — друид и три телохранителя Вортигерна — со всей поспешностью доставили меня к нему в Ир Виддфа. Ехали мы быстро и без всяких происшествий. Через два дня лес сменился холмами. Я рад был снова увидеть холмистый простор, после тесной чащи открытая местность казалось самой свободой. Впрочем, было и огорчение — мне пришлось наконец расстаться с волчицей. Выросшая в лесу, она остановилась на его опушке и не соглашалась двинуться дальше. Прощай, верная подруга, твоя долгая стража окончена. Ты вольнаидти, куда пожелаешь. Едва мы въехали в лагерь, меня сразу провели к королю. Верховный король сидел на солнце у входа в шатер, в кольце камней и строительного материала, среди которых суетились десятки рабочих. Вортигерн потер подбородок и посмотрел на меня, под мешками век блеснула искорка любопытства. Видимо, надеясь на старые обычаи, он собрал при себе целую свору друидов. Они смотрели на меня с ледяным презрением и жгучей ненавистью обреченных. — Ты ли тот, кого зовут Эмрисом? — спросил Вортигерн наконец. Похоже, я не произвел на него большого впечатления — он рассчитывал увидеть кого-то повнушительнее. — Я известен под многими именами, — отвечал я. — Эмрис — одно из них, Мерлин — другое. Родичи зовут меня Мирддин. — Ты знаешь, зачем я тебя искал? — Он повертел тяжелое янтарное кольцо на пальце, ожидая ответа. — Работа над крепостью продвигается плохо. Твои каменщики не могут возвести стену, а друиды винят во всем злого духа. — Я пожал плечами. — Короче, чтобы укрепить ее основания, тебе нужна кровь человека, рожденного от девы. Друиды возмущенно зашумели. Думаю, они и впрямь надеялись таким образом сбить меня с толку. Однако Вортигерн только улыбнулся. — Чего вы ждали? — сказал он друидам. — Есть ли сомнения, что это тот, кто нам нужен? — Он сам — злой дух, — произнес главный из королевских друидов, злобный старик по имени Иорам. — Не слушай его, повелитель, он смутит тебя своей ложью. Старый Вортигерн жестом велел ему замолчать и вновь обратился ко мне: — Вправду ли ты рожден без отца? — Мой отец Талиесин ап Эльфин ап Гвиддно Гаранхир, — сказал я. — Эти имена прославлены по всей земле. — Они мне известны, — почтительно промолвил Вортигерн. — То были чтимые мужи Камбрии. — Да, но Талиесин не был человеком! — объявил Иорам. — Ученому Братству известно, что он — порождение Иного Мира. — Для моей матери это будет новость, — холодно отвечал я, — как и для всех, кто его знал. Кое-кто из королевских приближенных не выдержал и расхохотался. — А где те, кто его знал? — Главный друид угрожающе шагнул ко мне, выставив рябиновый посох. Горько было видеть, как этот глупец силится подражать Ученым Наставникам прошлого. Хафган затрясся бы от гнева и разбил посох о несносную голову наглеца. — Где те, кто знал Талиесина? — победно повторил Иорам, словно неопровержимо доказывал мою вину. Какую вину, не знаю. — Мертвы и похоронены, — признал я. — Это было давно. Люди состарились и умерли. — Но только не ты, Мирддин Эмрис? — Я такой, каким вы меня видите. — Я вижу перед собой молодого человека, — вмешался Вортигерн. Полагаю, он хотел обмануть Иорама и спасти мне жизнь, — который лишь недавно начал брить щеки. Уж конечно, он не может быть сыном Талиесина, который умер задолго до моего рождения. — Король и повелитель, — быстро отвечал Иорам, — пусть его обличье не смущает тебя и не отвращает от задуманного. Он принадлежит к Дивному Народу и потому не старится, как остальные люди. — Хм, — пробормотал Вортигерн. Я видел его затруднительное положение. Он не желал мне зла, а теперь, увидев меня лицом к лицу, жалел, что вообще ввязался в это дело. — Ладно, может быть, если он и впрямь сын Талиесина, то знает, как справиться с нашей бедой? Ответ я адресовал Иораму: — Пусть прежде Иорам нам объяснит, почему каждую ночь камни осыпаются и дневная работа идет прахом. Иорам надул щеки, но не произнес ни слова. — Давай, давай, — настаивал я. — Если ты не можешь сказать, отчего рушится стена, как ты можешь с полной определенностью утверждать, что лишь моя кровь способна ее укрепить? Он злобно зыркнул на меня и с возмущенным видом повернулся к своему повелителю, но Вортигерн сказал твердо: — Мы ждем, Иорам. — Это уже известно, — произнес фальшивый друид. — Каждую ночь, пока строители спят, злой дух этого места расшатывает основание и раскидывает камни. Сколько бы ни воздвигли за день, к утру все лежит в руинах. — Он набрал в грудь воздуха и закончил снисходительно: — Поэтому средство одно — кровь рожденного от девы прочно скрепит камни, и злой дух нас больше не потревожит. — Злой дух в тебе, Иорам, — сказал я, — а здесь никакого злого духа нет, как никто не рожден от девы, за исключением Одного. Вортигерн хитро улыбнулся: — Скажи нам, мудрый Мирддин, в чем же причина? — Земля здесь кажется прочной, но под ней — озеро, заполненное водой. По этой причине земля оседает под весом камней, и стена рушится. — Лжешь! — выкрикнул Иорам. — Это уловка, чтобы спасти себе жизнь! — Истинность моих слов легко доказать, — спокойно отвечал я. — Вортигерн, пошли людей, пусть выроют яму, и ты убедишься в моей правоте. Пеллеас, который все это время стоял рядом со мной, не знал, успокаиваться ему или пугаться. — Вы уверены, хозяин? — прошептал он. Вортигерн тем временем уже кликнул работников. — Я знаю, что делаю, — отвечал я. — Погоди, это еще не все. Я указал место, и работники сразу принялись копать. Яма все углублялась, и с каждой выброшенной лопатой земли лицо друида все больше расплывалось в злорадной улыбке. Казалось, до воды так и не дойдут. Однако, когда глубина ямы достигла человеческого роста, один из работников ударил железной киркой и попал в камень. Камень раскололся. Работник вытащил кирку, чтобы ударить снова, и в яму хлынула вода. Пришлось строителям быстрее выбираться наверх, чтобы не захлебнуться. Приближенные Вортигерна в изумлении следили, как бурлящая вода поднимается к краям ямы. — Молодец, Мирддин! — вскричал Вортигерн, потом резко повернулся к Иораму и вопросил: — Что скажешь на это, льстец? Отвечать было нечего. Иорам прикусил язык и злобно смотрел на меня. Его товарищи, сгрудившись вокруг, вполголоса сыпали бранью и бессильными заклятиями, которые никак не могли мне повредить и, словно стрелы, падали у их ног. Теперь я понял, в каком упадке пребывает искусство бардов, и сильно опечалился. Талиесин, прости своих слабых братьев, если сумеешь. Невежество распространяется по всем четырем ветрам, истина изгажена. Вортигерн велел мне требовать награду, и я ответил, что не возьму у него ни золота, ни серебра. — Тогда возьми землю, друг, — предложил он. — И землю не возьму. — Я ничего не хотел у него брать. Да и как взять то, чем он не вправе распоряжаться? — Ладно, будь по-твоему. Но вечером уж непременно пожалуй ко мне на трапезу. А там, — глаза его недобро сверкнули, — будет веселье. Мне отвели шатер для отдыха. Я лег спать и проснулся, когда слуга принес воды для мытья. Затем нас проводили в зал и усадили за высокий стол рядом с Вортигерном. Друиды по-прежнему были здесь и все так же ярились. Лица их были черны от злобы и гнева. Они не сели за стол, а устроились у очага. — Привет тебе, друг Мирддин! — вскричал Вортигерн при виде меня. В руку мне тут же вложили гостевой кубок. — Вас Хайль! Твое здоровье! Пей, друг! И снова наполни чашу! Я выпил и протянул чашу слуге. Ее снова наполнили, но я не стал пить и опустился рядом с королем. Пир был замечателен исключительно количеством приготовленного. Вортигерн и его приближенные отличались зверским аппетитом, но весьма неразборчивым вкусом. Яства подавали самые простые — черный хлеб, жареное мясо. Все было приготовлено хорошо, но совсем без приправ, и никак не украшено. Вортигерн с жадностью набросился на еду; сгорбившись над миской, он зубами рвал мясо с ножа. Бедняга, в нем не было ни капли благородства. И зачем только он полез в короли? За едой он молчал, потом, закончив, утер рукавом лицо и обратился ко мне: — Ну что, теперь выпьем и поразвлечемся, Мирддин? Пеллеас, прислуживавший за трапезой, чтобы быть ближе ко мне, насторожился и бросил предостерегающий взгляд, но Вортигерн не готовил мне западни. Верховный король кликнул главного барда. Иорам с опаской вышел вперед. — Не думай, что я забыл твое коварство, друид, — произнес Вортигерн. — Если ты ищешь коварство, — мрачно отвечал Иорам, — взгляни лучше на того, кто сидит от тебя по правую руку. — Довольно клеветы! — рявкнул король. — Не желаю больше тебя слушать. — Он призвал начальника телохранителей и объявил перед всеми собравшимися: — Эти люди, которым я доверил свою жизнь, оказались обманщиками. Они хуже предателей. Достань меч и убей их сию же минуту. В этих словах был весь Вортигерн — решительный, безжалостный, стремящийся склонить на свою сторону влиятельного человека, который может оказаться полезным. Меч со звоном вышел из ножен. Все это явно делалось для меня, потому что Вортигерн повернулся и произнес: — Эти слепые колдуны желали твоей крови, пусть теперь не сетуют, что я пролью их. Я ничем не мог им помочь — Вортигерн уже принял решение. Однако пусть хотя бы поймут, кого собирались уничтожить. — Лорд Вортигерн, я хотел бы получить обещанную награду прямо сейчас. — Клянусь любым твоим божеством, Мирддин, ты ее получишь. Чего ты желаешь? — Я хочу поведать сказание, — промолвил я. — Пусть перед смертью увидят, что такое истинный бард. Вортигерн рассчитывал на нечто более экзотическое, однако милостиво улыбнулся и велел принести арфу. Я встал перед столом и настроил струны, свита Вортигерна тем временем собралась вокруг. Кажется, я еще точно не знал, что буду рассказывать, но пока я перебирал струны, подбирая мелодию, слова сами стали складываться на языке, и стало ясно: я здесь не случайно, и слова придут. Прислонив арфу к плечу, я обратился к Иораму: — Ты пренебрег высоким бардовским искусством прошлого, так выслушай истинное сказание. — И, возвысив голос, сказал: — Слушайте и вы все! Я подобрал плащ и заговорил, как говорят с детьми. И вот что я им поведал: Жил некогда орел, отец орлов, и век его был долог, и он оберегал свое королевство клювом и когтем. Однажды пришла к орлу полевка и села под дубом, на котором было его гнездо, и сидела, покуда орел ни снизошел до разговора с ней. — Чего тебе надо? — спросил Орел. — Говори быстро, ибо я не желаю терпеть тебя возле моего благородного жилища. — Сущий пустяк, — отвечала Полевка. — Только спустись пониже, чтобы я могла его изложить, а то у меня голова закружится, если я буду кричать на такую высоту. Орел, торопясь от нее избавиться, слетел к Полевке. — Ладно, я здесь, — сказал он. — Чего тебе надо? — У меня голос охрип от крика, — сказала Полевка. — Наклонись, пожалуйста, ближе. Орел наклонил голову, Полевка вспрыгнула ему на шею и укусила острыми зубами. Хлынула из Орла кровь, и он умер. А Полевка убежала, и никто ее больше не видел. Узнали остальные звери и птицы, что Орел гнусно убит, опечалились и разгневались, ибо он был их королем. Похоронили они своего государя и стали искать нового. — Кто заменит Орла? — сетовали они. — Ни один из нас с ним не сравнится. Однако Лис был хитер и искусен. Он тут же выпрыгнул и сказал: — Разве у нашего государя не осталось наследников? Пусть его старший сын управляет нами. — Надо же, Лис, а такой глупый, — ответила Выдра. — Орлята еще не оперились. Они даже летать не могут. — Но они скоро вырастут. А пока давайте выберем кого-нибудь, кто бы их охранял, покуда старший из трех не подрастет и не воцарится в лесу. — Хорошо придумано, — объявил Бык. — И кто же за это возьмется? По правде говоря, никто не хотел ухаживать за птенцами, потому что дуб был высокий, а орлята — капризные и вечно голодные. — Позор вам! — вскричал Лис. — Коли никто не хочет заботиться о птенцах, я сам это сделаю, хотя есть среди вас и более достойные. И Лис стал воспитывать орлят, а когда старший из них достиг совершеннолетия, все звери лесные и полевые сошлись под большим дубом и провозгласили Орла своим королем. Однако, едва ему на голову возложили корону, Лис отозвал его в сторонку и зашептал на ухо: — Не обманывайся, другие лесные звери вовсе не питают к тебе любви. Когда вы с братьями были птенцами, вас чуть не бросили умирать с голоду. Тогда вас не почитали, да и теперь ничего не изменилось. — Печальные вести, — отвечал юный Орел. — Если бы не ты, не быть мне сегодня в живых. — Верно, но не будем об этом думать. Ты меня слушай, а я буду тебе советовать, и вместе мы всех одолеем. И юный Орел взял Лиса себе в советники, и быстро исполнял все, что тот называл полезным для леса и лесных жителей. Нет нужды говорить, что Лис вскоре разжирел на такой должности, стал гладким и лоснящимся. Вскоре из-за леса стали доходить вести, будто большое стадо свиней, истощив земли в своем королевстве, ищет, где бы захватить новые. Лис пришел к юному Орлу и сказал: — Государь, не нравится мне, что говорят про этих свиней. — Мне тоже, — отвечал Орел. — Ты хитрейший из зверей, что нам делать? — Мне кажется, я придумал. — Говори же, друг. Свиньи, наверное, уже в пути. — На краю нашего леса есть сырое место, где живет множество крыс… — Слышать не желаю про этих гнусных тварей! — Гнусные-то они гнусные, да думается мне, если б мы взяли нескольких на службу, они бы доносили, где сейчас свиньи и куда направляются, и мы успевали бы заранее приготовиться. — Смело придумано, — отвечал Орел, — и, раз я не могу предложить ничего другого, пусть будет по-твоему. Так и сделали. Отряд крыс в тот же день отправился в лес. Лис следил, чтобы крысы ни в чем не имели недостатка и получали лучшую долю от всех лесных плодов. Да, он обращался с каждой, как с королем. Так он вошел к ним в доверие. Как-то раз он прибежал к ним со слезами на глазах, и они стали удивляться, что огорчило их благодетеля. — Что тебя печалит, друг Лис? — спросили они. — Разве вы не знаете? Король велел мне выгнать вас вон — вас, которые до этого самого дня честно ему служили. — И Лис зарыдал так, что мех его стал мокрым. — Увы, я должен исполнять королевские повеления, ибо нет у меня собственных земель и добра, и не могу я оставить вас при себе. Услышав это, крысы пришли в ярость и замыслили сгубить Орла. — Давайте убьем этого безумного короля и поставим на его место Лиса. При нем мы не останемся без пропитания, а напротив, заживем еще лучше. С этими словами они поднялись, проникли к юному Орлу и убили его во сне. Как только Лис это увидел (а он, разумеется, знал, что так и будет), он поднял тревогу: — Горе, горе! Король убит! На помощь! Лесные звери сбежались, увидели, что крысы злодейски убили короля, и пришли в ужас. Вышел Лис, забрызганный кровью, и обратился к ним: — Я знал, что не будет добра от крыс, и вот случилось худшее. Я убил изменников, но мы снова без короля. И все же, — продолжал он чистосердечно, — я готов служить вам честно и мудро, если вы согласитесь меня избрать. — Кто другой сделал для нас больше? — закричали барсуки. — Кто другой сделал больше для себя? — пробормотали Бык и Выдра. Тем не менее Лис стал лесным королем и начал свое позорное царствование. В ту же ночь один из уцелевших орлят сказал другому: — Убьет нас Лис. Летим в горы, ибо ни одному из нас уже не носить короны. — Да, но так мы по крайней мере уцелеем, — отвечал ему младший, и они улетели в горы, где и остались жить, выжидая время. Лис теперь правил лесом по своему усмотрению и год от года богател, поскольку никто не смел ему перечить. Но вот однажды и впрямь появились свиньи, о которых он когда-то налгал юному Орлу. При виде их Лис очень огорчился, но велел передать, чтобы они явились к нему. Так свиньи и сделали. Предводительствовал у них матерый кабан, весь в шрамах от множества битв. Взглянул на него Лис и понял, что дело плохо. Однако он собрал все свое невеликое мужество и сказал: — До чего же ты красивый кабан, да и силен как! Расскажи, что тебя сюда привело, может, я чем помогу. Свиньи изумились, ибо еще никто так не привечал их. — Ну, государь, — отвечал Кабан, — как видишь, мы плодимся быстрее, чем остальные лесные звери, и не можем долго кормиться от одной земли, так что должны отправляться на поиски новой. — Твой рассказ растрогал меня, — отвечал хитрый Лис. — А мне как раз нужен сильный товарищ, потому что я, хоть и король, не пользуюсь любовью подданных. Как ни горько это говорить, они каждый день замышляют меня убить. — Ни слова больше, — воскликнул кабан. — Я тот друг, который тебе нужен. Только дай нам землю, и я буду служить тебе верой-правдой, покуда жив. — Землю вы получите, — радостно отвечал Лис, — и более того, но лесу не прокормить такое большое воинство свиней. Слышал я, что остальные свиньи, идущие вслед за вами — воры и негодяи. — Пусть тебя это не тревожит, государь, — отвечал кабан, — мы их сюда не пустим. — Останови их, и у тебя не будет причин упрекать меня в скупости, — промолвил Лис. — Ведь чем меньше я буду отдавать другим свиньям, тем больше достанется тебе. Спроси, кого хочешь, и тебе скажут, что я всегда щедро награждаю за службу. На этом и порешили. Кабан со своими свиньями поселился на краю леса, чтобы оберегать тропинки и никого не впускать. С этой службой они отлично справлялись, ибо все боялись храброго, закаленного в боях вепря. Лис осыпал свиное войско дарами и внимал их довольному хрюканью, как славословию бардов. И хозяин, и слуги процветали не по заслугам, на горе всем остальным зверям. Но однажды свиней, как это всегда с ними бывает, обуяла жадность. Они огляделись вокруг и захрюкали: — Мы трудимся, а Лис жиреет. Кабан согласился со своими воеводами и объявил: — Слышал я вас, братцы, и вы правы. Посмотрите, что я сделаю. А тем временем орлята выросли и невмоготу им стало в горах. И молвил один другому: — Скажу по правде, тошно мне здесь жить, покуда свиньи гадят в нашем лесу. — Ты высказал то, что у меня на сердце, брат. Давай спустимся в лес и попробуем восстановить справедливость. Может, вернем себе царство, а коли сложим головы, так по меньшей мере не будем видеть, что подлые твари хозяйничают у нас дома. Тут же они взлетели и, словно кометы, пронеслись сквозь облака в лес. Лис очнулся от приятной дремоты и увидел тревожное зрелище: перед ним стояло свиное воинство во главе с ощетинившимся Кабаном. — Что за вести, друзья? — спросил Лис. — Сдается, ты бесчестно обошелся с нами, — сказал Кабан. — Так больше продолжаться не может. — Что я слышу? — изумился Лис. — Да как ты мог такое сказать? Я отдал вам все, отделив себе лишь самую малость, чтоб не умереть с голоду. Все, что осталось, — ваше. — Вот уж воистину, нам достаются остатки, да и ненависть всех зверей в придачу, — фыркнул Кабан. — Теперь мы хотим получать лучшее! Они были хоть и свиньи, но не слепые, и знали, что Лис валит на них все недостатки своего правления. Лис быстренько подумал, и ответил: — Возможно, ты в чем-то прав. Мне надо подумать, как загладить свою вину. Кабан с опаской взглянул на Лиса, но сказал: — И как ты намерен это сделать? — Я отдам тебе дальнюю половину своих владений, и ты станешь мне ровней. Будем править вместе — ты и я. Ничего лучше тебе не придумать. Кабану понравились его слова. Умел Лис сберечь свою пушистую рыжую шубу и знал, кого чем задобрить. Однако Кабан не хотел остаться в дураках, и потому промолвил: — Сказать — одно, исполнить — другое. Дай мне залог твоего обещания, и я поверю. Лис заплакал притворными слезами. — И это после всего, что я для тебя сделал. Ладно, если иначе никак… — Никак, — твердо объявил Кабан. — Тогда я сделаю, что ты просишь. — С этими словами он повернулся и направился в лес. — Погоди! — крикнул Кабан, остальные свиньи завизжали. — Куда собрался? — Неужто я так глуп, чтобы держать сокровища на виду, где всякий их может стащить? — отвечал Лис. — Мне надо сходить в нору за залогом, который ты просишь. — Иди, — фыркнул Кабан. — Мы подождем здесь. Лис махнул хвостом и убежал. Свиньи ждали день, ждали вечер, ждали ночь, но Лис не возвращался. А когда восток порозовел, Кабан поднялся и сказал: — Сдается мне, Лис не придет. Однако подождем до полудня и, если наш государь не появится, отправимся за ним. И уж тут-то он проклянет день, в который нас обманул. Надо ли говорить, что Лис не вернулся? К полудню он был далеко-далеко на западе и залег в норе. А свиньи в ярости принялись вырывать и подбрасывать в воздух кусты и деревья. Тем временем орлы, летя над лесом, увидели, как буйствуют свиньи, и догадались, что Лис сбежал. — Знаешь, брат, — сказал старший, — сдается мне, чтобы отомстить и вернуть земли, надо прежде разыскать Лиса, а то скоро и разыскивать будет нечего. И они полетели выгонять Лиса из норы. И сейчас летят.Я смолк и стоял, завернувшись в плащ. — Моя сказка окончена! Имеющий уши да слышит! Воины Вортигерна смотрели на меня в страхе, главный друид в приступе бессильной ярости стиснул руками жезл. Он слышал мою сказочку и разгадал ее смысл, теперь его бесило, что я вижу так много и так ясно. Наконец-то он понимал, что не может со мной равняться. — Ну вот, Иорам, — мягко сказал я. — Теперь ты знаешь, какая сила у настоящего барда.
Да, и вскоре об этом вспомнит весь мир. Проснитесь, короли, спящие в пышных палатах! Собирайте дружины, вооружайте воинов, вложите им в руки крепкую сталь! Вставайте, воины, уткнувшиеся в кубки с вином! Достаньте оружие, наточите клинки, начистите шлемы, раскрасьте ярко щиты. Поднимайся, народ Острова Могущественного! Довольно дрожать, мужайтесь, готовьте богатую встречу. Ибо Душа Британии пробудилась. Мерлин возвращается!
Книга третья Пророк
Глава первая
Вортигерн залег в нору на западе, в родных краях, выбрав голые скалы Ир Виддфа своим последним плацдармом. Здесь он намеревался возвести крепость — прочную, чтобы юные Орлы не склевали мясо с хрупких стариковских костей, а боевой саксонский Кабан не поднял его на клыки. Как я рассказал в своей сказочке, Лис Вортигерн в последний раз всех обхитрил и теперь укрылся в горах, ожидая мести как несправедливо обиженных, так и тех, чью алчность он разжег сам. Молодые Орлы — Аврелий и Утер, младшие братья убиенного Константа, дети сраженного Константина, первого Верховного короля Британии, — собрали войска на юге. Кабан Хенгист ждал подкрепления с родины. Предстояло занятное состязание — кто первым доберется до старого загнанного Лиса. Вортигерн, разумеется, все это знал, и на следующее утро, когда я собрался уезжать, меня позвали к Верховному королю. — Я высоко чту тебя, Мерлин, и не стал бы задерживать без нужды. Однако ты премного меня обяжешь, если согласишься со мной побеседовать. Я торопился в Инис Аваллах — сообщить матери, что я жив. Не хотелось терять ни минуты; я не держал зла на Верховного короля, но мне больше нечего было ему сказать. Я совершил то, зачем приходил, и весть о моем возвращении уже неслась по стране. Я слышал голоса: «Мирддин Дикий здесь!.. Чародей Мерлин объявился!.. Великий Эмрис вернулся к жизни, пробудился от долгого сна… Видели? Он посрамил бардов Верховного короля, и всех их обезглавили… Он здесь, я видел: Мерлин Амброзий, король Диведа, вновь в своем королевстве!.. Слыхали? Он предсказал Вортигерну гибель!.. Мерлин жив!» Да, Эмрис вернулся и возвестил падение узурпатора. Однако Вортигерн при всех своих пороках — не мышь. В чем ему не откажешь, так это в смелости. Если рок судил ему быть пойманным, он по крайней мере будет уворачиваться, покуда сумеет. Он хотел знать, каким будет этот рок, чтобы приготовиться к бою или к бегству, и потому послал за мной. — Мне нечего больше сказать, лорд Вортигерн, — произнес я. — Все уже сказано. — Тогда скажу я. — Верховный король тяжело опустился в резное кресло с имперскими орлами на подлокотниках. В раннем утреннем свете его лицо выглядело осунувшимся. — Я не спал вчера… — Он замолк, я ждал, — …из страха, Мирддин, из страха перед снами… — Он с опаской поднял на меня глаза. — Говорят, ты умеешь толковать сны и знамения. Растолкуй мне мой, а то мне страшно. Кажется, что сон вещий. — Ладно, Вортигерн, расскажи мне свой сон, и я раскрою тебе его смысл, если найду. Он рассеянно кивнул рыжей с проседью шевелюрой и надолго замолк, потом резко начал: — Я видел яму, которую вырыли по твоему слову. На дне ее наткнулись на камень, он раскололся, и вода хлынула наружу — как все это и было. После этого ты повелел отвести воду канавками. Когда это сделали и озеро спустили, обнаружили большую пещеру и в ней два больших камня наподобие яиц. Он замолк, чтобы отпить вина, потом продолжил, глядя не на меня, а на догорающие угли в очаге. — В каменных яйцах были драконы. Они вышли и сразились между собой. Один был белее молока, другой — алее крови. Они сражались, и земля под ними дрожала. О, на них страшно было смотреть! Они исходили пеной, били хвостами по земле, сцеплялись когтистыми лапами, извергали ноздрями пламя. Сперва белый брал верх, потом алый, и наоборот. Оба были жестоко изранены, так что не могли уже больше сражаться, после чего уползли в свои яйца и заснули. Передохнув, они вновь вышли на бой и вновь расползлись. Все это наполнило меня таким ужасом, что я проснулся. — Вортигерн залпом допил кубок и выпрямился, глядя мне прямо в глаза. — Что скажешь, Мирддин? Что означают эти драконы и их битва? Я отвечал сразу, потому что понял смысл сна, пока он говорил. — Сон твой, Вортигерн, правдив. Вот его толкование: драконы — грядущие короли, которые будут биться за Остров Могущественного. Белый — саксонские полчища, красный — истинные сыны Британии. — Кто победит, Мирддин? — Ни тому ни другому не дано будет взять верх, покуда страна не объединится, а человек, который соберет вместе британские племена, еще не родился. Он снова медленно кивнул. — А что будет со мной, Мирддин? — Ты и вправду желаешь знать? — Мне это нужно. — Аврелий и Утер уже отплыли из Арморики… — Ты говорил об этом в своей сказке… — фыркнул он. — Они прибудут на двенадцати кораблях и завтра высадятся на юге. Тем временем Хенгист собрал свое войско и идет сюда маршем. Враги окружают тебя со всех сторон. Ты совершил много зла и не жди пощады. Хочешь спасти свою жизнь, Вортигерн, — беги. — И я ничего не могу поделать? Я помотал головой. — Беги, Вортигерн, или попадешь в руки тех, кому причинил столько зла. Аврелий и Утер хотят отомстить за убийство брата и вернуть власть; с ними короли Британии. — Неужто для меня нет никакой надежды? — Это было сказано тихо, без жалости к себе. Вортигерн знал, что совершил, и, надо думать, давно просчитал риск. — Вот твоя надежда, лорд Вортигерн, и надежда нашего народа: из смуты, которую ты устроил, выйдет король, который объединит Британию, Верховный король, на которого будет дивиться весь мир, Главный дракон, который окончательно пожрет белого дракона из ямы. Он мрачно улыбнулся и встал. — Ладно, если бежать, то бежать сейчас. Отправишься со мной, Мерлин? Твое общество было бы для меня большим утешением. — Нет, — отвечал я. — Мне дорога в другую сторону. Прощай, лорд Вортигерн. Мы больше не встретимся. Он призвал своих военачальников, чтобы отходить на восток, где надеялся укрыться от гнева братьев. Ох, худо придется Лису Вортигерну, но от возмездия не уйти. Мы тем временем двинулись в путь и уже порядком отъехали от крепости, когда Пеллеас в последний раз оглянулся на выставленные в ряд на пиках головы друидов и с облегчением вздохнул: — Все кончено. — Для Вортигерна, — отвечал я, — но не для нас. — Мы скачем в Инис Аваллах, разве нет? — Да, но пробудем там недолго. — Сколько? — спросил он, со страхом ожидая ответа. — Несколько дней, — отвечал я. — Поверь, я хотел бы пробыть дольше. — Но… — Он помнил мой характер, быструю смену настроений и планов, — но это невозможно. Я кивнул: — Да, невозможно. Мы проехали несколько шагов, и я натянул поводья. — Пеллеас, послушай внимательно. Ты нашел меня и вернул к людям. Спасибо тебе за это. Однако, боюсь, скоро ты проклянешь день, когда попросился ко мне на службу, и пожалеешь, что терял время на мои поиски. — Прости, господин, но скорее твое собственное сердце тебя предаст, чем я так подумаю! — с жаром воскликнул он. И я чувствовал, что он говорит искренне. — Никто не поблагодарит меня за то, что я совершу, — продолжал я. — Может быть, многие на этом острове будут произносить мое имя с ненавистью и презрением, и все обратятся против меня. — Другие пусть делают свой выбор, а я свой сделал, господин мой Мерлин. Он говорил с искренним пылом. Теперь, когда он понял, какие трудности нам предстоят, я мог без страха вверить ему свою жизнь. — Да будет так, произнес я. — Да вознаградит Господь твою веру, друг. Мы двинулись дальше. После разговора у обоих камень упал с души. Пеллеас радовался, и я вместе с ним.Аврелию и Утеру, сыновьям Константина от разных жен, непохожим, как утро и вечер, предстояло покончить с правлением Вортигерна. Королем по праву наследования стал старший, Аврелий, прирожденный властитель. Его мать, Аврелия, происходила из знатной римской семьи (чего нельзя было с уверенностью сказать о самом Константине). В ее роду были наместник провинции, сановники, правители городов, чтимые матроны. Однако Аврелия умерла от лихорадки, когда ее младшему сыну было всего три года, и Константин, опьяненный победами над пиктами, скоттами и саксами, спутался с дочерью одного из побежденных саксонских вождей. В приступе великодушия он женился на золотоволосой красавице Онбраусте. Через год родился маленький Утер. Мальчики воспитывались по римскому обычаю под надзором доверенного слуги. Старший брат, Констант, с рождения посвященный Богу, рос отдельно в небольшой обители при Вента Булгарум. Когда Константина убил, мстя за родичей, его собственный раб-пикт, старый Госселин, архиепископ Лондонский, опасаясь за жизнь мальчиков, забрал их к себе. Вортигерн своими интригами сгубил Константа, и Госселин принял мудрое решение: переправил мальчиков в Арморику, во владения короля Хоеля, где и спрятал в монастыре. Здесь он мог сам за ними приглядывать, зная, что Вортигерну до них не дотянуться. Тут они и выросли, с нетерпением ожидая, когда смогут вернуться и потребовать принадлежащее им по праву. Я знал, что так оно и будет, однако, если они захотят продвинуться в объединении страны дальше, чем некогда Вортигерн, им потребуется помощь. Хенгист не даст им спокойно наслаждаться плодами победы, а не станет сакса — начнутся междоусобные войны с местными королями. Короче, без меня им не обойтись. Мы с Пеллеасом гнали, не жалея коней. Он ехал впереди, я следом, внимательно примечая все перемены. Особенно изменились поселения. Страх сделал свое дело — повсюду появились высокие каменные стены. Большие города, которые так трудно защищать, оказались по большей части заброшенными, люди перебрались в маленькие, хорошо укрытые каменные поселения, которые меньше привлекают внимание разбойников. Казалось, все людское жилье съежилось и затаилось. Улицы сделались уже, дома — теснее и меньше. Люди словно стремились прижаться друг к другу перед лицом сгущающейся тьмы. Смотреть на это было и грустно, и досадно. Клянусь Святым именем Господним, мы — дети Живого Света! Мы не должны забиваться в ямы, как перепуганная скотина. Это Остров Могущественного, он наш по праву! Враг на свою голову оспаривает это право, но, клянусь Великим и Благим Светом, мы не уступим ни пяди! Сказать по правде, мы уступали. Куда ни глянь, нас теснила наползающая тьма. Мы уже не верили в свое право и свою способность отстаивать родной дом. И я видел: если ничто не изменится, отступление превратится в беспорядочное бегство. Меня поддерживало то, что сама земля не изменилась. Высоко возносился строевой лес, поля, когда их не мешали засеять и убрать, приносили богатый урожай, коровы и овцы давали мясо, кожу, шерсть, в старых римских рудниках по-прежнему добывали олово, свинец и, что важнее, железо для мечей и доспехов. Да, в этом заключались утешение и поддержка, но здоровое крестьянское хозяйство еще никого не сделало храбрецом. Чтобы народ расправил плечи, нужен быстрый, впечатляющий успех — победа на поле боя, которая остановит продвижение варваров. Вот почему мне надо было видеть Аврелия. В юном орле, который звался этим именем, я угадывал большие задатки. Может, это он станет Верховным королем, которого я ищу, и вернет людям веру. О, я видел Аврелия издалека — в отблесках пламени, в плошке черной дубовой воды — и в определенной мере знал, что он за человек. Но мне надо было встретиться с ним, посидеть, поговорить, чтобы разобраться в его душе. Только тогда я уверюсь, что у Британии есть достойный Верховный король. Я сознательно объехал стороной свои прежние владения в Диведе — не хотелось портить воспоминания видом недавних перемен. Внезапно объявиться в тех краях значило поставить тамошних правителей, мягко говоря, в неловкое положение. И так весть о моем возвращении вскоре достигнет Маридуна (как с восторгом сообщил мне Пеллеас, теперь он зовется Каер Мирддин) и вызовет немалое замешательство. К тому же я неточно знал, что мне делать, и собирался принять решение после встречи с Аврелием. Впрочем, прежде всего я стремился увидеться с матерью. По правде сказать, я ни на минуту не переставал думать, какой отклик вызовет в Инис Аваллахе мой внезапный приезд. Это место представлялось мне таким спокойным, таким далеким от мирской суеты, что порою думалось: ступив на Остров Яблок, я мгновенно подпаду под его чары и просто займу свое прежнее место. «А, вот и ты, Мерлин, я-то гадала, куда ты запропал». Как будто я вышел в соседнюю комнату и вернулся мгновение спустя. Для меня по крайней мере ощущение было сходным. Иное дело — для Хариты и Аваллаха. После первого взрыва чувств при известии о моем появлении (на конце дамбы, ведущей к жилищу короля-рыболова, появился теперь домик привратника. Этот-то страж ворот и объявил обо мне), радостных криков, слез (моих и маминых) во дворце еще долго не могли прийти в себя. Меня горько оплакивали, по мне тосковали, не зная, что со мной сталось, с самого моего исчезновения. Мне — из-за эгоизма, надо полагать, — в голову не приходило, до чего же я дорог матери. — Я была уверена, что ты жив, — говорила мне Харита позже, когда волнение немного улеглось. — По крайней мере, я полагала, что ощутила бы твою смерть. Она сидела, держа мою руку на коленях и сжимая ее так, словно боялась отпустить. Она лучилась радостью, глаза сияли, от лица, казалось, исходил свет. Не помню, чтобы я видел ее такой счастливой. Не считая этого да еще наряда (она вновь стала одеваться по обычаю Дивного Народа), она ничуть не изменилась. — Прости, — сказал я, не помню уже какой раз. — Прости, я ничего не мог с собой сделать. Я не хотел причинять тебе боль… — Ш-ш-ш… — Она нагнулась и поцеловала мне руку. — Все сказано и прощено. Все в прошлом и миновало. При этих словах у меня на глазах снова выступили слезы. Есть ли на свете человек, достойный такой любви? В ту ночь я спал в своей старой комнате, а наутро отправился рыбачить с Аваллахом. Я сидел на средней банке, а он шестом направлял плоскодонку к любимой заводи. Солнце плясало на поверхности озера, камыши кивали под ветерком, по зеленому мелководью бродила цапля, выискивая лягушек, на мшистом берегу испуганно вскрикивали куропатки — и я вновь почувствовал себя трехлетним ребенком. — И как это, Мерлин? — спросил Аваллах. Он стоял, держа наготове острогу. — Быть безумным? — Быть наедине с Богом, — отвечал он. — Я часто размышляю, что значит быть в Его присутствии: видеть Его, слышать, припасть к Его стопам. — Так ты думаешь, это с Ним я был? — Я со стыдом понял, что не сознавал этого прежде. Однако за годы размышлений Аваллах стал чуток к духовной жизни. — С кем же еще? С Самим Господом, — радостно продолжал он, — или с кем-то из Его ангелов. И то и другое — большая честь. — В этот миг рыба блеснула под кормой, острога упала и тут же появилась вновь с бьющейся на зубцах отменной щукой. Покуда он аккуратно отцеплял рыбу, я думал над ответом. Конечно, меня поддерживали, пока я жил без людей. Тогда я не задумывался об этом, полагая, что успешно применяю знания, усвоенные у Подземных жителей, и потому еще не сгинул в этих краях. Однако и в том, что я получил такую подготовку, угадывается промысел Божий. И наконец Он явился мне — я знал это, хотя не смел признать это вслух даже наедине с собой. Однако Аваллах все понял и принял с величайшим жаром и лишь малой долей благочестивой зависти. Я дивился его вере. — Какой же ты счастливец, Мерлин. — Он нагнулся, снова взял шест и повел челнок вдоль заросшего камышами берега. — Я, который всем сердцем желал бы хоть миг провести в присутствии Господа, должен удовольствоваться лицезрением Его святой чаши. Он сказал это буднично, но настолько же серьезно, насколько и искренне. — Так ты тоже ее видел? — спросил я, позабыв, что так и не рассказал ему про видение. — Да, кажется. — Дедушка подмигнул мне. — Значит, ты знаешь. — Что она существует? Да, думаю, это так. — Смог ли ты к ней прикоснуться? — спросил он с тихим почтением. Я покачал головой. — Нет, как и у тебя, это было только видение. — А… — Он сел и положил мокрый шест на колени. Молчание заполняли тихий плеск воды под днищем да кваканье лягушек. Аваллах снова заговорил. Теперь он впервые в жизни обращался ко мне, как к брату. — Знаешь, — сказал он, — до сей минуты я думал, что чаша Господня ускользает от меня из-за великого греха моей жизни… — Ну, дедушка, ты грешил не больше других. Меньше, чем многие, которых я могу назвать. И потом, Бог простил тебя… Из моей попытки утешить его ничего не вышло, сомневаюсь, что Аваллах вообще слышал мои слова, потому что он продолжал: — Я дал жизнь Моргане. При звуке этого имени сердце в моей груди налилось свинцовой тяжестью. Моргана… Что-то поделывала она, пока я жил вдали от мира людей? Чутье подсказывало мне, что она не сидела сложа руки. Она представилась мне жутким черным пауком, плетущим паутину смерти. — Где Моргана? — спросил я, со страхом ожидая ответа. Мне надо было это знать. Аваллах устало вздохнул. — Она на Оркадах — это группа островков в Северном море. Думаю, для нее это самое подходящее место — по крайней мере, отсюда далеко. Я слышал об этом островном королевстве. На языке бриттов его зовут Инисоедд Эрх — Острова Страха. Теперь я знал, почему. — Что она там делает? Король-рыболов устало вздохнул. Тот, кто не испытывал такого раскаяния, не поймет страданий родителя, чей ребенок сбился с пути. Однако он нес свою муку, как пристало королю, — без самооправданий и жалости к себе. — Что делает Моргана, знает только она сама. Впрочем, недавно мы слышали, что она вышла замуж за короля по имени Лот и у них есть дети. Я ничего не знаю ни о нем самом, ни о его злополучном потомстве, но с севера доходят вести о неописуемых мерзостях и ужасах. Разумеется, это ее рук дело, но что она затевает — я угадать не могу. Я более-менее догадывался, что она затевает. — Что-нибудь говорят о ее детях? — Только то, что они живы. Но даже и это неточно… Так, россказни путешественников да неясные слухи. Моргана, надо отдать ей должное, выучилась терпению. Она выжидает, без сомнения, совершенствуясь в своем искусстве и запретной науке древних, набираясь силы и черной мудрости. Вероятно, она понимает, что время нанести удар еще не пришло. Вскоре в стране наступит хаос — ей только того и нужно. Тут-то она и выступит, и мы — тут обольщаться нечего — это почувствуем. В этот момент мне стало ясно, что беды Британии нельзя рассматривать отдельно от Морганы. Сам факт, что она выбрала в мужья бритта — жители Оркад скорее бритты, чем пикты или ирландцы, — означает, что с нашей последней встречи ее притязания только выросли. Тогда ей было довольно терзать одну-две души, теперь понадобилось целое королевство. Великий Свет, будь крепким щитом Твоим воинам, будь самой сталью в их руках! Мне приходило в голову воспользоваться провидческой чашей, чтобы узнать, что там затевает Моргана. Как ни мало хотелось мне с ней встречаться, я мог бы это сделать. Все же мне представлялось, что лучше не привлекать к себе ее внимания. Кто знает, какие силы ей подвластны? Вполне вероятно, она уже проведала, что я вернулся к живым, а нет — так скоро узнает. Пусть лучше ждет и гадает. Не стоит сообщать врагу, где ты и каковы твои силы. — Послушай меня, Аваллах, — сказал я, — тебе нечего корить себя за Моргану. Ты не отвечаешь за ее зло. — Не отвечаю? — Он скривился, словно во рту у него была какая-то гадость. — Я ее отец, Мерлин. О, чего бы я ни отдал, чтобы… чтобы… — Чтобы да кабы! Ты сам слышишь, что говоришь? — воскликнул я в сердцах. — Нельзя ничего вернуть! Дед взглянул на меня с мягким упреком. — Да, Мерлин, ничего не воротишь, — печально сказал он. — Все свои промахи мы унесем с собою в могилу. Больше мы об этом не говорили, перейдя на более приятные темы. Однако я продолжал думать, почему его слова вызвали во мне такой резкий отклик. — Он действительно корит себя, — сказала Харита, когда я пересказал ей наш разговор. — Считает, что это его вина. — Никто не может отвечать за другого, — упорствовал я. Мама улыбнулся. — Такое уже было, разве ты забыл? Почему бы этому не случиться снова? Я не забыл, но сейчас увидел это в несколько ином свете. Хотела ли Харита сказать, что Аваллах намерен как-то искупить грехи Морганы? Мысль эта была для меня новой. — Не позволяй ему, — сказал я. — Ни в коем случае. — Мерлин, — произнесла она успокаивающе, — в чем дело? Что тебя гнетет? Скажи мне! Я вздохнул и покачал головой. — Пустяки, пройдет. — Почему-то я вспомнил о Мелвисе и заговорил про него. — Скажи мне, как умер Мелвис? — На Маридун напали, — объяснила Харита. — Мелвис разбил противника на побережье и возвращался с частью своих людей. Он попал в западню, виллу сожгли… Пока она говорила, мое воображение наполнили картины столь жуткие, что по телу прошла дрожь. Мама прервала рассказ. — Что случилось, Мерлин? Прошло несколько мгновений, прежде чем я смог заговорить. — Грядут великие испытания, — сказал я. — Многие падут во тьме, многие ейпокорятся. — Я мрачно взглянул на нее; перед глазами еще стояли ужасные видения. — Воистину, никто из живущих не переживал таких бедствий. — Я пережила, Мерлин, — молвила она в ответ на нотку отчаяния в моем голосе. — Я, и Аваллах, и все, кто были с нами. — Мама, оглядись, их все меньше и меньше год от года. То были жестокие слова. Не знаю, почему я их произнес. В следующий миг я готов был ослепнуть, лишь бы вернуть их назад. Харита печально кивнула: — Да, соколик мой. Нас меньше с каждым годом. Мой брат Майлдун умер прошлой зимой. — Она опустила глаза. — Раньше я надеялась, что твой отец… что мы с Талиесином… что в этом будущее. Однако этому не суждено было сбыться. Да, дни наши на этой земле сочтены, и вскоре мы вслед за остальными первенцами Земли уйдем в прах. — Просто, мама, мне не следовало так говорить. Прости. — Это чистая правда, Мерлин. Не надо извиняться за правду. — Она подняла голову и взглянула мне прямо в глаза. — Но есть более великая Правда, которая не должна умолкнуть: Царство Лета. Покуда я жива, живет и оно. И в тебе тоже, Мерлин, и во всех, кто верит и идет следом. Царство Лета, что это? Сон о рае? Или оно может сделаться былью здесь и сейчас? Могут ли люди из плоти и крови обитать в таком месте? С тех пор как Талиесин замыслил его, выстроил в своем сердце, облек в песню, от него нельзя отвернуться. Отречься от Царства Лета сейчас — значит признать поражение, а в конечном счете — покориться врагу. Ибо всякий раз, как миру людей предстает видение более великого блага, за него надо бороться, пусть даже ценой собственной жизни. Все остальное оскорбляет Великий Свет, который пронизывает и оживотворяет эту мечту. Отвернуться от заведомого блага — значит сознательно повернуться к злу. Талиесин взвалил на мои плечи огромное бремя, ибо это мне выпало въявь создавать Царство Лета. Будь у меня его голос, его дарования! Я бы песней вызвал к жизни блаженный край! Вот! Я вижу его с арфой в руках, из-под пальцев рвутся дрожащие ноты, лицо лучится отраженным сиянием песни… да какой песни! Слова льются из его рта, словно из живой двери Иного Мира, волосы поблескивают в свете факела. Весь мир, затаив дыхание, вслушивается в захватывающую красоту его песни… Я вижу его и плачу. Отец! Я так тебя и не знал!
Я пробыл в Инис Аваллахе до новолуния, вбирая душой безмятежную тишь острова. Я знал: спокойствие понадобится мне в предстоящие бурные дни. Потом холодным и ясным утром мы с Пеллеасом выехали на долгий, непосильный труд: спасать Остров Могущественного.
Глава вторая
Я разыскал Аврелия и Утера в дороге: они возвращались, разгромив Вортигерна. Старый Лис плохо кончил — сгорел вместе с башней, в которой укрылся, покинутый соратниками. Даже его сын, Пасцент, бежал, бросив отца на произвол судьбы. В итоге бой получился короткий и решительный. Братья все еще были полны возбуждения, когда я встретил их чуть севернее Глева, возле которого они окончательно разбили Вортигерна. Сподвижники сразу провозгласили Аврелия Верховным королем. Я взглянул на него и содрогнулся: он был так юн! — Вы были еще моложе, когда вам надели гривну, — шепнул мне Пеллеас, пока мы ждали, что нас проводят к королю. Да, наверное. Но ему бы хоть немного зрелости. Я внутренне застонал, представляя, что за труд выпал на мою долю. Юный Аврелий стал Верховным королем только номинально. Впереди главная битва, предстоит заручиться поддержкой местных владетелей, из которых большинство уже вообразило себя на месте Вортигерна. Привести их к покорности будет нелегко; даже если на время забыть о Хенгисте, крови прольется много. Многих мелких князьков убедит лишь грубая сила. Это плохо, но Хенгиста нельзя сбрасывать со счетов. Короче, я видел лишь один выход: посоветовать Аврелию быстро разделаться с непокорными. Если он станет меня слушать. А с какой, собственно говоря, стати? Впрочем, Пеллеас верил в успех. — Кто не слышал о Мирддине Эмрисе? — сказал он. — Разумеется, король вас примет. И встретит, как брата! Оказалось — как назойливого родственника. Однако он согласился меня принять, что уже обнадеживало. Я сидел за столом напротив Аврелия в его кожаном шатре, пил мед, а он тем временем присматривался ко мне, пытаясь сообразить, что я за птица. Утер уже решил — он пыхтел и ерзал, стараясь привлечь внимание брата: ему не терпелось высказать свои соображения, явно нелестные для меня. Аврелий был мрачен; это впечатление усугубляли черные кудри, коротко подстриженные на римский манер, и темно-карие глаза, смотрящие из-под еще более темных бровей. У него был высокий, красивый лоб; хорошо очерченное гладкое лицо с правильными чертами покрыл плотный загар — свидетельство длительных путешествий. Еще у него был меч Максима. Этот клинок я видел маленьким мальчиком, когда Верховный правитель Британии недолго гостил у Эльфина. Но узнал его я сразу — тонкая сталь, бронзовая рукоять обмотана тянутым серебром и украшена мерцающим аметистом с резным изображением орла. Второго такого в мире нет. Я примерно догадывался, как попал к Аврелию этот меч; меня больше удивляло другое — как его удалось сохранить. Пронюхай о нем Вортигерн или кто-нибудь еще — владельцу не жить. Старый Госселин спас мальчиков и меч и таким образом сберег больше, чем ведал. Когда я вошел, Аврелий внимательно меня оглядел. Легкая брезгливость, исказившая его черты, показала мне, что молодой король отнюдь не рад внезапному вмешательству безумца в его планы. Однако нам никуда друг от друга не деться. Никто не мог заменить мне его, а ему — меня. Все сходилось на нас. Я мог с этим смириться, а вот смирится ли Аврелий — предстояло узнать. — Рад видеть наконец легендарного Мерлина, — дипломатично произнес Аврелий. — Ваша слава бежит впереди вас. — Как и ваша, сир. — Я прибег к этому новомодному обращению, дабы показать, что поддерживаю его притязания на верховный престол. Глаза Аврелия зажглись от удовольствия. — Неужто? — Он хотел услышать подтверждение из моих уст. — Как же иначе? Вы сразили узурпатора Вортигерна и отомстили за смерть брата. Весь мир поет вам хвалы. Сейчас станет ясно, годится ли он в верховные короли. Аврелий улыбнулся, но покачал головой. — Уж точно не весь мир. Я могу назвать многих, кто поет хвалы себе самому, хотя иные из них третьего дня ехали бок о бок со мной. Не клюнул. Молодец, Аврелий! Сейчас закину новую наживку. — Что вам до них? Не все ль равно, что думает горстка недовольных себялюбцев? — Хотел бы я так легко от них отмахнуться! По правде говоря, Мерлин, мне нужны все недовольные себялюбцы до одного. Им решать: я или Хенгист. — Он внезапно широко улыбнулся. — Мой зад на троне или кровавого сакса. Хотелось бы верить, что бритты предпочтут мой. — Мой король, у вас превосходный зад, — с притворной серьезностью подтвердил я. — Много лучше любого саксонского. Мы оба расхохотались и подняли кубки. Пеллеас и Утер вытаращили глаза. — Господин мой брат, — вмешался Утер, не в силах больше сдерживаться, — ты впервые видишь этого человека и уже поверяешь ему свои заботы. — Впервые? Нет, Утер. Мне кажется, мы знакомы давным-давно. К тому же мы испытывали друг друга с тех пор, как Мерлин вошел в шатер. — Аврелий снова повернулся ко мне. — Я доверяю тебе, Мерлин Амброзий. Ты будешь моим советником… — (При этих словах Утер громко фыркнул и неодобрительно тряхнул рыжими кудрями). — Он будет моим советником, Утер! Мне нужен мудрый помощник, и не скажу, что от охотников нет отбоя. Утер успокоился, но Аврелий, наоборот, разгорячился. — Да, и еще двадцать человек ушли сегодня утром — прямо из дозора. Мои соратники бросают меня, Мерлин. Я избавил их от Вортигерна, и теперь они обратились против меня. — Сколько воинов осталось? — Двести здесь, еще пятьсот следуют на расстоянии дневного перехода. — Семьсот человек — не так много против Хенгиста. — Да, — горько согласился Аврелий. — Причем половина из них — люди Хоеля, и скоро должны вернуться в Арморику. — Это хуже, чем я думал, — произнес я. Аврелий залпом допил мед и мрачно уставился в стол. Утер обречено заходил по шатру. Как же легко меняются настроения у молодых! — Хотя не так плохо, как могло бы, — начал я. — У меня есть друзья на западе и на севере. Думаю, можно считать их вашими сторонниками. — Север! — Аврелий стукнул ладонями по столу. — Клянусь жизнью, Мерлин, если север станет на мою сторону, юг и срединные земли последуют за ним. — Запад — вот где главная мощь, Аврелий. Так было всегда. Римляне этого не понимали, потому и не смогли до конца завоевать наш остров. — Запад? — презрительно фыркнул Утер. — Скотокрады и торговцы зерном! — Так считали римляне, — отвечал я, — и где теперь их Рим? Он наградил меня убийственным взглядом, но я продолжал: — Поезжайте в Гвинедд или Дивед и убедитесь сами — кимры по-прежнему здесь. Здесь правят те, чей род насчитывает пятьсот, тысячу лет! И они сильны, как прежде, быть может, сильнее, чем при римлянах, ибо не должны платить подати и отдавать своих юношей на военную службу. Скотокрады и торговцы зерном! Силу королю дает не только оружие, но и зерно, и скот. Тот король, который это усвоит, станет Верховным. — Золотые слова, Мерлин! Золотые слова. — Аврелий снова стукнул по столу. — Что ты предлагаешь? Едем сперва на запад? Или на север? — На запад… — Так едем скорей. Сегодня же! — Аврелий вскочил, словно хотел тотчас выбежать из палатки и запрыгнуть в седло. Я тоже встал, но неторопливо, и покачал головой. — Я поеду один. — Но… — Думаю, так будет лучше. Я давно там не бывал, так что стоит все посмотреть самому, прежде чем заявляться с войском. Дозвольте мне расположить их к вам, прежде чем вы станете с ними договариваться. — А нам что делать, пока ты будешь играть в вершителя судеб? — спросил Утер, словно по лицу меня хлестнул. — Вершить судьбы — и есть моя игра, Утер, мальчик, — прорычал я. — Не обольщайся. Вы одержали великую победу, да — над обессиленным стариком, которого бросили соратники. — Утер набычился и смотрел так, словно хотел испепелить меня взглядом, однако я безжалостно продолжал: — Ни ты, ни твой брат не продержитесь до конца лета, если я не свершу вашу судьбу. Так-то! — У нас что, нет выбора? — всхлипнул он. — Конечно, у вас есть выбор. Можете слушать меня и делать, что я скажу, а можете вырыть себе могилку при дороге и размазывать по лицу грязь или бежать в Арморику и до конца своей жалкой жизни оставаться в нахлебниках у Хоеля. Я сказал им все напрямик, но они выслушали правду, как взрослые мужчины. Им не по сердцу было слушать, но они не завопили, словно испорченные дети. Если б они завопили, я уехал бы из их стана и больше не возвращался. Итак, начало было положено. Ясный ум Аврелия возобладал над вспыльчивостью Утера, и я стал советником Верховного короля. Точнее сказать, будущего Верховного короля, ибо нам предстояло немало поработать, чтобы утвердить его на троне. В тот же вечер мы с Пеллеасом тронулись в Дивед, прихватив с собой лишь несколько золотых браслетов, которые Аврелий велел дарить по моему усмотрению. Разумеется, вежливый жест никогда не повредит, но я знал, что хитрых кимров не купить дорогими подарками. Они захотят знать, кто этот новоиспеченный король и каков он собой. Позже они захотят увидеть его воочию. Все в свое время, но я хотел приготовить ему дорогу. При первом взгляде на места, где я так много прожил, к горлу подступил ком, к глазам — слезы. Мы остановились чуть в стороне от старой дороги на Дэву, на перевале, с которого открывался вид на холмистую местность. Ветер перебирал траву, ерошил молодой вереск, и высокие холмы напомнили мне о более радостных временах — когда я, только-только став королем, объезжал их с гордой дружиной, стараясь всемерно укрепить эти земли. Тогда мы с опаской смотрели на море. Теперь захватчики утвердились на нашем собственном острове. Вортигерн подарил Хенгисту и его брату Хорсу земли вдоль юго-западного побережья, чтобы те их охраняли. Верно, у Лиса не было выбора: не опереди он подвластных королей, те сами объединились бы с Хенгистом — так велика была ненависть к узурпатору. Однако сделка вышла ему боком: Хенгист, получив палец, захотел откусить всю руку! Еще немного поглядев вдаль, Пеллеас пустил лошадей вперед, и мы двинулись по длинной, извилистой долине, которая, петляя между холмами, в должный срок привела нас в Дивед. В ту ночь мы спали в роще у быстрого ручейка, а на закате следующего дня въехали в Маридун, который теперь звался Каер Мирддин. В свете умирающего дня, алом, золотом и белом, как гаснущие уголья, город казался прежним, улицы — мощеными, стены — прочными. Однако это был лишь обман зрения. Пока мы медленно ехали по улицам, я видел бесчисленные провалы в стенах, выбоины в мостовых, покосившиеся строения. В развалинах гулко лаяли собаки и порой раздавался надрывный младенческий плач — но мы нигде никого не видели. Пеллеас ехал вперед, не оглядываясь. Мне бы последовать его примеру, но я не мог удержаться. Что сталось с городом? Маридун всегда был мелким ярмарочным городишком, и тем не менее здесь кипела жизнь. Похоже, эта жизнь ушла, и город превратился в обиталище бездомных собак и призрачных младенцев. Однако даже то, что я увидел в Маридуне, не приготовило меня к дальнейшему: к зрелищу места, где я родился, — виллы на холме. Казалось, проехав через город, я вернулся на несколько столетий назад. Вилла исчезла, на ее месте стоял большой бревенчатый дом, окруженный частоколом и глубокими рвами. На диком севере такие не редкость, но вот на юге их не видели уже поколений десять, если не больше. Ни дать ни взять — кельтское поселение тех времен, когда римляне еще не ступали на Остров Могущественного. Пеллеас первым подъехал к воротам — их уже заперли на ночь, хотя небо на западе еще не догорело, — и крикнул, чтоб открывали. Мы приготовились ждать, однако бревенчатые створы быстро распахнулись, и мы оказались в тесном скоплении деревянных, крытых соломой избушек, обступивших высокий, на диво соразмерный тесовый дом. От огромной виллы, которая некогда украшала это место, не осталось и следа. Во времена Талиесина здешними деметами и силурами правил Пендаран Гледдиврудд. Позже он разделил власть с Мелвисом и на короткое время со мной. Алый Меч, разумеется, давно скончался, и Мелвис, увы, тоже. Время и потребности изменились. Разумеется, для нынешних обитателей укрепление на вершине холма было куда практичнее, однако мне было жаль виллы. Я поймал себя на мысли: «Интересно, что стало с церковкой в лесу, стоит ли она или, подобно вилле, сменилась храмом, где служат более древним богам?» Пеллеас тронул меня за локоть: — Они идут, господин. Я повернулся и увидел, что из большого дома вышли люди. Впереди всех выступал осанистый муж с подвязанными на затылке жирными волосами и золотой гривной на шее. Явно сходство с Мелвисом бросалось в глаза, и я понял, что род Пендарана по-прежнему процветает. — Приветствую вас, друзья! — воскликнул он благодушно, впрочем, не сводя с меня пристального взора. — Что вас сюда привело? — Я ищу дом, который некогда знал, — отвечал я. — Скоро стемнеет, будет поздно искать селение. Переночуйте у нас… — Взгляд его остановился на притороченной к седлу арфе, — а утром мы поможем найти место, которое вы ищете. Ко мне обращался сам Теодриг — он унаследовал Мелвисово радушие. Однако я отвечал: — По правде сказать, место, которое я искал, здесь. Он подошел ближе и, положив руку на уздечку, вгляделся в мое лицо. — Мы знакомы? Скажи, если так, потому что я не припомню тебя в этих стенах. — Нет, ты не можешь меня помнить. Я жил здесь давным-давно, когда на месте крепости стояла вилла и Мелвис был королем. Он изумленно вытаращил глаза: — Мирддин? По толпе пробежал взволнованный говорок. Один из юношей бегом бросился в дом, и через мгновение во двор высыпала целая толпа. — Я Мирддин, — был мой тихий ответ. — И я вернулся, Теодриг. — Добро пожаловать, господин. Соблаговолишь зайти и разделить мою трапезу? — С превеликой радостью, — ответил я, слезая с седла. Все толпа провожала нас с Пеллеасом в зал. Весть о моем прибытии разлетелась, словно искры по ветру, и шум вокруг нас усиливался. Просторный зал оказался набитым битком, все взволнованно гудели, так что Теодригу пришлось перекрикивать шум. — Господин, ваш приезд застал нас врасплох. Если бы вы отправили своего человека предупредить нас, я бы устроил пир. А так… — Он обвел рукой зал. Даже без праздничного убранства помещение выглядело далеко не бедным. С первого взгляда я понял, что деметы и силуры по-прежнему обладают большим богатством, а следовательно, и властью. — Все так, как я и хотел. — От моего внимания не укрылось слово «предупредить», которое, несмотря на искреннее радушие, выдавало потаенную тревогу. Я мог бы успокоить Теодрига одним словом, но решил немного подождать, чтобы лучше разобраться в его характере. Хозяин приказал принести кушанья и пиво в гостевой чаше — большой, серебряной, с двумя ручками. Ее подала мне миловидная молодая женщина с длинными черными косами. — Это — Гованна, моя жена, — сказал Теодриг. — Добро пожаловать, друг, — ласково промолвила Гованна. — Здоровья тебе и успеха твоему странствию. Я взял у Гованны чашу, поднял за ручки и выпил. Пиво был прохладное, пенистое и прозрачное, пробуждающее аппетит. — Сдается, пивоваренное искусство достигло новых высот с тех пор, как я держал подобную чашу, — заметил я. — Королевский напиток! — Когда ты закончишь свои дела в наших краях, мы дадим тебе в дорогу бочонок, — отвечал Теодриг. Он пытался выпытать, зачем я здесь, не задавая прямых вопросов, что было бы неучтиво. Я мог вообразить, какие мысли вертятся в его голове. Мирддин, бывший король и властитель этого края, мог вернуться только за одним — потребовать назад престол и земли. Выходит, он сам остается ни с чем? Он видел, что я без дружины, и гадал, что это может значить. — Сердечно благодарю, — сказал я, ставя чашу на стол. В этот миг из кухни принесли кушанья. Мы сели: я по левую руку от Теодрига, Гованна с маленьким сыном Меуригом — по правую, и приступили к еде. Пока мы ели, я упомянул о переменах, которые приметил в городе и каере. Теодриг с грустью рассказал, что город пришлось оставить и выстроить крепость на холме. — Виллу спасти не удалось, — сказал он, — хотя кое-какие сокровища мы сохранили. — Он указал на пол у очага, и я увидел красно-бело-черную мозаику, некогда украшавшую пиршественный зал Гледдиврудда. Как жаль терять подобную красоту! А ведь мы по-прежнему теряем столько неповторимого! — Так туго пришлось? — спросил я, недоумевая. Он медленно кивнул. — Туговато. В тот день, когда погиб Мелвис, враги захватили город и виллу. Когда подоспел мой отец, Тейтфаллт, спасать было практически нечего. После ужина мальчишки, видевшие у меня арфу, вытолкнули вперед самого смелого: у них-де ко мне смиренная просьба. Теодриг уже собирался отчитать наглеца и выставить его вон, но я вмешался: — С радостью спою им песню, лорд Теодриг. У мальчишки округлились глаза, ведь я угадал его невысказанную просьбу. По правде сказать, я столько раз видел, как мальчики смотрят на барда, что особой прозорливости тут не требовалось. — Принеси мою арфу, Гелли, — сказал я. Мальчик вытаращил глаза, дивясь, откуда мне ведомо его имя. Как это часто случалось после моего безумия, я сам не знал, покуда не произнес. Однако стоило слову прозвучать, и я чувствовал, что оно истинно. — Ладно, — сказал Теодриг. — Не стой, разинув рот, как рыба на берегу, а беги за арфой, да поживей! Я спел им о дочерях Ллира и угодил всему Каер Мирддину. Просили петь еще, но я устал и потому отложил арфу с обещанием порадовать их в другой раз. После этого народ начал расходиться спать. Королева Гованна пожелала нам доброй ночи и унесла зевающего Меурига. Теодриг велел принести еще пива, и мы вместе с Пеллеасом и двумя королевскими советниками удалились в его личные покои за плетеной перегородкой в дальнем конце зала. Было ясно, что властитель Каер Мирддина намерен вытянуть из меня причину моего приезда, хотя бы ему пришлось сидеть до утра. Я достаточно видел за этот вечер, чтобы понять: Теодриг человек достойный и, как бы ни повернулись события, поступит по чести. Поэтому я решил скорее развеять его тревогу. Мы уселись друг напротив друга; с потолочной балки свисал ситовый светильник, и круг красноватого света покрывал нас, словно плащом. Слуга наполнил пивом окованные серебром рога. Пеллеас стал за креслом: безмолвный, непроницаемый, он высился у меня за спиной, словно ангел-хранитель; да он по сути и был моим ангелом. Теодриг отпил большой глоток и, не сводя с меня глаз, двумя пальцами вытер пену с длинных усов. Я заметил, что его приближенные не пьют. — Занятная была ночь, — благодушно протянул он. — Давненько у моего очага не слышалась песня барда. Спасибо, что наполнил этот чертог радостью. Я наградил бы тебя за песню… — Он помолчал и взглянул мне прямо в лицо, — но сердце мне подсказывает: ты возьмешь лишь то, за чем сюда прибыл. — Король и повелитель, — быстро отвечал я, — не жди от меня угрозы твоему трону. Я здесь не затем, чтобы его требовать, хотя мог бы и с полным правом. — Однако не требуешь? — Он рассеянно потер подбородок. — Нет. Я здесь не затем, чтобы получить назад свои земли. Он взглянул на своих людей, словно подавая безмолвный знак, и сразу напряжение — еле заметное, но все же явное — схлынуло. Налили еще пива, на этот раз выпили все. Опасный миг миновал. — Скажу начистоту, Мирддин, — молвил Теодриг, — я не знал, как с тобой быть. Это твое королевство по праву, которое я не стану оспаривать… но я властвовал здесь столько лет, а до меня мой отец… — Не объясняй, Теодриг, я хорошо понял. Поэтому я и отказываюсь от любых притязаний. Слишком много времени прошло, поздно мне возвращаться на трон. Мирддин больше не будет королем. Теодриг сочувственно кивнул, но ничего не сказал. — Да, — продолжал я. — Королем я больше не буду, но в память о тех временах, когда я правил Диведом, прошу твоей помощи человеку, который отчаянно в ней нуждается. — Твоему другу, Мерлин, — с жаром произнес Теодриг (явно сказывалось облегчение), — мы поможем, чем скажешь. Говори. Я подался вперед. — Не следует обещать раньше, чем прозвучала просьба, однако нужда моя такова, что я ловлю тебя на слове. Хотя нет, так не годится; то, о чем я прошу, — не мелочь. — Проси, друг. — Верховный король Вортигерн мертв… — Вортигерн мертв! — Как это случилось? — спросил один из приближенных Теодрига. — Когда? — не утерпел другой. — Всего несколько дней назад. Его убил Аврелий, сын Константина, истинный Верховный король. Сейчас Аврелий занял место отца, но есть много других, кто тоже считает себя достойным верховной власти. Уже сейчас кое-кто из недавних соратников Аврелия обратились против него. Думаю, он не продержится до конца лета… — Без поддержки. — Без друзей, — сказал я. — Я не питал любви к Константину и тем более к Вортигерну; оба были дерзкие глупцы. Из-за Вортигерна нас теперь теснят саксы. — Теодриг помолчал, отпил большой глоток, положил рог на место. — Если б твой Аврелий сам приехал просить помощи, я бы живо его завернул. Но за него просишь ты, Мирддин. Почему? — Потому, лорд Теодриг, что лишь он защитит нас от саксонских полчищ. Теодриг некоторое время обдумывал услышанное. — Так ли это? — Будь это иначе, я бы не приехал сюда просить. По правде говоря, Аврелий — все что у нас есть. — У нас есть оружие, — вмешался один из советников Теодрига. — Есть люди и лошади. Мы легко разделаемся с любой саксонской дружиной. — Вот как? — насмешливо переспросил я. — Когда ты последний раз стоял с обнаженным мечом и под звуки саксонского рога смотрел на бегущих к тебе берсерков? — Он не ответил, и я продолжил: — Я скажу вам: Хенгист собрал воинство, каких не видывал Остров Могущественного, и еще до конца лета намерен захватить трон. Так вот, он его получит, если вы за своими перепалками не успеете поставить ему заслон. — В твоих словах есть здравое зерно, — сказал Теодриг. — В моих словах — истина. — Так что ты советуешь? — спросил король. — Две вещи, — ответил я. — Во-первых, если ты подумывал о верховном престоле, оставь эту мечту — она не исполнится. Во-вторых, собери дружину из деметов и силуров и едем со мной: отдашь ее Аврелию. — На какой срок? — спросил кто-то из приближенных. — На какой он скажет. Навсегда. Теодриг потянул себя за подбородок и оглядел советников. — Сегодня мне этого не решить. Утро вечера мудренее. — До завтра подожду, промолвил я, вставая, — но не более того. Спокойной ночи, Теодриг.Глава третья
На следующее утро я встал рано, чтобы узнать решение Теодрига, однако короля нигде не могли сыскать. Его покой был пуст, никто не мог сказать, когда и куда он уехал. Оставалось только ждать его возвращения и воображать худшее. Позже я по настоянию Пеллеаса съел несколько ячменных лепешек и выпил разбавленного вина, потом вышел взглянуть на каер, пытаясь за новым разглядеть старое. Таким, думаю, был Каердиви дедушки Эльфина в Гвинедде — оживленная суета за широким земляным валом и бревенчатым частоколом. А люди! Куда подевались мои бывшие подданные? Те бритты одевались на римский манер, теперь же меня окружали древние кельты: женщины в длинных, пестрых накидках, мужчины в клетчатых штанах и рубахах; у каждого был перекинут через плечо кимрский плащ в крупную клетку, а длинные, убранные назад волосы заканчивались тугой косицей или конским хвостом. И повсюду, куда ни глянь — на шее, выше локтя, на запястье, — украшения из серебра, бронзы, меди, покрытые причудливым кельтским узором. Низенькие домики — по большей части бревенчатые под тростниковой или соломенной крышей — почти вплотную лепились на бывшем дворе виллы. На пригорке, где раньше стоял языческий храм, теперь расположился кузнец со своей кузней. Кузня была каменная — на ее строительство разобрали древнюю кладку. Что ж, в дни борьбы, когда избавительным божеством становится сталь, пусть храм превратится в кузницу! Однако в то утро, такое яркое и летнее, грозовые тучи казались далекими-предалекими; здесь же царили мир и покой. В такой день ответ Теодрига скорее всего окажется отрицательным. «Зачем, — скажут его советники, — поддерживать этого новоявленного короля? Пусть даже в его жилах течет кровь императоров, нам-то что до того? Хочет стать Верховным королем — пусть добивается трона своим мечом. Его будущее нам безразлично, тут и своих дел по горло». Я почти слышал, как они подталкивают Теодрига к тому же, к чему склоняется он сам; похоже было, что усилия мои напрасны. Хуже того: если я обманулся в деметах и силурах, которыми некогда правил, где уж мне сговориться с далекими северными королями! Может быть, надо было заявить свои права на престол, и тогда… Но нет, семя брошено. Надо ждать всходов. И я ждал — как собака перед барсучьей норой. Когда же вернется Теодриг? К ужину я, окончательно измученный, прилег ненадолго и задремал. Разбудил меня Пеллеас. — Проснитесь, хозяин, лорд Теодриг вернулся. Сон как рукой сняло. — Когда? — Только что. Я слышал крики, когда он въезжал во двор. Я встал, плеснул в лицо воды из умывального тазика, переоделся, расправил складки плаща на плече и вышел навстречу королю. Если ожидание вымотало меня, то Теодригу, судя по его виду, пришлось не легче. Под глазами у него были круги, лицо посерело от усталости и пыли; очевидно, он не спал и пробыл в седле дольше, чем собирался. Однако на губах его играла улыбка, и в моей душе шевельнулась надежда. — Кубок мне! — крикнул он, входя в зал. — Несите всем кубки! Я ждал, пока он первым подойдет ко мне и заговорит. Король, в свою очередь, дожидался, когда принесут кубки, чтобы промочить пересохшее с дороги горло. Он отпил большой глоток, медленно, наслаждаясь мгновением. — Ну, Мирддин Эмрис, — промолвил он наконец, ставя кубок и вытирая усы тыльной стороной ладони, — перед тобой — многострадальный союзник Верховного короля. Мне хотелось испустить радостный вопль, но я сдержался и просто ответил: — Что же, рад слышать. Но почему многострадальный? Теодриг устало покачал головой. — Потому что мне пришлось уламывать своих вождей. Они же, как один, противились твоему плану и выдвигали железные доводы, от которых я должен был отбиваться. — И ты отбился. — Да. — Он взглянул на мрачных советников: те обиженно молчали. — Хотя никто из них мне не помог! — Он еще раз обвел их взглядом и потер ладонью затылок. — Христом Богом клянусь, я убеждал так, словно от этого зависела моя жизнь… — Очень может быть, что и зависит, — сказал я. — Так или иначе, — продолжал Теодриг, — я славно потрудился для тебя, Мирддин Эмрис. Ради тебя я немало смирил свою гордость и готов еще немного ее смирить, чтобы сказать: ты теперь мой должник по гроб жизни. — Хорошо. Такой долг я оплачу с радостью; по мне, большая честь — задолжать столь достойному владыке. — Видел бы ты меня! Ллеу двигал моими устами и направлял мою мысль. Да что там, сам Ллеу не мог бы говорить убедительнее! Разгоряченный успехом, он выпил еще пива и продолжал беспечно: — Когда я ехал отсюда, я думал дать вождям случай подкрепить мое собственное мнение. Да, я был против. Однако, чем больше они говорили, чем больше возражали — тем больше мое сердце ожесточалось против них. Не обольщайся, Мирддин, я искал, как бы тебе отказать. Однако их советы были доводами самодовольных людишек, и они мне не понравились. По правде сказать, они меня напугали. Разве наша жизнь стала такой безопасной, наша страна так надежно защищена, что мы можем обойтись без поддержки других королей? Или мы уже неуязвимы? Или саксы отрастили крылья и улетели за море? Вот что, — победно прорычал Теодриг, — я спросил у них, и они не ответили. Итак, Мирддин, я схватился со своими вождями и одержал верх. — Он поднял кубок, я поднял свой. — Здоровье нового Верховного короля, да будет метким его копье! Мы выпили. Я отдал чашу Пеллеасу и, воздев руки, как принято у бардов, произнес: — Преданность твоя вознаградится, Теодриг. За то, что ты был верен сегодня, имя твое в этом краю будет жить вечно. Он расплылся в щербатой улыбке. — Прибавь сюда верность моих воинов! Пусть никто не сможет сказать, что Дивед не поддержал своего короля.Я пробыл в Каер Мирддине еще день и выехал с Пеллеасом, советником Теодрига по имени Ллаур Эйлеро (одним из двух находившихся при нем неотступно) и отрядом из десяти воинов. Мы немедленно направились на север: я хотел до возвращения к Аврелию привлечь на его сторону как можно больше сторонников. Делал я это отчасти, полагаю, из тщеславия; стыдно признаться, но я хотел показать свое влияние, чтоб он больше мне доверял. Мне думалось, что без этого не обойтись. Заполучив Дивед, я мог отправляться в другие королевства, не чувствуя себя попрошайкой. Теодрига ап Тейтфаллта уважали на севере, и, как я говорил, эти края связывали древние и благородные узы. Я не предвидел трудностей и оказался прав. По дороге Ллаур рассказал, что случилось со времен моего правления в Диведе. Большую часть этого он слышал от старших, поскольку множество событий произошло еще до его рождения. По его словам, весть о побоище в Годдеу достигла Маридуна. Мелвис был вне себя от горя, но, поскольку моего тела не нашли, все же не переставал надеяться. — Король Мелвис до смертного часа был уверен в том, что вы живы, — рассказывал Ллаур, когда мы ехали холодными горными перевалами Ир Виддфа. — Все эти годы он и слышать не желал, что вы не вернетесь. — Жаль, этого не случилось раньше, — печально промолвил я. — Как мне говорили, он погиб при нападении на виллу? — Да, и с ним еще многие, — бесстрастно отвечал Ллаур. Да и что ему было волноваться? Все это было задолго до него — чуть ли не в другом мире. — Варвары напали с востока, и дозорные башни не помогли. Враг застал нас почти врасплох. Мы отбили его, конечно, но в тот день потеряли Мелвиса и виллу: Мелвис пал от удара топором, вилла сгорела от факела. Некоторое время я молчал из уважения к памяти Мелвиса и всему тому, что он мне дал. Великий Свет, отведи ему почетное место на Твоем пиршестве! — Ему наследовал Тейтфаллт? — Да, племянник — сын его младшего брата Салаха. — А, Салах, я и забыл про него. Я слышал, он ездил в Галлию принимать священнический сан? — Да, насколько мне известно. Он вернулся за несколько лет до прискорбного набега помогать епископу Давиду — тот совсем состарился и не справлялся со всеми делами. Салах женился и вырастил двух сыновей: старшего, Гвителина, он посвятил церкви, младшего, Тейтфаллта, — народу Диведа. Со временем Тейтфаллт показал себя в глазах советников Мелвиса умелым военачальником, и после гибели короля выбор, естественно, пал на него. Тейтфаллт правил мудро и умер в своей постели. В ту пору Теодриг уже возглавлял отцовскую дружину, и после смерти Тейтфаллта королем провозгласили его. — Вот, значит, как все было, — задумчиво проговорил я. Королевство в сильных, умелых руках — и это хорошо. Я при всем желании не смог бы снова стать королем. Я нужен Аврелию, нужен Острову Могущественного много больше, чем когда-либо понадоблюсь Диведу. Господь Иисус направил мои стопы на иную дорогу; рок судил мне идти другим путем. Если меня и пугала поездка на север, к месту жуткой гибели моей возлюбленной Ганиеды, то все пересиливало желание увидеть наконец ее могилу. Со дня исцеления я уже не чувствовал сводящей с ума горечи, которая охватила и едва не поглотила меня. Да, пустота в душе и горе остались со мной навечно, но бремя перестало быть невыносимым, и сердце согревала надежда: однажды мы соединимся по ту сторону смерти. Итак, прежде чем направиться в старую крепость Кустеннина в Калиддонском лесу, я попросил Пеллеаса проводить меня к могиле жены. Он остался возле рощицы с лошадьми, а я ступил под лиственный кров, словно в часовню. Неправдой будет сказать, что вид холмика на поляне, заросшего жимолостью и викой, меня не всколыхнул: я зарыдал, и слезы мои были горьки и сладостны. На маленьком холмике, под которым покоилось в дубовом гробу тело моей жены, стоял простой серый камень: обтесанная сланцевая плита с выбитым крестом и незатейливой латинской надписью чуть пониже:
HIC TVMVLO IACET GANIEDA FILIA CONSTENTIVS IN PAX CHRISTVSЯ провел пальцами по ровным каменным буквам и прошептал: — Здесь в могиле лежит Ганиеда, дочь Кустеннина, в мире Христовом. Надпись не упоминала о ребенке и о моем сердце, а зря, ибо их обоих похоронили здесь. По крайней мере место и впрямь было мирное, недалеко от того, где она погибла, и почти заброшенное. И хорошо — бездумный прохожий не сможет случайно его осквернить. Я преклонил колени и долго молился, а встав, ощутил, как в душе разлился мир. Из рощицы я вышел со спокойным сердцем и разумом. Мы с Пеллеасом вернулись к спутникам и поехали в Годдеу. Мне следовало знать, что я увижу, и приготовиться к этому. Но я был застигнут врасплох. Столько всего произошло за такое короткое время, что вид Кустеннина и его жилища, ничуть не изменившихся, потряс меня не меньше перемен в Маридуне. Вот он стоял, такой же громадный, как в первую нашу встречу: гордый монарх Калиддона, король Дивного Народа, великий воевода и правитель могущественной страны. Подобно Аваллаху и другим атлантам, он был неподвластен течению времени. Все в нем осталось таким же, как в ту давнюю пору, и даже два черных волкодава так же сидели у его ног. Он шагнул навстречу, я спрыгнул с седла и кинулся к нему. Без единого слова он заключил меня в мощные объятия, как при прежних наших бесчисленных свиданиях. — Мирддин, сынок, — пробасил он, — ты восстал из мертвых. — Да, — отвечал я. Он отодвинул меня на расстояние вытянутой руки и всмотрелся внимательнее. В глазах его стояли слезы. — Вот уж не думал снова увидеть тебя… — Он перевел взгляд на Пеллеаса и легонько кивнул ему. — Пеллеас стоял на том, что ты жив, и не оставлял поисков. Мне бы его веру… — Мне жаль, что я не вернулся раньше. — Был на Ганиединой могилке? — Только что оттуда. Хороший камень. — Да, я заказал его священникам из Каерлигала. Я заметил, что он не упоминает сына, и спросил: — А Гвендолау? — Похоронен на поле битвы. Я отвезу тебя, если хочешь; но ты сам вспомнишь место. — Я не забывал его. И не забуду. — Мы отдали должное покойным, — сказал Кустеннин, — теперь поговорим о живых. У меня еще сын — несколько лет назад я женился, и моя супруга недавно разрешилась мальчиком. Это была радостная весть; я так ему и сказал. Кустеннин был доволен — рождение ребенка много для него значило. — Как назвали? — Куномор, — отвечал он. — Имя старое, но хорошее. — Что ж, пусть растет достойным своих славных предков, — сказал я. — Заходи, отдохнешь с дороги. Поедим и выпьем вместе, — промолвил ласково Кустеннин, увлекая меня за собой. Он крепко держал меня за локоть, словно боялся, что я вновь исчезну, стоит меня отпустить на мгновение. — Заодно посмотришь на моего младшенького. Мы выпили и поели. Я увидел его сына, который выглядел, как любой младенец. После ужина я пел и лег спать, вспоминая, как впервые ночевал под этой крышей: нескладный мальчишка в волчьей шкуре, одинокий и полудикий, безнадежно влюбленный в прекраснейшую девушку на свете. На следующий день я отыскал могилу Гвендолау и помолился благому Богу о его душе. Только вечером зашел разговор о цели моего приезда. — Ну, Мирддин Вильт, — сказал Кустеннин, хлопая по ноге собачьим поводком, — какие новости в большом мире за пределами этой чащи? Мы прогуливались по самому краю леса, перед нами бежала новая собака Кустеннина, которую он обучал. — Вот тебе новость, — сказал я, поняв, что король приглашает к разговору. — Вортигерн мертв. — Славно! — Он устремил взгляд на дорогу. — Пусть здравствуют его враги! — Да, их немало. — Кто будет Верховным королем вместо него? — А нам нужен Верховный король? — спросил я, желая испытать его мнение. Он быстро взглянул на меня, словно проверял, серьезно ли я говорю. — Да, думаю, нужен. Верховная власть — хорошая вещь, несмотря на то что натворил Вортигерн. С каждым годом саксы становятся все более дерзкими. Невозможно каждому королю защищать свой клочок земли. Чтобы выжить, надо поддерживать друг друга. — Он резко смолк. — Но? Кустеннин остановился и повернулся ко мне. — Но нам не нужен новый Вортигерн, который будет сидеть сиднем, упиваться славой и властью, грести под себя золото, привечать саксов и раздавать им земли, потому что боится встретиться с ними в честном бою… — Он выплеснул наболевшее и снова смолк. Потом продолжил уже спокойнее: — Нам нужен предводитель — военачальник, который поведет объединенную дружину. — Dux Britanniarum, — задумчиво произнес я. — Верховный воевода. — Да, вот кто нам нужен, а не еще один Вортигерн. — Кустеннин двинулся дальше по дороге. — И все же нам потребуется Верховный король, — осторожно возразил я, — чтобы сдерживать других королей. — Да, — согласился Кустеннин, — и снабжать войско из мошны подчиненных ему правителей. Однако на поле боя главенство должно принадлежать воеводе. В бою много забот, не хватало только думать, как бы не обидеть кого или не оказаться без припасов, оттого что кто-то не прислал обещанную помощь. При том, как мы сражаемся, — посетовал он, — удивительно, что нас еще не всех истребили. У меня в голове начал складываться план. — А если я скажу, что твои мысли уже сделались явью? Кустеннин рассмеялся. — Отвечу, что ты и впрямь чародей — главный чародей Острова Могущественного! — Но согласишься ли ты поддержать такого человека? — Как же иначе? Я уже сказал, что поддержу. — Он взглянул на меня. — Есть ли такой человек? — Пока нет, но будет. Скоро. — Кто это? — Тот, кто убил Вортигерна… вернее, те. Их двое — братья. — Братья! — Более того, короли Диведа уже решили их поддержать. Кустеннин задумался. — Кто эти замечательные люди? — Аврелий и Утер, сыновья Константина. Полагаю, при поддержке кимрских и северных королей Аврелий станет Верховным королем. — А второй — Утер? — Военачальником, о котором ты говорил. Кустеннин понемногу начинал видеть то, что открылось мне. Он кивнул, потом спросил: — Западные владыки готовы идти за ним? — Да, — заверил я. — С ними я говорил, как сейчас говорю с тобой. От их имени Теодриг послал своего советника — он в моей свите, — дабы подтвердить мои слова: западные владыки поддержали Аврелия. Кустеннин легонько хлестнул поводком по ладони. — Тогда и северные владыки его поддержат. — Он мрачно улыбнулся. — И, клянусь Богом, которому ты служишь, хорошо бы ты оказался прав. — Прав я или ошибаюсь, — сказал я, — однако новый король и его брат — единственная наша надежда. На следующий день Кустеннин отправил гонцов к своим вождям и воеводам, прося их собраться в Годдеу и поддержать Аврелия как Верховного короля и Утера как верховного воеводу. Я в общих чертах догадывался, что ответят вожди, но не знал, как это воспримет Утер. Это мне вскорости предстояло выяснить.
Глава четвертая
Не скажу, чтобы Утер скакал от радости, услышав о решении северных владык: они поддержат Аврелия, если Утер возглавит войско. Утер сам метил в Верховные короли, и предложение показалось ему унизительным. Я изложил ультиматум в первые же минуты по возвращении из Годдеу. Кустеннин, подобно Теодригу, отправил со мной советников, и Аврелий видел их, когда мы въезжали в лагерь холодные и вымокшие, потому что моросило с утра. Король потребовал меня к себе еще до того, как я переоделся в сухое. Аврелий с Утером выслушали мой краткий рассказ, и Утер заговорил первым: — Значит, лающему псу бросили кость, чтобы заткнуть пасть? Я не ответил, и он продолжал, тыча кулаком мне прямо в лицо: — Это ты их подговорил! Ты, Мерлин, вечно лезешь в чужие дела! Аврелий хранил спокойствие: — Утер, не принимай так… — А как принимать, братец дорогой? Меня делают твоим оруженосцем, а ты сидишь и молчишь, — упорствовал Утер. — Я мог бы по меньшей мере стать королем. — Замысел принадлежит Кустеннину, — сказал я, — а насчет того, что это будет условием, решил не я, а его вожди. И все же, я считаю, что мысль неплохая. — Подумай, Утер, — сказал Аврелий, ища, чем бы задобрить брата, — из нас двоих ты лучше воюешь. — Верно, — буркнул Утер. — А я старше, значит, править мне. — Аврелий устремил на него строгий взгляд. — Тоже верно, — признал Утер. — Так что мешает тебе сделаться верховным воеводой? — Это оскорбление, — фыркнул Утер. Я проглотил слова, вертевшиеся на языке. Аврелий положил руку брату на плечо. — С каких это пор оскорбительно возглавлять величайшее воинство мира? Утер смягчился. Аврелий продолжал бить в ту же точку. — Разве оскорбительно быть верховным воеводой всех бриттов? Подумай, Утер! Сотни тысяч людей под твоим началом! — тысячи тысяч! — и все смотрят на тебя. Ты завоюешь великую славу, твое имя останется в веках. Аврелий бесстыдно играл на самолюбии брата и, надо сказать, с успехом. — Величайшее воинство Империи, — пробормотал Утер. — В прежние времена, — вставил я, — верховный военачальник звался Dux Britanniarum. Максим Магн носил этот титул до того, как стать императором. — Вот видишь? Со времен императора Максима у нас не было верховного военачальника. Прекрасный титул, и ты один будешь его носить. — На этом месте Аврелий смолк, отступил на шаг и вскинул руки в старинном римском приветствии: — Здрав будь, Утер, Dux Britanniarum! Утер не мог долее сдерживаться, он расплылся в улыбке и ответил: — Здрав будь, Аврелий, Верховный король бриттов! Они со смехом обнялись — одно слово, мальчишки! Я дал им навеселиться, потом объявил: — Так вот, Теодриг и Кустеннин ждут ответа от вас обоих. Их советники у меня в шатре и хотят с вами поговорить, прежде чем возвращаться к своим господам. Думаю, не следует их больше томить. Не знаю, где Аврелий научился так обращаться с людьми, но делал он это мастерски. Мало того: он обладал достоинством, которое выручало его, когда не помогали слова. Сказать, что он взял советников лестью и уговорами, значило бы солгать. Он действовал куда тоньше. Он не уговаривал, а убеждал, не льстил, а поднимал людей в их собственных глазах. С Утером он, естественно, обращался иначе. При этом в нем не было ни лжи, ни коварства. В его жилах текла кровь императоров, которую он не хотел бесчестить. Узнав Аврелия ближе, я проникся к нему любовью и уважением. Такой человек и был нужен нашему народу. Я видел: вот кто объединит королевства под своей властью, а Утер поведет их в бой. Вместе они составляли внушительную силу, хотя ясно было, кто мудрей и сильней. Утер попросту не обладал нужным складом характера. Вероятно, не его в том вина. Такие люди, как Аврелий, рождаются редко. Просто Утеру не повезло — он был братом Аврелия и всю жизнь оставался в его тени. Вот почему я решил никогда их не сравнивать, даже не хвалить Аврелия в присутствии Утера — или даже в его отсутствие, — не добавив нескольких приятных слов в адрес самого Утера. Пустяк, скажете вы, но на таких пустяках и строятся империи.Северные и западные королевства встали под знамена Утера, и непокорные владыки Ллогрии внезапно поняли, что могут распрощаться с мечтами о верховном владычестве. Большая часть, если и не осознала всех выгод единства, то хотя бы поняла, что разумнее будет покориться, и присоединилась к северу и западу в поддержке Аврелия. Остальные, сжигаемые и ослепляемые жаждой власти, представляли собой серьезную угрозу. Они готовы были биться с Аврелием за престол; пламя их страсти могла угасить лишь кровь. И кровь лилась: много доблестных воинов, способных сразиться с ютами и саксами, пали от руки соплеменников. Однако непокорных надо было смирить. Мы видели: Аврелий будет править всеми или никем. Иного пути нет. Я был рядом с ним, поддерживал его в бою, как некогда Талиесин Эльфина. А в то долгое, трудное лето он очень нуждался в поддержке. Наступали минуты, когда обычная уверенность ему изменяла, он начинал сомневаться и даже отчаиваться. — Ничто не стоит такой цены, Мерлин, — говорил он, и тогда я отыскивал слова ободрения. Утеру не по душе было сражаться с союзниками, но он был воином до мозга костей и часто шел на то, от чего уклонились бы другие. Его стали бояться: «Утер, — шептались вокруг, — охотничий пес Аврелия, хладнокровный убийца, который любому перегрызет горло, скажи хозяин хоть слово». На самом деле он был не столько хладнокровен, сколько предан, и преданность его брату, самому верховному престолу не знала границ. Я научился уважать и Утера. Его упорство шло от любви — любви истинной и чистой. Редко кто умеет любить так бескорыстно, как Утер Аврелия. Меня, впрочем, рыжий удалец невзлюбил с первого взгляда. Он относился ко мне с той беспричинной подозрительностью, которую вызывает все непонятное у многих так называемых «просвещенных людей». Он терпел меня, а со временем даже принял и научился ценить мой совет. Ибо он понял, что я не желаю ему вреда и тоже люблю Аврелия. Да, на нас троих стоило взглянуть, когда мы разъезжали среди своих воинов, по большей части пеших (лошадей на всех не хватало), постоянно голодных, усталых, грязных, раненых и больных. Однако мы не сдавались. Мы рвались к верховному престолу, как гончие, взявшие олений след, и нас было не остановить. Одна за другой ллогрские дружины переходили на нашу сторону. Один за другим южные владыки присягали Аврелию на верность: Дунаут, правитель воинственных бригантов, Коледак, повелитель древних иценов и катувеллаунов, Моргнат, вождь богатых и независимых белгов, Горлас, властитель заносчивых корнубийцев, — гордецы как на подбор. Однако все они преклонили колени перед Аврелием. И вот в последние дни бабьего лета перед тем как осенние ливни накрыли землю мокрым плащом, мы наконец выступили против Хенгиста. Время было выбрано не самое лучшее. Мы могли бы переждать зиму, чтобы накопить силы и подлечить раны. Можно было даже сделать передышку и короновать Аврелия. Однако ему невмоготу было терпеть, что саксонские полчища топчут британскую землю. — Давайте коронуем меня позже, — сказал Аврелий, — если останется что короновать. К тому же, как указывал Утер, передышка даст Хенгисту возможность собрать еще людей: с весенним разливом из-за Узкого моря подойдут новые корабли. Да и на верность ллогрских правителей особо рассчитывать не приходится: за долгие зимние месяцы они успеют позабыть свои клятвы. Лучше выступить сейчас и покончить с этим раз и навсегда. То же самое посоветовал бы и я. Хенгист и так набрался сил за долгое лето. К нему присоединился его брат Хорс с шестью кораблями воинов. Они встали лагерем на восточном побережье, которое еще у римлян получило название саксонского. Для защиты от варваров римляне выстроили здесь крепости. Часть этих крепостей вместе с прилежащими землями подарил саксам Вортигерн, другие они захватили сами. Мы двинулись на восток, к саксонскому побережью, готовые, если потребуется, приступить к самым крепостям. Однако саксы и не думали укрываться за стенами — изголодавшись по крови, они двинулись нам навстречу. Аврелий утвердил свой штандарт, имперского орла, и разбил шатер на холме, с которого открывался вид на брод у реки Нене. Где-то за рекой укрылось воинство Хенгиста. — Это место нам подходит, — объявил Аврелий. — Орел не слетит с этого холма, доколе саксы не будут оттеснены в море! — С этими словами он вонзил меч в землю и ушел отдыхать в шатер. Хотя наши люди за лето навидались больших сражений, в лагере в тот день царило необычное волнение. Слышались разговоры и громкий смех, любая работа в предвкушении боя выполнялась легко и весело. Одной из причин этого, решил я, была общая вера в Утера. Он показал себя прирожденным полководцем: быстрым, решительным и в то же время хладнокровным в гуще сражения, превосходным наездником, искусным в обращении с копьем и мечом, — короче, более чем достойным соперником любому супостату. Другая же причина заключалась в том, что мы наконец-то сошлись с настоящим неприятелем. Завтра мы будем сражаться с саксами, а не покорять соплеменников. На поле нас ждет истинный враг, а не возможный друг. И мысль эта поднимала дух воинов. Я уже шел в шатер, когда меня остановил Утер (он направлялся к своим военачальникам). — Лорд Эмрис, — сказал он с оттенком обычной колкости в голосе, — прошу на одно слово. — Да? — Хорошо бы вечером послушать песню. Думаю, завтра люди будут драться ожесточеннее, если песня зажжет в их сердце огонь. Мне казалось, что боевой дух в стане и без того высок, к тому же среди нас были два-три арфиста — барды других королей, которые нередко пели для воинов. Тем не менее я ответил: — Хорошая мысль. Я попрошу кого-нибудь из арфистов. Кого бы ты предпочел? — Тебя, Мирддин. — Он употребил кимрскую форму моего имени, что с ним случалось редко. — Пожалуйста. — Зачем, Утер? — Я уловил в его тоне какие-то незнакомые нотки. — Простых воинов это поддержит, — сказал он, отводя глаза. — Простых воинов, — повторил я и замолчал. Молчания он не выносил, поэтому его прорвало: — Ладно, ладно, не только простых. — Кого же еще? — Меня. — Он с досадой хлопнул себя по ляжке, как будто признание далось ему нелегко. В глазах его читалась боль. Или страх. — Ну как, Мерлин? — Конечно, Утер. Но ты должен объяснить мне, в чем дело. Он подошел почти вплотную и понизил голос. — Собственно, почему бы тебе не знать… — начал он и осекся, не зная, какие подобрать слова. — Из-за реки вернулись мои лазутчики… — И? — Если их подсчеты точны — а я за это ручаюсь жизнью, — таких воинств не видели на нашем острове. — Это еще ни о чем не говорит. Сколько у них человек? — Будь нас в пять раз больше, мы бы все равно не сравнялись с ними в числе! — резанул он. — Теперь ты знаешь все. Итак, Хенгист немало потрудился летом, и его усилия принесли плоды. — Однако воинам этого знать не следует. Так? — Сами скоро увидят. — Скажи им, Утер. Нельзя, чтобы они увидели это завтра на поле битвы. — Думаешь, лучше им терзаться тревогою всю ночь? Он зашагал прочь, не сказав больше ни слова, а я вошел в шатер, велел Пеллеасу натянуть струны и настроить арфу, чтобы спеть, как просил Утер. Потом я отдохнул, а после ужина, когда войско собралось у огромного огненного кольца (его разожгли по приказу Утера), стал готовиться. Мне думалось, что много людей (может быть, большинство ныне живущих) никогда не слышали истинного барда. Воины помоложе уж точно. Горько будет, если они завтра сойдут в могилу, так и не изведав мощи безупречного слова. Значит, надо им ее показать. Я разделся, помылся и облачился в свои лучшие одежды. У меня был пояс из спиральных серебряных дисков — подарок одного из приближенных Аврелия. Пеллеас натер его до блеска. Волосы я зачесал назад и подвязал кожаным ремешком, потом надел темно-синий плащ, а Пеллеас расправил складки и скрепил их на плече подарком Хариты — пряжкой Талиесина в виде оленьих голов. Взяв арфу, я выступил в темноту, чтобы петь перед объединенной дружиной Острова Могущественного. Звезды остриями копий метили в серебряный щит луны, только-только поднявшийся над горизонтом. Я встал перед воинами и запел — пляшущий огонь перед стеной пламени, бушующая гроза, глас, что молнией падет с облачных небес, крик торжества у Врат смерти. Я пел, наполняя сердца отвагой, а руки — крепостью. Я пел о доблести, мощи, благородстве. Я пел о чести. Я пел о том, что Господь Иисус Христос в силах избавить их души от вечной ночи, и песнь моя стала молитвой — святой и высокой. Слова, ликуя, срывались с моих губ, а воины внимали в благоговейном молчании. Их лица лучились: то были уже не смертные, но боги-воители, которые с радостью отдадут жизнь за братьев и за родной очаг. Я видел, как величественный и страшный дух снизошел на стан: Клота, дух справедливости в бою, и в горсти его было черное пламя судьбы. «Начинается, — подумал я. — С этой самой ночи мы станем отвоевывать Британию…».
Глава пятая
Утер разбудил нас до зари. Мы позавтракали, в темноте натянули доспехи, выступили на позиции и стали на вершине холма над бродом, ожидая рассвета. За спящей Нене выстраивались саксы: десятитысячная рать неотвратимо сбегала с соседних склонов, словно тень от облака в солнечный день. Но то была не просто тень! Великий Свет, сколько же их было! Хенгист и впрямь накопил силы: видимо, он все лето собирал подкрепление с родины. Здесь были не только саксы, но и англы, юты, фризы, пикты и, разумеется, ирландские скотты. Все пришли на зов Хенгиста. Напротив, наши ряды словно поредели со вчерашнего дня, когда воинов, мнилось, было больше, чем звезд на небе. Утеровы лазутчики не обманули: на каждого нашего воина приходилось пять неприятельских. — Ллеу и Зевс! — воскликнул Утер при виде врага. — Откуда их столько взялось? — Неважно, — ответил я. — Важнее знать, куда они денутся. — Славно сказано, Мерлин, — заметил Аврелий. — Сегодня мы отправим их прямиком к Одину: пусть объяснят ему, почему не смогли одержать верх над горсткою бриттов. Они с Утером в последний раз обсудили план сражения, однако, поскольку все было решено и подготовлено заранее, менять ничего не пришлось. Утер отсалютовал брату и выехал на свое место впереди войска. — Молись своему Иисусу, Мерлин; уверен, Он услышит тебя и дарует нам победу! — крикнул он мне. Утер впервые проявил хоть какой-то интерес к Иисусу, и я ответил: — Мой Господь слышит тебя, Утер, и всегда готов придти на помощь тому, кто призывает Его имя — даже сейчас! — Да будет так! — Утер взмахнул поводьями и поскакал вперед. Бритты медленно спустились к броду и остановились подождать, пока противник перейдет реку. Мы не хотели сражаться, имея за спинами воду, однако могли бы получить некоторый выигрыш, напав на саксов посреди потока, — если сумеем достаточно растянуть строй. Впрочем, здесь таилась опасность, если варвары вплавь обогнут нас с фланга и выберутся на высокий берег за нашими спинами. Чтобы этого не случилось, Утер оставил треть войска позади — поддержать фланги в случае надобности. Аврелий возглавлял арьергард, я, по обыкновению, держался возле него. Пеллеас ехал рядом со мной, мрачный и решительный: мы с ним договорились любой ценой защищать Верховного короля. Аврелий командовал теми из людей Хоеля, которые не отплыли к своему повелителю. С нами же был и Горлас — его конная дружина была второй по размеру после Теодриговой. По приказу Утера передние ряды двинулись — пешие и конные разом. В последний миг, когда два войска должны будут сойтись, всадники вырвутся вперед, чтобы обрушить на передовых врагов молнии мечей и гром конских копыт. Наши воины ринулись вниз по длинному склону. Как и ожидалось, противник двинулся навстречу — самые отчаянные уже добежали до берега и прыгали в воду. Однако Хенгист предвидел это и удержал войско, прежде чем оно оказалось в уязвимой позиции. Саксы остановились на своей стороне реки и принялись криками вызывать нас на бой. Их оскорбления и насмешки долетали даже до нас. Аврелий дергал поводья, заставляя лошадь трясти головой и фыркать. — Как они додумались? — вслух спросил он, потом повернулся ко мне. — Что теперь сделает Утер? Ответа долго ждать не пришлось; к нам во весь опор подлетел гонец. — Лорд Утер просит вас немедленно подъехать к нему на поле, — произнес юноша срывающимся от волнения голосом. — Хорошо, — отвечал Аврелий. — Что-нибудь еще? — Держите середину, — произнес гонец, передавая слова военачальника. — Держать середину? И все? Гонец кивнул, развернул коня и поскакал обратно. Аврелий дал Горласу знак следовать, и мы понеслись с холма к реке. Сперва мы не понимали, что затеял наш предводитель, — быть может, не понял и Хенгист! Однако, как только мы оказались за спиной Утера, весь передовой строй, все конные развернулись и быстро поскакали вверх по течению, оставив на берегу пеших. Мы заняли то место, которое оголил Утер, и стали ждать. Хенгист ответил на этот маневр звуком саксонского боевого рога, от которого кровь леденеет в жилах. Шум на берегу реки стоял оглушительный. Пикты приплясывали от нетерпения и пускали стрелы; юты и фризы ударяли копьями в обтянутые кожей щиты; скотты, голые, размалеванные соком вайды, в шипастых венцах из собственных, вымазанных известью волос, орали оглушительные боевые песни, а тем временем саксонские берсерки завывали и хлопали друг друга так, что кожа их краснела и переставала чувствовать боль. Повсюду, куда ни глянь, пританцовывающие варвары орут и скалят зубы, прыгают с берега в воду и обратно и беспрерывно, беспрестанно выкрикивают оскорбления. Среди воинов Верховного короля некоторые впервые видели саксов. Они были не готовы к гнусному зрелищу, к жутким звукам, бьющим в самый мозг. Варвары пытались испугать противника, и им это удалось сполна. Если б не уверенное спокойствие ветеранов, думаю, многие новички обратились бы в бегство еще до атаки. А так мы стояли, преисполненные нетерпения и страха. Плохо, когда перед боем приходится ждать: сомнения отыскивают брешь в самой крепкой решимости, и мужество постепенно уходит. Однако ничего не поделать — Утеру нужно время, чтобы занять новую позицию. И мы ждали. Конница Утера исчезла в леске у реки. Хенгист заметил маневр и отрядил часть войска выше по течению, чтобы дать отпор коннице. Так мы и стояли, лицом к лицу с врагом, и никто не хотел первым войти в воду. Внезапно я задумался над тем, где же Утер пересечет реку. Другого брода поблизости не было. Я нагнулся к Аврелию, но не успел ничего спросить, как с противоположного берега донеслись вопли. — Они наступают! — крикнул Аврелий. — Силы небесные, помогите! Хенгист успел оценить положение, решил, что отсутствие Утера искупает для него трудности боя в воде, и подал сигнал к атаке. Враги неслись потоком. При виде катящейся громады наши передовые ряды непроизвольно попятились. — Стоять! — крикнул Аврелий своим военачальникам; его приказ повторили по рядам. Тех, кто первым выбежал на мелководье, встретил ответный натиск наших войск. Таким огромным было желание не дать саксам пройти, что атака захлебнулась и наступающие отпрянули назад. Враги вопили от ярости. И закипела битва. Ненависть, скопившаяся за долгое лето, вспыхнула жарким пламенем. Стоя по пояс в воде, воины рубились топорами и мечами. Весь мир наполнился грохотом стали о сталь. Нене бурлила вокруг ратников, в медленную темную струю вплелась алая. Лишь решимость удерживала наше немногочисленное войско от разгрома. Решимость, да еще кони, которых боялись варвары, — и не зря, поскольку хороший боевой конь, наделенный не менее смертоносным оружием, стоит наездника. Однако мало-помалу начало сказываться численное превосходство противника. Когда выдохся первый порыв, Хенгист сумел обойти нас с флангов, и Аврелий вынужден был, ослабив центр, перебросить туда часть людей, чтобы не оказаться в кольце. — Утер или подоспеет сейчас, или будет нас хоронить, — мрачно промолвил Верховный король, вынимая из ножен меч. — Без конницы мы центр долго не удержим. Я уже вынул меч, но сейчас опустил его и сказал: — Мой король, победа наша! Вырвем ее у язычника и покажем ему, что такое бритты во гневе. Аврелий улыбнулся. — Верю, ты говоришь искренне, Мерлин. — Лишь глупец шутит на поле битвы. — Что ж, попробуем. — И Аврелий, пришпорив коня, устремился в бой. Как я уже говорил, центр наш поредел и мог не сдержать вражеского натиска. Сюда и помчался Аврелий, не думая о собственной безопасности. Утер был бы вне себя; он всячески ограждал брата, стараясь по возможности держать его дальше от боя. Объяснял он это так: «Я выиграл столько сражений, чтоб сделать его Верховным королем! Не хватало мне теперь, чтоб он сунул башку под вражеский меч». У Аврелия не было чувства опасности. Он не умел взвешивать риск и потому совершал поступки, которые в одних обстоятельствах могут быть сочтены доблестными, в других — опрометчивыми. Утер оберегал брата, потому что знал это его свойство. Однако сейчас Утера рядом не было, и Аврелий, видя слабое место, поспешил закрыть его своей грудью. Я никогда не видел, чтобы человек был так беспечен в бою. Любо было смотреть, как он бьется. И страшно. Страшно, потому что мне выпало его беречь, а эта задача оказалась не из простых. Аврелий рисковал за двоих, а я еле-еле поспевал за ним. За себя я не боялся; такая мысль даже не приходила мне в голову. А вот за Аврелия переживал, потому что Утер говорил правду: мы немало претерпели, чтобы возвести его на верховный престол. Я решил, что не дам ему понапрасну сложить голову — пусть даже геройски! Мы бились плечом к плечу, мой король и я. Словно близнецы, сросшиеся от рождения, мы разом наносили удары. Враги падали перед нами, а наши соратники, видя, как король врубается в гущу сечи, приободрялись и удваивали усилия. Однако, несмотря ни на что, враг по-прежнему теснил нас. С каждым новым натиском мы отступали. Словно морской вал на берег, враги накатывали на нас, камень за камнем, песчинка за песчинкой увлекая нас в бушующий водоворот. Каждая новая волна отдавалась в моих костях. И я ждал, когда же войду в то странное зачарованное состояние, в котором привык биться. Однако этого не происходило. Я сообразил, что не приходил в боевое исступление со времени Годдеу. Мне пока не случилось показать себя в битвах на стороне Аврелия. По правде сказать, до сего дня я ни разу не обнажил меч — не было нужды. Однако сейчас сражаться пришлось, и я сражался, как все, с тоской вспоминая свой старый меч, о который другие клинки разбивались, словно стекляшки. Великий меч Аваллаха, подаренный мне Харитой давным-давно. Что сталось с ним? Неужто и он, как многое другое, лежит в Годдеу? Глупец! Разве сейчас время думать о таких вещах? Уберечь жизнь свою и Аврелия — вот единственная задача, тем более трудная, что король нисколько не думал о себе. Нас теснили прочь от реки, и нам приходилось отходить, чтобы не оказаться в окружении. Бой теперь шел вдали от брода, но англы, юты, ирландцы и пикты еще продолжали переходить Нене. Трудно поверить, но большая часть Хенгистова войска по-прежнему оставалась на другом берегу! Скоро они раздавят нас своим числом. Где Утер? «Великий Свет, — молился я, — если Ты намерен спасти нас сегодня, пусть это случится сейчас!» Мы, крепко стиснув зубы, рубились с противником, каждым ударом сражая врага, но продолжали отступать по мере того, как все новые и новые варвары форсировали реку. Один за другим отряды обходили нас с фланга. Мы были почти окружены, и вражеское кольцо сжималось — смертельное кольцо, как называют его воины, ибо спасения из него нет. Где Утер? Саксы, сочтя, по всей видимости, что союзники нас покинули, вопили и призывали своих жутких богов — Одина, Тиу и Тора, — чтобы рубить, убивать, калечить. Одержимые жаждой крови, они бились, не щадя сил. Я разил всякий раз, как замечал незащищенный участок тела, без устали, словно жнец перед надвигающейся грозой. Я собрал богатый урожай, но жатва не доставила мне радости. Люди падали под моим сверкающим клинком или под копытами моего скакуна. Другие дико кричали, лишившись руки или ноги; закаленные воины вопили от ран. Я видел некогда прекрасные лица — загорелые, обрамленные светлыми волосами, с глазами цвета зимнего льда — искаженными гримасой боли, израненными, залитыми кровью. Однако, сколько б я ни убивал, врагов меньше не становилось. Они лезли со всех сторон, размахивая зазубренными топорами. Один из их предводителей с оглушительным воплем прыгнул к моей лошади и, обхватив ее рукой за шею, замахнулся на меня топором. Я откинулся в седле. Окровавленное лезвие рассекло воздух там, где только что была моя голова. Я сделал выпад, и острие меча вошло ему под ребра. Он с криком выронил топор и, уже падая, обеими руками повис на моем мече в надежде увлечь меня на землю. Меня тащило вниз, и один из его товарищей в остервенении поднял топор, чтобы рассечь мне череп. Я видел, как лезвие взмыло в воздух. В следующий миг из запястья врага хлынула кровь и топор отлетел прочь. Это подоспел на выручку Пеллеас; уже не впервые за этот день его меч избавил меня от смерти. «Будь с королем!» — крикнул я, вырывая у мертвеца меч. Пеллеас повернулся и поскакал вслед за Аврелием. Тот во весь опор мчался вперед, оставляя за собой груду поверженных тел. Бритты бились, как богатыри. Не было еще войска доблестней… Но мы не могли переломить ход битвы. На место поверженного врага вставали четверо новых; мы поразили тысячу, но оставалось еще пять. Тем временем наши храбрые соратники гибли в безжалостной бойне. Враг уже полностью окружил нас. Аврелий приказал поворачивать. С этого начинается разгром войска. Поняв, что мы обречены, мы бросились на прорыв. Не знаю, откуда взялись у нас силы, но с молитвами и ругательствами, сжимая сломанные клинки, мы вновь отбросили вопящих берсерков. Хенгист в ярости бросил на нас остальное воинство; всех, кроме хускарлов — своей личной дружины, куда отбирали самых сильных и страшных саксонских воинов. Он хотел окончательно раздавить нас. Враги бежали через реку навстречу нам, и на их лицах было упоение ненавистью. Неприятель медленно сминал наши ряды. Головы наших соратников уже торчали на верхушках длинных вражеских копий. По воздуху плыл запах горящей плоти. Хенгист праздновал победу, не дожидаясь конца сражения. Однако праздновал он рано, потому что битва еще не закончилась. Первым это увидел Аврелий. — Утер! — вскричал он. — Утер взял в плен Хенгиста! Как он заметил это в гуще сражения, сказать не могу. Однако я поднял глаза, взглянул на противоположный берег — враги оттеснили нас на возвышенное место, с которого мы начали сражение, — и увидел, что украшенный конскими хвостами штандарт Хенгиста теперь окружила конница, и бой закончен. Остальные всадники Утера во весь опор летели к реке наперерез войску, спешившему на выручку своему предводителю. Не знаю, когда Хенгист понял свою ошибку, но, думаю, осознание пронзило его, как холодная сталь под ребра, когда он оглянулся и увидел конницу Утера на полном скаку. Мы же почувствовали, что в битве, казалось, уже проигранной, наступил перелом, и ринулись вперед. И тут, словно по волшебству, противник рассеялся. В тот же миг удача отвернулась от неприятеля. Аврелий, не теряя ни минуты, пришпорил коня, схватил королевский штандарт и, размахивая гордым орлом, устремился к реке. Великий Свет, мы спасены! Аврелий наступал быстро и беспощадно. Уцелевшие конники молниеносно сплотились вокруг него и ударили в спину отступающему врагу. Бесславное дело — добивать бегущего неприятеля. Бесславное, но необходимое. Варвары оказались по грудь в воде между двумя войсками. Они не могли ни двинуться вперед, ни отступить. В их рядах началось смятение, затем хаос. Хенгист был в плену, его телохранители убиты или связаны. Странное дело с этими варварами: стоит взять в плен предводителя, как они разом теряют боевой дух. Убей его — и они будут сражаться за честь сопровождать его на Валгаллу. Но, когда он оказывается в плену, впадают в оцепенение. Словно у них один мозг, одна воля — воля и мозг предводителя. Без него они сразу поддаются отчаянию и страху. Вот почему, несмотря на численное превосходство, несмотря на то что наше войско было почти разбито, едва Утер поднес клинок к горлу Хенгиста, победа перешла к бриттам.Бой продолжался отдельными островками: ирландцы и пикты сражались вокруг своих вождей, но с ними удалось быстро разделаться. Последуй их примеру саксы, Утер не терзался бы сейчас, не зная, что делать с пленниками. Разумеется, Аврелий не собирался брать пленных: бой шел не на жизнь, а на смерть. Если бы верх взяли саксы, они б не пощадили никого. В пылу боя воин убивает без колебаний, однако немногие цивилизованные люди способны зарубить безоружного и связанного человека. Я говорю это потому, что после сражения осталось несколько тысяч живых саксов и мы просто не могли истребить их всех. Сделай мы это, мы стали бы худшими варварами, чем наши противники! — Ну? — спросил я Утера. Он по-прежнему сидел в седле, положив на колени окровавленный меч. — Как ты поступишь? Аврелий отправил меня к брату, а сам остался закончить последние стычки и позаботиться о раненых. Утер мрачно оскалился, словно это по моей вине решать досталось ему. В надежде переложить с себя ответственность, он спросил: — Что говорит Аврелий? — Верховный король говорит, что ты предводитель — тебе и решать. Он застонал. Утер не был убийцей. — А ты что скажешь, Высочайший Амброзий? — Я согласен с Аврелием. Решать должен ты — и быстро, если не хочешь лишиться уважения своих воинов. — Знаю! Но что делать? Прикажу перебить их — меня станут укорять за жестокость, оставлю в живых — будут презирать за мягкотелость. — На войне нет легкого выбора, — посочувствовал я. — Лучше скажи что-нибудь новенькое. — Слова его были резки, но взгляд молил о помощи. — Я скажу, что сделал бы, если б решать предстояло мне. — Ну, Воплощенная Мудрость, что бы ты сделал? — То единственное, после чего не утратил бы права называть себя человеком. — А именно? — Отпустил бы их, — сказал я. — Другого выбора нет. — Все, кого я отпущу, вернутся. И вырастят сыновей, и те придут завоевывать нашу землю. Каждая жизнь, что я подарю, обернется жизнью нашего соотечественника. — Вероятно, — согласился я, — так оно и бывает. — Тебе нечего больше сказать, Могучий Пророк? — насмешливо произнес Утер, скривившись от недовольства. — Я говорю лишь то, что есть, Утер. Решаешь ты: перебей их всех — и ты, возможно, сохранишь чью-то жизнь в будущем, но в очах Господа станешь мерзостней этих несчастных, Его не ведающих. Если ж ты их отпустишь, то явишь истинное благородство британского духа. Ты покажешь себя подлинно выше тех, кого победил. Он видел, что я прав, но согласиться не мог. — Пусть поклянутся на крови и оставят заложников. — Можно и так, но я не советую. Они презирают нас и потому не станут держать клятву. — Но что-то я должен сделать! — Ладно, — сдался я, — но выбери в заложники самых юных. — И я не пощажу Хенгиста. — Утер, подумай! Он разбит и опозорен. Убей его, и он останется в памяти вождем, за которого надо мстить. Отпусти его, и Хенгист нас больше не потревожит. Господи помоги, но мое собственное сердце противилось моим словам. Может быть, если бы я верил в то, что говорил, мне бы удалось его убедить. — А я говорю, что он не уйдет живым, — твердо произнес Утер. Вывели крепко связанного Хенгиста. Он смотрел с вызовом, его широкое лицо кривил дерзкий оскал. Уцелевших телохранителей поставили у него за спиной. Остальные саксы, безоружные и совершенно потерянные, стояли чуть поодаль, на холме, понурив головы, и с угрюмой тоской взирали на своего предводителя. Горлас, разгоряченный боем, подскакал и спрыгнул с лошади. Прежде, чем его успели остановить, он подбежал к Хенгисту и плюнул ему в лицо. Саксонский вождь бесстрастно смотрел на Горласа, плевок блестел на его щеке. Саксы злобно загудели. Это была чудовищная глупость. Мне хотелось тряхнуть Горласа за плечи — пусть поймет, что натворил. — Стой, Горлас! — Это произнес подошедший Аврелий. Он быстро прошел между пленниками и остановился, невозмутимо глядя на Хенгиста, потом повернулся у Утеру. — Ну, верховный воевода Британии, что дальше? — Смерть Хенгисту и его военачальникам, — спокойно отвечал Утер. — Остальные вольны идти… — Он бросил быстрый взгляд на меня. — Их доставят на берег и посадят на корабли, запретив возвращаться под страхом смерти. — Хорошо, — сказал Аврелий. — Пусть так и будет. Горлас, отошедший на шаг, теперь снова высунулся вперед. — Лорд Аврелий, дозволь, Хенгиста убью я. Аврелий строго взглянул ему прямо в лицо. — Почему, лорд Горлас, ты желаешь быть палачом? — Это дело чести, государь, — признался Горлас. — Мой брат пал в тот день, когда саксы предательски перебили бриттскую знать. Я поклялся убить Хенгиста, если увижу. Жаль, мы не встретились сегодня в бою! Аврелий задумался, потом взглянул на Утера. — Не вижу препятствий. — Все равно кто-то должен это сделать, — пробормотал Утер. Верховный король повернулся ко мне. — Что скажешь ты, мудрый советчик? — Мне горько, когда убивают из мести. Коли жизнь — плата за зло, пусть убьет его быстро и тихо, но не здесь и в одиночку. Странный свет вспыхнул в глазах Горласа. Он запрокинул голову и жутко расхохотался. — Убить тихо? — прогремел он. — Мы только что уложили десять тысяч этих выродков! Перед нами главный выродок — вот уж кто заслужил смерть больше их всех! — Сегодня мы убивали, потому что у нас не было выбора, — выкрикнул я. — Убивали, чтобы спасти себя и своих сородичей. А теперь у нас есть выбор, и я скажу, что убийство из мести — преступление и недопустимо среди людей просвещенных. — Государь мой Аврелий! — заорал Горлас (его уже разбирала злоба). — Пусть Хенгист умрет здесь и сейчас, на глазах своих воинов. Пусть запомнят, как мы караем предательство. Многие громко поддержали Горласа, поэтому Аврелий согласился. Горлас мигом схватил длинное копье и вонзил саксу в живот. Хенгист застонал, но устоял на ногах. Горлас вырвал копье и еще раз ударил Хенгиста. Кровь хлынула на землю, предводитель варваров рухнул на колени и согнулся пополам. Однако он по-прежнему не издал ни единого крика. Горлас быстро шагнул к поверженному, выхватил меч, размахнулся и снес Хенгисту голову. Тело повалилось в пыль. Горлас торжествующе поднял за волосы страшный трофей. Потом в исступлении мести он бросился на мертвеца и принялся рубить его мечом, а когда рубить стало нечего, разметал куски по пыльной земле. И все это время воины… наши воины, прости нас, Отче, криками выражали свое одобрение.
Глава шестая
Когда крики улеглись, над полем битвы повисла страшная тишина. Внезапно ее прорезал душераздирающий вопль. Из скопища пленных вырвался юноша, почти мальчик, высокий и стройный. Его длинные белокурые косы разметались, грязное лицо исказило горе, но в гордых чертах ясно читалось сходство с убитым. Не было сомнений в том, чья кровь текла в нем. Юноша бросился к отрубленной голове и прижал ее к сердцу. Горлас, запыхавшийся от усилий, повернулся к юноше и занес меч. — Стой, Горлас! — Утер спрыгнул с седла и быстро шагнул к ним. — Все кончено. Убери меч. — Не уберу, пока живо волчье отродье, — прохрипел Горлас. — Дай убить его, тогда сможешь сказать, что все позади. — Мы что, уже убиваем детей? Глянь, он же мальчишка! Юноша даже не взглянул на занесенный меч; он выл, раскачиваясь взад и вперед, и крепко прижимал к груди окровавленную голову. — Ллеу меня ослепи, он же сын Хенгиста! Если не убить его сейчас, он вырастет и приведет сюда новую волчью стаю! — Довольно крови на этот день, — отвечал Утер. — Спрячь меч, Горлас. Говорю тебе, в этом нет ничего постыдного. Грязно ругаясь, Горлас вложил меч в ножны и, удовольствовавшись тем, что пнул мальчишку ногой, зашагал к своей дружине. Утер поднял юношу на ноги. Тот стоял понуро, на грязном лице блестели дорожки от слез. — Как твое имя, мальчик? — спросил Утер. Юноша понял вопрос и отвечал: — Окта. — Дарую тебе жизнь, Окта. Если ты или твои люди вернутся на эту землю, я заберу свой дар. Понял? Мальчик молчал. Утер, не снимая перчатки, взял его за голую руку, развернул и легонько подтолкнул в сторону остальных пленных. Аврелий, который до сих пор держался в стороне, подошел ближе, положил руки на плечи брату, поцеловал его и крепко обнял: — Здрав будь, Утер! Верховный воевода Британии! Ты одержал победу! Тебе триумф и добыча! Добычи было немного, и по большей части местного происхождения. Почти все, что мы сняли с пленных или нашли в их лагере, было похищено у наших людей. Однако попадались и браслеты красного золота, и кинжалы с самоцветными камнями — все это Утер раздал военачальникам, ничего не оставив себе. Когда раненым оказали помощь, а мертвых похоронили (тела врагов свалили на кучи бревен и подожгли), пленных саксов погнали на берег — через поля, которые они опустошили, и селения, которые они разграбили и сожгли. И всюду уцелевшие жители выкрикивали проклятия, забрасывали побежденных камнями и грязью. Многие требовали крови в уплату за пролитую кровь: жены за погибших мужей, мужья — за мертвых жен и детей. Однако Утер был неколебим. Он не позволил чинить расправу над пленными, как ни возмущалась его душа. В этом он явил поистине ангельскую милость. — По правде говоря, Мерлин, — говорил он мне, когда все осталось позади, — видел бы я раньше, что они сотворили, ни один бы сакс не ушел живым. Я бы отдал их на растерзание мстителям, и, ручаюсь, до завтрашнего утра не дожил бы ни один. — Он помолчал, залпом допил кубок и грохнул его на стол. — Все кончено, и на том спасибо. — Явить милость к противнику — труднейшее испытание в бою, — посочувствовал Аврелий. — Однако ты показал себя достойно, Утер. За сегодняшнее тебе подобает честь. Пью за тебя, брат. Здрав будь, Утер, милосердный победитель! Был уже поздний вечер второго дня после битвы, и Утер едва не валился с ног. Его шатало от усталости и выпитого вина, он улыбался криво и неуверенно. — Иди спать, Утер, — сказал я, подавая ему плащ. — Идем, я провожу тебя в твой шатер. Он позволил себя увести и сразу рухнул лицом в лежанку. Его слуга — паренек из западных краев по имени Ульфин — ждал наготове, но я сам снял с Утера башмаки и пояс, потом накрыл его плащом. — Задуй свет, — сказал я. — Сегодня он твоему господину не понадобится. Оставив спящего в темноте, я вернулся к Аврелию. Он зевал. Слуга расстегивал его кожаный нагрудный доспех. — Что ж, — сказал Аврелий. — Сдается, я теперь и впрямь Верховный король. — Да, государь. Теперь тебе от этого не уклониться. Слуга снял доспех, и Аврелий потянулся. — Последний кубок, Мерлин? — спросил он, указывая на кувшин. — Поздно, я устал. Выпьем вместе в другой раз. Но тебе я налью, если желаешь. — Нет… — Он мотнул головой, тряхнув черными кудрями. — В другой, так в другой. — Он задумчиво взглянул на меня. — Скажи, Мерлин, правильно ли я их отпустил? Лучше ли так будет? — Отпустил ты их правильно, государь. Лучше ли так будет? Нет, Аврелий, боюсь, что нет. — Значит, Горлас был прав: они вернутся. — Да, конечно, можешь не сомневаться, — ответил я и добавил: — Но они вернулись бы так и так, ты ничего тут не можешь поделать. — Но если бы я приказал их обезглавить… — Не давай таким, как Горлас, ввести себя в заблуждение, Аврелий, и не обманывай себя сам. Вчера варвары потерпели поражение, но не разбиты наголову. Убив пленных, ты бы ничего не изменил, только покрыл бы свою душу вечным позором. Он запустил руку в волосы. — Мне что же, до конца жизни не выпускать из руки меч? — Да, — тихо ответил я. — Всю свою жизнь ты будешь править с мечом в руке, о мой король, ибо еще не родился тот, при ком эта земля обретет мир. Аврелий задумался и, верный своему духу, мужественно принял мои слова. — Что ж, — медленно произнес он, — увижу ли я его? Я сказал ему правду. — Нет, Аврелий, не увидишь. — Это было жестоко, и я попытался смягчить удар. — Однако он будет чтить тебя и прославит твое имя. Аврелий улыбнулся и снова зевнул. — Что ж, и на том спасибо, как говорит Утер. Я шел к своей палатке через спящий лагерь. Насколько меньше было нас в эту ночь! Воины, спящие у потухших костров, казались мертвыми — так глубок был их сон. Да, все королевство крепко спало в ту ночь благодаря этим смелым воинам да их товарищам, тем, что теперь спали под могильным холмом. У себя в палатке я стал на колени и начал молиться так: — Господь Иисус, Податель жизни, Искупитель и Друг, Царь небесный, Начало и Конец, выслушай мои стенания. Трижды три сотни, исполненные надежд и жизненной силы, — трижды три сотни нас было и нет больше, ибо смерть истребовала царскую долю кровью героев. Трижды три сотни воинов было вчера — ровно горел в них свет, не мигая, дыханье их было теплым, а очи быстрыми: трижды трех сотен более нет, ибо сегодня соратники наши лежат в земляных чертогах, хладны они, и друзья их не могут им больше сопутствовать. Трижды три сотни воинов, смелых в бою, в сражении быстрых, товарищей стойких в пламени битвы, — трижды три сотни нас было и нет больше, ибо каркает ворон над полем, что горе засеяло и жены полили слезами. Иисус Милосердный, Преславный, Чье имя — Свет и Жизнь, будь светом и жизнью павшим Твоим рабам. Ты, прощающий с радостью, прости им, не помяни их грехов, но вспомяни: когда их призвали на защиту родной страны, они забыли себя, преисполнились отваги и устремились в бой, зная, что ждет их гибель. Внемли молитве моей, Господи Иисусе, собери друзей наших в чертоге Своем, всели их в райский покой, и не будет у Тебя товарищей лучше.На следующий день Верховный король снял лагерь и поскакал в Лондон, где венчался на царство его отец и где ему самому вскорости предстояло короноваться. Мы с Пеллеасом отправились на запад в Дивед искать епископа Давида. Мне хотелось, чтобы восшествие Аврелия на престол благословил сам Давид, если он впрямь так крепок, как уверял Пеллеас, и способен выдержать странствие. В Лондоне был свой епископ, некий Урбан, о котором отзывались как о ревностном, хотя и несколько честолюбивом молодом священнослужителе. Я ничего против него не имел, но рассудил, что присутствие Давида укрепит связь Аврелия с западными правителями. Кроме того, я не успел повидать доброго священника после возвращения из Калиддона, и это тяготило. Теперь, когда появилось время для себя,меня снова неудержимо потянуло к нему. Мы с Пеллеасом ехали через луга и холмы, и казалось, что вчера рассеялась долго лежавшая на них черная тень, словно коршун покружил и улетел прочь. Повсюду пахарь дышал свободнее, купец без боязни пускался в путь, нас радушно встречали в селениях, ворота и двери стояли распахнутыми, а ведь весть о разгроме саксов еще не успела распространиться. Откуда же люди знали? Полагаю, те, кто живет близко к земле, чувствуют такое нутром; они ощущают перемены в людской удаче, как улавливают малейшие изменения погоды. Они видят алые облака на закате и знают, что утром пойдет дождь; потянув носом воздух, объявляют, что ночью подморозит. Они воспринимают слабые колебания эфира, которые, словно круги по воде, разбегаются от судьбоносных событий. Вот почему они без слов знали, что страшиться больше не надо. Да, они знали и тем не менее с радостью внимали вестям о битве. Я знал: мой рассказ они будут повторять изо дня в день, покуда каждый — от годовалого младенца до согбенного старца — не затвердит его назубок и не сможет повторить слово в слово, как он вышел из моих уст. Мы не мешкали в пути, но со всей возможной поспешностью скакали в Лландафф, как теперь называлось то место, где Давид выстроил свою церковь: крепкое бревенчатое здание на каменном основании, окруженное хижинами монахов. Такие обители росли по всему западу как грибы, в том числе благодаря неусыпным заботам Давида. Уже на подъезде к монастырю можно было видеть добрых братьев за их многочисленными трудами. На самых юных были домотканые рубахи из некрашеной шерсти, на старших — бурые рясы. Женщины (в монастырь нередко уходили семьями) носили либо такое же, либо обычное платье. Все были при деле: собирали хворост, строили, сооружали крыши, обрабатывали поля, кормили свиней, учили детей из ближайших селений — любая работа исполнялась с одинаковым бодрым рвением. Казалось, весь монастырь гудит, как пчелиный рой. Мы остановились полюбоваться довольством и благополучием, потом спешились и вошли во двор. Меня приветствовали учтиво, словно короля, поскольку на моей шее висела гривна. — Чем могу служить, господин? — с искренней благожелательностью поинтересовался один из иноков. — Я друг здешнего епископа и хотел бы с ним повидаться. Монах любезно улыбнулся. — Конечно. Поскольку вы его друг, вы понимаете, как это сложно. Наш епископ очень стар, в это время дня он обыкновенно отдыхает… — Он развел руками, словно показывая, что не властен нам помочь. — К тому же он должен составить проповедь. — Спасибо, — отвечал я. — Не смею его тревожить, хотя и знаю, что он захочет меня увидеть. Вышли еще два служителя Божьих и остановились, поглядывая на нас и перешептываясь. — Тогда извольте подождать, — промолвил монах, — а я передам вашу просьбу. Я поблагодарил и поинтересовался, нельзя ли тем временем поговорить с кем-нибудь из старших. — Можно с братом Гвителином. — Я вообще-то имел в виду Салаха. — Салаха? Но… — он удивленно вгляделся в мое лицо, — наш дорогой брат Салах давным-давно почил. Сердце пронзила боль, как всегда при таких вестях. Ну конечно, я и позабыл, сколько ему лет. — Хорошо, пусть будет Гвителин. Скажите ему, что приехал Мерлин ап Талиесин. При звуке моего имени двое монахов переглянулись и с криком «Мирддин! Мирддин здесь!» побежали рассказывать остальным. — Лорд Мирддин, — с легким поклоном произнес инок, — дозволь проводить тебя к брату Гвителину. Гвителин был вылитый дядя, Мелвис; такое бывает в родах, где сильна наследственность, а значит, и фамильное сходство. Когда он поднял глаза от манускрипта, я на мгновение замешкался. — Что-нибудь стряслось? — спросил он. — Нет, ничего. Просто вы напомнили мне одного человека. — Моего прадеда? Вы знали Пендарана Гледдиврудда? — Он оценивающе взглянул мне в лицо. — Позвольте узнать ваше имя. Инок, проводивший меня в келью, от волнения позабыл меня представить. — Да, Алый Меч был моим добрым знакомцем. Я Мирддин ап Талиесин, — просто отвечал я. У Гвителина округлились глаза. — Прости меня, Мирддин, — сказал он, беря мои руки в свои. Это было пожатие человека, рожденного носить меч. Если я ожидал, что его ладонь окажется мягкой и изнеженной, то ошибся: каждодневный труд придал ей крепость и силу. — Прости, я должен был тебя узнать. — С какой стати? Мы видимся впервые. — Да, но я о тебе слышал со дня рождения. Сознаюсь, до сей минуты я думал, что знаю тебя, как себя. — А я сознаюсь, что при виде тебя мне почудилось, что я снова увидел Мелвиса. Он улыбнулся, польщенный моими словами. — Если б я мог иметь половину его достоинств, я бы умер спокойно. — Улыбка его стала шире. — Однако, Мирддин ап Талиесин ап Эльфин ап Гвиддно Гаранхир, как видишь, мы все знаем твою славную родословную, я всегда надеялся однажды тебя увидеть, и вот ты здесь. И впрямь, на тебя стоит подивиться. Но скажи, что привело тебя в Лландафф? Останешься ли погостить? Место тебе найдется. — Спасибо за радушие, Гвителин, ты достоин своего щедрого дяди. Немного погощу — день или два, потом надо будет в Лондон. И я рассказал ему про нового Верховного короля и предстоящую коронацию. Он перебил меня: — Мой брат, Теодриг, он… — Здоров и возвратится, как только Верховный король вступит на престол. Вот зачем я здесь: буду просить, чтобы Давид помазал Аврелия на царство. Гвителин подумал и отвечал медленно: — Верно, что Давид много лет не покидал Лландаффа, но… Ладно, спросим его самого и послушаем, что он скажет. — Не хотелось бы тревожить его сон. Я охотно подожду, пока он проснется. — Отлично, после сна он обычно вкушает трапезу, тогда к нему и пойдем. Знаю, он непременно захочет тебя увидеть. А до тех пор, может быть, и ты не откажешься угоститься? Долго ждать не пришлось: не успели мы с Пеллеасом закончить трапезу, как вошел молодой инок со словами: — Брат Гвителин, епископ Давид проснулся. Он обращался к Гвителину, но глаза его были устремлены на меня. — Спасибо, Натин. Мы сейчас же идем.
Келья Давида была чисто выметена и лишена всякого убранства: здесь помещались только его постель и кресло. Кресло я узнал: когда-то оно украшало пиршественный покой Пендарана. «Подарок Мелвиса», — заключил я. Крохотное окошко закрывала промасленная кожа, через которую сочился медовый, густой и желтый свет. Постель представляла собой деревянную лежанку с охапкой соломы, застеленной овчиной. На постели сидел человек, словно вырезанный из тончайшего алебастра. Седой пух на голове в луче света из окна казался нимбом, ореолом яркого пламени. Лицо, исполненное глубочайшего спокойствия, еще хранило красоту снов. Темные глаза излучали мир. Это был Давид. Очень изменившийся, очень постаревший. Однако я узнал его с первого взгляда. Разумеется, он высох, но сохранил стать и хорошие зубы. Несмотря на преклонный возраст — я внезапно осознал, что он давно перешагнул за девяносто, — он выглядел крепким и сильным. Жизненный огонь по-прежнему наполнял его рвением и бодростью. Короче, это был человек, почти до конца преображенный святостью. Старец привстал на звук наших шагов, увидел меня и замер. Он открыл рот, чтобы заговорить, но так и не смог выговорить ни слова. Чувства сменялись на его лице, словно свет и тень на склоне холма. Из глаз лились слезы — впрочем, из моих тоже. Я подошел, поднял его и прижал к груди. — Мирддин, Мирддин, — выговорил он наконец так благоговейно, словно читал Писание. — Мирддин, душа моя, ты жив. Увидеть тебя после стольких лет — живого и здорового! Да ты ни капли не изменился! Такой же, каким я тебя помню! Вы поглядите-ка на него! — Он хлопал меня по плечам и спине, словно хотел убедиться, что перед ним — создание из плоти и крови. — Ой, Мирддин, нарадоваться на тебя не могу. Садись. Посидишь у меня? Есть хочешь? Гвителин! Это Мирддин, о котором я столько рассказывал. Он здесь! Вернулся! Гвителин улыбнулся. — Да. Оставляю вас до обеда, поговорите с глазу на глаз. Он вышел и тихо прикрыл дверь. — Давид, я хотел навестить тебя раньше… Я столько о тебе думал, мечтал приехать… — Ш-ш-ш, пустяки, приехал же. Молитва моя услышана. Знаешь, Мирддин, я все время молился, чтобы свидеться с тобою, покуда жив. И вот, Бог милостив, ты здесь. — Ты в добром здравии, Давид. Я и не чаял… — Увидеть меня живым? А я живехонек — к огорчению младших монахов. Они меня боятся, как огня. — Он весело подмигнул. — Они считают, Господь держит меня на земле, чтобы их мучить. Наверное, так и есть. — Латынь — мучение? Да не может быть! Он невинно кивнул. — Язык ученых, родной язык — мучение. Но ты же знаешь, что такое школяры. Они непрестанно сетуют. Говорят: «Лучше разбить сердце любовью, чем голову — латынью». А я на это: «Наполните головы латынью, и пусть Господь наполнит любовью ваши сердца — тогда и то и другое останется в целости». — Раньше было иначе? — Да нет, наверное, — вздохнул он. — По крайней мере, с тобой я горя не знал. — Покоя тоже, — рассмеялся я. Давид хохотнул. — Верно! Как вспомню, сколько часов я с тобой просиживал! — Он замолчал, вспоминая и кивая своим мыслям. В следующий миг он тряхнул головой, словно сбрасывая дремоту. — Да, мы оба были тогда юны, а, Мирддин? — Он по-отечески коснулся руками моих щек. — А ведь ты, чудо мое златоокое, по-прежнему молод. Глянь на себя: лицо, стать — все как у юноши. Ни седого волоска. Ты цвет своего народа, Мирддин. Благодари Бога за долгую жизнь. На тебе Его благодать. — Что толку в благодати, которую нельзя разделить с близкими, — всерьез отвечал я. — Я бы с радостью поделился с тобой молодостью. Ты заслуживаешь ее куда больше меня. — Разве и я не наделен сверх меры? Я вполне доволен своими годами, Мирддин. Мне хорошо. Не жалей меня и не принижай свой дар. Господь Бог создал тебя таким ради какой-то цели. Будь благодарен, что слеплен из столь прочного материала. — Попытаюсь. — Давай. — Он повернулся и указал на кресло. — А теперь садись, и расскажи все, что было с нашей последней встречи. Я рассмеялся. — На это уйдет столько же лет, сколько ушло с тех пор! — Тогда начинай скорее. Я начал и рассказал ему о гибели Ганиеды и о том, что было потом: о пустоте в моей жизни, выброшенных годах, горе и стенаниях. Квадрат медвяного света медленно полз к противоположной стене, а я все говорил. Я рассказал про Вортигерна — большую часть этого он уже знал — и про Аврелия, нового Верховного короля, и Утера, его брата, предводителя воинов. Он ловил каждое слово, словно ребенок, зачарованный страшной сказкой. Без сомнения, он бы так и слушал с благоговейным вниманием, если бы Гвителин легонько не постучал в дверь. — Трапеза готова, — объявил он, — для вас я велел поставить отдельный стол. — Дослушаю потом, — произнес Давид, медленно вставая. — Меня ждут, чтобы я благословил трапезу. Хотя аппетит у меня нынче не тот, что прежде, сегодня я что-то проголодался. Вот видишь? Один твой вид сумел меня взбодрить. — Рад слышать, — отвечал я, беря его под локоть. Однако он не нуждался в моей помощи. Рука, опиравшаяся на мою, было не дряблой, а твердой и жилистой. Он не волочил ноги, как многие старики, но шагал прямо и энергично. Ел он тоже энергично, с явным удовольствием, и все время повторял, как рад моему приезду. Видно было, что ему приятно общее ко мне внимание. — Не сердись, что они на тебя пялятся, Мирддин. Они не видели никого из Дивного Народа, но слышали про тебя все. Каждый из них знает про великого Эмриса. Да, сынок, и ты достоин того, что о тебе рассказывают. В твоем облике есть величие. Гвителин сам нам служил — очевидно, чтобы быть рядом и слышать, о чем мы беседуем. Пеллеас сидел за тем же столом, но за все время не проронил ни слова. Когда с едой было покончено, Давид встал. Один из братьев подал ему Священное Писание, и он начал читать вслух. Монахи, не поднимаясь из-за стола, слушали, склонив голову.
Глава седьмая
Лондон сильно изменился за последние годы. Некогда обширное поле над рекой Тамезис, россыпь земляных домишек и овечьих загонов, при римлянах он стал столицей провинции по той лишь причине, что река здесь была не очень мелкой — по ней могли подняться корабли с войсками, но и не очень глубокой — через нее несложно было переправиться. Многие годы главную славу Лондона составляли огромные доки, выстроенные римлянами и пережившие саму империю. Хотя войска из Рима не прибывали давным-давно, город оставался центром имперской власти и со временем обзавелся не только крепостным валом, но и резиденцией правителя, стадионом, термами, храмами, рынками, складами, различными общественными зданиями, ареной и театром. Впоследствии все это обнесли каменной стеной, но к этому времени город уже превратился в шумное скопление тесно лепящихся домишек, постоялых дворов и лавок. Очередной правитель выстроил себе дворец, появились форум и базилика. Будущее города было обеспечено. С этих пор всякий бритт, желавший прославиться в Риме, должен был прежде так или иначе покорить Лондон. Короче, Лондон стал для британцев их Римом. Впрочем, для большинства кельтов он и был ближайшим прикосновением к Риму. Вот почему этот город, несмотря на грязь, шум и сутолоку, купался в золотых закатных лучах Римской империи, и блеск его не умалялся с годами. Для Лондона Константин стал императором Запада, первым Верховным королем бриттов. Значит, и Аврелий должен принять отцовскую корону именно в Лондоне, чтобы в глазах людей отождествить себя с отцом, а через него — с Римом. Это было не только разумно, но и необходимо: многие влиятельные мужи по-прежнему считали, что без принадлежности к империи не может быть в Британии законной власти. Им и в голову не приходило, что жизнь давно переросла это ветхое убранство. То были люди старой закваски: утонченные, культурные, образованные. Их не тревожило, что сам Рим превратился в захолустный городишко, Колизей — в склеп, Сенат — в жилище лис и шакалов, императорский дворец — в блудилище. Как я сказал, люди, придерживавшиеся этих взглядов, обладали влиянием, и любому Верховному королю требовалось либо получить признание цивилизованных лондонцев, либо прослыть узурпатором и не ждать от них никакой помощи. Аврелий это понимал; Вортигерн так и не понял. А жаль! Сумей он привлечь на свою сторону Лондон, не пришлось бы заключать союз с Хенгистом и его полчищами. Однако Вортигерн был гордецом. Он вообразил, будто сумеет править и без одобрения Лондона. Да, Лондон считал себя выше мелких британских склок. Вернее, только лондонские заботы были для него истинными заботами Британии. Как ни ущербен такой взгляд, пренебрежение им сгубило Вортигерна и ввергло Британию в пучину бед. Дурачье, сидящее по уши в своей глупости, рассуждающее об империи и Pax Romana, в то время как жалкие остатки империи рушатся вокруг, а само слово «мир» окончательно утрачивает смысл. Пустозвоны, играющие в государственных мужей, тогда как человечество стремительно несется к погибели. Однако так или иначе Аврелий не собирался повторять ошибку Вортигерна. Он выполнит все, чего от него хотят; он обворожит заносчивых обитателей тщеславного Лондона. За это они заплатят ему расположением, и можно будет браться за восстановление королевства. Чувства были на стороне Вортигерна, но разум заставлял согласиться с Аврелием. Итак, Давид, Гвителин, Пеллеас и я вместе с несколькими монахами прибыли в Лондон. Ехали быстро и без приключений. В селениях, которые мы проезжали, необходимость собирать урожай быстро вытесняла из людских умов память недавно пережитого ужаса. Осень стояла чудесная — теплые деньки и холодные ночи. По утрам, когда мы пробуждались, на траве лежала густая роса; вечерами мы сидели у потрескивающего костра, и запах горящей листвы щекотал нам ноздри. Давид прекрасно переносил дорогу. Хотя, по словам Гвителина, епископ уже много лет не садился в седло, он ни разу не пожаловался на лишения. Он ехал наравне с нами и не просил отдыха. Конечно, я старался не слишком его утруждать, тем не менее он, похоже, вовсе не тяготился дорогой и часто говорил, как рад снова увидеть эти места. Мы пели, разговаривали, спорили — и расстояние от Лландаффа до Лондона таяло на глазах. День клонился к полудню, и яркий свет разогнал клочья утреннего тумана, когда нашим взорам предстал Лондон, или Каер Лундейн, как некоторые называли его теперь, раскинувшийся в котловине на берегу змеящейся реки. Над городом клубился и растекался дым, и даже издалека мы почувствовали вонь. Слишком много людей, слишком много противоборствующих интересов. Я внутренне содрогнулся. — Здесь есть церковь, — напомнил Давид, — и много добрых христиан. Помни: где Тьма гуще, там сильней потребность в свете. Ладно, Лондон, епископ и церковь — это хорошо. Тем не менее мы все поглубже вдохнули, подъезжая к стене. У тяжелых железных ворот нас окрикнула стража — мне подумалось, что безо всякой надобности. Будто они не видели, что мы — не грабители-саксы! Однако такова была заносчивость этого города, что все, не имеющие счастья пребывать в его стенах, вызывали у жителей подозрение. Впрочем, в конце концов нас пропустили. Улицы кишели людьми и домашним скотом, который разгуливал, где ему вздумается. Шум сводил с ума. Торговцы в полный голос нахваливали товар, коровы мычали, собаки лаяли, нищие пели Лазаря, накрашенные женщины предлагали себя для нашего удовольствия. Повсюду на покрытых навозом и мусором мостовых люди толкались, спорили и ругались на тысячи голосов. — Если б я здесь жил, — громко изрек Пеллеас, — то оглох бы еще до зимы. — Если бы дожил до той поры! — мрачно заметил Гвителин, словно читая мои мысли. Однако было в этой мерзости и нечто манящее. Лондон составлял как бы замкнутое государство, я поневоле ощущал роковой соблазн. Слабые люди без борьбы поддавались на его чары, сильных покоряло величие и обещание будущей власти. Даже осторожный мог споткнуться и погибнуть — не из-за недостатка бдительности, но из-за недостатка силы. У врага столько орудий и пороков, что лишь самым стойким удается избегнуть его сетей. И нигде никаких признаков Света, о котором сказал Давид. Я, грешным делом, подумал, уж не ошибся ли он. Конечно, Свет можно встретить в самом неожиданном месте, но здесь… Одного Давида, казалось, не трогали вонь и грохот. Он просветленным взором смотрел на всех и каждого — святой среди помраченной толпы, которая не понимает и не признает своих настоящих владык. Может быть, это я не понимал и не признавал. Согласен, я никогда не любил городов: моя жизнь прошла близко к солнцу и ветру, воде и камню, листу и ветке, земле и небу, холму и морю. Мне трудно было даже уловить те слабые проявления добра, которые, похоже, видел Давид, а может быть, просто-напросто не хватало его всепрощения. Мы ехали прямо к дворцу правителя — внушительному зданию, вознесшему над крышами домов свои великолепные, хотя и несколько облупившиеся колонны. Здесь мы надеялись найти Аврелия. Если бы сложить на чашу весов всю ту сумятицу, которую мы наблюдали в городе, ее бы перевесило столпотворение во внутреннем дворе огромного здания: на красных плитах бушевала разгневанная толпа. Мужчины, одетые по старинке на римский манер, требовали, чтобы правитель вышел и говорил с ним о чем-то — о чем именно, мы разобрать не могли. Толпа обращалась к балкону, выходившему во двор, но балкон оставался пустым, а дверь на него — закрытой. Аврелия нигде не было видно, как и его войска. — Что будем делать, господин? — спросил Пеллеас. — Думаю, скоро начнутся беспорядки. Господин?.. Я слышал Пеллеаса, но не мог ответить. Мои члены словно сковало внезапным и необъяснимым холодом. Крики беснующейся толпы заполонили ум и не давали ему вырваться. Я не мог ни двинуться, ни произнести хоть одно слово, ибо меня охватило мощное пророческое вдохновение. Рев толпы наполнял замкнутое пространство двора, и вот множество голосов слились в единственный голос: всеобщий голос, раз за разом выкликавший только одно имя: Артур!.. Артур!.. АРТУР! Я поднял глаза к небу и увидел, что над городом распростерлось огромное багряное облако, и мне показалось, что это плещет на ветру дырявая императорская мантия. Когда я вновь опустил глаза, толпа исчезла. Сухие листья носились по заросшему сорняками двору. Крыша рухнула, на земле валялась битая черепица. Ветер шептал среди запустения… Артур… Артур… Появилась женщина в длинном белом одеянии, в каком хоронят высокородных дам. Ее кожа была смертельно бледной, глаза запали и покраснели, словно от недуга или слез. Однако она шла прямиком ко мне по растресканным плитам, ветер хлестал ее саваном по ногам, с размаху швырял в лицо черные пряди. Она воздела ко мне руки, и я увидел в них великолепный меч, переломленный пополам могучим ударом. Из загубленного клинка сочилась кровь. Черноволосая дама подошла и протянула мне сломанное лезвие. — Спаси нас, Мерлин, — прошептала она хриплым от слез голосом. — Исцели нас. Я хотел было взять меч, но она выпустила его из рук и со звоном уронила на мостовую. Я увидел на эфесе имперский аметист — камень с орлом — и узнал меч Максима Магна. Вдохновение схлынуло. Кто-то трогал меня за руку, и я понял, что вновь могу шевелиться. Я обернулся. Пеллеас смотрел широко раскрытыми глазами, его лоб тревожно морщился. — Господин Мирддин! Я провел рукой перед глазами. — В чем дело, Пеллеас? — Вы здоровы? Я сказал, сейчас начнутся беспорядки. — Мы не в силах этому помешать, — сказал я, быстро оглядываясь по сторонам. — Думаю, Аврелия надо искать не здесь. — Если не во дворце, — сказал Давид, — то в церкви. — Давайте в любом случае поедем туда, — предложил Гвителин. Монахи горячо его поддержали. Хотя все они посвятили себя Христу, многие прежде успели побывать воинами и могли постоять за себя, если дело дойдет до драки. Однако, разумеется, они стремились избежать столкновения и потому предпочли бы скорей променять дворец на покой церкви. — Хорошо, — согласился я. — Если даже он не там, мы хоть что-нибудь о нем разузнаем.Церковь оказалась не так далеко от дворца, но лишь пятый прохожий сумел указать нам дорогу. Остальных наш вопрос ставил в тупик. Само здание было невысоким, но просторным. Его окружал большой сад, где росли яблони, сливы и несколько груш. Беленые стены так и сияли на солнце, радуя глаз, и до странности не вязались с окрестными домами, которые словно стремились стиснуть прелестный зеленый уголок. Казалось, церковь принадлежит какому-то другому миру. Не вязались с нею конский запах и воины под плодовыми деревьями. При виде меня они повскакали на ноги, и кто-то выкрикнул, словно предупреждая: — Лорд Мирддин здесь! Лорд Эмрис! Очевидно, нас ждали. Несколько воинов выбежали навстречу; мы оставили лошадей на их попечение и с радостью спешились. Давид и Гвителин сразу направились в церковь, мы с Пеллеасом — за ними, монахи остались переговорить с воинами, среди которых оказались их родичи. Изнутри церковь оказалась просторнее, чем можно было подумать, глядя на нее снаружи. Основание ее уходило вглубь, и нам пришлось спуститься по нескольким ступенькам, прежде чем ступить на богатый мозаичный пол. Повсюду горели свечи. Полутемная прохлада казалась желанным убежищем после уличной жары, но было в ней что-то от склепа. Урбан, похоже, ждал нас и сам поспешил навстречу. Он поклонился Давиду, и два епископа приветствовали друг друга лобзаниями любви. Они обменялись несколькими словами о путешествии, покуда мы с Пеллеасом озирались по сторонам. Однако с положенными любезностями вскоре было покончено, и Урбан, повернувшись ко мне, сжал мои руки в своих. Ростом он был выше среднего, с высоким с залысинами лбом и желтоватой кожей, какая бывает у людей, проводящих свои дни в полутьме. Длинные пальцы были покрыты чернильными пятнами. — Почтенный Мерлинус, — обратился он ко мне на латинский манер. — Весьма рад вашему приезду. — (Я не заметил на его лице особой радости — скорее облегчение.) — Аврелий будет счастлив видеть вас. — Верховный король здесь? — Нет, сейчас нет. Но он рассчитывает скоро вернуться. Если вы соблаговолите подождать его здесь… — Епископ замялся. — Да? — Он просил разместить вас здесь до его возвращения. — Где Аврелий? Что случилось? Урбан взглянул на Давида, словно ожидая, что старший ответит за него. Однако Давид лишь кротко смотрел ему в глаза. — Не знаю, с чего и начать, — вздохнул Урбан. Похоже, он не привык к трудностям, и даже разговор о них приводил его в замешательство. Я не собирался облегчать ему задачу. — Говорите немедленно. — Я не все понимаю, — к своей чести признался он, — и, без сомнения, воины, которые расположились снаружи, расскажут вам больше. Однако похоже, что произошли некоторые затруднения с… э… коронацией. Понимаете, Аврелий отправился к правителю, где, как я понимаю, встретил самый сердечный прием. Он пробыл во дворце сутки и вновь выехал из города, чтобы позаботиться о войске. Когда он вернулся вместе с королями, правитель отказался его видеть. — Он не принял Аврелия? — удивился Давид. — Почему? — подхватил Гвителин. Урбан недоуменно покачал головой. — Не понимаю и не уверен, что сам Аврелий знает причину. Он прибежал сюда белый от ярости. С ним был Утер, они беседовали в моей келье, а их спутники остались снаружи. Когда они вышли, Утер спросил, нельзя ли оставить здесь часть воинов. Разумеется, я не возражал. Аврелий просил, если вы появитесь в его отсутствие, разместить вас здесь и сказать, чтобы вы подождали. Так я и сделал. — Когда это было? — спросил я. — Третьего дня, — отвечал Урбан и добавил: — Не знаю, что случилось, но среди горожан растет недовольство. — Мы видели толпу возле дворца, — сказал Гвителин. Он описал увиденное, и они с Урбаном и Давидом принялись это обсуждать. Пеллеас повернулся ко мне. — Не нравится мне все это. Что произошло? — За то время, что Аврелий отсутствовал в городе, что-то резко изменило мнение правителя о нем. Что именно, не знаю, да и вряд ли это важно. Полагаю, Аврелий отправился собирать своих королей и вернется с войском. — Будет сражение? — Если не вмешаемся мы, — был мой ответ. — Думаю, нехорошо будет, если наш Верховный король начнет свое царствование с избиения лондонских жителей.
Глава восьмая
Среди расположившихся на отдых воинов нам указали того, кто говорил с Утером перед самым отъездом его и Аврелия. — Куда поехал государь Аврелий? — спросил я, останавливаясь над ним. Тот живо вскочил и вынул изо рта травинку. — Лорд Эмрис, — торопливо начал он, — я только… — Неважно, — отмахнулся я. — Где Аврелий? — Покинул город. — Это я сам вижу. — Господин воевода велел дожидаться его возвращения, чтобы в случае чего в городе были его люди. Вот все его слова. Нам велено дожидаться здесь и… Я быстро терял терпение. — Куда он направился? — Не знаю, господин. — Ладно, не знаешь. Но предполагаешь? Думай! Это очень важно. — Ну, — протянул он, — думаю, они поехали назад в лагерь — мы встали в полудне езды от Лондона, потому что король не хотел пугать горожан. — Да, потом он встретился с правителем. Что случилось? — Не знаю. Мы пробыли во дворце день и вернулись в лагерь. — Там все было благополучно? — Не совсем, — признал воин. — Несколько вождей ушли и увели свои дружины. — А в городе? Что случилось после вашего возвращения? Он пожал плечами. — Ничего, насколько я знаю. — Ничего… Но правитель обратился против Аврелия. — Да, лорд Эмрис. Так оно и было. Наконец-то до меня начало доходить, что случилось: Аврелий, гордый спаситель королевства, тем не менее не захотел триумфально вступить в Лондон. Он смирил себя и отправился к правителю выяснить, какой его ждет прием. Успокоенный, он вернулся к своим военачальникам, рассчитывая, вероятно, с одобрения правителя вступить в город во главе войска. Однако события приняли печальный оборот. В лагере выяснилось, что несколько вождей покинули его ряды — по крайней мере, так это должно было ему представиться, независимо от того, был ли в их действиях злой умысел. Тем временем самые богатые и влиятельные лондонцы имели время поразмыслить об Аврелии и прийти к нелестному для него выводу: «Он называет себя Верховным королем, но где его дружина? Где его советники и воеводы? Да он вовсе не король!». Что-то в таком роде. Бедный Аврелий, вполне заслуживший торжественную встречу, вернулся и обнаружил себя персона нон грата. В ярости он поскакал вновь собирать своих вождей и двигаться на город, чтобы, если потребуется, войти в него силой. Нет надобности говорить, что горожане, страшась его гнева, кинулись к правителю, требуя защитить их от самозваного Верховного короля. Да, так или почти так все и было. Воин стоял передо мной, ожидая моих вопросов, и я понял, что ничего больше из него не вытяну — Аврелий ничего ему не сказал. Я выяснил, где лагерь, поблагодарил ратника и оставил нести дозор. Затем я отправился к Гвителину, велел ему ждать вместе с Давидом и предупредил, что ради собственной безопасности монахам лучше оставаться в церкви под охраной воинов. Кто знает, до чего могут дойти лондонцы, если их как следует распалят. Потом мы с Пеллеасом отправились на поиски Аврелия. По пути в Лондон мы не видели его лагерь, потому что приехали по северной дороге. Но сейчас, пользуясь указаниями моего недавнего собеседника, мы были в лагере к той поре, когда удлинились тени. Я сразу понял, что так взбесило Аврелия, и не мог его винить. Из всей огромной рати осталось лишь несколько вождей — в том числе, разумеется, Теодриг, а также Кередигаун, один из сыновей Кунедды, и воины Кустеннина со своим предводителем. Я направился прямиком к Теодригу. Он был сильно раздосадован, о чем прямо мне и сказал. — Я пытался их удержать, — говорил он. — Однако они твердо вознамерились уйти, едва Аврелий уехал в Лондон. «Войну мы ему выиграли, — объявили они, — город пусть берет сам!» Вот что они сказали. — И еще сказали, что довольно с нас Верховных королей! — заметил, подходя, Кередигаун. — И я начинаю с ними соглашаться. Мы что, будем, как безусые юнцы, ждать, покуда взрослые мужи делят добычу? Он видел, как я въезжал в лагерь, и сразу направился ко мне высказать свое недовольство. — Кто среди вас завел подобные речи? — спросил я. — Горлас Корнубийский, — отвечал Кередигаун, — и другие тоже. — Друзья Горласа, — сообщил Теодриг. — Я бы и сам ушел… — Рад, что ты остался, — поспешно перебил я. — Уверен, твоя верность не останется без награды. — Как это? — спросил Теодриг. Прежде, чем ответить, я велел Пеллеасу созвать остальных вождей и военачальников и, когда все собрались, усадил их, и обратился к ним с такой речью: — Государи мои и соратники, я сегодня был в Лондоне и примерно знаю, что там произошло. — Так расскажи нам, — потребовал один из вождей, — потому что, если не скажешь, я уйду немедленно. Дома поля убирать надо, а здесь я уже довольно наждался. Еще несколько человек одобрительно заворчали. Я поспел вовремя — едва ли не все они готовы были уйти. Я набрал в грудь воздуху и начал: — Не знаю, повлияют ли мои слова на ваше решение, но скажу вам правду: сдается, что наш юный король, желая избежать одной оплошности, сделал куда большую. — Вот уж верно, — согласился кто-то. — Забыл, кто его друзья. — Возможно, — допустил я, — но в его намерения это не входило. Он не пошел с вами на Лондон потому, что… — Потому что стыдился! — воскликнул один из северных предводителей. — Воевать мы ему были хороши, а в большой город идти — нет! — Он сплюнул на землю и добавил для пущей выразительности: — Митра меня разрази, если я еще хоть раз обнажу меч за Аврелия! Тут я наконец понял, как они все настроены. — Пусть скажет лорд Эмрис! — крикнул Теодриг. — Я хочу его выслушать. — Аврелий не пошел с вами на Лондон не потому, что стыдился вас, но потому, что не хотел показаться заносчивым в глазах горожан! — Горожан! — Вождь снова сплюнул, показывая, как к ним относится. — Аврелий, — продолжал я, — опасался настроить горожан против себя. Хуже того, это могли воспринять как нападение, и тогда не миновать бы кровопролития. Поэтому он велел вам ждать и отправился в одиночку. Однако Лондон, сочтя его человеком незначительным, обратился против него. — Что ему Лондон? — спросил Кередигаун. — У них нет ни короля, ни дружины. — Да, но у них есть богатство и власть. Верховному королю этой страны необходимо признание Лондона. — Вортигерн без него обошелся! — выкрикнул кто-то. Как быстро люди забывают! — Да, и поглядите, до чего Вортигерн нас довел! — отвечал я. — Эту-то ошибку и не хотел повторять Аврелий. Он хотел покорить Лондон кротостью. Однако жители обратились против него. Следующий раз он въедет в город не иначе как в вашем сопровождении. Собравшиеся молчали, обдумывая мои слова. Наконец Теодриг встал и объявил: — Я всегда мечтал увидеть этот хваленый город и, коли уж подошел так близко, обратно не поверну. Давайте отправимся вместе с Аврелием и проследим, чтобы упрямые лондонские мужланы оказали должное почтение нашему Верховному королю. Именно эти слова надо было услышать остальным. Все повскакали с мест и криками поддержали Теодрига. На какое-то время в лагере вновь воцарился мир. Итак, когда вечером возвратился Аврелий, он увидел не пустое поле, а лагерь и людей. — Горлас, чтоб ему провалиться! — Аврелий, взмокший от долгой скачки, в ярости расхаживал по шатру. — Клянусь, это месть за то, что я отпустил Окту. — Успокойся, — сказал Утер. — Это я отпустил Окту. Просто с Горласом вообще нелегко сладить. Так он старается показать свою значимость. Утер умел в двух словах выразить суть человека. Он совершенно точно разгадал Горласа. — Прислушайся к своему брату, — сказал я, — если не хочешь слушать меня. Не один Горлас превратно истолковал твое нежелание с триумфом вступить в Лондон. — Да не было б никакого триумфа! — прорычал Аврелий. Я повернулся на каблуках и зашагал к выходу. Аврелий крикнул мне в спину: — И ты меня оставляешь, Мирддин? Ну ииди! Бросай меня! Убирайтесь все! — Мирддин, погоди! — Утер вышел следом за мной. — Прости, мы с рассвета в седле, а Горласа так и не догнали, и остальных тоже. Не обижайся на брата. — Да не в обиде дело, — сказал я, поворачиваясь к нему в лунном свете. — Просто я не хочу даром сотрясать воздух. — Пусть отдохнет. К утру он одумается. Я не пошел в свой шатер, но направился в ближайшую ольховую рощу поразмышлять. Луна серебрила тонкие стволы, в ручье журчала вода. Здесь царили мир и покой, в которых я так нуждался. Мне надо было отдохнуть от людских страстей и корыстных замыслов, в которых нет места самоотречению, состраданию, пониманию. После общества Давида и его монахов последние дни казались особенно гнусными: ревность, вражда, мелочная зависть… Мне хотелось бежать от них, как от ядовитой змеи. Великий Свет, избавь меня от злобы глупцов! А если нельзя избавить, дай мне силу превозмочь, а если не превозмочь, то хотя бы выдержать. Я согласен и на это. Сидя в лунном свете, я ощущал, как смятение последних двух дней расходится, словно комья грязи под сильным дождем. Я глубоко вбирал в легкие спокойствие спящего мира и решение вырисовывалось все отчетливее. Аврелий должен стать Верховным королем, признанным правителем Британии. Надо, чтобы короли принесли ему присягу и никто не смел оспаривать его власть. Это важнее всего. Если удастся достичь цели, не разжигая недовольства, тем лучше. К тому времени, как луна скрылась за дальним холмом, план обрел очертания. Я отправился спать, довольный тем, что решение найдено. Мне казалось, что я только-только лег, когда Пеллеас разбудил меня такими словами: — Господин Мирддин, король желает говорить с вами. Я поднялся, зевая, плеснул в лицо воды из тазика, который он мне подал, и пошел к королю. Аврелий сидел за столом и держал в руках каравай хлеба. Его черные кудри были всклокочены. Мне не показалось, что ночной сон утишил бушевавшую в нем бурю. При моем появлении король приподнялся с места, опомнился, снова сел и протянул мне ломоть хлеба. Утер сидел на дальнем конце стола и выглядел плачевно; его тоже вытащили из постели. — Ну, Мудрый Советчик, — сказал Аврелий, — удостой нас своей речью. Буду я Верховным королем или отшельником? Что мне делать? — Ты будешь Верховным королем, — заверил я, — но не сейчас. — Не сейчас? — Он поднял брови. — Сколько же мне ждать? — Пока настанет время. — Говори яснее, Пророк. Сколько именно? Я изложил ему свой план и закончил следующими словами: — Итак, отошли оставшихся королей в их земли. Скажи, пусть собирают подать и ждут твоего зова — который последует, как только ты будешь готов. — И когда ж это будет? — Хитрая улыбка коснулась его губ, ибо он в один миг понял мой замысел. — К Рождеству. — Да! — Он с криком вскочил на ноги. — Отлично придумано, Мирддин! Утер кивнул без особого одобрения. — Очень хорошо, пусть короли заплатят Аврелию дань, но зачем откладывать коронацию до зимы? Трон по праву принадлежит моему брату, чего же тянуть? Аврелий в волнении заходил по шатру. — Разве ты не понимаешь, брат? Лондонцы начнут думать, не зря ль они от нас отвернулись. В ожидании моего ответа страх их будет возрастать. Они станут бояться моего гнева, страшиться худшего. Когда же я наконец появлюсь, они постараются меня задобрить — раскроют ворота, принесут богатые дары. Короче, встретят меня со всем смирением, радуясь в душе, что я не сровнял их город с лицом земли. Прав я, Мирддин? — Так все и есть. — Что до остальных королей — отпустив их сейчас, я спасаю свое достоинство. — Именно. Утер по-прежнему пребывал в тумане. — Не понимаю, как это. — Половина королей меня оставила, — сказал Аврелий, — а вторая жалеет, что не последовала за ними. — Он пережимал, но не очень сильно. — Ладно, пусть идут все. Я пошлю их известить, чтоб пришли ко мне в Лондон на рождественскую службу. Они придут, и народ увидит, что ко мне на поклон явились все короли Британии в великолепном убранстве. О, это будет великолепное зрелище! — Если ты не ответишь на обиду, это сочтут за слабость. — Нет, брат, я покажу свою силу тем, что не отвечу. Воистину силен тот, кто удерживает руку, способную нанести удар. Я знал, что все не настолько просто, но, коль скоро Аврелию представилось так, то в конечном счете так может и получиться. Дай-то Бог! В любом случае он ничего не теряет от промедления, а у вождей появляется время на размышления. Кроме того, с беспокойными властителями, такими, как Горлас или его друзья, Моркант, Коледак и Дунаут, легче вести дело по одиночке; не чувствуя поддержки других смутьянов, они станут покладистее. Утер стоял на своем: — И что мы будем делать, ожидаючи? Куда подадимся? Стоит ли напоминать, братец, что нам с тобой негде приклонить голову? — Ждать придется не так долго, — быстро вмешался я, — и есть много мест, где вас рады будут принять. Можно вернуться в Дивед или… — Нет, — твердо ответил Аврелий, — мне не следует селиться ни у одного из королей. Надо искать что-то еще. — Где же это будет? — полюбопытствовал Утер. — Не в Лондоне же! — Предоставьте это мне, — молвил я. — Есть место, где вас примут сообразно вашему сану и окружат роскошью. Утер поднялся. Его устроил мой план или, по крайней мере, прельстила перспектива ничего больше не решать до завтрака. Он направился в свой шатер, я тоже встал. — Мерлин. — Аврелий подошел и взял меня за плечи. — Я упрям и необуздан, но ты — сама выдержка. Спасибо за терпение, друг. И за мудрый совет. Верховный король по-братски меня обнял и вышел объявить своим вождям, что они могут возвращаться домой на время страды, а он приглашает их всех в Лондон на Рождество, когда и примет корону. — Рождество, это когда? — спросил Кередигаун. — Зимний солнцеворот, — отвечал Аврелий. — А где вы будете до той поры, государь? — спросил Теодриг. — Куда отправитесь? — Я еду с моим мудрым советчиком. — Аврелий с улыбкой заговорщика повернулся ко мне. — Время до восшествия на престол я проведу в молитве, бдении и слушании благочестивых наставлений. Эти слова ошеломили всех не меньше, чем если бы Аврелий объявил о решении отречься от престола и принять постриг. Вожди переглядывались и говорили, что в жизни ни о чем подобном не слыхивали. Аврелий оставил их в растерянности хлопать глазами. — Я призову вас, как приблизится время, чтобы вы были готовы явиться ко мне со всей учтивостью. — С этими словами он вернулся в шатер, а они остались смотреть ему в спину. Более царственного жеста придумать было невозможно.Глава девятая
Разумеется, мне следовало видеть яснее. Надо было догадаться, к чему все идет. Различить очертания, которые принимало грядущее. Взор мой был по-прежнему ясен, я мог бы уберечь Аврелия. И главное, я должен был узнать за происходящим руку Морганы, направляющей мир по угодному ей пути. Все это я мог бы увидеть и понять. Мог бы… Пустые, ненужные слова. Как горек их привкус на языке. Произнося их, ощущаешь во рту желчь и пепел. Да, я виноват во всем. Аврелий был так счастлив, так уверен в будущем. А я был так рад провести эти месяцы у Аваллаха и снова увидеть Хариту, что и не стремился заглянуть дальше. Не чувствуя угрозы, я позволил событиям развиваться своим чередом. В этом была моя ошибка. По правде сказать, я боялся Морганы, за что и поплатился. Из Лондона мы направились в Инис Аваллах, загадочный Стеклянный остров древности, во дворец Аваллаха. По дороге мы останавливались, и везде нас встречали с почестями — весть о разгроме Хенгиста облетела землю, ею был пронизан воздух. С Гвителином и его монахами мы распрощались в Аква Сулис, но Давида я уговорил поехать с нами и заняться наставлением Аврелия. Его не пришлось долго убеждать — он и сам был рад-радехонек повидать Хариту и Аваллаха. Какая же это была встреча! Они бросились друг другу в объятия, и счастливые слезы покатились по их щекам. Думаю, они уже не надеялись свидеться, ведь столько лет прошло! Однако, как это случается с истинными друзьями, их взаимная любовь ничуть не потускнела от времени, и через миг после первых приветствий уже казалось, что разлуки не было вовсе. После нескольких месяцев лишений и почти беспрерывных боев так приятно впустить в израненные души спокойствие Стеклянного острова. Кончилось бабье лето, осень пришла в Летнюю страну, принеся с собою дожди и ветры. Море затопило подножие холма, Инис Аваллах вновь превратился в остров. Дни становились короче и студенее, но сердца наши хранили свет, а дружба и любовь согревали в холод. Днем Давид учил в большом зале. Почти все придворные и слуги Аваллаха собирались послушать, как мудрый епископ развивает учение Сына Божия, Иисуса Христа, Господа и Спасителя людей, и просторный покой наполнялся любовью, светом и знанием. Аврелий, верный своему слову, проводил дни в молитве и слушании у ног Давида. Я смотрел, как он возрастает в вере и милосердии, и душа моя ликовала, что у Британии будет такой Верховный король. Велик царь, любящий Бога Вышнего. Еще до первого снега Аврелий посвятил себя Богу и объявил своим знамением Честной Животворящий Крест Спасителя нашего Иисуса Христа. Пеллеас день ото дня становился все беспокойнее. Однажды я застал его на крепостной стене: он смотрел в сторону Ллионесса. — Скучаешь? — спросил я. — Только сейчас понял, как меня тянет туда, — отвечал он, не отрывая взгляда от южных гор. — Так почему бы тебе не поехать домой? Он повернулся ко мне. На лице его мешались боль и надежда, однако уста оставались сомкнутыми. — Не навсегда. Просто я некоторое время смогу без тебя обойтись — поезжай к своим. Как долго ты их не видел? Поезжай. — Не знаю, будут ли мне рады. — С этими словами он снова устремил взор в серую даль. — И не узнаешь, пока не побываешь у них, — сказал я. — Езжай, время еще есть. Присоединишься к нам в Лондоне на Рождество. — Если ты считаешь, что можно… — Если б я считал иначе, то не стал бы тебе и предлагать. К тому же хорошо бы узнать, как обстоят дела в Ллионессе. — Тогда я поеду, — решительно отвечал он и, повернувшись с видом человека, готового встретить свою судьбу, спустился со стены и пересек двор. Вскоре он уже скакал по дамбе; я провожал его взглядом, покуда дорога не свернула за холм. Сам я много времени проводил с матерью. Мы разговаривали, сражались в шахматы, я играл на арфе и пел. Приятно было просто посидеть вместе у очага, вдыхая запах дуба и вяза, закутавшись в шерстяные плащи, и слушать, как дождь стучит по мощеному двору и тихо потрескивает огонь. Харита рассказывала про свою жизнь храмовой танцовщицы в Атлантиде, про бедствие, сгубившее ее родину, про то, как они поселились в Инис Аваллахе, про тяготы первых горестных лет. Все это она поведала мне давным-давно, но и сейчас я слушал ее, как в первый раз, и гораздо лучше понимал. Слушать и понимать — в этом, наверное, состоит мудрость. Слушая, как мама рассказывает о себе, я многое узнал и увидел в ином свете. Однажды я спросил про меч — меч Аваллаха, который получил от нее в тот день, когда Мелвис провозгласил меня королем. Пеллеас сказал, что нашел его на поле битвы и отвез в Инис Аваллах вместе с вестью о моем исчезновении в первую же зиму, когда морозы заставили его прекратить поиски. — Хочешь получить его назад? — спросила Харита. — Я его сберегла, но ты про него не спросил, и я подумала… Но, конечно, я его тебе принесу. — Нет, не надо, я просто спросил. Когда-то я сказал тебе, что этот меч предназначен не мне. Какое-то время я им владел, но, полагаю, ему суждено принадлежать другому. — Он твой. Вручишь его, кому захочешь.Я многое отдал бы, чтобы погостить у Аваллаха подольше, но пришла пора собираться Время пролетело мгновенно. Аврелий разослал обещанных гонцов с призывом явиться на коронацию. Спустя несколько дней мы тронулись в путь. Морозным утром мы сели на коней и взяли путь к Лондону. Аврелий был весел и с нетерпением ожидал коронации. Он впитал Давидовы наставления и обратился ко Христу. Молодой король решил принять святое крещение сразу по вступлении на престол, дабы подать пример своим подданным. Утер не любил церковь, почему — не знаю: он никогда и никому не поверял своих сомнений. Он уважал таких людей, как Давид, признавал пользу, которую приносит их жизнь и учение, соглашался даже с источником их праведности, но так и не смог принять истину, которую они несут. Однако, как я говорил, Утер любил брата и потому терпимо отнесся к его выбору. На Стеклянном острове Утер хоть и отдыхал, но чувствовал себя пленником. День отъезда стал для него днем освобождения. Он первым вскочил в седло и нетерпеливо встряхивал поводьями, покуда мы обменивались последними словами расставания. — Молись за меня, мама, — прошептал я, обнимая Хариту. — Молитвы мои никогда не иссякнут, как и моя любовь. Езжай с миром, соколик. Итак, закутавшись в меховые плащи (было очень холодно), мы двинулись по извилистой дороге к дамбе и через замерзшие болота к заснеженным холмам. Морозный воздух румянил щеки и возбуждал голод. Мы быстро неслись по промерзшей земле, проводя в дороге всю светлую часть дня и останавливаясь только с наступлением темноты. Ночи мы проводили у очага в доме местного вождя или старейшины, слушая, как завывают во тьме голодные волки. Край, через который мы ехали, лежал молчаливый и спокойный. В Лондон мы приехали на день раньше, чем собирались. На этот раз Аврелий не пошел во дворец к правителю, а прямиком направился в собор. Урбан принял нас радушно и разместил в нижнем этаже небогатого, но просторного дома, прилегающего к церковному зданию. Покуда мы грелись у жаровни и попивали горячее, приправленное травами вино, он рассказал, как украсит собор к предстоящему торжеству. Его радовало, что коронация пройдет под священными сводами, однако он не мог скрыть удивления: «Я так и не понимаю, почему вы решили устроить церемонию здесь». — Я христианин, — объяснил Аврелий. — Куда ж мне еще идти? Правитель Мелат мне не указ, и я не хочу принимать венец из его рук. Иисус мой Господь, и я вступлю на престол пред Его очами. А корону приму из рук Его истинного служителя, епископа Давида. Все было задумано давным-давно, но я не мог сдержать волнения, слыша эти слова от самого Аврелия. Только такой король сумеет создать Царство Лета. У Аврелия есть сила и милость, есть вера. Он сможет править этим земным островом, и Британия расцветет, как луг в летнюю пору. Хотя все вокруг лежало скованное зимой, я видел, как летний покров окутывает землю одеянием новобрачной. И сердце мое ликовало. Великий Свет, пусть прозрение мое окажется ложным! Дай Аврелию дожить и свершить намеченное! На следующий день в Лондон прибыли первые короли: Коледак и Моркант, которым было недалеко ехать. Они явились со своими приближенными и советниками, небольшими дружинами и, к моему удивлению, с женами и детьми. На следующий день подоспели Дунаут и Теодриг, за ними — Кустеннин и Кередигаун. Пришлось поломать голову, чтобы всех разместить: каждый привез на церемонию немалую свиту. Приехали остальные: Морганог Думнонийский с сыновьями Катоном и Маглосом, Элдоф Эборакский, Огриван из Долгеллау с вождями и друидами, Райн, князь Гвинедда, двоюродный брат Кередигауна, Анторий и его брат-король Регул из Кантии Ллогрской, Оуэн Виндду из Регеда. Хоэль Армориканский прибыл морем, не испугавшись зимы, и привез двух сыновей, Бана и Борса. Прибыли и другие — не только вожди и воеводы, но и служители церкви: Самсон, чтимый клирик из Годдодина на севере; достославный епископ Тейло и с ним аббаты Ффили и Азаф, почтенные священнослужители из Ллогрии; Кентигерн, любимец Мона; епископ Тримориун и Дубриций, высокоученые и уважаемые иереи из Города Легиона, и, разумеется, Гвителин со всей монастырской братией из Лландаффа. Короли, лорды и священники съехались со всех концов Острова Могущественного, чтобы поддержать Аврелия. И каждый привез дары: золотую и серебряную утварь, мечи, коней и охотничьих собак, дорогие ткани, луки и стрелы со стальными наконечниками, шкуры и меха тончайшей выделки, оправленные серебром рога для питья, бочонки с медом и темным пивом… Всего не перечислить. Каждый привез дары сообразно своему богатству и сану. Только тут я понял, что они начали готовиться загодя и с нетерпением ожидали празднества — как я и обещал. Время сотворило чудо, и Аврелий невероятно вырос в их глазах. Они прибыли в Лондон, чтобы венчать своего короля со всей возможной торжественностью. Все, я сказал? Был один, чье отсутствие бросалось в глаза: Горлас. Он один не явился, рискуя навлечь на себя гнев Верховного короля. До Рождества оставался день, а от Горласа по-прежнему не было вестей. Меня и Утера это угнетало сильнее, чем Аврелия, который за дарами и почестями словно и не замечал этого вопиющего небрежения. А вот Утер заметил. Приготовления к Рождеству были в самом разгаре, когда он сам не свой ворвался в верхний покой церковного дома и с криком замолотил кулаками по столу и дверным косякам. — Дай мне двадцать человек, и я привезу на коронацию голову Горласа, клянусь Иисусом и Ллеу! Я отвечал: — Тише, Утер. Ллеу, возможно, одобрил бы твой дар, но сомневаюсь, что Иисус примет его благосклонно. — Ладно, мне что, смотреть, как этот пащенок издевается на Аврелием? Скажи, Мерлин, что мне делать? Учти, я ему это не спущу. — Я скажу, что это забота Аврелия, а не твоя. Если Верховный король решит оставить обиду безнаказанной, пусть так и будет. Без сомнения, твой брат найдет более удобное время разобраться. Утер угомонился, но мнения своего не изменил. Он продолжал ворчать, рычал на каждого, кто к нему подходил, и вообще сделался таким несносным, что я отправил его искать невесть куда запропавшего Пеллеаса. Я знал, что Пеллеас непременно вернулся бы к сроку, и начал о нем тревожиться. Я мог бы поискать какого-нибудь знака в горящих углях, но, скажу по правде, после исцеления и возвращения из Калиддона мне стало невмоготу читать по угольям или провидческой чаше. Возможно, я опасался встретить на тропинках будущего Моргану — такая мысль приходила мне в голову и леденила кровь. А может быть, меня сдерживало что-то другое. Мне не хотелось удовлетворять любопытство с помощью огня или чаши, и я понимал, что прибегну к ним лишь в крайней нужде. Утер был рад найти хоть какое-нибудь дело. Он тут же велел оседлать коня и с небольшим отрядом спутников выехал из города в полдень. Теперь я был волен заняться собственными делами, в том числе — посетить Кустеннина и Теодрига. До самой ночи у меня не выдалось ни одной свободной минутки — гости текли к Аврелию непрерывным потоком, они пили за его здоровье, вручали дары и вместе с наследниками клялись ему в верности. Накануне Рождества Верховного короля чуть не захлестнул поток обещаний и пожеланий. Я разговаривал то с одним гостем, то с другим, стараясь побольше разузнать про земли, где не бывал прежде.
Уже брезжила утренняя заря, когда я наконец отправился спать и внезапно сообразил, что Утер не возвратился. На миг возникло искушение поворошить уголья и узнать, что с ним приключилось, однако я надел плащ и отправился разыскивать лошадь. Монах, на чьем попечении состояла конюшня, храпел на охапке соломы. Не желая его будить, я сам оседлал коня и выехал на холодную безмолвную улицу. Привратник куда-то подевался, но ворота стояли незапертые, поэтому я открыл их сам и выехал наружу. Порывистый ветер гнал вдоль дороги промерзшую листву. Тучи набрякли снегом. В свете зари они отливали расплавленным свинцом. Я повернул на запад, зная, что Утер в поисках Пеллеаса направился в эту сторону. Я ехал, отпустив поводья и радовался, что ненадолго вырвался из городской кутерьмы. Мысли мои обратились к Пеллеасу. Быть может, я зря уговорил его посетить Ллионесс. Никто не знает, что там творится. Король Белин мог не обрадоваться визиту незаконного сына. Вдруг с Пеллеасом стряслось что-то дурное? Я по-прежнему очень в этом сомневался и не тревожился бы, если бы не странная задержка. Разумеется, неприятность могла случиться и по дороге, хотя трудно вообразить, что это за препятствие, с которым бывалый воин не сумел бы разделаться быстрым ударом меча. Или это что-то совсем иное? Пустая дорога быстро бежала из-под копыт, и с каждым мигом ощущение опасности усиливалось. Я ждал, что в следующую минуту Пеллеас покажется на гребне холма. Однако я въезжал на холм, а Пеллеас так и не появлялся. Я ехал до полудня и наконец остановился. Надо было поворачивать, чтобы поспеть в Лондон к сочельнику и коронации Аврелия. Некоторое время я ждал на лесистой седловине, глядя вдаль, потом нехотя поворотил коня. Не успел я отъехать далеко, как раздался крик: — Ме-е-р-ли-и-иин! Кричали издалека, но морозный воздух ясно донес мое имя. Я тут же натянул поводья и резко повернулся в седле. Издалека ко мне во весь опор летел всадник: Пеллеас. Я подождал. Через несколько мгновений он поровнялся со мной. Дыхание со свистом вырывалось из его горла, лошадь была взмылена от долгой скачки. — Прости, господин, — начал он, но я только отмахнулся от извинений. — Ты здоров? — Да, господин. — Утера видел? Пеллеас кивнул, все еще не в силах отдышаться. — Мы встретили его по дороге… — Мы? Кто был с тобой? — Горлас, — просипел Пеллеас. — Я бы приехал раньше, но, раз так вышло, посчитал, что лучше будет… — Уверен, ты поступил правильно. А теперь расскажи, что случилось. — День назад на Горласа и его отряд напали в дороге. Он ехал с небольшой свитой, и нам пришлось туго, однако мы держались. Когда уже казалось, что мы не выстоим, появился Утер. Нападающие бросились бежать; воевода пустился в погоню, но никого не догнал. — Пеллеас замолчал, хватая ртом воздух. — Когда Утер возвратился, он выслал меня вперед, а сам сейчас едет с Горласом. — Сильно они отстали? Пеллеас мотнул головой. — Точно не знаю. Я скакал всю ночь. Я обвел взглядом дорогу в надежде увидеть Утера и Горласа, но даль была пуста. — Ладно, ничего не попишешь. Надо ехать в Лондон и дожидаться там. Пеллеас так устал, что не мог ехать быстро. Мы вернулись с опозданием, однако сразу поспешили к Урбану и помылись, прежде чем идти в церковь. Она была уже полна; любопытствующие горожане и придворные толпились во дворе. Мы протиснулись через толпу к дверям, а оттуда почти к самому алтарю и стали возле колонны. Внутри было светло, как днем; свечи горели золотом, словно небеса после сильной грозы. Синеватые дымки ладана благоуханными облаками плыли к высоким балкам и покачивались над нашими головами, будто молитвы святых. Церковь гудела от волнения. Такого еще не было: король венчается на царство в соборе, принимает корону из рук святого старца! Мы только-только заняли места, как распахнулись двери и в проход вышел монах с кадильницей. За ним шествовал другой с резным распятием. Далее следовал Урбан в темной ризе и с большим золотым крестом на груди. За Урбаном показался Давид в епископском одеянии, лицо его сияло в свете свечей. Все взгляды устремились на него, ибо он поистине преобразился. Величественный в своем смирении, излучающий святость, Давид казался посланцем небес, сошедшим благословить нас своим присутствием. Всякий, глядя на него, понимал, что эта ласковая улыбка есть проявление близости к Живому Источнику любви и света. Просто смотреть на него — значило преклонить колени перед Богом, Которому он служит, кротко и покорно приблизиться к истинному величию. За Давидом выступал Аврелий. Он был одет в белую рубаху и штаны с поясом из широких серебряных дисков и нес на ладонях меч — меч Британии. Его темные кудри были намаслены и зачесаны назад, а на затылке подвязаны шнурком. Он шел легко, лицо его было разом торжественно и весело. Позади шел Гвителин с узким золотым обручем на белом льняном полотенце. Четверо монахов замыкали шествие — они несли пурпурную императорскую мантию, держа ее за четыре угла. Все они подошли к алтарю, стоявшему на ступенчатом мраморном возвышении. Урбан и Давид подошли к алтарю, встали лицом к Аврелию, а тот преклонил колени на ступенях. В тот же миг хор монахов, выстроившихся по периметру церкви, принялся восклицать: GLORIA! GLORIA! GLORIA IN EXCELSIS DEO! GLORIA IN EXCELSIS DEO! — Слава в Вышних Богу! — восклицали они, и постепенно возгласы их перешли в пение. Остальные подхватили, и вскоре пели уже все собравшиеся в соборе; своды дрожали, сердца уносились ввысь, подхваченные звуком, который рвался в ночное небо к первой мерцающей звезде, к самому небесному трону. Когда пение достигло наивысшей точки, Давид раскинул руки и шагнул вперед. Все смолкли. — Достойно есть поклоняться Царю нашему Богу, — сказал он и, повернувшись к алтарю и преклонив колени, начал молиться вслух: «Великий и Сильный, Царю Небесный, слава Тебе!
Глава десятая
Аврелий вышел из церкви, и толпа вслед за ним хлынула во двор. Крики не умолкали. Факелы озарили ночь, откуда-то сверху донеслась песнь. Она постепенно крепла — это мужчины и женщины подхватывали мотив старой воинской песни бриттов, ставшей гимном нового Верховного короля. Аврелий стоял в кольце своих соратников, в лучащейся короне, и поворачивался, раскинув руки, а песня плыла ввысь, расходясь, словно круги по воде.Глава одиннадцатая
Скажите мне, что я мог сделать? Вы, видящие все так ясно, ответьте. Прошу, дайте мне свой безошибочный совет. Вы, кто покрывает себя вечным неведением и выставляет его напоказ, словно бесценную ризу, кто почитает свою слепоту за добродетель, кто зовет благоразумием свой страх, скажите: что вы сделали бы на моем месте? Великий Свет, избавь меня от злобы мелких людишек! Враг бесконечно изобретателен, он не дремлет и неустанно плетет козни. Однако злу свойственно в конечном счете действовать себе на погибель, а великому злу — особенно. А Господь Иисус Христос, Царь Небесный, направляет все сообразно Своей воле, так что все в конечном счете обращается к Одному. Это следует помнить. Однако в блеклом свете того безрадостного утра я пребывал в отчаянии. Вскоре местные князьки услышат о соперничестве между братьями. Всегда найдутся те, кто сумеет успешно применить самое, казалось бы, негодное орудие. Игерна станет в их руках клином, который они вобьют между Утером и Аврелием, чтобы поссорить их, а поссорив, взбунтуются против Аврелия и поддержат Утера, чтобы скинуть и его, как только будет покончено с Аврелием. И королевство вновь рассыплется на множество раздробленных, воюющих между собой племен и княжеств. Остров Могущественного погрузится во мрак. Итак, Аврелий полюбил Игерну и стремился назвать ее своей. Не зная о любви брата, он окружил ее пылкими ухаживаниями. Горлас одобрял его намерения и даже всячески торопил свадьбу. Выдать свою дочь за Верховного короля значило для него возвыситься безмерно. В любом случае Горлас никогда не отдал бы ее Утеру. А Утер, которому упрямство не позволяло пойти к брату, а гордость — к отцу Игерны, терзался в горьком молчании. Видя, что дело Утера безнадежно, я поддержал Аврелия. Утер досадовал, но ничего прямо не говорил. Он любил Игерну, но еще сильнее любил брата. Связанный тремя крепкими канатами — долгом, честью и кровью, — он вынужден был стоять в стороне и смотреть, как брат похищает свет его жизни. Разумеется, мнения Игерны никто не спрашивал. Она могла лишь повиноваться отцовской воле, а желание Горласа было вполне ясным. Как только он увидел возможность этого брака, он принялся всеми средствами прокладывать ему путь. Вскоре Аврелий с Игерной обручились; венчаться решили в праздник Пятидесятницы. Про свадьбу рассказывать не буду; вы можете услышать про нее от бродячих арфистов, которые изрядно приукрасили и расцветили подлинные события. Однако народ хотел запомнить этот союз именно таким. По правде сказать, Аврелий толком и не женился. В первые месяцы после коронации он был беспрерывно занят: укреплял страну, строил и перестраивал в Лондоне, Эбораке и других городах, учреждал церкви, где была в них нужда. В новые церкви он назначил епископов: на место Давида в Лландафе Гвителина, в Город Легионов Дубриция, в Эборак Самсона — людей добрых и благочестивых. Утер провел в терзаниях остаток зимы. Весна не принесла ему радости. Он отощал, стал раздражительным, словно пес, которого держат на цепи и не подпускают к хозяйскому очагу. Он огрызался, стоило к нему обратиться, и слишком много пил в надежде, что вино притупит боль от сердечной раны. Но оно лишь усиливало его мучения. Более несчастного и неприятного человека трудно было сыскать. Зимнее нападение на Горласа не забыли. Весной, как сошел снег, возобновились набеги на среднюю и западные части объединенного королевства. Вскоре стало известно, что их возглавляет Пасцент, единственный уцелевший сын Вортигерна. Снедаемый жаждой мести, он привлек на свою сторону некоего Гиломара, мелкого ирландского правителя, всегда готового поживиться за чужой счет. Вероятно, Горлас по дороге в Лондон случайно наткнулся на Пасцента, который с немногочисленными сподвижниками дожидался прибытия Гиломара. Пасцент, испугавшись, что война закончится, не начавшись, предпочел атаковать Горласа, но потерпел поражение, хотя и остался в живых. Аврелий не очень страшился Пасцента. Единственная опасность состояла в том, что к нему могли потянуться мятежные вожди. Вот почему Верховный король решил скоро и решительно разделаться с Пасцентом и Гиломаром, пока никто другой не успел к ним примкнуть. Так что весной Аврелий готовился к свадьбе и к войне. Свадьба могла бы и подождать, но война — нет. Тогда я и принял решение, которое навлекло на меня всеобщую ненависть и презрение, хотя тогда оно было единственно разумным. Чтобы избавить Утера от мучений на свадьбе брата с любимой женщиной, я предложил Аврелию отправить его против Пасцента и Гиломара. Аврелий, разрывавшийся между бесчисленными делами, охотно согласился, добавив: «Езжай с ним, Мерлин, а то мне за него тревожно. Он стал такой нелюдимый и резкий. Боюсь, ему пошли во вред долгие месяцы разлуки с мечом и седлом». И Утер, радуясь предлогу покинуть Лондон, где жизнь сделалась ему не мила, мигом встрепенулся. Спешно собравшись, мы покинули город за несколько дней до свадьбы Аврелия с Игерной. Утер ее не перенес бы. Впрочем, мое общество не сильно его радовало. Гордость мешала ему сказать это в открытую, но он винил меня, что я не встал на его сторону, забывая, что у Игерны есть отец, который не отдал бы дочь никому, кроме Аврелия. Вам расскажут, что война с Пасцентом была недолгой и кровавой. Утер в своей ярости сметал на пути все. Если б это и впрямь было так! На самом деле Пасцент сводил нас с ума, бесконечно уклоняясь от боя и заставляя гоняться за собой по всему королевству. Этот трус нападал на беззащитное поселение или хутор, забирал все ценное, поджигал дома и убивал тех, кто пытался противиться грабежу. В этом он был ничуть не лучше саксов. Хуже, потому что варвары не истребляют своих родичей. Однако стоило появиться Утеру, как Пасцент исчезал. Да, негодяй был хитер, он умел и пограбить, и уйти от возмездия. Вновь и вновь мы видели на горизонте черные столбы дыма, мчались во весь опор, нахлестывая коней, и заставали сожженные житницы, мокрую от крови землю. Но Пасцента уже и след успевал простыть. Прошла весна, установилось лето, а мы все бегали за ним, находясь ничуть не ближе к победе, чем в день отъезда из Лондона. — Почему ты сидишь сложа руки? — как-то вечером спросил меня воевода. Мы вновь потеряли след Пасцента в холмах Гвинедда, и Утер был в гнетущем расположении духа. — Почему ты отказываешься мне помочь? На столе рядом с его кубком валялся пустой бурдюк из-под вина. — Я ни разу не отказал тебе в помощи. — Тогда где твоя хваленая прозорливость? — Он вскочил и заходил по шатру, рассекая воздух сжатыми кулаками. — Где твои видения и голоса, когда они нужны нам больше всего? — Все не так просто, как ты думаешь. Огонь и вода вещают по своей воле. Подобно вдохновению бардов, прозрение приходит без зова, и я не властен им управлять. — Будь ты истинным друидом, ты помог бы мне, клянусь Вороном! — вскричал он. — Я не друид и никогда не выдавал себя за друида. — Ба! Не друид, не бард, не король — ни то ни се! Кто же ты, Мерлин Амброзий? — Я человек и хочу, чтоб со мной обращались по-человечески. Если ты позвал меня, чтобы осыпать бранью, поищи себе другую мишень. Я поднялся, чтобы уйти, но он еще далеко не закончил. — Я скажу тебе, кто ты. Ты умеешь быть всем и никем. Ты вполз к нам змеей, наговорил вкрадчивых словес, украл у меня Аврелия… возбудил его против меня… — Утер уже трясся. Он, видимо, долго себя накручивал и теперь разом выпустил наружу весь скопившийся пар. Винить меня было легче, чем честно взглянуть на причину своих несчастий. Я повернулся и вышел из шатра, однако он выбежал следом, крича: — Я скажу тебе, Мерлин, я знаю, кто ты такой: льстец, обманщик, лукавый друг! Его устами говорил гнев, и я не слушал. — Отвечай! Почему ты не хочешь мне отвечать? — Он грубо схватил меня за руку и развернул к себе. Пот, пропитанный винными парами, струился по его лицу. Он пошатывался. Стоявшие неподалеку дружинники недоуменно смотрели на нас. — Утер, очнись! — рявкнул я. — Ты позоришь себя перед своим войском. — Я обличаю глупца! — заорал он, скалясь в ухмылке. — Прошу тебя, Утер, довольно. Единственный глупец, которого ты обличаешь, это ты сам. Иди в шатер и проспись. Я вновь попытался уйти, но он держал меня крепко. — Давай! — заорал он, чернея от пьяного гнева. — Покажи, кто ты есть! Изреки пророчество! Я сдвинул брови. Будь мы одни, я мог бы оставить эту выходку без внимания или как-то его утихомирить. Однако на нас глядели его воины, и не только его. Мы были в Гвинедде, и Кередигаун прислал в подкрепление своих людей. Утер завел дело слишком далеко и теперь не мог повернуть обратно без ущерба для своей репутации. — Ладно, Утер, — произнес я громко, чтобы нас слышали. — Я исполню твое желание. По его лицу расползлась глупая торжествующая улыбка. — Да, исполню, — продолжал я, — но за последствия не отвечаю. К добру ли, к худу все обернется — пеняй себя. Я сказал это не потому, что боялся и хотел заранее себя оградить, но чтобы Утер понял — это не детская игра и не фокусы для невежд. — О чем ты? — В голосе его прорезалось подозрение. Я отвечал прямо: — Это тебе не значки на пергаменте разбирать. Это дело странное и непредсказуемое, чреватое многими опасностями. Я управляю им не больше, чем ты ветром над головой или пламенем костра. — Не рассчитывай меня напугать, — сказал Утер. Несколько воинов поддержали его криками. Они желали, чтоб победа осталась за их предводителем. — То, что я совершу, произойдет на глазах у всех, чтобы и вы знали истину, — обратился я к ним. — Эй, ты, — я указал на того, что стоял ближе к костру. — Повороши пламя, подбрось дров! Мне нужны алые уголья, а не потухшие головни. На самом деле необходимости в этом не было, но я тянул время, чтобы успокоиться и чтобы Утер немного пришел в себя. Это сработало, потому что Утер закричал: — Ты что, не слышишь! Делай, что тебе сказали, да поживее! Покуда воины бросали в костер дубовые ветки, я пошел в шатер за посохом и плащом. В них тоже не было никакой надобности, но я решил, что не вредно произвести впечатление. Искусство не должно казаться слишком простым, не то люди перестанут его уважать. Пеллеасу все происходящее явно не нравилось. — Что вы собираетесь делать, господин? — То, о чем попросил меня Утер. — Но, господин мой Мирддин… — Пусть узнает! — выкрикнул я, потом смягчился. — Ты не зря тревожишься, Пеллеас. Молись, мой друг. Молись, чтоб нам не выпустить в мир такую опасность, какую мы сами не в силах будем сдержать.Чуть позже ко мне подошел слуга и сказал, что костер разожгли. Я закутался в плащ и взял посох. Пеллеас, продолжая вполголоса молиться, медленно встал и пошел вслед за мной. Когда мы вышли из шатра, стояла глубокая ночь. Мы подошли к костру, который уже прогорел. Осталась груда пышущих жаром углей, и на них плясали малиново-желтые язычки: подходящее ложе, чтоб разрешиться от бремени грядущего. Луна светила бледно, ее свет дробился на ветвях, костер бросал на стволы алые отблески. Дружина собралась и стала вокруг костра, только глаза воинов блестели в темноте. С моим появлением воцарилось почтительное молчание. Утер приказал вынести походное кресло и сел у входа в шатер — ни дать ни взять бездомный король, учредивший свой двор на лесной поляне. При виде меня он набрал в грудь воздуха, чтобы заговорить, потом передумал, закрыл рот и просто кивнул на костер, словно говоря: «Давай за работу». Я отчасти надеялся, что он вскоре остынет и все-таки избавит меня от тяжелой необходимости исполнять обещанное. Однако Утер так легко не отступал. Будь что будет — считал он — а там посмотрим. Итак, подобрав плащ, я начал обходить костер по направлению солнца, держа над головой посох. На древнем наречии, тайном языке Ученого Братства, я произнес старинные слова, которые приподнимают завесу между этим и Иным Миром. В то же время я молился Господу Иисусу, прося у Него мудрости, чтобы правильно истолковать увиденное. Я остановился, повернулся к огню и открыл глаза, чтобы заглянуть в горящие угли. Мне предстало дрожание пламени… жаркий багрянец… образы…
Женщина на крепостной стене, ее распущенные золотистые волосы плещутся на ветру, чайки с криком пролетают над ее головой, внизу неустанно бьется о берег море… Белоснежный конь без всадника во весь опор летит вдоль речного брода, тяжелое седло с высокой задней лукой пусто, поводья болтаются, болтаются… Желтое облако наползает на склон холма, на котором лежит побитое воинство, копья ощетинились порослью молодых ясеней, вороны пируют мертвечиной… Невеста одиноко рыдает в пустом дворце… Епископов и монахов ведут в оковах средь развалин покинутого города… Высокий человек плывет в челне по заросшему тростником озеру, солнце сияет на его золотых волосах, глаза прикрыты, руки сложены на коленях… Саксонский боевой топор подрубает корни древнего дуба… Люди с факелами несут свою ношу на высокий погребальный курган, окруженный огромным каменным кругом… Черные псы лают на белую зимнюю луну… На снегу голодные волки рвут в клочья своего же собрата… Человек в шерстяной монашеской рясе крадется по пустой улице, опасливо глядя через плечо. Он взмок от страха, в руке у него сосудец, какие священники используют при помазании… Над залитым кровью алтарем пылает Христов Крест… На укромной лесной поляне лежит в высокой траве младенец, он кричит, алая змея обвила его крохотную ручонку…
Образы понеслись стремительно, утратив связность. Я закрыл глаза и поднял голову. Я не увидел ничего, что могло бы помочь Утеру. Когда я снова открыл глаза, мне предстало странное зрелище. Невиданная прежде звезда, ярче всех прочих, небесным маяком горела на западном крае неба. В этот же миг на меня снизошло пророческое вдохновение. — Зри, Утер! — вскричал я громко и властно. — Гляди на запад и дивись: новая звезда сияет сегодня на Божьем небе, вестница событий ужасных и чудных. Преклони ухо свое, если хочешь узнать, что станется с королевством. Воины, стоявшие вокруг, тоже увидели звезду и подняли крик. Кто-то молился, кто-то сыпал проклятиями или осенял себя от зла. Однако я смотрел лишь на звезду, которая росла, разгоралась и вскоре уже сияла, подобно второму солнцу. Длинные тени пролегли по земле, лучи ее протянулись на восток и на запад. Теперь она представлялась мне разверстой пастью яростного, неуязвимого дракона. Утер привстал с кресла, лицо его озарил неземной свет. — Мерлин! — крикнул он. — Что это? Что это значит? При этих его словах я затрепетал всем телом и, шатаясь, оперся на посох. Внезапное горе охватило меня, пронзило до самого сердца. Ибо я понял значение того, что увидел. — За что, Великий Свет! — вскричал я. — За что я родился на такую муку? И с этими словами я рухнул на колени и зарыдал. Утер подошел и опустился на колени рядом со мной. Он положил руку мне на плечо и ласково прошептал: — Мерлин, Мерлин, что стряслось? Что ты увидел? Ответь, заклинаю. Когда я вновь обрел голос, то поднял голову и взглянул в его встревоженные глаза. — Утер, ты здесь? Приготовься, — с рыданиями вымолвил я. — Горе нам всем: брат твой мертв. Все застыли в изумлении. Послышались недоверчивые крики: «Аврелий мертв! Быть не может… Слышали, что он сказал?.. Что? Верховный король мертв? Как это может быть?» Утер смотрел на меня, не веря. — Не может быть. Слышишь, Мерлин? — Он поднял взгляд на звезду. — Должно быть другое толкование. Посмотри еще и скажи нам. Я покачал головой. — Великое горе постигло нашу страну. Аврелия сгубил сын Вортигерна. Покуда мы гонялись за Пасцентом по всему королевству, он подослал родича отравить Верховного короля в его спальне. Утер застонал, рухнул плашмя и зарыдал, как осиротевший ребенок. Воины смотрели на него, у многих в глазах блестели слезы, и любой охотно отдал бы жизнь за спасение любимого Аврелия. Когда Утер встал, я продолжил: — Слушай же еще, Утер. Ты воин, равных которому нет в этой стране. Через семь дней ты взойдешь на престол и обрящешь великую славу среди народа Британии. Весь остров склонится перед твоей мощью. Утер горестно кивнул, нимало не утешенный моими словами. — Вот что еще я видел: звезда, горящая драконьим огнем, — твоя; луч, исшедший из ее зева, есть сын, который явится на свет в твоем роду и воцарится после тебя. Более великого короля не будет на Острове Могущественного до скончания веков. Посему немедля ступай с дружиною за звездой, которая озарит твою дорогу, ибо завтра на рассвете в месте, где сходятся три холма, ты покончишь с Пасцентом и Гиломаром, после чего возвратишься в Лондон и наденешь корону своего покойного брата. Я закончил, и сразу вдохновение ушло, накатила страшная слабость. Я осел на землю. Звезды набегали темными волнами, слепя и оглушая. Пеллеас поднял меня и отвел в шатер, где я рухнул на лежанку и мгновенно уснул. В ту ночь мне снились сны. Тело спало, но мозг лихорадило, образы теснили друг друга. Помню, я видел огонь и кровь, видел людей, еще не пришедших в этот мир. Я видел, как тьма выстраивалась в боевые порядки и земля дрожала, придавленная непроницаемой тьмой. Я видел детей, которые выросли, не видя ни одного мирного дня, жен, чье лоно стало бесплодным от страха, и мужей, не знавших иного ремесла, кроме военного; корабли, несущиеся прочь от Острова Могущественного, и другие, стремящиеся к его берегам. Я видел мор, смерть и голод. И самое ужасное: я видел Моргану. Та, кого я больше всего страшился увидеть вживе, явилась ко мне во сне и, как ни жутко об этом рассказывать, искренне обрадовалась. Она приветствовала меня, словно путника, пришедшего к ее дверям, и молвила: «Ах, Мерлин, владыка Дивного Народа, королевский советник, я рада тебя видеть. Мне уже думалось, что ты умер». Она была ужасна: красива, как утренняя заря, опасна, как ползучая гадина. Моргана — ненависть в человечьем обличье, но уже и не человек — остаток человеческого она отдала Врагу в обмен на власть. И власть ее была непомерна. Однако даже она была не властна повредить тому, кому снится. Напугать, оскорбить, убедить — да, но уничтожить — нет. — Что ты молчишь, миленький? Язык от страха отнялся? Во сне я отвечал прямо: — Да, Моргана, мне страшно, потому что ты и впрямь внушаешь мне ужас. Однако я знаю твою слабость и силу Того, Кому я служу. Я еще увижу твою погибель. Она чарующе рассмеялась, и вокруг нее заклубилась тьма. — Что ты такого про меня навыдумывал, племянничек? Я хоть что дурное тебе сделала? Ну, не надо смотреть букой. Тебе ведь любопытно будущее? Вот и поговорим. — Нам не о чем говорить. — И все равно, я буду говорить, а ты слушай: нельзя так ненавидеть старые обычаи, в которых ты сам вырос. Будешь упорствовать, придется тебя убрать, а мне это было бы очень грустно. — С чьих слов ты говоришь? — Я знал ответ, но хотел, чтоб она сказала сама. — Не бойся убивающих тело, а бойся того, кто может погубить душу. Не этому ли учил твой бедный слепой Давид? — Скажи, Моргана, кому ты служишь! — выкрикнул я. — Ты слышал предупреждение. Без моего заступничества тебя убили бы давным-давно. За тобой должок, Мерлин. К следующей встрече изволь вернуть. — Ты получишь свою награду, владычица лжи! — смело воскликнул я (увы, в моей душе смелости почти не осталось). — А теперь убирайся! На этот раз она не рассмеялась, но от ее ледяной улыбки могло бы остановиться теплое сердце в груди. — Прощай, Мерлин. Буду ждать тебя в Ином Мире. Покуда я спал, Утер, по моему совету, вооружил дружину. Оседлав коней, они направились в то место, которое я указал, — Пенмахно, долину между тремя холмами, куда с древних времен сходились по своим делам окрестные жители. Они скакали всю долгую ночь, звезда озаряла им путь, а когда небо на востоке чуть посветлело, впереди открылась долина Пенмахно. Здесь, как я говорил, разбили свой лагерь Пасцент и Гиломар. При виде неуловимого противника воины забыли про усталость и, пустив коней вскачь, как бесшумная смерть, обрушились на спящих. Бой был жестоким и кровавым. Гиломар вскочил с лежанки и, как был голый, возглавил своих воинов. Его сразил едва ли не первый удар копья. Видя, как рухнул их король, ирландцы разразились криками и преисполнились жаждой мести. Пасценту же не хватило смелости принять честный бой. Он попытался ускользнуть, накрылся старым плащом, поймал за уздечку лошадь и во весь опор полетел с поля сражения. Утер увидел его и устремился в погоню с криком: — Стой, Пасцент! За тобой долг! Настигнув труса, Утер плашмя ударил его мечом. Пасцент свалился с лошади и упал навзничь, визжа от страха и умоляя сохранить ему жизнь. — Ты желал получить отцовскую долю, — промолвил Утер, спешиваясь, — так получи. — С этими словами он вонзил меч прямо Пасценту в рот, так что острие вошло глубоко в землю. Пасцент умер, извиваясь, как змея. — Оставайся теперь с Гиломаром, верным твоим товарищем, и владейте землей вместе. Лишившись предводителя, ирландцы не смогли долго противостоять воинам Утера, и те, вне себя после долгих месяцев изнурительной погони, отомстили за погубленных соотечественников. Когда мы с Пеллеасом подоспели на поле сражения, бой уже был закончен. С вершины одного из холмов мы смотрели на Пенмахно и видели то, что предстало мне ночью в угольях: порубленное воинство на склоне холма и копья, как молодая поросль. Вороны каркали, слетаясь на страшное пиршество, и блестящими черными клювами рвали с костей кровавое мясо. Утер позволил дружине разграбить ирландский лагерь, после чего двинулся к Лондону. Через пять дней нам встретились на дороге воины Морканта. — Здрав будь, Утер, — крикнули они, подъехав. — Мы везем скорбные вести от правителя Мелата. Некий Аппас, родич Вортигерна, отравил Верховного короля. Утер, стиснув зубы, кивнул, потом взглянул на меня. — Как он попал к королю? — Хитростью и коварством, — горько отвечал передовой всадник. — Он нарядился монахом и, завоевав доверие короля, проник к нему в опочивальню, где и подал королю напиток собственного изготовления якобы в честь свадьбы. — Всадник смолк, скорбь исказила его лицо. — Король выпил и заснул. Ночью он проснулся в лихорадке и к утру скончался. — Что Игерна? — бесстрастно спросил Утер. — Она тоже пила? — Нет, господин. Королева вместе с отцом уехала в Тинтагиль за приданым и должна была присоединиться к королю в крепости Уинтан. Утер на мгновение задумался. — А что Аппас? — Его не могли сыскать ни во дворце правителя, ни в городе. — Ладно, я обещаю его найти, — тихо произнес Утер. Угроза в его голосе резала, словно острие из чистого льда. — Клянусь всеми богами, в тот день, когда он отыщется, он разделит награду со своими друзьями. — Тут он выпрямился в седле и спросил: — Где похоронили моего брата? — По его собственной воле и по распоряжению Урбана, Верховного короля похоронили в кругу нависающих камней, который зовется Кольцом Великанов. — Всадник замялся, потом сказал: — Он также хотел, чтобы после него страной правил ты. — Ладно, здесь мы повернем и воздадим ему честь, — просто отвечал Утер. — Затем поскачем в Каер Уинтан, где пройдет моя коронация. Скажу по правде, Лондон мне отвратителен, и я никогда больше не войду в этот приют мерзости. Свое слово Утер держал до последнего дня жизни.
Глава двенадцатая
Когда вероломный Дунаут прослышал о смерти Аврелия, он собрал советников и поскакал в крепость Горласа Тинтагиль обсудить, как получше это использовать. В тот же день он разослал гонцов к Коледаку, Морканту и Кередигауну, зовя их присоединиться к нему. Без колдовства ясно, о чем они там сговаривались. К чести Горласа, тот, хоть и принял Дунаута с почетом, в крамольных беседах участвовать не пожелал. Даже позднее, когда приехали Коледак и Моркант, Горлас остался верен Аврелию из уважения к памяти Верховного короля и ради своей дочери. — Однако Аврелий мертв, — убеждал Дунаут, — ты свободен от клятвы и волен не присягать его брату. — Ты сам можешь стать Верховным королем, — вставил Коледак, который отнюдь так не думал, — и в таком случае не совершаешь никакого предательства. — Я человек чести! — воскликнул Горлас, — и ваши лукавые слова меня не убедят. — Не понимаю, — возмутился Моркант. — Ты говоришь о чести, о лукавых словах, как будто мы вовсе не думаем о благе королевства. Нам нужен сильный король. Аврелия нет, а поскольку мертвого не воротишь, следует в память о нем сохранить мир в нашей стране. — В память о нем я сохраню верность своей клятве, — непреклонно отвечал Горлас. При всей своей любви к Аврелию он еще больше любил собственную дочь, и в конечном счете любовь к Игерне его сгубила. Утер, разумеется, не мог снести такого оскорбления. Он досадовал, что не все в один голос его поддержали, тем более, что Аврелий на смертном одре завещал ему довершить начатое. Менее всего ему хотелось начинать снова уже выигранную войну. Была, разумеется, и еще одна причина личного свойства. Поэтому, когда Кередигаун, чьи земли Утер спас от Пасцента и Гиломара, известил его о тайном совещании мятежных королей в западной твердыне Горласа, Утер, ни минуты не теряя, собрал своих воинов и поскакал к Тинтагилю. Лето было в разгаре: дни, яркие, как начищенный клинок, сменялись тягуче-сладостными ночами. А мы с Пеллеасом, завершив свои труды, вернулись в Инис Аваллах. Я обещал служить Аврелию, не Утеру, и, несмотря на прошлые одолжения, Утер ясно дал понять, что после коронации он в моих услугах советчика не нуждается. Меня это не огорчило. Сказать по правде, я был рад случаю отдохнуть. В результате весть о событиях в Тинтагиле дошла до меня с большим опозданием. К тому времени семя грядущих бед уже легло в землю. Странное дело: я, часто стоявший в гуще судьбоносных событий, которые был не в силах предотвратить, как правило, не попадал туда, где вполне мог остановить надвигающееся несчастье. При мысли о тех ударах, которые я сумел бы отвести, о кровопролитиях, которых удалось бы избежать, сердце мое сжимается от боли. Великий Свет, нелегкую долю Ты нам назначил! Итак, я довольно долго жил с Дивным Народом, питая израненную душу спокойствием Аваллахова острова. Какие надежды я возлагал на Аврелия! Как много он обещал! Смерть его стала для меня тяжелым ударом. Однако я помнил полученное откровение, то, что я поведал Утеру: в его роду появится сын, который превзойдет даже Аврелия. Сознание этого утешало, хотя я по-прежнему не знал, где и когда родится обещанный мальчик. Как я сказал, дух, озаряющий события, подобно ветру, веет, где хочет, и свет его порой столько же проясняет, сколько и затемняет. Харита радовалась, что я снова с ней. Она умела дорожить временем, которое мы проводили вместе, не требуя большего. Есть любовь, которая душит, которая сама гасит пламя, дарующее свет и жизнь. Такая любовь — ложная, и Харита давно научилась отличать ее от истинной любви. Она овладела наукой врачевания и теперь посвящала свои дни раненым и больным. Знаниями она была обязана монахам из Святого храма и тем Обитателям холмов, с которыми изредка встречалась. Лечила она в ближайшем монастыре, куда обращались за помощью все страждущие. Мы провели вместе много счастливых дней, и я готов был оставаться на вершине Тора бесконечно, если бы не срочный зов Утера. Как-то вечером двое всадников подъехали к церкви под холмом святилища и стали спрашивать про меня. Монахи объяснили, куда ехать. Хотя небо было еще светло, гонцы решили дождаться следующего дня, страшась приближаться к Тору после заката. Как только встало солнце, они проехали по дамбе и поднялись к дворцу Аваллаха. — Мы ищем Эмриса, — объявили они, когда их впустили во двор. — Вы его нашли, — отвечал я. — Что вам от меня надо? — Мы от Верховного короля, везем его приветствия, — с грубоватой учтивостью отвечал один. — Он ждет тебя возле крепости Горласа в Тинтагиле. Мы поклялись доставить тебя туда. — А если я откажусь ехать? — Я не знал этих людей, и они, очевидно, не знали меня. Посланный отвечал без колебаний: — Тогда нам велено связать тебя и доставить силой. В этом приказе был весь Утер, каким я его знал. — Вы что думаете, — рассмеялся я, — кто-то в силах доставить меня туда, куда я сам не пожелаю ехать? Они встревоженно переглянулись. — Пендрагон сказал… — начал первый. — Пендрагон? — переспросил я. — «Главный дракон» — так теперь величает себя Утер? — Да, господин, с той ночи, когда Драконья звезда возвестила, что он стал королем, — отвечал посланец. Итак, Утер, ты все же меня послушал. Да, ему это подходит: Утер Пендрагон. Что ж, ладно, мой трудный друг. Что еще ты усвоил в ту ночь? Посланцы беспокойно переглядывались. — Разделите мою трапезу, — предложил я, — а затем расскажете о своем поручении. Они взглянули на меня с подозрением. — Не бойтесь, — молвил я. — Вам предлагают гостеприимство — не отказывайтесь. — Мы и впрямь голодны, — признался один. — Так входите и ешьте. — Я повернулся к крыльцу, и они с опаской двинулись за мной. Дивный Народ всегда изумляет прочих людей, и в этом есть своя выгода. — Так зачем вы меня искали? — спросил я, когда мы принялись за хлеб и сыр. — Не знаем, господин. — Вам должно быть известно, что делает ваш повелитель. Зачем он послал вас? — Нам велено разыскать тебя, больше мы ничего не знаем. Много воинов отправились на поиски в разные стороны, — отвечал посланец, словно последнее утверждение подкрепляло истинность его слов. Я взглянул на второго, который еще ни разу не раскрыл рта. — А ты что об этом знаешь? Отвечай быстро, потому что я не поеду с вами, если не услышу настоящей причины. Говори! — Утеру нужна твоя помощь, чтобы жениться! — к собственному изумлению выпалил посланец. Эту тайну он не должен был раскрывать. Конечно, дело в Игерне! Но я-то тут при чем? Игерна вольна выходить замуж, Утер тоже не нуждается в моем одобрении. Однако он не стал бы посылать за мной, если б мог без этого обойтись. Тут у меня не было ни малейших сомнений. — Что случилось? — спросил я у смущенного посланца. — Давай, выкладывай. Вреда от этого не будет. Хуже может получиться, если ты о чем-нибудь умолчишь. — Это все Горлас и его друзья — Дунаут, Моркант и Коледак. Они затворились в Тинтагиле и плели измену. Утер застал их врасплох и вызвал на бой. У них там только дружина Горласа, и они, не желая быть перебитыми, отказываются выйти. — Они засели в крепости Горласа, — вставил другой. Теперь и его прорвало. — Утер не может туда войти, а они не хотят выходить наружу. Я все понял. Утер и впрямь застал королей врасплох. Он поспел, пока они сидели и замышляли измену. Не рассчитывая, что на них нападут, они взяли только свиту, и теперь у них нет ни людей, ни оружия, чтобы встретить противника в чистом поле. Такой поворот событий поставил Горласа в неразрешимое положение. Человек его склада не предает друзей, и никакая сила на земле не заставит упрямого западного вождя нарушить законы гостеприимства. Однако защищать мятежных владык — значит явить непокорность Верховному королю, которому Горлас поклялся в верности. Я мог вообразить, какие муки терзают Горласа. А Утер, чья ярость с каждым днем нарастает, винит именно его. И при этом Утер не может взять крепость приступом. Что его удерживает? Игерна. В крепости его любовь. Он не может повести войну против отца невесты, рискуя навсегда утратить ее расположение. Не может он и отступить, позволив изменникам уйти безнаказанно. И вот, не зная, что делать, он призывает меня. Что ж, Утер, мой молодой король — такой упрямый, так легко поддающийся гневу, — не зря тебя назвали Главным Драконом. Наверное, я мог бы позлорадствовать, что Утер не сумел без меня обойтись. На самом деле я испытывал лишь безграничную усталость. Мне казалось, что все труды ради возвышения Аврелия пошли прахом и что помощь Утеру тоже обернется ничем. Я давно решил, что Утер — не тот Верховный король, который мне нужен. Не ему создавать Летнее Царство. Значит, надо искать кого-то еще. Однако сейчас он Верховный король, и, что бы ни думали властолюбивые царьки вроде Морканта и Дунаута (если они вообще могут думать), он не глуп и не ленив. У него острый ум военачальника и умение повелевать. Все это очень нужно Британии. Если на то пошло, самый его сан заслуживает почета и уважения. Я чувствовал, что ничем хорошим это не кончится. Разумеется, надо поддержать Утера — в этом я не усомнился ни на миг. Однако в то же время надо попытаться спасти то, что еще удастся, как ни мало на это надежды. Пеллеас даже больше меня сомневался в успехе. — Почему не позволить Утеру разнести их в мелкие клочья? — спросил он, пока мы спешно собирались в Тинтагиль. (У него не было ни малейших сомнений в том, кто выйдет победителем.) — По-моему, Дунаут и его друзья сами накликали на себя беду. Пусть ответят за измену. — Ты забыл про Игерну, — отвечал я. — Уверен, Утер про нее помнит.Да, Утер не забыл про Игерну. Более того, он едва ли был в силах думать о чем-нибудь, кроме нее. К тому времени как мы достигли расселины перед крепостью Горласа, оскал на лице Утера мог напугать огрызающегося пса. Его советники и предводители дружин старались держаться подальше, чтобы не угодить под горячую руку. При моем появлении взволнованный шепот пробежал по рядам воинов. Во взглядах людей, уставших от долгой осады и королевского гнева, читалось облегчение. — Теперь что-нибудь сдвинется, — говорили они. — Мерлин прибыл! Чародей среди нас. Да, без чародейства этот клубок было не распутать. Лишь чудо могло нас спасти. Мне пришлось самому возвестить о своем приходе — слуга Утера боялся войти к нему в шатер. Он сидел посреди шатра на походном стуле, небритый, с всклокоченными рыжими волосами. — Я здесь, Утер. Он поднял глаза. — Не быстро ты ехал, — прорычал он. — Явился обгладывать кости? Я оставил выпад без внимания и налил себе немного вина в королевский кубок. — Что у тебя плохого? — А что хорошего? — угрюмо отвечал он. — Если тебе нужна моя помощь, говори, в чем дело. Я в спешке проделал немалый путь, но сей же час поверну обратно, если ты не выпрямишься и не объяснишь мне все, как мужчина. — Мои верные вассалы залегли здесь, — он быстро указал на крепость, — и замышляют мою погибель. Или это, по-твоему, не плохое? — Мне казалось, ты в силах разобраться с такого рода бедой, а ты сидишь в потемках и рыдаешь, словно девица, потерявшая любимый наперсток. — Ладно, сыпь соль на рану. Если это — твоя помощь, так возвращайся туда, откуда приехал. — Он внезапно вскочил со стула, будто его начало припекать снизу. — Клянусь Вороном, ты ничуть не лучше тутошней своры. Вот и шел бы к ним! Бросить вам всем кость? — Ты роняешь себя, Утер, — прямо сказал я. — Ты до сих пор не ответил, что тебя гнетет. Наконец он поднял на меня глаза, словно загнанный собаками медведь. — Я не могу напасть на крепость, когда там Игерна! Моя цель была достигнута. Едва произнеся ее имя, Утер переменился. Исчезла бессмысленная злоба; он развел руками и горько улыбнулся: — Теперь ты все знаешь, любитель соваться в чужие дела. Скажи же, что мне делать? — Что я могу сказать тебе такого, чего бы еще не предложили твои советники? Он закатил глаза и втянул щеки. — Ну пожалуйста! — Твоя злоба ослепила тебя, Утер, иначе ты сам отыскал бы выход. Он не ответил, но остался стоять, понурив голову и уронив руки. — Клянусь светом Ллеу! — выкрикнул я. — Ты не первый влюбленный на земле! Хватит кататься, как раненый медведь, давай подумаем, что можно исправить. — Мы не можем напасть на крепость, — выдохнул он, потом добавил с нажимом, глядя на меня: — По крайней мере, покуда она там. — Не можем, — отвечал я. — Но ты, Мерлин… Ты можешь туда войти. Горлас тебя впустит. Ты можешь увидеть ее и вывести наружу. — Может быть, и могу, но что потом? — Я сотру это гадючье гнездо с лица земли. — Смело придумано. По-твоему, она выйдет замуж за убийцу своего отца? — Убийцу? — Конечно. — Но… но… они же изменники! — Для нее — нет. — Вот видишь! Все безнадежно! — Он грохнул кулаком по столу. — В любом случае я погиб. — Так отступи. Ярость вспыхнула в его глазах. — Ни за что! Я повернулся и вышел из шатра. Через несколько мгновений он тоже вышел и вслед за мной поднялся на каменистый выступ, с которого была хорошо видна блестящая каменная стена твердыни Горласа. Замок выглядел неприступным: он стоял на высоком скалистом мысу, далеко вдающемся в море. С сушей его соединяла лишь узкая дамба, которую перегораживали одни-единственные ворота. — Я не сказал — беги с поля боя. Просто отойди от крепости, — спокойно продолжал я. — Чего ради? — Сейчас ты ничего сделать не можешь, как и они… — я указал на нависшую черную громаду крепости, — ничего не сумеют сделать тебе. В шахматах это зовется патом, в такой позиции ни один из игроков победить не может. Поэтому, раз они не могут сделать ход, отойти придется тебе. — Нет, — прорычал он сквозь стиснутые зубы. — Клянусь всеми богами земными и небесными, я не отойду. — Погоди клясться, Утер, пока не выслушал все. Он, не разжимая зубов, с шипением выпустил воздух. — Ладно, продолжай. — Я не предлагаю тебе возвращаться в Каер Уинтан, довольно будет отступить за те холмы на востоке. Оставайся там и жди, покуда я переговорю с ними. Он подумал, потом кивнул, и я продолжил: — Отлично. Какие условия ты им предлагаешь? — Условия? — Он потер подбородок. — Я не думал об условиях. — Ладно, ты хочешь их перебить или залучить на свою сторону? Верховный король задумался. Когда же он заговорил, стало ясно, что он не зряносит свой титул: — Залучить на свою сторону, если это еще возможно. — Это возможно и зависит от твоей доброй воли. — Доброй воли? Я ничего другого так не желаю! — Тогда я постараюсь, чтобы они услышали разумные доводы. — Клянусь Богом, которому ты молишься, Мерлин, если ты склонишь их на мою сторону и спасешь Игерну, можешь просить, что угодно, хоть полкоролевства. Я пожал плечами. — Я никогда не просил и не попрошу для себя. В тот миг, как я произнес эти слова, мне предстало видение: Горлас лежит мертвый на склоне холма, и земля черна от его крови. И я услышал, словно из Иного Мира, младенческий крик среди волчьего воя в студеную зимнюю ночь. Сердце мое упало, во рту стало солоно и горько. Слова прозвучали помимо моей воли: — И все же у моей службы есть своя цена. Однажды я потребую награду, и нелегкой будет расплата. Пусть тебя утешит одно: то, чего я потребую, послужит ко благу Британии. Вспомни об этом, Утер Пендрагон, когда придет час, да не посмеешь мне отказать. Утер сильно удивился, но возражать не стал. — Будь по-твоему, Мерлин. Хорошо. Поступай, как считаешь нужным. Хотя день уже клонился к вечеру, немедленно прозвучал приказ сниматься и отступать. Я знал, что суета в лагере отвлечет внимание защитников крепости, поэтому мы с Пеллеасом сели в лодку и пошли на веслах вокруг мыса посмотреть, можно ли попасть в крепость с моря. Разумеется, вход, как я и догадывался, существовал, но воспользоваться им можно было только в отлив, когда лодка пристала бы к узкому галечному пляжу у подножия крепости. В остальное время устье туннеля захлестывала вода, а волны, бьющиеся об острые камни, не давали подойти к берегу. Значит, за исключением ночи, я мог попасть в замок только по дамбе. Я не рассчитывал, что Горлас примет меня с распростертыми объятиями, однако знал, что он по крайней мере выслушает меня и постарается понять, что у меня на уме. На это его уважения ко мне хватит. Хотя бы в память о том дне, когда мы вместе сражались с Хенгистом. К сумеркам Утер снял лагерь и отошел за холмы. Мы с Пеллеасом, осмотрев мыс, сели на пони и направились по узкой мощеной дамбе к каменному куполу, на котором выстроил свой замок Горлас. По одну сторону от нас беспрестанно бились о камень волны, по другую шумно низвергался в море речной поток; и там и там подстерегала гибель. У бревенчатых ворот нам пришлось дожидаться, пока стражи позовут хозяина замка. Он подошел быстро; как я и сказал, за нами наблюдали. — Что тебе здесь надобно, Эмрис? — с вызовом спросил Горлас. — Я приехал говорить с тобой. — Мне не о чем говорить с Утером. — Может быть, — согласился я, — но у него есть дело к тебе, вернее, к тем, кто укрылся под твоим кровом. — Что с того? — фыркнул правитель Корнубии. — Я никому не отказываю в гостеприимстве. Те, о ком ты говоришь, будут жить у меня, сколько пожелают. — Коли так, — легко отвечал я, — не откажи в гостеприимстве мне и моему слуге. Смеркается, и нам негде переночевать. Горлас пришел в ярость оттого, что сам своими устами загнал себя в ловушку; особенно его злило, что он так легко попался. Я уже подумал, что он все-таки нас не впустит, однако гордость сидела в нем глубоко, и привычка держать слово оказалась сильнее досады. Он сам отпер и растворил ворота, на лице его застыла смесь гнева и стыда. — Входите, друзья, — процедил он сквозь зубы (каждое слово звучало, словно проклятие). — Мы рады вас приветствовать. — Благодарим тебя, Горлас, — искренне отвечал я, заводя пони в ворота. — Твоя доброта не будет тебе во вред. — Это еще предстоит увидеть, — отвечал он и раздраженно приказал стражам закрыть ворота — не ровен час сам Утер явится требовать гостеприимства. Замок Тинтагиль был построен на скальном основании из камня и дерева, причем больше из камня, который добывали прямо из черных утесов по соседству, в то время как бревна приходилось доставлять издалека. Из-за этого он казался холодным и суровым — надежное жилье человека волевого и непреклонного, не привыкшего себя баловать. Тинтагиль мог быть и убежищем, и темницей. Интересно, понял ли это Утер? Сводчатые чертоги высились среди беспорядочной россыпи служб: здесь были поварня и амбары, сараи и кладовые, помещения для челяди и круглые каменные домики. Узкие проходы между ними покрывала мостовая, чтобы в слякоть — а здесь, возле моря, было всегда сыро — люди и животные не месили ногами грязь. В целом Тинтагиль был простым, но внушительным замком: достойное обиталище для королей Корнубии. Не мне первому пришла в голову эта мысль; люди жили здесь уже много поколений и, судя по всему, собирались жить дальше. — Скоро подадут ужин, — сказал, догоняя нас, запыхавшийся Горлас. — О ваших лошадях позаботятся. Он провел нас в зал, ярко освещенный факелами и пылающим очагом. В углах играли собаки и дети, несколько женщин тихо переговаривались в дальнем конце помещения. Игерны среди них не было. Моркант, Дунаут и Коледак вместе с приближенными беззаботно развалились за столом. Когда мы вошли, все взгляды обратились к нам и смех стих. В следующий миг Моркант вскочил на ноги. — Глядите, друзья! Утерова собачонка приползла! Что, Мерлин Эмбрис, пришел нас обнюхать и снова бежать к хозяину? — Не унижай себя оскорблениями, Моркант. Я не требую от тебя уважения, но хотя бы не навлекай на себя еще большую опасность, дурно говоря о Верховном короле. — Что за Верховный король? — фыркнул Моркант. — Верховный трус, правильнее будет сказать. Дунаут и Коледак громко расхохотались. — Вы зовете его трусом, потому что он готов забыть про вашу измену и протягивает вам руку дружбы? — Протягивает руку от испуга! — прыснул Коледак, трясясь от смеха. Горлас, задетый грубостью своих гостей, громко приказал, чтобы несли ужин. Слуги засуетились, и через несколько мгновений на столе уже стояли корзины и блюда с яствами. Трое королей попивали хозяйский мед и не собирались прекращать пир. Без сомнения, уход Утера привел их в веселое состояние духа, а выпивка еще раззадорила. Впрочем, куражились они не от большого ума. — Добром это не кончится, — предупредил Пеллеас, усаживаясь рядом со мной. — Сейчас они спьяну полезут в драку. — Если до этого дойдет, мы в долгу не останемся, — отвечал я. — Пусть научатся уважать Верховного короля. Можно дать урок прямо сейчас. — Я предпочел бы как-нибудь в другой раз. — Пеллеас обвел глазами чертог: повсюду толпились приближенные королей, у каждого был кинжал на поясе и меч на коленях. — Если они начнут, боюсь, их не остановит сам Горлас. Трапеза продолжалась. Трое смутьянов, увлекшись едой, перестали обращать на нас внимание. Мы спокойно ели и почти закончили ужин, когда шкура, закрывавшая дальний выход из зала, приподнялась и вошла Игерна с несколькими служанками. На нас она не глядела и даже старательно отводила глаза, хотя не могла не знать о нашем приезде. Думаю, она боялась взглядом выдать свою тайну. Однако для меня ее поведение было красноречивее всяких слов. Сердце мое сжалось. Такая молодая, такая красивая! Не поверишь, что вдова, скорее уж девица на выданье — исполненная благородства в каждом своем движении. Удивительно, что грубияну Горласу досталась столь царственная и утонченная дочь. Ужин закончился. Горлас, стараясь избежать ссоры между гостями, кликнул арфиста. Вышел старик с потертою арфой и завел длинную маловразумительную песню о смене времен года. Мне стало его жаль. Жалко было и остальных, которые никогда не слышали и не услышат настоящего барда. По приказу хозяина бард запел следующую песню, и я, пользуясь тем, что все внимание устремлено на него, решил заговорить с Игерной. Сперва она испугалась, потом быстро нашлась, вскочила и потянула меня в темный угол. — Умоляю тебя, Эмрис, — начала она, — если отец узнает… — Здесь он нас не увидит, — успокоил я, потом спросил: — А в чем дело? Ты его боишься? Она совершенно по-женски прикусила нижнюю губку и потупила взор. Мне нравилось это наивное смущение, напоминавшее о другой девушке в другие, давние времена. — Нет, нет… — Она замялась, потом все же продолжила: — Однако он не сводит с меня глаз… Все, больше я ничего не могу сказать. — Ты была замужем, — напомнил я, — и не обязана оставаться под отчим кровом. — Верховный король мертв. Куда мне идти? — В ее голосе не было ни горечи, ни печали. Она не скорбела об Аврелии и не притворялась, что скорбит. Она его не любила, да что там, она почти его не знала! Она вышла за него только из послушания родительской воле. — Есть человек, который охотно взял бы тебя к себе. Она прекрасно знала, о ком я говорю, поскольку сама частенько думала о том же. — Нет, я не смею! — выдохнула она. — Почему? — Отец никогда этого не допустит. Прошу, мне надо идти. — Однако она не двинулась с места, только устремила глаза на отца, погруженного в мерное бормотание арфиста. — Однако, будь твоя воля, пошла бы ты к Утеру? — спросил я прямо, ибо чувствовал, что времени осталось совсем мало. Она снова потупилась, потом робко подняла глаза и прошептала: — Если он меня примет. — Примет с величайшей охотой, — отвечал я. — Он давно бы подпалил здешние ворота, если бы не ты, Игерна. Она ничего не ответила, лишь легонько кивнула, и тогда я продолжил: — Значит, об этом ты догадалась без меня. Ладно, я подумаю, что можно сделать. Если я приду за тобой, готова ли ты за мной следовать? Глаза ее расширились, однако голос не дрожал: — Если иначе никак нельзя, я пойду с тобой. Она быстро оглядела зал, словно прощаясь с местом, о котором не сохранила ни одного хорошего воспоминания. Потом, положив руку мне на рукав, стиснула мне локоть и юркнула во тьму. Зачем я это сделал? Почему так важно было свести Утера с Игерной? Вероятно, ради Утера, чтобы искупить перенесенные им страдания. В любом случае было ясно, что без нее он править не сможет. А может быть, ради Игерны — ей было так плохо в этом холодном дворце. А возможно, Дух Господень направлял меня к исполнению неведомого замысла. Сказать по правде, я сам не знаю. Однако в эту ночь я действовал по воле событий. Такое случается порой, и все резоны, замыслы и устремления рассыпаются в прах. Остается один бездумный порыв. «Что я натворил? — думал я, незаметно возвращаясь на свое место. — Что свершилось через меня?» До сих пор не знаю.
Глава тринадцатая
Впору межвременья, когда все в мире ждет обновления, в жертву за жизнь иной раз приносится жизнь. Так учили древние мудрецы друиды, и никто еще не разубедил меня в их правоте. Игерна провела меня выбитыми в скале тайными переходами на галечный пляж у подножия Тинтагиля. Она хорошо знала путь — здесь она частенько укрывалась от отцовского взора. Над морем вспыхивали молнии, в отдалении грохотал гром. Ветер бушевал, срывая гребешки с волн, и мы слышали, как с глухим рокотом разбиваются валы о каменистое основание мыса. Мы спустились по каменным, скользким от брызг ступеням. Оступиться — значит полететь вниз, к неминуемой гибели. — В скале под крепостью есть пещера, — сказала она. Ветер уносил слова. — Там мы сможем дождаться лодки. Боюсь, там мокро. — Долго ждать не придется, — заверил я, вглядываясь в ревущую тьму. Ветер брызгал в лицо клочьями пены, плащи наши уже вымокли. Луна зашла, был самый темный час ночи. Редкие звезды проглядывали сквозь мчащиеся обрывки облаков, в их тусклом свете ничего нельзя было различить. Я страшно ругал себя за этот безумный план. Однако постарайтесь понять: когда Невидимая Рука ведет тебя, ты следуешь. Или поворачиваешь назад и потом до конца жизни терзаешься раскаянием. Конечно, и следуя, ты не знаешь, что с тобой будет. В этом и состоит вера. Идти вперед или повернуть назад — третьего не дано. В ту ночь я выбрал путь вперед. Я сам принял решение, по собственной воле. И ответственность за то, что случилось, несу я. Это цена свободы. Однако как играла во мне жизнь в ту бурную ночь, под грохот и раскаты грома, среди мха и влажного камня, когда соль ела глаза, а рядом была теплая, доверчивая девушка! Я был жив и упивался жизнью. Игерна оказалась на удивление выносливой; любовь придала ей силы. Не знаю в точности, что она испытывала и понимала ли, что означает ее решение. Она шла к любимому — все прочее не имело значения. В остальном она положилась на меня. А я положился на Пеллеаса. Наши жизни были в его руках: он должен был добраться до того места, где мы оставили лодку, и пройти на веслах вокруг мыса до того, как начнется прилив и море зальет пещеру. Итак, мы ждали, дрожа от промозглой сырости и почти не решаясь думать о том, что натворили. Мы ждали, не зная, сумеет ли Пеллеас выбраться из каера. Вся наша надежда была на довольно грубую хитрость: Пеллеас незаметно выйдет из пиршественного зала и скажет привратнику, что его отправили к Утеру за знаком, подтверждающим мои полномочия. Выбравшись наружу, он должен бегом бежать к лодке и грести — в бурю! — вокруг мыса, чтобы спасти нас из прибывающей воды. Много раз я потом думал, что бы произошло, останься я в Тинтагиле и продолжи переговоры. Могло ли все случиться иначе? Не думаю, что я был способен добиться успеха, хотя тогда полагал иначе, потому что считал, что люди должны слышать доводы разума. С тех пор я убедился, что это совсем не так. Неразумные люди, когда им угрожают, становятся еще более неразумными. Правда — всегда угроза для лжеца. Мятежные короли не стремились к примирению; они бы не раскаялись в содеянном и не дали бы заключить устойчивый мир, а в желании простить усмотрели бы проявление слабости! Да, была бы война, много достойных людей погибло бы, но Горлас, возможно, остался бы жив. Какая ирония! Тот, кто стремился сохранить верность Верховному королю, пострадал из-за измены других! Однако Горлас, как любой человек, избрал собственный путь; никто насильно не вкладывал меч в его руку. Да, мысли мои сбивчивы и путаны, как события той ночи. Попробую привести их в порядок. Скажу так. Мы с Игерной дожидались Пеллеаса в пещере. Горлас заметил исчезновение дочери, затем мое, в гневе поднял дружину и бросился из крепости в погоню. Спутники не поспевали за ним. Он увидел свет на холме и ринулся туда. Думая, что настиг меня, он выхватил меч. На самом деле он столкнулся с двумя часовыми Утера. Мечи скрестились. Горлас пал, прежде чем подоспела его дружина. Так все было. Бесславная история, ибо нет ничего хорошего в убийстве. Смерть Горласа никому не принесла чести. Когда заря обагрила черное небо на востоке, появился Пеллеас. Вода уже подступала к нашим коленям, мы крепко держались друг за друга и тряслись от холода. Мы с Игерной взобрались в лодку. Пеллеас, моля простить его за промедление, взялся за весла и погреб прочь от скал. От холода никто из нас не мог говорить. План, казавшийся ночью таким великолепным, поблек в свете тусклого дня. Я злился на себя за ту роль, которую в нем сыграл, и все же… все же… В пору межвременья, когда все в мире ждет обновления, в жертву за жизнь иной раз приносится жизнь.Когда подошли мы, спутники Горласа и воины Утера еще толпились на холме, пристыжено молча в свете дня. Сам Утер только-только подоспел и как раз отдавал приказ, чтобы тело отнесли назад в крепость. В первый миг ни он не увидел Игерны, ни она — его. Она видела лишь тело отца, лежащее на вереске лицом вверх. Странно, но она, казалось, ничуть не удивилась: не вскрикнула, не завыла, просто встала на колени и рукой убрала волосы с его лба. Потом поправила его плащ, прикрыв страшную рану на боку. Не было ни звука, только ветер шуршал среди вереска и утесника, да где-то в вышине одинокий жаворонок славил наступающий день. Когда в следующее мгновение Игерна встала, в глазах ее не было слез. Она, прямо глядя на Утера, обошла мертвое тело и встала рядом с любимым. Утер обнял ее за плечи и притянул к себе. Вместе они повернулись и пошли с холма в лагерь Верховного короля. Ни он, ни она за все время не проронили ни слова. Утер не вернулся в Каер Уинтан, но занял крепость и на все лето остался в Тинтагиле — этой мощной крепости, из которой он мог приглядывать за мятежными королями. Потрясенные смертью Горласа, они раскаялись и в конце концов приняли условия Утера: заплатили пеню за свои злодеяния и отдали в заложники лучших воинов, которых Верховный король немедля включил в дружину. Во мне он больше не нуждался. Более того, я снова стал ему обузой: пошли слухи, будто он с самого начала замыслил убить Горласа и отправил меня с этим в крепость. Чтобы не возбуждать толков, я вернулся в Инис Аваллах. Говорят, Горласа похоронили, а Утер с Игерной поженились в один и тот же день. Впрочем, чего только не говорят. Я даже слышал, будто Игерна была женой Горласа — вообразите! — и что я волшебством придал Утеру сходство с Горласом и отвел его прямо к ее ложу. Или что я дал Игерне колдовского снадобья, так что она приняла Утера за Аврелия, своего мужа, восставшего из мертвых. А то и вовсе, будто Аврелий вправду пришел из Иного Мира, чтобы возлечь с ней. Во что только люди ни верят!
Глава четырнадцатая
Если б не ребенок, я постарался бы никогда больше не видеть Утера. Даже когда стало ясно, что ехать придется, возникло препятствие. Мы с Пеллеасом только что вернулись в Инис Аваллах из поездки по самым дальним и убогим селениям королевства, где люди прямо рассказывают о своих горестях и обидах. Я сразу отправил Пеллеаса в Ллионесс, узнать, что творится там и насколько усилилось влияние Морганы. Менее всего мне хотелось ехать в Тинтагиль одному. Тем не менее чудовищный замысел Утера надо было во что бы то ни стало предупредить, и никто, кроме меня, не мог этого сделать. Никто больше не знал о нем, а мне он открылся в видении. Целый день мы с Харитой и Аваллахом катались верхом и рыбачили, потом поужинали похлебкой с хлебом, и я, устав, задремал в кресле у очага. Меня разбудил звук — почудилось, что во дворе залаяла собака. Я зашевелился и открыл глаза. Дрова в очаге прогорели, и в тлеющих углях я различил новорожденного мальчика. Кто-то, держащий его за пятку, поднес стальное острие к нежному розовому тельцу. Рядом стояла перепуганная женщина, закрыв белыми руками лицо. Я узнал клинок: боевое оружие Утера, Максимов имперский меч. — В чем дело, соколик? — спросила Харита. Она внимательно смотрела на меня, опустив на колени свиток, который читала. (Целительство заставило ее вновь обратиться к старым книгам о врачевании и снадобьях, и вечерами она часто изучала книги, спасенные из Атлантиды.) — У тебя такое лицо, словно ты увидел свою смерть. Я медленно покачал головой. Тошнотворный страх подступил к горлу. — Не свою, — отвечал я. — Чужую. — Ой, Мерлин… Я не хотела… — Ничего. — Я выдавил улыбку. — Это еще не произошло, и все можно предотвратить. — Тогда ты должен вмешаться, — сказала она. Я и сам знал, что должен. Если не ради ребенка, то ради Утера, чтобы уберечь его от страшной ошибки. Однако я все равно пустился в путь с большой неохотой. До Тинтагиля я добрался, переодетый бродячим арфистом, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Не хотелось, чтобы об этой поездке пошли толки, а в последнее время каждый мой шаг обсуждали на всем острове. Чем меньше станет известно об этой прискорбной истории, тем лучше будет для всех. Остров Могущественного на исходе летней поры! Что на земле может с этим сравниться? Холмы в пламени вереска и медно-красного папоротника, внизу золотятся нивы, под высокими небесами наливаются соком плоды неустанных трудов, дни еще теплые, ночи наполнены светом. В это время года каждый радуется тому, что жив. Сбор урожая начинается в Лугназад, День первых плодов — древнейший и самый священный праздник, который чтит даже церковь: в этот день благодарят Бога за Его бесчисленные щедроты. На каждом холме пылают огромные костры, и каждое каменное кольцо, как встарь, становится священным кругом — средоточием силы, где в эту ночь завеса между нашим и Иным Миром истончается, так что посвященный может увидеть прошлое или будущее. И вот теперь, когда римские города разрушились и люди снова ушли в селения, Лугназад, как мне показалось, стали отмечать еще шире. Люди чаще обращаются к старым обычаям, ища утешения в вере прежних немудреных времен. Погода стояла отличная, и я прибыл в Тинтагиль через несколько дней после Лугназада. Привратник взглянул на арфу и сразу отворил ворота. Хоть кого-то мой приезд обрадовал, правда, не скажу, что Утер от восторга пустился в пляс. С самого начала он был замкнут и подозрителен. Я видел, что разговор состоится трудный. Оставалось одно: сразу заговорить начистоту. — Мы с тобой друзья. — (Да, он нуждался в этом напоминании.) — И я знаю тебя, Утер. Не отпирайся: я знаю, что должно родиться дитя и ты собираешься убить его при рождении. Я не ждал, что он сознается, но хотел показать, что ложь ни к чему не приведет. Игерна стояла чуть поодаль и смотрела на меня, теребя край накидки, и на лице ее мешались страх и облегчение. Думаю, в глубине души она с самого начала надеялась: что-нибудь Утера остановит. — Я что, по-твоему, рехнулся? — вскричал он. — Это может быть мальчик, и тогда речь идет о моем наследнике! Утер проговорился, хотя сам еще этого не понял. Надейся он, что ребенок его, он бы сказал иначе. Нет, семя, возрастающее в Игерне, принадлежит Аврелию, и Утеру это известно. Вот почему он произнес то слово, которое было у него на уме: «наследник». — Конечно, он твой наследник, — отвечал я. Чьим бы сыном он ни был — Утера или Аврелия — ему надлежит наследовать верховный престол. Станет ли он королем на самом деле — другой вопрос. — Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. — Утер нетерпеливо отмахнулся. — Так или иначе, я не убийца, что бы обо мне ни толковали. Он имел в виду беспочвенный слух, будто он нарочно убил Горласа, чтобы жениться на Игерне. — Я здесь не затем, чтобы называть тебя убийцей, — промолвил я. — Единственное, что меня заботит, — ребенок. — Значит, мы хоть в чем-то согласны. — Он бросил быстрый взгляд на Игерну, потом снова перевел взор на меня. — Что ты предлагаешь? — А надо что-то предложить? — Ты хочешь сказать, что проделал весь этот путь с единственной целью: проверить, собираюсь ли я убить новорожденного? — Он неестественно расхохотался. Мне стало жутко. — Что же, ты бы не первый из земных царей попытался разрубить запутанный узел с помощью меча. Однако я рад слышать, что страхи мои напрасны. — Я бы сказал, не совсем. — Он повертел золотой браслет, изображавший дракона — свой теперешний знак. — Думаю, есть многие, — начал медленно и тихо, словно боялся, что его подслушают, — кто дорого заплатил бы за смерть этого младенца. Игерна тихонько всхлипнула. — Верно, — отвечал я, — но король всегда может защитить своих близких. И потом, такое случается столь редко… — Не так уж и редко, — настаивал Утер. — Ты забыл, что стало с Аврелием? Мы живем в опасное время. — Он улыбнулся одними губами. — Кругом страшные люди. — Говори, к чему ты клонишь? — Ребенку небезопасно будет здесь оставаться. — Где ж ему будет безопаснее? — Это тебе знать. Ты сумеешь отыскать надежное место. Надо отдать ему должное, Утер, когда его прижмешь, мог на ходу сочинить нечто в высшей степени убедительное. Игерна догадалась, к чему он подводит, и шагнула к нам. — Он прав, Мирддин Эмрис, ты сумеешь отыскать место. Меня это удивило, но, полагаю, ею двигало естественное чувство. Она думала, что, даже если Утер не убьет ребенка, это сделает кто-нибудь другой. Даже если его удастся уберечь, дитя станет между ней и мужем, чего она страшилась еще сильнее. Она выбрала наименьшее зло. Лучше отдать ребенка в неведомые добрые руки, чем постоянно дрожать за его жизнь и в то же время проклинать минуту его рождения. И, надо сказать правду, сейчас Утер не лгал. Если так легко отравили Аврелия, кто помешает сгубить беспомощное дитя? Тщеславные властолюбцы Дунаут, Моркант и Коледак станут для него постоянно угрозой. Да и они ли одни? Однако Утер думал не только о них, но и о другом: «Этот ребенок должен уступить место моему собственному». Мне тоже понравился этот план, хотя совсем по иной причине. Если почему-то Утер не сумеет обзавестись наследниками, у нас будет в запасе сын Аврелия. Однако вслух я этого не сказал. Игерна подошла ближе и положила руку мне на локоть. — Пожалуйста, Мирддин Эмрис, отыщи хорошее, надежное место для моего маленького. Никому, кроме тебя, я его не отдам. Она смотрела на меня большими темными глазами, исполненными надежды и страха. Отказать ей было бы жестоко. В любом случае, это являлось самым лучшим решением. — Я сделаю, что смогу, госпожа моя. Но, — я предостерегающе поднял палец, — все должно быть, как я скажу. Чур потом от уговора не отказываться. У вас еще есть время решать. — Нет, — сказала она, — я уже все решила. Я верю тебе, Мирддин Эмрис. Поступай так, как считаешь нужным. — И я тоже доверяю тебе, Мерлин. Мы исполним все, что ты скажешь. Утер умел быть великодушным. А почему бы нет? Он считал, что одним махом разрешил свои затруднения и спас свое доброе имя. Он гордился собой. Сыновья еще народятся. А раз решившись, он будет верен своему слову до конца. Мы еще немного поговорили и сошлись на том, что я заберу ребенка сразу после рождения — Игерна опасалась, что в противном случае не сможет с ним расстаться, — и отдам на воспитание в известное мне одному место. Все получалось замечательно. Однако то, что в те дни представлялось сущей безделицей — воспитание нежеланного ребенка, — вскоре превратилось в запутанный колючий клубок. Потому что это был необычный ребенок.Я вернулся в Инис Аваллах ждать, когда родится ребенок. Пеллеас прибыл из Ллионесса с горестной вестью: Белин смертельно болен и не протянет до конца зимы. Поскольку он не оставил законных наследников, трон должен перейти по Аваллаховой линии к сыновьям Хариты или Морганы. Так как сын Хариты — прямой потомок Аваллаха, выбор скорее всего падет на старшего из сыновей Морганы. Старый атлантический порядок преемственности, сложившийся за долгие века и освященный традицией, так же отличается от примитивного наследственного права бриттов, как Остров Бессмертных от Острова Могущественного. Тем не менее Аваллах печально подтвердил, что, вероятно, кто-то из отпрысков Морганы вскоре обретет власть. — Мне очень горько, что брат умирает, — сказал король-рыболов, — но еще больше меня гнетет, что от этого выиграет Моргана и ее потомство. — Больше он ничего об этом не сказал и после двух дней молчаливых раздумий объявил: — Я отправлюсь в Ллионесс и попрошу монахов из святилища поехать со мною. Может быть, мы избавим Белина от мучений если не в этой, то в другой жизни. Харита предложила поехать с ним, и я тоже, но он отвечал: — Лучше мне ехать одному. Нам многое надо сказать друг другу. Понимаю, вы не стали бы вмешиваться, но с глазу на глаз мы сможем говорить откровеннее. Обо всем остальном позаботятся монахи. — Он не упомянул о том, чего боялся сильнее всего, — появления Морганы, пока он будет там. Если так, Аваллах хотел встретиться с ней сам, без меня и Хариты. Король-рыболов покинул Тор, как только закончились сборы. С собой он взял лишь двух доверенных слуг и шестерых монахов из обители под холмом святилища. Впрочем, добрые братья владели мечом и копьем не хуже, чем латынью и Словом Божиим. Редкому иноку не пришлось до рясы носить доспехи, и никто из них не стыдился своего прошлого. Становилось все холоднее. Мы с Пеллеасом охотились в соседних холмах и долинах, добывая пищу для зимнего стола. Дни стояли ядреные, как свежие яблоки. Мы ждали известий от Аваллаха, однако их не было, как не было и гонцов от Утера. Тогда мы занялись своими делами: стали придумывать, где разместить сына Игерны. Хотелось разыскать самое безопасное убежище, но очень скоро наш список сократился до трех имен: Теодриг в Диведе, Кустеннин в Годдеу и Хоэль в Арморике. Мысль воспитать ребенка в Инис Аваллахе, конечно, пришла мне в голову, но я почти сразу ее отбросил. Нехорошо, чтобы мальчик рос неприспособленным к той жизни, которая ему предстоит. «Здешняя жизнь, — заметил Пеллеас, — ближе к жизни Иного Мира, чем к обычной земной». — Мне она подходит, — возразил я. — Конечно, но она подойдет не всякому, — ответил Пеллеас, подтверждая мои сомнения. — Значит, надо выбирать из трех, — задумчиво произнес я. — Из двух, — возразил Пеллеас. — Хоэль охотно принял бы мальчика — он хоть и стар, но крепок, — однако до него слишком далеко добираться. — Вот и хорошо, безопаснее, — сказал я. — Да, если б речь шла об обычных убийцах, — согласился Пеллеас. — Но тех, кто решился на все, не остановит и расстояние. К тому же враги в первую очередь будут искать мальчика там, где воспитали Аврелия и Утера. — Остаются Теодриг и Кустеннин, — проговорил я. — Теодриг силен и предан, однако Дивед окружен врагами. Моркант и Дунаут — его соседи, они наверняка проведают, что мальчик, которого воспитывает Теодриг, — сын Утера. К Кустеннину на север лазутчики не проберутся, но у него не так безопасно, как у Теодрига. — Я поднял руки ладонями вверх, как весы, показывая, что доводы за и против обоих весят одинаково. — Кого выбрал бы ты? Пеллеас задумчиво нахмурил лоб. — А зачем вообще выбирать? — Он просветлел. — Почему бы не растить его там и там в зависимости от времени и надобности? — И впрямь, почему бы нет? Здравая мысль. Пусть ребенок набирается ума от обоих, пусть узнает обычаи двух разных владык. Прекрасно придумано! Решив это, я перестал думать о ребенке: до его рождения больше ничего нельзя сделать. Посылать гонца к Теодригу и Кустеннину я опасался, а сам поехать не мог, чтобы потом не догадались, что советник короля ездил договариваться о воспитании его наследника. Я не надеялся, что Утер сумеет сохранить рождение ребенка в тайне. Раньше или позже слух просочится, как вода из дубовой корзины, и по всей стране властолюбивые правители начнут охотиться за ребенком. Довольный своим планом, я посчитал, что могу ничего больше не делать, покуда не придет время двигаться в путь, чтобы поспеть к родам. А так как забот пока не предвиделось, я выбросил все мысли о ребенке из головы и занялся другим. Скажу по правде: в то время я не придавал рождению этого мальчика большого значения. Несмотря на все знаки — можно сказать, знамения, — он был для меня младенцем, которого надо спасти. И еще сыном умершего друга. Но это все. Другие дела казались куда более насущными. Я углубился в них и вскоре начисто позабыл про дитя.
Глава пятнадцатая
Младенец родился серой тоскливой порой, когда холодные ветры несут снег с промерзшего севера, в месяц лишений и смерти, когда сама зима умирает на Рождество. Рождение из смерти, как повелось издревле. Я смотрел в дубовую чашу и пять ночей кряду вглядывался в чистое по-зимнему небо. Так я узнал, что время пришло. Мы с Пеллеасом доехали до Тинтагиля и остановились неподалеку в лесной лощине дожидаться, пока Игерна разрешится от бремени. Входить в каер я не хотел, чтобы не возбуждать толков. Три дня мы сидели в плащах и шкурах у костерка, жгли дубовые сучья и сосновые шишки и ждали. На третью ночь нашего бдения случилось странное: из леса вышел огромный черный медведь, бесшумно обошел вокруг костра, опасливо обнюхал нас и заковылял по дороге к каеру. — Идем за ним, — прошептал я. — Может быть, ему ведомо что-то такое, о чем нам тоже следует знать. Мы догнали его на краю леса. Он стоял на задних лапах, четко вырисовываясь на фоне залитого луной снега. Он нюхал морской ветер и при нашем приближении повернул голову, но не двинулся с места. Некоторое время он стоял так, глядя на крепость Утера, и потом, словно решившись, побрел к ней. — Голод выгнал его из берлоги, — заметил Пеллеас. — Он ищет, что бы поесть. — Нет, Пеллеас, он идет почтить новорожденного. — Я и сейчас помню изумленный взгляд Пеллеаса, его белое в лунном свете лицо. — Идем, пора. К тому времени, как мы достигли ворот, исполинский медведь как-то — может быть, с помощью грубой звериной силищи — сумел пробиться в каер. Привратник, надо полагать, спал и при виде него кинулся звать на помощь, бросив ворота без присмотра. Все бегали с огнем, собаки заходились от лая и рвались с поводков. Никто не заметил, как мы проскользнули в ворота и направились прямо в большой зал, а через него — в королевскую опочивальню. Игерна лежала в своей светлице, при ней были служанки и повитуха, но Утер сидел внизу в одиночестве. На коленях его лежал обнаженный меч — меч Максима. Когда мы вошли, Утер поднял глаза: вина ясно была написана на его лице. Я уличил его, и он это знал. — А, Мерлин, вот и ты. Я так и думал, что ты придешь. — Он старался изобразить облегчение. Вместе с нами в покои ворвался уличный шум, и Утер ухватился за возможность заговорить о другом. — Что там за крики, клянусь Вороном? — В твою крепость вошел медведь, — сказал я. — Медведь. — Он сделал вид, что задумался, словно я сказал нечто очень значительное. Потом добавил: — Моя супруга пока не разрешилась. Можете сесть — ждать еще долго. Я отправил Пеллеаса за едой и питьем для нас, и он исчез за шкурой, скрывающей выход из зала. Я сел в большое кресло Горласа — Утер даже в доме предпочитал походное — и в упор взглянул на короля. — Мне грустно, Утер, — прямо сказал я. — Зачем ты нарушил слово? — Когда я что-нибудь обещал? — сердито бросил он. — Не возводи на меня напраслину. — Тогда скажи, что я не прав. Скажи, что меч у тебя на коленях не для младенца. Скажи, что ты не намерен его убить. Утер нахмурился и отвел глаза. — Клянусь Богом, Мерлин, ты несносен. — Скажи, что я ошибаюсь, и я принесу извинения. — Мне нечего сказать! Я не обязан держать перед тобой ответ! — Знает ли Игерна, что ты замыслил? — Чего ты от меня хочешь? — Он вскочил и бросил меч на стол. — Чтобы ты выполнил обещание, — сказал я. Мне хотелось сказать иначе, но я старался облегчить ему решение. Однако Верховный король по-прежнему колебался. Как я уже говорил, Утера нелегко было свернуть с намеченного пути. И у него было время укрепиться в задуманном. Он заходил по комнате, бросая на меня сердитые взгляды. — Я ничего не обещал. Все это были твои выдумки. Я своего согласия не давал. — Неправда, Утер. Это ты предложил мне забрать ребенка. — Ладно, я передумал, — прорычал он. — Тебе-то что? Какая твоя корысть? — Такая: чтобы сын Аврелия, прямой потомок Константина, не умер, еще не живши. Утер, — продолжал я мягко, — он твой племянник. По всем законам земным и небесным убить дитя — величайшее преступление. Оно недостойно тебя, Утер, ведь ты оставил в живых Окту, сына врага. Как же ты убьешь сына своего брата, которого так любил? Утер оскалился. — Ты все выворачиваешь наизнанку! — Я говорю чистую правду. Откажись от этого замысла! Если не ради ребенка, то ради себя. Не рассчитывай войти в Божий покой с таким пятном на душе. Верховный король оставался глух. Расставив ноги и сдвинув губы, он угрожающе смотрел на меня. Да, он умел быть непреклонным. — Зачем это тебе, Утер? Что ты выиграешь? Он не ответил, потому что не знал. Однако он не сдавался. — Ладно, — вздохнул я. — Хотелось тебя убедить, но ты не оставил мне выбора. — И как же ты поступишь? — Истребую награду, за которую ты поручился мне честью. — Какую награду? — опасливо спросил он. — В ту ночь, когда я вывел Игерну из крепости, ты обещал исполнить любое мое желание. «Хоть полкоролевства», — сказал ты. Я свою часть выполнил и ничего тогда не попросил. Теперь я заберу свою плату. — Ребенка? — не поверил Утер. Он начисто позабыл про свое обещание и только теперь вспомнил. — Да, ребенка. Я требую в награду его. Утер был побежден и знал это, однако все еще не сдавался. — Ну ты и хитрец. — Он взглянул мне прямо в лицо. — А если я откажусь? — Что ж, откажись — и навсегда потеряешь честь и уважение к себе. Твое имя станет проклятием. Ты никогда больше не посмеешь повелевать людьми. Рассуди, Утер, стоит ли того убийство беспомощного младенца. — Ладно! — Он едва не лопался от ярости. — Забирай! Забирай ребенка и покончим с этим! В этот миг вошел Пеллеас с кувшином меда, кубками, хлебом и сыром. Все это он поставил на стол и начал разливать мед. — Мяса я не нашел, — сказал он. — Поварня пуста. — Довольно и этого, Пеллеас, спасибо. — Я повернулся к Утеру и протянул ему кубок. — Я принимаю твою награду, Утер. Расстанемся друзьями. Верховный король промолчал, но принял одной рукой кубок, другой ломоть хлеба. Мы вместе выпили и поели. Утер немного успокоился. Однако, когда ушло сознание вины и гнев, пришел стыд. Король сел в кресло. Им овладело отчаяние. Чтобы отвлечь его внимание, я сказал: — Интересно, что стало с медведем? Может быть, стоит пойти посмотреть. Мы вышли через пустой зал на улицу. На дворе было неестественно тихо. Собаки уже не лаяли, и я решил, что медведя убили. Однако нет, он был жив. Его загнали в угол крепостной стены. Здесь, окруженный факелами и копьями, зверь стоял на задних лапах, вскинув передние, шерсть у него на загривке поднялась дыбом, клыки скалились, глаза поблескивали в алом свете факелов. Великолепный зверь: загнанный в угол, но не побежденный! Утер увидел медведя и разом переменился. Он замер на месте, пристально глядя на зверя. Что он там увидел, не знаю. Однако когда он двинулся снова, то казалось, что он идет во сне: медленно, плавно, он прошел сквозь круг людей и направился к зверю. — Стойте, государь! — закричал один из его предводителей. Бросив копье, он схватил Верховного короля и потянул назад. — Тише! — прошипел я. — Пусти его! Я ощущал близость Иного Мира. Очертания стали четче: я видел восходящую луну, медведя, воинов с факелами, Утера, сверкающие наконечники копий, звезды, Пеллеаса, темную каменную стену, мостовую под ногами, замолкших псов… Это был сон и более чем сон. Сон стал явью или явь — сном. Такое случается редко, и кто ответит, где правда? Видевшие потом изумленно качали головами, а не видевшие поднимали их на смех — что, мол, такое плетете. Это нельзя было пересказать! Утер отважно шагнул к медведю, и тот, нагнув голову, опустился на передние лапы. Верховный король протянул руку, и медведь, словно узнав хозяина, ткнулся носом ему в ладонь. Другой рукой Утер погладил его по огромной башке. Люди застыли в изумлении: их повелитель и дикий зверь поздоровались, словно старые друзья. Может быть, в каком-то необъяснимом смысле это так и было. Не знаю, отдавал ли Утер отчет в своих действиях — потом он почти ничего не сумел вспомнить. Однако они простояли так несколько мгновений, затем Утер опустил руку и отвернулся. Один из псов зарычал и кинулся вперед, вырвав поводок у опешившего хозяина. Медведь вскинулся и махнул лапой. Пес полетел прочь с переломанным хребтом, визжа от боли. Вой изувеченной собаки прервал сон. Остальные псы бросились на медведя. Все тот же предводитель ухватил Утера за руку и оттащил на безопасное расстояние. Полетели копья. Медведь скалился и бил лапами по воздуху, ломая древки, словно тростинки, но кровь уже хлестала на мостовую. Ревя от боли и ярости, огромный зверь рухнул, и псы принялись рвать его горло. — Оттащите их! — взревел Утер. — Оттащите собак! Собак оттащили, и все снова смолкло. Медведь был мертв, кровь собиралась в черную лужу под его тушей. Земной мир, как всегда, вернулся в свое обычное состояние — состояние голой, ничем не смягченной жестокости. Однако на мгновение — пусть на самое краткое — стоящие во дворе ощутили покой и милость Иного Мира. Некоторые утверждают, что это Горлас явился в ту ночь приветствовать внука. Или что дух медведя, излившийся жертвенной кровью на камни в миг появления младенца на свет, проник в душу новорожденного. Ибо когда мы вновь подошли к дверям, то услышали пронзительный детский крик. Добрый знак, когда ребенок кричит при рождении. Утер вздрогнул, словно проснулся, и повернулся ко мне. — Это… — он запнулся, — …мальчик. «Сын» — едва не сказал он. — Жди здесь, я прикажу вынести ребенка. Лучше Игерне тебя не видеть. — Как велишь. — Я помахал Пеллеасу, чтобы он вернулся в лес и привел лошадей. Пеллеас быстро пошел к воротам, а я остался ждать у дверей. Люди, сбежавшиеся на шум, начали расходиться. Все они останавливались, чтобы взглянуть на медведя, которого уже начали свежевать. И впрямь, это был редкой величины зверь. Вернулся Пеллеас с лошадьми. Мы надеялись увезти младенца незаметно, но медведь смешал наши планы. Все видели, что мы здесь, и завтра станет известно, что мы увезли ребенка. Исправить это было нельзя; оставалось уповать на провидение и смело продолжать начатое. Мы ждали и смотрели, как свежуют медведя. Сняв шкуру, тушу разрубили на части, сердце и печень бросили собакам. Мясо пойдет на пир: его поджарят на вертеле или сварят в котле. Да, чуть не позабыл: сегодня Рождество. Я поднял глаза на восток и увидел, что скоро начнет светать. У горизонта небо уже посветлело; в сером проступало розовое и рыжее. Я услышал сзади шаги. Подошел Утер. Он нес меховой сверток, на его лице нельзя было прочесть никаких чувств. Следом шла женщина. — Вот, — коротко сказал он. — Забирай. — Потом нежно — наверное, я в первый и последний раз видел его таким — отогнул край меха и коснулся губами крошечной головки. — Прощай, племянник, — сказал он и поглядел на меня. Я думал, он спросит, куда я забираю ребенка (уверен, у него была именно эта мысль), но он просто вручил мне сверток и сказал: — Ну, иди. — Не бойся, о нем хорошо позаботятся. — Игерна спит, — сказал он. — Пойду посижу с ней. — Он повернулся, увидел женщину и вспомнил: — Это кормилица, она едет с вами. Лошадь для нее уже приготовлена. — Он собрался уйти, но что-то его удерживало. Он молчал, не сводя глаз со свертка у меня на руках. — Что-нибудь еще нужно? К нам приблизились воины, которые хотели внести в дом шкуру медведя. — Да, Утер, — отвечал я. — Медвежья шкура. Он с любопытством взглянул на меня, но приказал, чтобы свежесодранную шкуру свернули и приторочили кмоему седлу. Когда все было закончено, подошел конюх с лошадью для кормилицы. Она села в седло, я протянул ей ребенка и, взяв ее лошадь за повод, провел вместе со своей в ворота и затем по узкой дамбе. Из-за стены на нас смотрели несколько жителей каера, но никто ничего не сказал и никто за нами не следовал. Когда наконец наступило утро, окрасив пурпуром и золотом облака и заснеженные вершины на востоке, мы уже выезжали из лощины в голые холмы за Тинтагилем. Над нами в морозном воздухе с криком вились чайки. Мне не хотелось ехать зимой по морю, но надо было как можно скорее попасть в Дивед. Дорога — не место для новорожденного, а зимой даже самые заядлые путешественники сидят по домам. Значит, предстояло пересечь Хабренский залив, как бы это меня ни огорчало. Зимнее море унесло множество жизней, и большинство лодочников в это время года отказывались даже говорить о поездке. Однако всегда найдется человек, готовый за деньги рискнуть здоровьем и жизнью. В итоге мы без труда отыскали лодку. Тем не менее пришлось ждать четыре дня, пока улеглось волнение. Все это время меня терзала тревога. Но если кто и заметил наш отъезд, мы о том не ведали: в дороге мы никого не встретили, да и лодочник не проявил к нам интереса. Сговорившись о цене, он ни о чем больше не спрашивал, а молча и сноровисто занимался своим делом. Если он и подумал о нас, то, без сомнения, счел женщину моей женой, а Пеллеаса — слугой. Я по возможности укреплял это впечатление, хлопоча вокруг кормилицы и ребенка и заботясь об их удобствах. Бедная женщина недавно потеряла мужа — его конь оступился на опасной Тинтагильской дамбе — и сына, который сгорел от лихорадки всего несколько дней назад. Сперва она показалась мне старухой, но я ошибся. По мере того как текли дни, горе и заботы отходили на задний план, и к ней мало-помалу возвращалась природная красота. Она все чаще улыбалась, держа ребенка, благодарила меня и Пеллеаса за мелкие услуги. Энид (так ее звали) с удовольствием кормила дитя и прижимала к себе с поистине материнской любовью. Думаю, близость беспомощного младенца постепенно исцеляла ее душевные раны. Наконец ветер утих, и мы сели в лодку. Было холодно, промозглая сырость пробирала до костей, ветер налетал порывами и жалил кожу. Однако волны не разгулялись, так что мы благополучно добрались до противоположного берега. Я заплатил лодочнику вдвое против обещанного, чем несказанно его обрадовал. Преодолев Хабренский залив, мы вскоре въехали во владения Теодрига, и в первую ночь нашли кров в маленьком прибрежном аббатстве Ллантейло, которое выстроил прославленный епископ Тейло. Назавтра очень похолодало, однако высокое безоблачное небо искрилось и сияло. В этот день мы проехали остаток пути до Каер Мирддина. В это время года солнце садится рано. Уже смеркалось, и первые звездочки затеплились на небе, когда мы достигли крепости Теодрига. Ярмарочный город стоял печальным напоминанием об ушедшей эпохе. Мы проехали через развалины и начали подниматься на холм по дороге, ведущей к каеру. В неподвижном ночном воздухе плыл серебристый дым от множества очагов, и, подъехав ближе, мы различили запах жарящегося мяса. Нас, разумеется, увидели издалека, и в воротах нас встретил молодой человек с редкой каштановой бородкой. — Здравствуйте, друзья, — сказал он, преграждая путь. — Что привело вас в дом Теодрига холодной зимней ночью? — Здравствуй, Меуриг, — отвечал я, ибо это был старший сын Теодрига. Прочий люд толпился вокруг, разглядывая нас с вежливым, хоть и неприкрытым любопытством. — Вижу, ты стал совсем взрослый. Услышав свое имя, Меуриг подошел ближе. — Я к вашим услугам, сударь. Откуда вы меня знаете? — Как же мне не знать сына моего друга, короля Теодрига? Он склонил голову на бок. Думаю, его сбили с толку мои спутники — женщина и младенец. Однако кто-то из зрителей узнал меня и шепнул: — Эмрис приехал! Меуриг услышал имя, вскинул голову, взялся за мою уздечку и сказал: — Прости меня, лорд Эмрис. Я не ведал, что это ты… Я отмахнулся от его извинений. — Ничего, ничего. Однако теперь позволь нам пройти — темно и ребенок замерзнет. — Конечно, сударь. Мы спешились, и он знаком показал, чтобы забрали коней. Кто-то сбегал в дом сообщить о нашем приезде, потому что в дверях по ту сторону двора нас встречал уже сам Теодриг. — Твой сын вырос настоящим молодцом, — сказал я Теодригу после того, как передал Энид и младенца попечениям женщин, а мы с Пеллеасом устроились возле очага с чарками подогретого ароматного вина. — Я помню его совсем маленьким. — Да, он возмужал. — Теодриг улыбнулся, мои слова пришлись ему по душе. — Он в прошлом году женился, в начале весны сам должен стать отцом. — Он неожиданно рассмеялся. — А я и не слыхал, что ты тоже обзавелся супругой. — Увы, у меня на это не было времени. — Так я и думал. Ну, расскажи, что важного случилось на Острове Могущественного? — О смерти Горласа ты слышал, — сказал я. — Плохая история, очень плохая. Я сильно огорчился. Славный был воин. — Тогда ты знаешь и о женитьбе Верховного короля. Что до остального, тебе известно больше, чем мне; я много месяцев жил в Инис Аваллахе. — Не с Пендрагоном? — удивленно поднял бровь Теодриг. — У него есть свои советники, — просто ответил я. — Да, но ты… — Нет, так лучше. Когда надо, Утер меня выслушает, а я его. Мне этого довольно. С минуту мы прихлебывали сладкое вино, чувствуя, как отогревается промерзшее нутро. Теодриг ждал, пока мы сами объясним, зачем приехали. — Так получилось, — сказал я, отставляя кубок, — что я здесь с поручением от Верховного короля. Теодриг подался вперед. — Дело это довольно важное, лорд Теодриг, и требует твоего участия. — Я сделаю все, что в моих силах. Для тебя, Мирддин Эмрис, не меньше, чем для Верховного короля. В этом можешь не сомневаться. — Спасибо, друг мой. Однако просьбу мою исполнить нелегко, и я попрошу тебя хорошенько подумать и, может быть, обсудить ее со своими советниками. — Как пожелаешь. Все же, если ты посчитал нужным приехать ко мне, я отвечу, что не откажу тебе ни в чем. Ибо я рассуждаю так: коли я не мог бы помочь, ты бы не стал ко мне обращаться. Догадался ли он уже, зачем я приехал? Теодриг умен; следующие его слова подтвердили мое подозрение. — Просьба твоя касается ребенка? Я кивнул. — Чей он? — Игерны и Аврелия, — отвечал я. — Так я и думал, — задумчиво проговорил Теодриг. — Не Утерова, но та же благородная кровь. Итак, Пендрагон не хочет постоянно видеть перед глазами того, кто перешел дорогу его собственным детям. — В этом-то и дело, — согласился я. — Однако ребенка надо сберечь… Теодриг важно кивнул: — Потому что он будет следующим Пендрагоном Британии! Уверяю, порой я бываю слеп, как любой из нас. И вот подтверждение: до этих слов Теодрига я ни разу всерьез не думал, что ребенка ждет славное будущее. Даже в тот миг я не поверил. Для меня это был всего лишь младенец, которого следовало уберечь от опасного честолюбия окружающих, но никак не будущий король. Я был слеп, как крот. Каюсь, тогдашние события и свершения занимали меня куда больше, чем одна маленькая жизнь. Я не видел дальше своего носа. Такова простая истина, и мне стыдно в ней сознаваться. Теодриг продолжал: — Я вижу, в чем затруднение. Стоит Дунауту, Морканту или кому-нибудь еще из их своры узнать, что у Аврелия есть наследник, — и мальчишке не жить. — Да, опасность угрожает ему самому и, возможно, тем, кто будет с ним рядом. — Ха! Пусть только попробуют его тронуть! Пусть попробуют и узнают, что такое праведный гнев! Это не было пустой угрозой: Теодриг не бахвал. Однако мне мало было его чувств, пусть даже самых благородных. — Знаю, что у тебя никакая опасность мальчику не грозит. Сила и мудрость твоя и твоих людей тому порукой. Ведь его надо будет не только оберегать, но воспитывать и учить. — Гвителин по соседству, в Лландаффе. Не бойся, мальчонку будут учить как следует. — Теодриг отхлебнул вина и улыбнулся во весь рот. — Сын Аврелия — в моем доме. Для меня это большая честь. — Увы, о ней не следует трубить. Больше он не сын Аврелия, а просто твой приемный ребенок. — Конечно. Твоя тайна, Мирддин Эмрис, останется в моем сердце. — Наша тайна, Теодриг, — напомнил я. — И больше мы не будем о ней говорить. — Не будем, — согласился Теодриг, — только скажи, как зовут мальчика? Как его называть? Стыдно признаться, но об имени для ребенка я не подумал. Ни Утер, ни Игерна об этом не позаботились, а мне за тревогами о его безопасности недосуг было думать об остальном. Однако у человека должно быть имя… Слово приходит, когда в нем возникает нужда. И сейчас, как уже нередко случалось прежде, имя само сорвалось с языка: — Артур. И, едва проговорив его, я вновь услыхал голоса из видения: лондонская толпа выкликала: «Артур! Артур! Да здравствует Артур!» Теодриг не сводил глаз с моего лица, брови его тревожно сошлись. — Что-то не так? — Все хорошо, — заверил я. — Ребенок… пусть зовется Артуром. Теодриг повторил, словно пробуя имя на язык: — Артур… хорошо. Хотя имя странное. Что оно означает? — Думаю, ему самому придется наполнить смыслом свое имя. — Тогда постараемся, чтоб он дожил до той поры, — отвечал Теодриг. Он вновь взял чашу и поднял ее повыше: — За Артура! Здоровья ему и долголетия, мудрости и силы! Да заслужит он почетное место на пиршестве отцов!Глава шестнадцатая
Мы с Пеллеасом еще немного пробыли в Каер Мирддине и охотно задержались бы подольше, но нам, едва погода наладилась, надо было отправляться в Инис Аваллах. В дороге не случилось ничего примечательного, мы вообще не встретили ни одного человека. Однако в день отъезда из Диведа на меня накатила странная тоска. Безымянное томление, мучительное и острое, как горе. В памяти всплыли все прежние потери. Одно за другим возникали лица тех, с кем я встречался в жизни и кто теперь истлевает в земле: Ганиеда, прекраснейшая из дочерей человеческих, жена и возлюбленная, ее светлый взгляд и звенящий смех, блестящие локоны, длинные и черные, лукавая улыбка, когда она что-то скрывала, сладость ее лобзаний… Хафган, верховный друид, глядящий на мир с высоты своей величайшей премудрости, способный радоваться детской любознательности, исполненный достоинства в малейшем своем движении, непоколебимый защитник Света… Давид, воплощенная доброта, милость, обретшая душу. Он прилежно искал, защищал и нес другим Истину; умел верить, не осуждая чужого неверия. Сеятель Доброго Семени в почву людских сердец… Гвендолау, стойкий соратник, неукротимый в бою и дружбе. Он первый поднимал кубок и последним его опускал, пил жизнь большими глотками, не знал ни боли, ни тягот, когда надо помочь товарищу… Блез, последний истинный бард, чуткий и понимающий, неизменный в дружбе, стойкий в добродетели; горящий факел, поднесенный к сухому труту Старых Обычаев… И другие: Эльфин… Ронвен… Мелвис… Киалл… Аврелий…Тяжесть на сердце не прошла ни весной, ни летом. Я все чаще и чаще ловил себя на мыслях об отце. Я пытался понять, каким он был, горевал, что так его и не видел, плакал, что не слышал звука его голоса. Постепенно сожаление переросло из простой печали в черную ненависть к сгубившей его Моргане. Меня приводило в ярость, что она живет и дышит воздухом этого мира, в то время как Талиесин и много других прекрасных людей его покинули. И мне пришло в голову убить ее. Я даже решал, как это осуществить. Еще до конца весны я продумал все детали убийства. В душе я убивал ее великое множество раз. Я не страшился исполнить свой замысел. Наверное, я отыскал бы ее и уничтожил. Однако мы редко бываем предоставлены сами себе. Господь смотрит за всеми, не давая нам надолго отойти. Думаю, если б не это, томиться бы мне вместе с Морганой в смрадной адской темнице. А случилось вот что. На Холм святилища пришла женщина, маявшаяся от недуга в костях: они стали хрупкими, как прутики, легко ломались и потом долго не срастались. Дошло до того, что малейший удар приводил к болезненной шишке, которая не проходила неделями. Она сильно страдала от своей хвори, постоянно мучилась, то ходила с рукой в лубке, то ковыляла на костылях. Она убедила родичей отвести ее в Святилище, потому что слышала о здешних монахах-врачевателях, а точнее — о тех чудесных исцелениях, которые совершила Харита. И вот с простодушной верой она пришла лечиться. Харита уже заметила мою растущую тоску и, думаю, встревожилась. Она пыталась со мной говорить, но я уже не воспринимал слов. В тот день, когда пришла эта женщина, Харита взяла меня с собой. Я был в полном помрачении чувств и пошел с ней в Святилище, потому что мне было безразлично, куда идти. Женщина, не молодая, но и не старая, была в залатанном, обтрепанном по подолу, но чисто выстиранном зеленом наряде. Она улыбнулась Харите, когда та вошла в комнату, отведенную монахами для больных. Были здесь и другие страждущие, между ними ходили монахи в серых одеждах. С холма, словно сладостный дождь, доносилось пение псалмов. — Как тебя зовут? — ласково спросила Харита, садясь на табурет рядом с лежанкой женщины. — Уисна, — отвечала та, с трудом выдавливая улыбку. — Можно взглянуть на твои руки, Уисна? — Харита взяла пальцы женщины в свои. От природы тонкие и длинные, они были изуродованы страшными багровыми синяками. Харита легонько потрогала их, и женщина скривилась от боли: я понял, что даже мягкие прикосновения мучительны. — Вы сможете мне помочь? — тихонько спросила Уисна. К моему изумлению Харита ответила: — Да, я тебе помогу. Как же так? Не знай я свою мать, я бы подумал, что она бездумно сулит невозможное. Однако она добавила: — Бог, покровительствующий этому месту, помогает всем, кто призывает Его имя. — Так скажи это имя, чтобы и я могла его призвать. Глядя прямо в страдающие глаза женщины, Харита ответила: — Имя Его Иисус, Царь Света и Любви, Всесильный и Всемогущий, Царь Небесный. Он Сын Благого Бога, Бессмертного. Того, что случилось дальше, не ожидал никто. Не успела Харита договорить, как женщина рывком запрокинула голову, из глотки ее вырвался крик нестерпимой муки. Тело застыло, жилы на шее и руках напряглись и выступили наружу. Она рухнула на лежанку и забилась в корчах. Харита вскочила с табурета, я рванулся вперед. Она удержала меня, сказав: — Не подходи ближе. В ней бес. Тело на лежанке захохотало — у меня мороз пробежал по коже. — Ты не сумеешь помочь этой сучьей потаскухе! — хрипло выкликала женщина. — Она моя! Тронь только, и я ее убью! Монахи подбежали к Харите и быстро посовещались. Один из них выбежал из комнаты. Через несколько мгновений он вернулся, неся деревянное распятие и сосуд с елеем. Тем временем женщина билась и с такой силой молотила руками и ногами, что я испугался, как бы она не покалечилась. Безумный хохот не смолкал ни на минуту. Подошел монах с крестом и елеем, но Харита остановила его такими словами: — Я могу это сделать, но мне нужна помощь. Пойди, скажи братьям в Святилище, пусть поддержат нас молитвой. Монах снова выбежал вон, а Харита обратилась к тем, кто был ближе: — Держите ее, чтобы она себя не изувечила. Монахи встали на колени возле лежанки, и ласково, но крепко взяли несчастную за руки и за ноги. Харита, держа крест и сосуд с елеем, опустилась рядом. — Именем Иисуса Христа, Сына Бога Живого, заклинаю тебя, нечистый дух, и приказываю тебе выйти из этой женщины. Несчастная забилась в сильнейших судорогах, все ее тело сотрясалось, вскидываясь над лежанкой, несмотря на все усилия монахов. Жуткий, словно бы приглушенный расстоянием хохот рвался из ее глотки. — И-И-С-С-С-У-У-С! — прошипела она, мерзко кривясь, и следом изрыгнула омерзительное ругательство. Монахи в ужасе отпрянули. Однако Харита и бровью не повела. Она крепко держала крест. — Молчи! — приказала она. — Не смей хулить Его святое имя! Лицо женщины скривила гнусная гримаса. — Молю, не серчай на меня, — взмолился бес. — Прекрасная госпожа, не надо на меня серчать. — Именем Иисуса приказываю тебе замолкнуть! — повторила Харита. Женщина забилась, живот ее вздулся, она раскинула бледные ноги и выпустила зловонные ветры; потом плюнула — слюна была желтой от гноя. В дверях показался настоятель Эльфодд. Он перекрестился и вошел в комнату. — Брат Бирин сказал мне идти прямо сюда, — прошептал он, наклоняясь над Харитой. — Что надо делать? — Я приказала ему молчать, — ответила Харита, — но он упорен. Изгнать его будет трудно. — Давай я, — предложил Эльфодд. — Нет. — Харита с улыбкой коснулась его руки. — Я начала, я и закончу. Это моя подопечная. — Хорошо, но я буду с тобой рядом. — Он кивнул монахам, они встали на колени и запели молитву. Женщина лежала неподвижно, дыша по-собачьи. При виде настоятеля глаза ее округлись, она завизжала и снова плюнула едкой слюной. Пальцы ее скрючились и потянулись к нему, а рот принялся изрыгать безмолвные проклятия. Харита, держа перед собой крест, вновь опустилась на колени. Я дивился ее выдержке; она была так спокойна, так уверена в себе. — Уисна, — ласково сказала она, — сейчас я тебе помогу. — Она улыбнулась, и в улыбке ее были красота и надежда. Думаю, такая улыбка способна исцелить любую болезнь. — Возрадуйся! Богу угодно исцелить тебя сегодня, дщерь. Бедная Уисна закатила глаза. Изо рта у нее пошли гной и желчь, она начала давиться. Настоятель наклонился и приподнял ей голову. Она вырвала руку и с такой силой хлестнула Эльфодда по щеке, что тот отлетел к стене. Монахи запели громче. — Я цел. — Эльфодд, потирая челюсть, вернулся на свое место. — Продолжай. — Именем Бога Всевышнего, Господа и Творца всего сущего, видимого и невидимого, а также именем Сына Его, Иисуса Христа, Возлюбленного Друга и Спасителя людей, заклинаю тебя, нечистый: выйди из этой женщины и больше ее не мучь. Харита поднесла крест к самому лицу Уисны. Та отпрянула, по лицу ее волнами пробегали страх и торжество. — Именем Христа, изыди! — вскричала Харита. Женщина издала мучительный вопль. Казалось, солнце померкло, в комнате сделалось холодно, в окно ворвался пронизывающий ветер. Невидимый воздушный ток пронесся по кругу раз, другой, третий и, сбросив с крыши солому, унесся в чистое небо. Уисна лежала, как мертвая. Она обмякла и казалась бездыханной, лицо ее было серым. Харита положила деревянное распятие ей на грудь и, взяв ее бледные руки в свои, принялась очень ласково их растирать. Настоятель Эльфодд поднял сосуд и, с молитвой омочив палец в елее, помазал голову женщины. Теперь Харита и Эльфодд вместе молились над Уисной, прося Иисуса Христа простить ей грехи, исцелить ее душу и тело, принять ее в Царствие Небесное. Все было очень просто. Когда они закончили, Эльфодд сказал: — Проснись, сестра, ты исцелилась. Уисна приподняла дрожащие ресницы и удивленно взглянула на склонившихся над ней монаха и Хариту. — Что со мной? — Ты спасена, — отвечал настоятель Эльфодд. — И выздоровела. Уисна медленно села. Она подняла руки и в священном ужасе раскрыла рот. Страшные синяки исчезли, кожа стала белой и гладкой. Она приподняла подол одеяния: синеватые ноги стали крепкими и здоровыми, криво сросшаяся после перелома кость распрямилась, словно ничего и не было. — Ой! Ой! — Уисна с криком бросилась обнимать Хариту. Слезы струились по ее лицу. Монахи громко славили Бога. Настоятель Эльфодд обнял женщину, а колокол в Святилище затрезвонил, как сумасшедший, словно не в силах больше молчать. Комната наполнилась монахами — все прибежали разделить радость чуда. — Живи в вере, сестра, — ласково напутствовал Эльфодд. — Отвергни грех, Уисна, веруй во Христа — твоего Спасителя и на Него одного полагайся. Наполнись Богом и Его Святым Духом, чтобы бес не вернулся и не привел с собой семерых других. А я… я внезапно почувствовал, что задыхаюсь, как будто стены надвигаются на меня. Я больше не мог здесь находиться. Звуки благодарственных молитв звенели в моих ушах, и я сбежал, хватая ртом воздух, как при удушье. Харита отыскала меня позднее, когда я сидел в тростниках у подножия Тора, болтая ногами в воде. Солнце садилось. Она подошла и тихо присела рядом, положив ладонь мне на плечо. — Я видела, как ты выбежал из комнаты для больных, — тихо сказала она. Я горестно тряхнул головой. — Прости, мама, я больше не мог там оставаться, мне надо было выбраться наружу. — Что стряслось, соколик мой? Я взглянул на нее сквозь пелену слез. — Я боялся, — вырвалось с рыданиями. — Я боялся… и, ой, мама, я не сумел… я не сумел… Харита нежно обхватила меня руками и долго держала, медленно, ласково укачивая. — Скажи, сынок, чего ты не сумел? — спросила она наконец. — Столько всего, — отвечал я после долгого молчания, — столько всего я должен был совершить. А я ничего не сделал. Я не исполнил долг, завещанный мне при рождении. Я сбился с пути, я забрел в сторону, мама, я растратил себя на пустые цели… и все потому, что боялся. — Кого ж ты боялся? Я еле заставил себя выговорить это имя. Однако, зажмурившись, я все-таки выдавил: — Моргану. Харита долго не отвечала. Она молчала так долго, что я поглядел ей в лицо и увидел, что она закрыла глаза и из-под ресниц ее текут слезы. — Мама? Она мужественно улыбнулась. — Я думала, что освободилась от нее. Теперь я знаю, что этому не бывать. Однако ее власть простирается только на этот мир. — Знаю. По крайней мере, сегодня мне об этом напомнили… та несчастная. — Уисна здорова, Мерлин. Господь ее исцелил. — Много таких, как она? — Да. — Харита вздохнула, глядя через озеро на Тор, — и становится все больше. За зиму она третья. Настоятель Эльфодд говорит, что в других местах то же самое. Он беседовал с епископом — толкуют о поветрии. Я сморгнул. — Поветрие одержимости? — Епископ Тейло говорит, что этого следовало ожидать. Царствие Божие распространяется, и враг рода человеческого ярится. Лукавый не хочет, чтоб мы ведали о Боге, ибо, пока мы не ведаем, мы бессильны. — Она вновь улыбнулась. — Однако, как ты видел сегодня, мы далеко не бессильны. Я вспомнил тот день на вершине горы в Калиддоне и содрогнулся. Нашествие бесов — страшно даже подумать. И все же, верно, Господь наш в Своей милости куда сильнее врага и всех его злых козней. Вот что я увидел в тот день в Святилище и какой получил урок — точнее, укор — и строгое напоминание, что страшиться не надо. Моргане можно противостоять, Моргану можно победить. Сказать по правде, упрек этот был горек, ибо гнет несделанного пригибал меня к земле. О, да! Сколько всего не выполнено, сколько времени и усилий растрачено понапрасну! Варвары по-прежнему осаждают нас со всех сторон, удельные князьки, как и раньше, борются за власть, дары цивилизации изглаживаются из памяти народа… Царство Лета ничуть не ближе к яви. Моргана ли в том виновата? Только отчасти. Да, Моргана и тот, кому она служит. И еще моя собственная слепота или маловерие, что порою одно и то же. Вновь и вновь передо мной открывались возможности, которые я упускал. Вновь и вновь я медлил, когда мог действовать решительнее. Почему? Почему я так поступал? Сердце человека — вечная загадка для него самого. Что с того? Необязательно вечно влачить невежество и позор. Я могу изменить себя. Зная, что к чему, я могу выбрать лучший путь. — О чем ты задумался, Мерлин? — спросила Харита некоторое время спустя. — О моей битве. Слишком долго я от нее уклонялся. — Что ты намерен сделать? Я покачал головой. — Пока не знаю, но скоро мне укажут. А покуда я буду ждать и готовиться. Останусь здесь, в Инис Аваллахе, буду укреплять себя молитвой и размышлениями о Господе. Харита снова обняла меня и поцеловала в лоб. — Соколик мой, прощай себя, как тебя простили. Ты не грешнее остальных. И с этими словами она меня оставила. Однако я и впрямь почувствовал себя прощенным. Я молился: «Великий Свет, спасибо, что разбудил меня от долгого себялюбивого сна. Веди меня, мой Царь. Я готов следовать за Тобой».
Через день после этого разговора вернулся Аваллах. Среди новостей, которые он привез, были и хорошие, и дурные. Белину стало лучше, однако болезнь его неисцелима, и он не надеется дожить до Самайна. Впрочем, он, кажется, спокоен и обрадовался Аваллаху. Братья примирились, и Аваллах услышал от Белина, что тот знает о Моргане. — Рассказывать почти нечего, — сказал мне Аваллах, — но и то, что известно, тревожит. Король Лот умер, Моргана покинула Оркады. Куда она направилась — неизвестно. Белин ждал ее в Ллионесс весной, однако от нее до сих пор ни слуху ни духу. — Лот умер? — задумчиво переспросил я. — Значит, ей достанутся два трона. Трон Белина и трон Лота. Оба перейдут к кому-то из сыновей Морганы. Два королевства достанутся Царице Воздуха и Мрака, как люди на Инисоедд Эрх, Острове Страха, начали называть Моргану. Два королевства — одно на севере, другое на юге — в ее власти. Однако влияние Морганы простиралось куда дальше, о чем мне вскорости предстояло узнать. Тремя днями позже в Инис Аваллах пришла весть, что Утер мертв.
Глава семнадцатая
Удивительное дело — два года пролетели в чертогах короля-рыболова, а я и не заметил. Поглощенный ненавистью и отчаянием, я не видел ничего вокруг — не видел, как весна сменяется летом, а лето осенью, как медленно идет отмеренным курсом Земля. И вот Утера не стало. Роду Константина не суждено было процветание. Каждый из его сыновей в свой черед всходил на престол, и каждый, подобно отцу, гибнул во цвете лет. Говорят, его тоже отравили: один из преданных слуг Горласа, винивший Утера в смерти своего господина, подмешал ему яд в вино. Многие в это поверили, хотя были толки и о загадочной болезни: Утер всю зиму мучился неведомой хворью. Я собрал пожитки и отправился в путь. — Прощай, соколик! — крикнула Харита, махая мне вслед. — Мы поддержим тебя в твоей битве. Она была, разумеется, права. Битва моя, так долго откладываемая, наконец-то близилась. Пеллеаса я отправил вперед себя в Лондон, а сам как можно быстрее направился в Тинтагиль, молясь, чтобы не опоздать. Однако теперь я думал не об Утере: мне надо было увидеть Игерну и забрать меч. Дело в том, что по стране прокатилась весть: британские короли съезжаются в Лондон, чтобы из своего числа выбрать нового Верховного владыку. Мне нужно было поспеть к этому событию. Игерна приняла меня с радостью. Он мужественно перенесла утрату, но устала и нуждалась в человеке, который разделил бы ее горе. Утера не любили, и сейчас, кроме нее, никто о нем не скорбел. Его свершения на благо Британии — блестящие победы, яростные сражения — уже забылись. Помнили одно: Утер убил Горласа, чтобы взять в жены Игерну. Лишь одно сохранила о нем народная память, да и то было ложью. Я нашел дважды вдовую королеву на городской стене. Она смотрела на море, волосы ее струились на ветру. В свете заката она казалось одновременно хрупкой и на удивление сильной: хрупкой, как печаль, и сильной, как любовь. Она полуобернулась на звук моих шагов, улыбнулась и протянула ко мне руки. — Мирддин, это ты. Здравствуй, дорогой друг. — Я выехал, как только услышал весть, моя королева, — сказал я, беря ее за руки. Пальцы ее были холодны, хотя вечернее солнце на стене припекало. Она робко шагнула ближе, заключила меня в целомудренное объятье и холодными губами коснулась моей щеки. Я задержал ее на мгновение, прекрасно понимая, что молодой женщине нужна утешительная ласка. — Посидишь со мной немного? — спросила она, отступая на шаг и вновь превращаясь в королеву. — Как пожелаешь. Мы прошли по стене к серому камню, выступающему из парапета. Она села и рукой указала мне место рядом с собой. — Все случилось так быстро, — начала она печально и медленно. — На охоте он почувствовал недомогание. В ту весну ему часто бывало нехорошо, я не придала этому большого значения. Он лег и ночью проснулся в лихорадке. Весь следующий день он провел в постели, что было не в его правилах. Я дважды к нему заходила, но он ни на что не жаловался. Я ждала его к ужину и, когда он не пришел, поднялась в его комнату. Она крепко сжала мне руку. — Мирддин, он сидел в кресле… такой холодный… мертвый… — Мне очень жаль, Игерна. Она словно не слышала. — Что странно: возле него были щит и знамя, а на груди — кожаный доспех. На коленях лежал меч, словно он собирался сразиться с врагом. — Королева опустила голову и вздохнула. — Больше я с ним не говорила. Не сказала, что люблю его — так хотела сказать, и вот теперь поздно. Мирддин, почему все в этой жизни приходит с опозданием? Плеск волн о подножие мыса и крики чаек навевали невыразимую тоску. Я обнял Игерну за плечи. Мы сидели рядом на солнце, слушали чаек и волны, черпая утешение в том, что есть с кем разделить горе. Солнце скрылось за облаком, сразу похолодало. — Где его похоронили? — спросил я, когда мы встали и направились к спуску со стены. Она не ответила не сразу, а когда заговорила, в голосе ее звучало торжество: — Рядом с Аврелием. Молодец, она сделала, что могла, для памяти Утера. Конечно, им надлежало лежать вместе, но Игерна еще и хотела им равной славы. Она похоронила любимого мужа рядом с тем, кого любил народ. Когда мы подошли к покоям, она повернулась ко мне, взяла меня за локоть и сказала: — Я ношу под сердцем его дитя. — Кто-нибудь знает об этом? — Моя служанка. Она поклялась молчать. — Смотри, чтоб она сдержала слово. Игерна кивнула. Она все поняла. — Будет война? — Возможно. Да, вероятно. — Ясно, — рассеянно отвечала она. Я видел, что ее заботит еще какая-то мысль. Она старательно выбирала слова. Я не торопил. Внизу билось о камни море, тревожное, как сердце Игерны. Я чувствовал ее беспокойство, но все равно ждал. — Мирддин, — с трудом выговорила она наконец. — Теперь, когда Утера нет… — Слова никак ей не давались. — Теперь, когда король нас покинул, может быть, уже не… — Да? Она сжала мне руку и взглянула на меня с мольбой, словно в моей власти было исполнить ее сокровеннейшее желание. — Ребенок… мой сын… Прошу, Мирддин, скажи, где он? Он жив? За ним можно послать? — Нет, Игерна, нельзя. — Однако теперь, когда Утер… Я мягко покачал головой. — Опасность меньше не стала; собственно, со смертью Утера она лишь возросла. Покуда ты не разрешилась его ребенком, сын Аврелия — единственный наследник. Игерна опустила голову. Как любая мать, она много думала о ребенке. — Можно его навестить? — Думаю, это неразумно, — сказал я. — Прости. Мне очень жаль. — Только взглянуть на него… — Ладно, — сдался я, — это можно будет устроить. Но не сейчас. Артура нужно… — Артур… — прошептала она, — вот как ты его назвал. — Да. Пойми, пожалуйста, я не стал бы называть его сам, но Утер ничего не сказал. Надеюсь, тебе нравится. — Хорошее имя. Мне кажется, в нем есть сила. — Она грустно улыбнулась, повторяя имя про себя. — Спасибо тебе. — Я забрал у тебя дитя, госпожа моя, а ты меня благодаришь. Ты и впрямь удивительная женщина, Игерна. Она всмотрелась мне в лицо и, похоже, нашла то, что искала. — Ты добрый, Мирддин. Ты всегда держался со мной, как с равной. Я сделаю все, что ты мне велишь. — Сейчас ничего не надо. Потом, когда решат, кому быть королем… Ладно, завтрашние заботы мы оставим на завтра. В ее улыбке ясно выразилось облегчение. Мы вошли в дом и заговорили о другом. Пообедали с удовольствием, спать ушли рано. На следующий день я попросил у нее меч и одно из знамен с драконом, которого Утер объявил знаком верховной власти. Игерна отдала их мне с такими словами: — Дунаут был здесь и просил меч. Я не отдала. Сказала, его погребли вместе с Утером. — Она замолкла и виновато улыбнулась. — Я не стыжусь, что солгала. — Хорошо, что ты не отдала ему меч, — сказал я. — Думаю, его нелегко было бы вернуть. И, боюсь, Дунаут еще посягнет на этот клинок. — Прощай, Мирддин Эмрис. Если не забудешь, пришли весточку — мне бы хотелось знать, что было на выборах короля. — Прощай, Игерна. Когда все закончится, я, если смогу, приеду и расскажу сам. Несколько дней спустя я свернул на равнину над Сорвиодуном и Хороводом Великанов — великим и священным кольцом камней, которое местные жители называют Висячими камнями, поскольку при определенном освещении кажется, что они парят над землей. Хоровод Великанов стоит на вершине большого пологого холма. Рядом не было ни души, да я и не рассчитывал никого здесь встретить. Люди старались по возможности обходить стороной холодное, огромное, загадочное кольцо. Оно напоминало им, что есть на земле тайны, которые так и останутся для них неразгаданными, что чудеса древности выше их понимания, что там, где живут они, некогда обитала высшая раса и что сами они со временем сгинут, как сгинули строители каменных колец и курганов, что жизнь в этом земном мире скоротечна. Поблизости паслось стадо коров, в заросшем рву, окружавшем камни, щипали траву овцы. Я проехал между камнями в кольцо и спешился. Здесь мне предстали два одинаковых холмика — один свежий, другой покрытый недавно скошенной травой. Ветер стонал в Висячих Камнях, и блеяние овец казалось бестелесными голосами тех, кто лежит в земляных домовинах неподалеку от кольца. В белом пустом небе плыли на безмолвных крылах черные вороны. Чудилось, что правы Обитатели холмов и кольцом отмечено место соприкосновения двух миров. Вот и хорошо, что здесь, где встречаются миры, похоронены царственные братья — навеки вместе. Утер теперь никогда не покинет брата, Аврелий никогда не останется без братней защиты. Никто их больше не разделит. При виде недавно насыпанного кургана я рухнул на колени. И запел:К тому времени, как я добрался до Лондона, травля была уже в самом разгаре — я хочу сказать, что псы-честолюбцы учуяли запах верховной власти и ринулись в погоню. Свору, разумеется, возглавил Дунаут и его друзья — Моркант и Коледак. Однако их настигали другие: Кередигаун, поддержанный родичем Райном Гвинеддским, Морганог из Думнонии и его сыновья, Анторий и Регул из Южной Кантии, а также Огриван из Долгеллау. Их могло быть и больше — собственно, их и стало больше, когда подоспели короли с дальних окраин. Пока же соперники лишь пыжились и бахвалились в ожидании настоящей схватки. Епископ Урбан, сам не свой от нерешительности, приветствовал нас рассеянно. — Здравствуй, Мерлин, рад, что ты приехал. Сказать по правде, я с ног сбился, пытаясь мирить наших королей. Как же они честят друг друга! — с возмущенным видом посетовал он, — да еще в церкви! — То ли еще будет, — заметил я. — Тогда я и не знаю, как удастся обойтись без кровопролития. — Он печально покачал головой. — И все же я думаю, что такие серьезные вопросы надо решать на освященной земле. Урбан тревожился вовсе не так сильно, как хотел показать. В душе он был рад, что участвует в выборах короля, пусть только тем, что предоставляет гостям кров. Прошу понять: очень важно, что короля должны были выбрать в храме. Это означало, что вожди готовы по примеру Аврелия вершить дела в церкви и что они ей доверяют. Впрочем, я не обольщался: большинство гостей Урбана столь же охотно собрались бы в хлеву или в лачуге. Их влекла корона, не крест. — Не скрою, — продолжал епископ, — все это случилось весьма некстати: мы расширяем здание. Когда каменщики закончат, к базилике добавится апсида и большой трансепт. Да, и у нас будет просторный притвор со сводчатым входом, как в самых больших церквях Галлии. Было ясно, что Урбан живет хорошо и очень этим доволен. Ладно, пусть строит большую церковь, тут беды нет, лишь бы сумел сохранить честность и смирение. Не только короли были озабочены верховной властью. Мелат созвал нескольких самых влиятельных правителей городов. Не знаю, что они собирались делать. Без сомнения, в собрании королей они увидели случай попытаться вернуть ускользающую власть. На деле римское правление осталось только в памяти стариков да в латинских названиях должностей. Пеллеас отыскал место, где мы могли бы остановиться, — дом богатого купца по имени Градлон, который торговал, кроме прочего, вином, свинцом и солью. Ему принадлежали несколько кораблей. Градлон был другом правителя Мелата и влиятельным человеком в Лондоне. Подозреваю, Мелат уговорил друзей бесплатно поселить у себя королей со свитами, чтобы повсюду иметь свои уши. Градлон, впрочем, оказался радушным хозяином и не скрывал, на чьей он стороне. — Купец уважает того, при ком процветает торговля. Перед королем я преклоняю колено, у императора целую край одеяния. Обоим я плачу подати. — Он поднял толстый палец, чтобы подчеркнуть важность своих слов. — Однако я плачу охотно, когда дороги и порты безопасны. Правители городов заседали во дворце Мелата. Они собирались послать императору Аэцию ультиматум: пришли войска — или навсегда распрощайся с расположением Британии. Британия — со всей своей симпатией или ненавистью — и прежде не возмещала империи затраченных трудов. Положим, на протяжении нескольких поколений британские свинец, олово и хлеб шли Риму на пользу. Однако этот остров стоил Риму куда больше, чем мог принести. Теперь же, когда империя истекала кровью под безжалостными ударами варварского топора, невзгоды Британии и вовсе не заботили императора. Полагаю, Аэций больше сочувствовал последней вшивой суке на своей псарне, которой, впрочем, был столь же бессилен помочь. Жаль тех, кто этого не понял. Наше будущее — Британия, не задворки империи. Думать иначе — безумие. Реальность сурова — она наказывает тех, кто слишком долго ее не замечает. С другой стороны, короли были не лучше. Они, похоже, вообразили, что самый эффективный способ отразить саксов — возвеличить самих себя: чем важнее король, тем больше трепещут саксы. Можно не говорить, что я об этом думал. Итак, совет начался с неразрешимого спора: кто вправе выбирать из множества королей, вообразивших, что меч Максима Вледига им по руке. Перепалка еще больше обострила и без того недружелюбную обстановку собрания. Разумно говорили только Теодриг и Кустеннин, но к их приезду остальные настолько зациклились на собственном мнении, что других уже не слышали. А как известно, разум в таких случаях бессилен. Каждый день, когда короли собирались в церкви продолжить спор, я приходил с ними, однако ничего не говорил, да меня никто ни о чем и не спрашивал. Я ждал, надеясь, что еще найду возможность вмешаться. Главное, не упустить эту возможность, другой скорее всего не представится. Пока же я наблюдал за королями, пристально изучал каждого: его манеру говорить, властность, мудрость, силу. Я взвесил всех и не нашел никого, кто мог бы сравниться с Аврелием или даже Утером. Господи, прости, Вортигерн и тот был лучше! Кустеннин бы справился, однако его королевство слишком мало и лежит далеко на севере. Другими словами, ему недостает богатства южных королей, необходимого, чтобы содержать два, а то и три двора, да еще дружину для поддержания порядка в стране. К тому же южане с недоверием относятся к обитателям полночного края — они-де разбойники и невежи, немногим лучше варваров. Люди никогда не пойдут за таким королем. Скорее уж Верховным королем мог стать Теодриг — его казна внушает уважение даже правителям юга. Однако деметы и силуры — древнейшие народы Британии — всегда оставались и самыми независимыми. Вряд ли другие короли поддержат Теодрига — они и без того сетуют на независимость и отгороженность Диведа. К тому же я сомневался, что Теодрига влечет верховная власть; иное дело его сын Меуриг, однако он еще неопытен в делах правления. Из остальных некоторые надежды подавал Кередигаун. Можно, памятуя нынешние заслуги, закрыть глаза на то, что его дед был ирландцем. Однако у римлян было обыкновение назначать в беспокойные области правителей вопреки недовольству соседей, и обида эта до сих пор не прошла. В итоге ни его дед, ни отец, ни он сам не посчитали нужным породниться с другими царствующими домами. Поэтому Кередигауна при всех его достоинствах недолюбливали. Дни проходили один за другим в безумном хвастовстве, нелепых угрозах и оскорбительных выпадах, и мне стало ясно, что согласия нам не видать. Дунаут, властитель зажиточных бригантов, свел на нет разумный спор своим смехотворным требованием, чтобы будущий Верховный король содержал все войско на средства из личной казны. Войско содержали на подати, которые короли вносили совместно, однако Дунаут и его друзья настаивали на том, что, мол, залог всеобщей свободы — способность короля повелевать дружиной без помощи мелких правителей, иначе те захотят ему указывать, обещая в противном случае не выплачивать подати. «Верховный король будет свободен, — объявил Дунаут, — только если будет опираться на собственную казну!» Это привело в ярость тех королей, кто, как Эльдофф, Огриван и Кередигаун, еле-еле содержали свои маленькие дружины — не потому, что они плохие правители, а просто потому, что в их краях хуже родится хлеб, а в недрах нет золота и серебра. Предложение пришлось по вкусу богатым гордецам, таким, как Морганог Думнонийский, который увидел в нем отблеск имперского багрянца, но не понравилось остальным, разглядевшим заним притязания самого Дунаута. Никто не хотел иметь над собой Дунаута в качестве Верховного короля, единовластно правящего войском и потому вольного поступать как ему вздумается. Сама мысль об этом была им нестерпима. Снова и снова спорщики возвращались к этому вопросу; сторонники Дунаута не желали без его решения переходить к другим. Всех, кто пытался заговорить о чем-то ином, закрикивали или просто не слушали. Раскол ширился, недовольство росло, злоба усиливалась. Казалось, худшие опасения Урбана оправдаются и нас ждет кровавый итог: нового Верховного короля Британии выберет острый меч. И тут произошло непредвиденное. Два союзника, которых я не ждал, явились и предотвратили кровопролитие: Игерна и Лот Оркадский. Они нежданно вступили в церковь, немало изумив собравшихся, которые за мыслями о своем величии едва не утратили способность что-нибудь замечать. Лот ап Лот с крохотных Оркадских островов, что далеко на севере, с черными заплетенными в косицы кудрями, с золотыми браслетами выше локтя и синими от вайды родовыми насечками на щеках, в малиново-красном клетчатом плаще, показался гостем из Иного Мира. Он внес с собою холод северной зимы и словно не заметил переполоха, вызванного его появлением, — юный, своенравный, но с властным взором, заставлявшим умолкнуть людей вдвое старше его. Волнение, вызванное появлением Лота, только-только улеглось, когда вошла Игерна. В сопровождении военачальников Утера — тех, кто ее не покинул, — она твердо вступила в церковь, суровая, сильная и прекрасная, одетая царственно и просто: в серо-сизом плаще поверх белого, отороченного серебряным шитьем платья. Тонкая золотая гривна охватывала ее шею. Каждая линия ее тела выразительно говорила об умении управлять собой и людьми, а величавая грация служила упреком напыжившимся князькам. То, что они прибыли так неожиданно и почти друг за другом, было, возможно, не простым совпадением. Во всяком случае, на собравшихся это произвело необычайное впечатление. Общее настроение разом переменилось: короли разглядывали новоприбывших и рассчитывали, как обратить себе на пользу их неведомые качества. Уверен, никто не принимал их всерьез. Да я и сам, разговаривая с Игерной, совсем упустил из виду, что вдова Утера имеет право участвовать в собрании королей. Сейчас же, когда она вошла, я на мгновение испугался, что ее присутствие заставит остальных вспомнить совсем о другом: о сыне Аврелия. Однако они то ли не знали, то ли запамятовали, поскольку никто о нем не обмолвился. Быть может, тайну и впрямь удалось сохранить. Что касается Лота, то, поскольку он жил на краю света, никто, похоже, не думал, что его могут интересовать дела остальной страны. Никто его не позвал, однако он все же услышал о собрании и прибыл. Сознаюсь, я ему не обрадовался, но не потому, что он тоже мог претендовать на верховную власть. Нет, меня тревожило его происхождение. Лот, сын Лота, мужа Морганы. Меня немало беспокоило, что сын Морганы явился, словно из северного тумана. Что это значит? Морганы ли это происки? Без сомнения, Моргана усмотрела в выборах короля возможность заполучить новую власть. Но зачем посылать сына? Почему не явиться самой? Что с отцом Лота? Все это сильно меня взволновало. Я разглядывал Лота, сидящего на противоположной стороне круга, и пытался понять, что он за человек. Однако кроме очевидного — что он, как и многие живущие на бледном севере, любит одеваться в яркое и ведет себя вызывающе, — ничего разобрать не мог. В какой-то миг Лот поймал на себе мой взгляд. Его реакция меня озадачила: секунду он смотрел мне в глаза, потом медленно улыбнулся и коснулся лба тыльной стороной ладони — древнее приветствие низшего высшему. Потом, словно выбросив меня из головы, вновь перенес внимание на собравшихся. Когда в конце дня совет закончился, я дожидался Игерну в церковном дворе, глядя на строителей. Они торопились, пока совсем не стемнело, установить замковый камень свода большой арки. Веревки их были короткими, рычаги — малы, и, несмотря на все усилия, огромный камень еле-еле сдвинулся на несколько шагов. Как только Игерна вышла во двор, она заметила меня и поспешила подойти. Двое ее спутников следовали на почтительном отдалении. — Не сердись на меня, Мирддин, — с ходу начала она. — Я знаю, о чем ты думаешь. — Вот как? — Ты думаешь, мне здесь не место, надо было оставаться в Тинтагиле, я только все испорчу. Я даже улыбнулся: оказывается, она не настолько решительна и самоуверенна, как кажется. — Игерна, я рад, что ты приехала; у тебя не меньше прав заседать здесь, чем у всех остальных. А испортить ты ничего не можешь, даже если б очень захотела, потому что хуже некуда. Так что видишь, мне тебя не в чем укорять. Она грустно улыбнулась. — Ты бы так не говорил, если б знал, что я хочу попросить. — Проси. Не думаю, чтобы какая-нибудь твоя просьба заставила меня изменить свое мнение. Виновато оглядевшись — кухонная девчонка, которая собирается сознаться в постыдном проступке, — Игерна сказала тихо: — Я должна попросить у тебя назад Утеров меч. Я на мгновение задумался. — Вот видишь, — смущенно молвила королева, — ты уже сердишься. — Что ты, ничуть. Но зачем тебе меч? — Я видела, что тут творится. Со мной учтивы, но никто меня не слушает. Если они не замечают меня, может быть, заметят меч. Не впервые женское сердце верно угадало, что надо, и угадало куда быстрее, чем сумел бы додуматься мужчина. Всего один день на совете — и она поняла главное: не имея своей власти, она никак не сможет повлиять на решение. — Так что? Можно мне его забрать? — Конечно, госпожа моя. Но как ты намерена с ним поступить? Она покачала головой. — Это я пойму, когда придет время. Так я пришлю Кадана? — Я приготовлю меч к его приходу. Покончив с делом, королева заговорила о другом. — Мы прекрасно доехали, не то что прошлый раз… — Она замолчала, вспоминая, как ехала с Горласом и Утером. — И все же я никогда не забуду то путешествие. Тогда я впервые увидела Утера… с этого столько началось… Мы вместе шли по узкой улочке к дому неподалеку, где она расположилась. — Пообедай со мной сегодня, Мирддин, — предложила она, — если не собирался провести время как-то приятнее. — У меня не намечено ничего другого, — ответил я, — и уж, разумеется, ничего более приятного. Твое приглашение, Игерна, большая для меня честь. И я принесу меч. Она торжествующе улыбнулась. — Ты правда не сердишься? — Кто я такой, чтоб на тебя сердиться? Она пожала плечами. — Я просто на всякий случай. Я вернулся к Градлону. Пеллеас ждал у дверей. — Он здесь со своими людьми. Я не мог им помешать. Я взглянул на пять крепкошеих, коренастых лошадок, привязанных к кольцам в стене. — Кто «он», Пеллеас? — Лот. — Пеллеас огорченно нахмурился. — Сказал, что хочет с тобой поговорить. Выбора не оставалось. Я вошел в дом и увидел толпу северян. Лот стоял у очага, спиной к двери, держась руками за идущие к потолку железные цепи. При моем появлении все смолкли. Лот обернулся — глаза его были цвета снега в густой тени: серо-синие и холодные, как зимние льдинки. Я стоял в дверях, а он смотрел на меня, как ни в чем не бывало. Несколько мгновений я помедлил, потом вошел в комнату, ощетинившуюся скрытыми кинжалами и незримыми копьями.
Глава восемнадцатая
— Ну, Мерлин Амброзий, Мирддин Эмрис, — сказал наконец Лот, — для меня это большая честь. — Государь Лот, я тебя не ждал. — Да уж ясное дело. Сдается, никто меня в Лондоне не ждал. — Он внезапно лукаво улыбнулся. — Но по мне так и лучше. В комнате вновь воцарилась тревожная тишина. Я нарушил ее словами: — Выпьешь со мной? У Градлона отличное вино. — Я не пью вина, — холодно отвечал он. — Нам на Оркадах эта роскошь не по карману, и я еще не вошел во вкус южных пороков. — Меда? — спросил я. — Уверен, хозяин найдет и его. — Пива, — ответил он, беспомощно разводя руками. — Как видишь, я люблю простые радости. За шутливым нажимом на эти слова угадывался волчий аппетит, и мне подумалось о немыслимых извращениях. Однако он улыбнулся, как будто гордился сказанным. Да, вот настоящий сын своей матери. Я подавил порыв выбежать из комнаты. Надо узнать, что его сюда привело, и ради этого придется терпеть. Я жестом показал Пеллеасу (он застыл рядом со мной, словно телохранитель) принести пива. Лот махнул одному из своих людей, и тот бесшумно вышел за Пеллеасом. Я решил не затягивать бессмысленный разговор. — Зачем ты пришел? — спросил я. Прямота моя его позабавила. — А ведь еще и пиво не разлили, — добродушно укорил он. — Что ж, братец, коли ты спросил, я отвечу. У меня была лишь одна причина покинуть благословенные пределы моего солнечного королевства. Без сомнения, ты можешь ее угадать. — Остальные здесь для того, чтобы добиваться верховной власти, но я не думаю, чтобы ты надеялся получить ее для себя. — По-твоему, я недостоин? — По-моему, ты никому не известен. — Своим тактом ты славишься на всю страну. — Лот отбросил голову назад и рассмеялся. Вошел Пеллеас с чашами. Гостевую он предложил Лоту; тот взял ее, плеснул через край несколько капель богу домашнего очага, потом жадно и с явным удовольствием отпил. Затем он передал чашу старшему из своих людей, утер пальцами рот и обратил на меня жгучий взгляд. — Матушка предупреждала, что с тобой будет трудно. Я гадал, не утратил ли ты вкус к драке. — Ты не ответил на мой вопрос. Он пожал плечами. — Всю жизнь я слышу про Лондон. И вот мне вздумалось прокатиться по морю, и я сказал приближенным: «Давайте-ка съездим и сами посмотрим на это диво. Если понравится, может, там и останемся». Вообрази же мое изумление, когда я приезжаю и узнаю, что здесь выбирают короля. Несмотря на насмешливый тон, я различил в его ответе крупицу истины: отплывая с Оркад, он не знал о выборах. Он прибыл сюда совсем с иной целью, о совете же узнал по пути или, как говорит, только в Лондоне. И все же я заметил, что мой вопрос так и не получил ответа. Я отхлебнул из чаши и передал ее дальше. — И, раз уж ты здесь, что ты намерен делать? — Если я не сильно ошибаюсь, это зависит от того, как со мной обойдутся. — Со мной обычно обходятся так же, как я обхожусь с другими. — Ах, для некоторых из нас все не так просто, дорогой братец. А жаль. — Он горестно хмыкнул. — Знал бы ты, сколько несправедливостей терпим мы, обычные смертные. Пытался ли он меня задеть? Мне казалось, что да, хотя причин для этого я не видел. — Неужто жизнь настолько тягостна для тебя? — спросил я, не ожидая никакой особой реакции. Однако Лота перекосило, словно я коснулся свежей и очень болезненной раны. Глаза его сузились, улыбка сделалась напряженной. — Тягостна — не то слово, которое выбрал бы я, — сухо ответил он. — Где чаша? — Он выхватил ее у одного из своих людей и допил одним глотком. — Уже пуста? Тогда нам пора уходить. — С этими словами он направился к выходу. В дверях он помедлил и сказал: — Знаешь, Мирддин, я надеялся, наша первая встреча будет иной. Он резко повернулся и двинулся прочь. Когда хочу, я могу сказать так, что меня почти невозможно будет ослушаться. Таким голосом я и крикнул ему вслед: «Не уходи!». Лот замер в дверях, потом медленно повернулся, словно ожидая увидеть у горла меч. Эта неуверенность многое в нем объяснила. Он неопытный мальчишка, смело изображающий короля. Я сразу проникся к нему сочувствием. Его серо-голубые глаза взглянули в мои, ища привычный обман, но не нашли. — Как ты хочешь, чтоб мы расстались? — спросил он осторожно, испытующе. — Друзьями. — У меня здесь нет друзей. — Он ответил, не думая, но я понял, что он действительно так считает. — Можешь остаться при своем мнении, — сказал я, — или принять мою дружбу и убедиться в своей неправоте. — Я редко бываю неправ, Эмрис. Прощай. Его люди вышли вслед за ним. По улице застучали копыта и вскоре затихли в отдалении. Пеллеас закрыл дверь и повернулся ко мне. — Опасный человек, господин мой Мирддин. Тем более опасный, что сам не знает, как себя вести. Я знал, что Пеллеас прекрасно разбирается в людях. — Не знает, как себя вести, верно. Однако не думаю, чтобы он желал мне зла. Быть может, он сам не знает, чего хочет. Мой товарищ медленно покачал головой. — Человека, который не знает своего сердца, лучше поостеречься. Держись от него подальше, господин мой. — И он произнес вслух то, что тревожило и меня: — Кто знает, насколько Моргана его искалечила?Если встреча с Лотом меня смутила, то обед с Игерной, напротив, прошел чудесно. Она надела лучший наряд и в мерцающем золотом свете сотни свечей — свете, который, чудилось, излучает она сама, — казалась еще краше, чем прежде. Она поцеловала меня, когда я вошел в комнату, где уже стоял стол, и, взявши за руки, отвела к креслу. — Мирддин, я боялась, что ты не придешь, и мне придется тосковать в одиночестве. — Ты напрасно тревожилась, госпожа моя. Если б ты столько раз ужинала всухомятку на дорожной обочине, ты бы ни за что не пропустила случай отобедать в уюте. А будь ты мужчиной, ты бы не смогла обидеть столь прекрасную даму, как та, которую я вижу перед собой. Она по-девичьи зарделась. — Дорогой Мирддин, — прошептала она, потом резко оборвала сама себя: — Ты не принес меч? — Она взглянула на мои руки, словно я прятал его в ладони. — Я не забыл. Пеллеас принесет его позже. Я подумал, что лучше мне не выходить с ним на улицу — кто-нибудь может увидеть. — Мудро. — Усадив меня, она повернулась к столу, наполнила вином два серебряных кубка, опустилась на колени рядом с креслом и протянула один кубок мне, словно служанка — господину. Я смутился, но она сказала, продолжая держать кубок: — Дозволь мне сегодня тебе служить. Пожалуйста. Это малая плата за все, что ты для меня сделал. Я легонько покачал головой: — Все, что я сделал? Госпожа моя, ты слишком высоко меня ценишь. Я не достоин твоей признательности. — Разве? Тогда я тебе скажу. Когда все считали меня глупой девчонкой, ты обходился со мной, как с женщиной, равной любому мужчине. Ты всегда был моим верным другом, Мирддин. А настоящую дружбу в этом мире женщине так трудно найти. — Она холодными пальцами вложила кубок в мою руку. — Давай выпьем за дружбу. Мы выпили, она встала и начала накрывать на стол. Я позволил ей за мной ухаживать, и она хлопотала с явным удовольствием. Грустно сознаться, но я не заслужил ее благодарности; сперва я помогал невесте Аврелия, затем — жене Утера. По правде сказать, я никогда не думал о ней самой, но так скудна была ее жизнь на каменистом мысу, что простая любезность выросла в ее глазах до невероятных размеров. Я подумал об этом, и меня захлестнул стыд. Великий Свет, какие же мы слепцы! Истреби нас, мы неисправимы. Ах, Игерна, доверчивое сердце, если б ты только знала. Хвала тебе, что ты чувствуешь привязанность к тому, кого должна презирать. Я не чувствовал вкуса трапезы, но помню, что было чудесно. Игерна воистину сияла радостью и красотой. Вот тут-то бы мне догадаться, что она замышляет. Хотя, наверное, сама Игерна еще не знала. Уверен, ею руководила сердечная чистота и ничто другое. Пеллеас ошибся: тот, кто не знает своих намерений, обращается к свету так же легко, как к тьме. Добро возможно всегда, искупление ближе, чем следующий вдох. Каким-то образом Игерна напомнила мне об этом. Однако, когда пришел Пеллеас с мечом Утера и стало ясно, что вечер пролетел, я попрощался с Игерной и вышел в звездную ночь, ничуть не подозревая, что будет завтра.
На следующее утро короли вновь собрались в церкви. И вновь, как прежде, Дунаут и Моркант собирались своими нелепыми и оскорбительными требованиями втянуть всех в перепалку. Они рассчитывали если не победить в совете, то по крайней мере всех перессорить. Если б в дело пошли мечи, цель их была бы достигнута. Однако с самого начала все пошло по-иному. Сегодня в церкви присутствовали Игерна и Лот, и остальным пришлось с ними считаться. Посредине Дунаутовых разглагольствований, Игерна, сидевшая в кругу королей, попросту встала и осталась молча стоять. Она стояла, покуда Дунаута не начало раздражать ее безмолвное присутствие и он не прервал речь. — Государи мои, — фыркнул он, — сдается мне, королева Игерна желает что-то сказать. Возможно, она не поняла, как принято себя вести на этом собрании. — Напротив, — отвечала она, — с тех пор, как я вошла в это благородное собрание, я только и делаю, что наблюдаю, как себя здесь ведут. Мне представилось, что единственный способ быть услышанным — это орать что есть мочи, перекрикивая всех остальных. Мне это не по силам, поэтому я решила встать и дождаться, покуда меня заметят. — Госпожа, — с нарочитой любезностью произнес Дунаут, — я тебе уступаю. — Благодарю тебя, лорд Дунаут, — учтиво, но холодно отвечала она. Полагаю, это спокойствие и выдержка стоили ей невероятного напряжения духовных сил, однако в ее манере не чувствовалось ни следа страха или сомнений; казалось, утихомиривать разбушевавшихся властолюбцев для нее — привычное дело. — Я — вдова Утера, — начала она медленно и веско, — а до того была вдовою Аврелия. Думаю, еще ни одна женщина не делила стол и ложе с двумя Верховными королями. Кто-то из королей испустил нервный смешок. Однако Игерна, хоть и улыбнулась, не позволила им обратить все в шутку, потому что продолжила: — Ни одна другая женщина не может сказать, что дважды была Верховной королевой Британии… и ни одна другая женщина не знает того, что знаю я. Все смолкли. До сих пор никому не приходило в голову, что Утер или Аврелий поверял ей свои секреты. Сейчас короли задумались; я почти слышал, как они сопят, пытаясь догадаться, что же именно она знает. — Мы здесь воюем, государи мои. Мы сражаемся между собой, покуда саксы держат совет. — Слова эти, произнесенные столько прекрасной и уверенной в себе женщиной, отрезвили всех. — Да, это так. Или вы думали, что при вести о смерти Утера они сложат оружие и зарыдают? Я скажу вам: они рыдают от радости. Они собирают рать и скоро придут сюда. — Она на мгновение смолкла. Все глаза были устремлены на нее. — Однако это вы знали и без меня, государи мои. Я пришла сюда не для того, чтобы повторять известное. Она подняла руку, и Кадан, ее советник, вышел вперед, неся завернутый в ткань сверток. Он положил свою ношу ей на руки и встал рядом. Игерна выступила на середину церкви и подняла сверток, чтобы все могли его видеть. Затем начала разматывать ткань. Блеснули золото и серебро, ткань спала, явив всем то, что я мог назвать и прежде: Меч Британии. — Это, — сказала она, поднимая его, — меч Утера и Аврелия, однако прежде, давным-давно, он принадлежал первому Верховному королю Острова Могущественного. И с тех пор им владел каждый Верховный король, кроме одного (она имела в виду Вортигерна), — ибо это меч Максима Великого, Императора Британии и Галлии. Она медленно повернулась, чтобы все видели — это и впрямь знаменитый меч императора. Свет из узких, высоко расположенных окон падал длинными косыми лучами, вспыхивая на лезвии и зажигая огнем резной аметист с орлом. Да, короли узнали меч, это выдавала вспыхнувшая в их очах алчность. Дунаут даже нежно погладил рукоять своего меча, словно прикидывая, каково это — владеть имперским клинком Британии. У других тоже пальцы дергались, а глаза так и ели холодное, длинное, поблескивающее лезвие. Игерна двумя руками подняла меч над головой. Все смолкли. — Государи мои! Вот Меч Британии! Стыдно драться над ним, как собаки дерутся над костью! Потом, опустив меч, она уперла его острием в пол, сложила руки на рукояти, медленно опустилась на колени и склонила голову. Не знаю, как она молилась. Не знают и остальные. Однако, какими бы ни были слова, немного столь сердечных молитв слышали эти своды. Я и сейчас вижу ее, стоящую на коленях в кольце королей: синий плащ перекинут через плечо, гривна поблескивает на тонкой шее, длинные пальцы сплетены на золотой рукояти, чело касается самоцветного камня. Свет из окон окружал ее священным ореолом. Если слова Игерны привели королей в смущение, то молитва заставила замереть. Только совсем уж бессердечный человек мог не устыдиться при виде этого целомудренного зрелища. Сознание вины заставило их всех онеметь. Наконец, закончив молитву, она встала и, держа перед собой меч, медленно пошла вдоль кольца королей. — Властители Британии! — провозгласила она уверенно и громко, — этот меч надлежит носить тому, кто никогда не искал возвыситься сам, кто яснее всех видит нашу страну, тому, чью мудрость ценят равно убогий и знатный, чью силу и отвагу воспевают в богатых чертогах и в бедной лачуге от края до края земли… Игерна остановилась передо мной. — Государи мои, я вкладываю этот меч в его руку, и пусть теперь тот из вас, кто мнит себя более достойным, отнимет его силой. — Почему? — я осип от изумления. — Потому что ты сам никогда бы себя не предложил. Она повернулась к собравшимся и воскликнула: — Кто вместе со мной принесет клятву верности нашему Верховному королю? Игерна опустилась на колени и, как повелось издревле, протянула руки к моим стопам. Короли переглянулись, но никто не последовал ее примеру. Время тянулось медленно, и было похоже, что благородный поступок Игерны закончится позором. Короли упрямо не двигались с места. Их каменное молчание дышало вызовом. Похоже, Игерна просчиталась. Их высокомерное презрение ко мне свело на нет ее прекрасный порыв. Я готов был зарыдать от жалости к ней. Однако, когда уже казалось, что она сдастся, кто-то шевельнулся на противоположной стороне церкви. Я поднял глаза. Лот медленно поднялся на ноги. Мгновение он медлил, потом шагнул вперед, не отрывая от меня глаз. — Я клянусь в верности, — провозгласил он, и эхо гулко отозвалось под высокими сводами. Он опустился на колени рядом с Игерной. Лот еще больше, чем Игерна, изумил королей. Они смотрели, не веря своим глазам, и я тоже. Однако воли двоих мало, чтобы возвести человека на верховный престол. Но тут Кустеннин тоже шагнул вперед. — Я клянусь ему в верности, — зычно объявил он. Следующим тишину нарушил голос Теодрига. Оба встали передо мной на колени, за ними последовали их соратники. Затем встали Эльдофф Эборакский и Райн Гвинеддский вместе со своими советниками, все они поверглись к моим стопам и принесли клятву. К ним присоединился Кередигаун и его свита. Будь это в другое время или окажись на моем месте кто-то иной, все могло повернуться иначе. Впрочем, думаю, то, что случилось в это ясное утро, было предрешено изначально. Дунаут и Моркант с их отвратительной сворой были сильны. Я знал: они никогда не склонятся передо мной. Итак, короли разделились, и противников моих было больше, чем сторонников. Я не мог стать Верховным королем. Да я и не желал этого. Однако меня поддержали достойные люди. Теперь во всяком случае я был вправе действовать. — Знать и короли Британии, — сказал я, поднимая меч. — Многие из вас провозгласили меня Верховным королем… — А многие — нет! — завопил Дунаут. — Все знают, что ты долгие годы и кинжала в руках не держал! Я продолжал, словно не слышал его слов: — И хотя я мог бы настоять на своем избрании, я не стану это делать. Почти все смолкли, зато Дунаут еще больше расхрабрился и закричал: — Вот я и говорю, надо выбирать такого, кто не побоится обнажить этот меч в бою! Это я спустить не мог. — Думаешь, я струсил? Кто думает, что Мирддин Эмрис боится употребить этот меч по назначению? Выходи вперед, проверим! Дураков принимать мой вызов не нашлось. — Значит, я прав, и никто из вас так не думает, — продолжал я. — Вам известно, что не страх мешал мне сражаться, но уроки прежних войн: можно убить лишь столько-то саксов, пиктов, ирландцев. Затем придут новые саксы, пикты, ирландцы, и я вам скажу: хоть бы реки потекли вражеской кровью, а небо почернело от дыма горящих тел, всех перебить нельзя. Я почувствовал, как кровь во мне закипает. Слова жгли грудь. — Этот меч — Британия, — возгласил я, вздымая его над головой. — У меня на него не меньше прав, чем у любого другого, и побольше, чем у иных. И все же не мне им владеть. Тот, кому достанется этот меч, будет владеть Британией. И пусть он держит его крепко! Посему с нынешнего дня я складываю оружие, дабы служить тому, кто будет его достоин. Однако скажу вам истинно: этот меч не дастся ни тщеславному, ни дерзкому. Не дастся он ни гордецу, ни тому, кто идет по трупам друзей. Императорский меч Британии достанется тому одному из вас, кто согнет спину и вознесет других, кто отбросит дерзость и гордыню, тщеславие и властолюбие, кто унизится до последнего конюха и станет владыкой себе и слугой всем. Я говорил не от себя; пришло пророческое вдохновение, и его источник излил на меня негаданные дары, слова сами рвались с языка. Я говорил, и мой голос гремел, как набат, как арфа, тронутая незримой рукой. — Слушайте, о короли, чем будет отмечен тот, кому достанется меч. За него охотно пойдут на смерть; он будет любить правду, вершить справедливость, проявлять милосердие. С заносчивыми он будет смел, со смиренными — ласков. Таких королей еще не видела эта земля; в дружину его войдет лишь знатный, а поведут ее славнейшие короли. Верховный дракон Британии, он намного превзойдет правителей мира не только мощью, но и добротой, не только отвагой, но и состраданием. Ибо в сердце своем он будет нести Истинный Свет Божий. Вижу: глаза его мечут искры, пальцы крепче стального бруса, десница подобна молнии. Всяк живущий на этом острове преклонит пред ним колени. Барды будут упиваться его деяниями и пировать его добродетелями, весть о его правлении дойдет до всех уголков мира. Покуда стоят небо и земля, слава его будет на устах у всех, кто любит честь, доброту и мир. И покуда не прейдет земля, имя его будет жить, и дух его останется в вечности. Это предрекаю я, Мирддин Эмрис. Я слышал, как стучит мое сердце. Никто не осмеливался заговорить. Однако миг прошел; вдохновение пропало. Резкий крик нарушил тишину: — Пустые слова! — выкрикнул Дунаут. — Я требую знамения! Коледак и другие подхватили: — Как мы узнаем твоего короля? Нужен знак. Думаю, они просто, как утопающий, хватались за соломинку. Однако меня это привело в ярость. Я не мог терпеть больше ни секунды. В беспамятстве гнева я выбежал из церкви, держа меч. Они бежали за мной, их голоса звенели в ушах. Я не слушал и не оборачивался. Сразу за дверью был двор, где каменщики строили арку, и здесь лежал огромный замковый камень, приготовленный для свода. Сжимая рукоять, я поднял меч над головой. — Нет! — дико завопил Дунаут. — Остановите его! Но мне никто не мог помешать. Я со всей силы опустил Меч Британии острием в серый гранит. Изумление на их лицах заставило меня опустить взгляд. Меч не сломался: он стоял, подрагивая, обгоревший почти по рукоять и плотно вошедший в камень.
Последние комментарии
1 час 51 минут назад
1 час 54 минут назад
2 дней 8 часов назад
2 дней 12 часов назад
2 дней 14 часов назад
2 дней 15 часов назад