Жизнь Пушкина [Виктор Владимирович Кунин] (fb2) читать постранично
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя (261) »
Жизнь Пушкина Том 2
Составление, вступительные очерки и примечания В. В. Кунина
Глава девятая
1826–1828

Так, полдень мой настал, и нужно Мне в том сознаться, вижу я. Но так и быть: простимся дружно, О юность легкая моя! Благодарю за наслажденья, За грусть, за милые мученья, За шум, за бури, за пиры, За все, за все твои дары; Благодарю тебя. Тобою, Среди тревог и в тишине Я насладился… и вполне; Довольно! С ясною душою Пускаюсь ныне в новый путь От жизни прошлой отдохнуть.
Дай оглянусь…1826
Я гимны прежние пою…1827
«Храните гордое терпенье…»
«Завидую Москве, — писал Пушкину в сентябре 1826 г. один из современников, узнав о его возвращении. — Она короновала императора, теперь коронует поэта»… Почти месяц волновали Москву предкоронационные события. 13 июля казнили декабристов, 14-го отслужили молебен, и тут же вся знать потянулась в Москву для подготовки к коронационным торжествам. Коронация Николая I состоялась 22 августа. Император, рассказывают, был мрачен среди всеобщего показного веселья: он не верил славословию приближенных и боялся злоумышленников — мстителей за декабристов. Древняя столица была переполнена шпионами и агентами самых разных рангов и квалификаций. «Всегда была обильна доносами русская земля, — замечает П. Е. Щеголев, — а в то время доносительство достигло степеней чрезвычайных. Во все концы России были разосланы офицеры, преимущественно флигель-адъютанты, для собирания под рукой доносов и сведений, не укрываются ли еще где-нибудь гидра революции и остатки вольного духа». Александр Иванович Герцен вспоминал: «Победу Николая над пятью торжествовали в Москве молебствием. Середь Кремля митрополит Филарет благодарил бога за убийства. Вся царская фамилия молилась, около нее сенат, министры, а кругом, на огромном пространстве, стояли густые массы гвардии коленопреклоненные, без кивера, и тоже молились; пушки гремели с высот Кремля… Мальчиком четырнадцати лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии, я клялся отомстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками. Я не отомстил; гвардия и трон, и алтарь, и пушки — все осталось, но через тридцать лет я стою под тем же знаменем, которого не покидал ни разу». Пусть не покажется парадоксальным: Пушкин, как и Герцен, может быть, сам того не сознавая, при въезде в Москву 8 сентября был обречен на борьбу с троном во имя многих из тех идей, что отстаивали декабристы. И Пушкин, сколько ни стремился взглянуть на трагедию «взглядом Шекспира», но в реальности был опаснейшим противником николаевского режима, противником, которого долго пытались приручить, перехитрить, приспособить, унять, да не смогли и кончили тем, что десятилетие спустя сгубили… Начинались трудные годы — для Пушкина и для всей России. Однако ощутить особенность времени опальному поэту невозможно было сразу, в одно мгновение. Для этого, в свою очередь, нужно было какое-то время. Внешне Москва ошеломляла непосвященного. Вечером того же дня, что и Пушкин, в древнюю столицу въехал С. Т. Аксаков. Он вспоминал: «Москва, еще полная гостей, съехавшихся на коронацию из целой России, Петербурга, Европы, страшно гудела в тишине темной ночи, охватившей ее сорокаверстный Камер-коллежский вал. Десятки тысяч экипажей, скачущих по мостовым, крик и говор еще не спящего четырехсоттысячного населения производили такой полный хор звуков, который нельзя передать никакими словами. Это было что-то похожее на отдельные беспрерывные громовые раскаты, на шум падающей воды, на стукотню мельниц, на гудение множества исполинских жерновов. Никакой резкий стук или крик не вырывался отдельно, все утопало в общем шуме, гуле, грохоте, и все составляло непрерывно и стройно текущую реку звуков, которая с такой силою охватила нас, овладела нами, что мы долго не могли выговорить ни одного слова. Над всей Москвой стояла беловатая мгла, сквозь которую светились миллионы огоньков. Бледное зарево отражалось в темном куполе неба, и тускло сверкали на нем звезды…» «Первые годы, последовавшие за 1825-м, — писал Герцен, — были ужасны… Людьми овладевало глубокое отчаяние и всеобщее уныние. Высшее общество с подлым и низким рвением спешило отречься от всех человеческих чувств, от всех гуманных мыслей». Но одного «общественного испуга», ради которого в немалой мере и казнили декабристов, было недостаточно царю. Нужна была и реальная полицейская защита, и прежде всего надежная, как ему казалось, система сыска. Так история вывела на сцену
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя (261) »

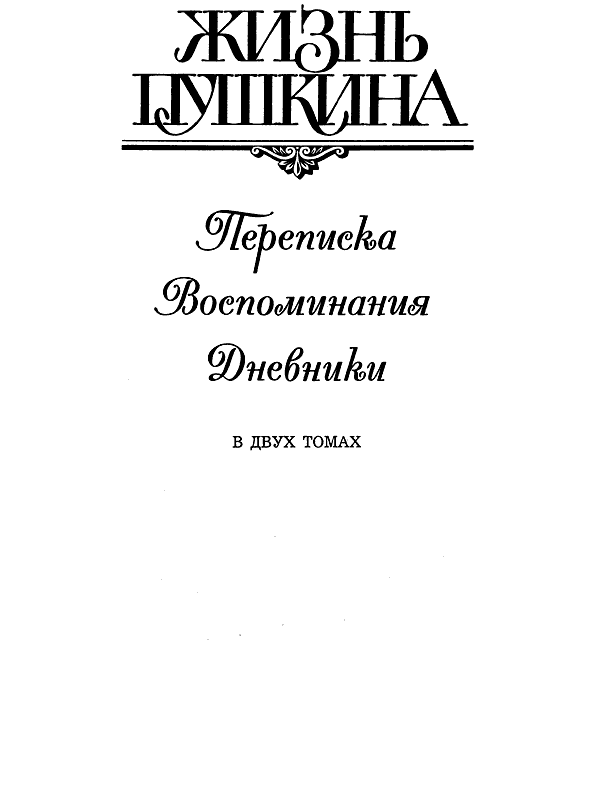

Последние комментарии
1 час 26 минут назад
5 часов 34 минут назад
5 часов 51 минут назад
6 часов 12 минут назад
8 часов 54 минут назад
16 часов 17 минут назад