«Короли» снимают табель [Алла Яковлевна Трубникова] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Алла Трубникова «Короли» снимают табель
Напишите, что вас заинтересовало в этой книге, какие возникли вопросы. Наш адрес: Москва, А-30, Сущевская, 21, издательство «Молодая гвардия», «Ровесник».
ИЗ ДНЕВНИКА «ТУНЕЯДКИ» ГАЛКИНОЙ

День первый ПОНЕДЕЛЬНИК
 Кто-то трясет меня за плечо:
— Вставайте! Скоро Париж!
Париж! Опять Париж!.. Я счастливо улыбаюсь — всего несколько месяцев назад подъезжала я к этому прекрасному городу.
Вскакиваю: что за ерунда! Спросонок никак не могу сообразить, почему за окнами вагона мерцают редкие огоньки, почему еле тащится сквозь ночь наш поезд, ревматически поскрипывающий тормозами. И с какой стати милицейский капитан, обращаясь ко мне, командует:
— Быстрее собирайте ваши вещи, Галкина! Через пять минут Париж.
Нет, тут явно какое-то недоразумение. Протираю глаза. Пассажиры начинают поглядывать на меня с подозрением.
— Придите же в себя, Галкина! — ледяным голосом советует капитан.
И тут, наконец, я окончательно просыпаюсь и понимаю, что его слова относятся ко мне. Ведь я-то и есть Галкина, «тунеядка» Галкина, которую препровождают на место поселения! Да, я журналистка. Но была же я паломницей, бродила по монастырям с крестом на шее в качестве «рабы божьей». И писала потом обо всем увиденном документальные повести. Так почему бы и теперь, когда я задумала рассказать о поселении, мне самой не стать «завзятой тунеядкой»? Вести дневник и изо дня в день записывать все, что будет происходить на моих глазах. При том непременном условии, конечно, что никто ни в районном отделении милиции, ни в самом совхозе и понятия не будет иметь, кто скрывается под видом новой поселенки. Никто, кроме сопровождающего меня капитана.
Однако, при чем тут Париж? Ведь совхоз, куда меня направляют, называется «Первомайский»…
— Станция Старый Париж, стоянка одна минута, — простуженным голосом объявляет проводник.
Кто-то трясет меня за плечо:
— Вставайте! Скоро Париж!
Париж! Опять Париж!.. Я счастливо улыбаюсь — всего несколько месяцев назад подъезжала я к этому прекрасному городу.
Вскакиваю: что за ерунда! Спросонок никак не могу сообразить, почему за окнами вагона мерцают редкие огоньки, почему еле тащится сквозь ночь наш поезд, ревматически поскрипывающий тормозами. И с какой стати милицейский капитан, обращаясь ко мне, командует:
— Быстрее собирайте ваши вещи, Галкина! Через пять минут Париж.
Нет, тут явно какое-то недоразумение. Протираю глаза. Пассажиры начинают поглядывать на меня с подозрением.
— Придите же в себя, Галкина! — ледяным голосом советует капитан.
И тут, наконец, я окончательно просыпаюсь и понимаю, что его слова относятся ко мне. Ведь я-то и есть Галкина, «тунеядка» Галкина, которую препровождают на место поселения! Да, я журналистка. Но была же я паломницей, бродила по монастырям с крестом на шее в качестве «рабы божьей». И писала потом обо всем увиденном документальные повести. Так почему бы и теперь, когда я задумала рассказать о поселении, мне самой не стать «завзятой тунеядкой»? Вести дневник и изо дня в день записывать все, что будет происходить на моих глазах. При том непременном условии, конечно, что никто ни в районном отделении милиции, ни в самом совхозе и понятия не будет иметь, кто скрывается под видом новой поселенки. Никто, кроме сопровождающего меня капитана.
Однако, при чем тут Париж? Ведь совхоз, куда меня направляют, называется «Первомайский»…
— Станция Старый Париж, стоянка одна минута, — простуженным голосом объявляет проводник.
 Поезд замедляет ход, мы поспешно спрыгиваем на платформу. Ах, вот в чем, оказывается, дело — крохотная станция, на которую мы приехали, называется… Старым Парижем. И все попытки переименовать ее в Веселый Кут остались безрезультатными — жители упорно продолжают называть ее по-прежнему.
Спотыкаясь, бредем по еле освещенному перрону — неоновые лампы аэродрома Орли, что под настоящим Парижем, здесь, естественно, отсутствуют…
Час от часу не легче — выясняется, что, помимо Старого Парижа, существует еще и Новый. И что именно в селе Новый Париж расположено мое поселение. Но до него добрых двадцать километров с гаком, поэтому ночь мне предстоит провести в здешней милиции.
— Указница? — Дежурный по отделению окидывает наметанным взглядом мое цветастое платье, модные с обтрепанными носами туфли и кокетливо повязанную косынку с экзотическими пальмами.
До утра меня помещают в камеру предварительного заключения. Что и говорить, комната выглядит не очень-то уютно, когда на окнах вместо занавесок — решетки. На мое счастье, кажется, в этот день не «выловили» ни одного нарушителя общественного спокойствия. Впрочем, нет, здесь уже примостилась какая-то особа женского пола.
— Новенькая? Небось к нам, в Первомайский?
Молча киваю и укладываюсь на скамью. Закрываю глаза. Жестковато. Уснуть все равно не удается: Нинка Лычкина, как запросто она себя величает, не умолкает ни на минуту.
— Подымаешь, велика беда, набила морду соседке. Ничего, скоро вернусь, еще добавлю. — И Нинка сжимает в кулак руку с затейливой татуировкой: «Боже, избавь меня от врагов, а от друзей я и сама избавлюсь».
— Наколочки-то, похоже, тюремные? — позевывая, как бы невзначай спрашиваю я.
— Они самые, — не без гордости констатирует Лычкина. — Нинка уже кое-где побывала, так что совхоз для нее — детские игрушки, — и она небрежно сплевывает на пол.
Исподволь начинаю расспрашивать о житье-бытье на поселении.
— А ты что, видно, тоже сачковала? — в свою очередь, интересуется Нинка. — Так вот, имей в виду: сачковать там не приходится. У нас, представляешь, какой порядочек заведен? Раз не выйдешь, два не выйдешь, а на третий — принуд. Кой-кому дали. После этого все как миленькие на наряд затрусили. Так что лучше сразу идти. Это тебе не кто-нибудь говорит, а Нинка Лычкина. А Лычкина трепаться не любит…
Ранним утром меня вызывают в дежурную. Усаживаюсь в уголок. Происходит смена дежурных по отделению. Милиционеры настроены отнюдь не агрессивно.
— И много дали? — не без сочувствия спрашивает тот, что сдал дежурство.
— Три.
— Это еще по-божески. А будете работать — вообще половиной срока обойдется, — подбадривает тот, что принял дежурство.
Никто, кроме капитана Голько, не знает, что тунеядка Алла Галкина и журналистка Алла Трубникова — одно и то же лицо. Значит, надо хорошо играть свою роль.
— Работать? — Я кривлю ярко накрашенный рот. — А знаете, как в песне поется?
Поезд замедляет ход, мы поспешно спрыгиваем на платформу. Ах, вот в чем, оказывается, дело — крохотная станция, на которую мы приехали, называется… Старым Парижем. И все попытки переименовать ее в Веселый Кут остались безрезультатными — жители упорно продолжают называть ее по-прежнему.
Спотыкаясь, бредем по еле освещенному перрону — неоновые лампы аэродрома Орли, что под настоящим Парижем, здесь, естественно, отсутствуют…
Час от часу не легче — выясняется, что, помимо Старого Парижа, существует еще и Новый. И что именно в селе Новый Париж расположено мое поселение. Но до него добрых двадцать километров с гаком, поэтому ночь мне предстоит провести в здешней милиции.
— Указница? — Дежурный по отделению окидывает наметанным взглядом мое цветастое платье, модные с обтрепанными носами туфли и кокетливо повязанную косынку с экзотическими пальмами.
До утра меня помещают в камеру предварительного заключения. Что и говорить, комната выглядит не очень-то уютно, когда на окнах вместо занавесок — решетки. На мое счастье, кажется, в этот день не «выловили» ни одного нарушителя общественного спокойствия. Впрочем, нет, здесь уже примостилась какая-то особа женского пола.
— Новенькая? Небось к нам, в Первомайский?
Молча киваю и укладываюсь на скамью. Закрываю глаза. Жестковато. Уснуть все равно не удается: Нинка Лычкина, как запросто она себя величает, не умолкает ни на минуту.
— Подымаешь, велика беда, набила морду соседке. Ничего, скоро вернусь, еще добавлю. — И Нинка сжимает в кулак руку с затейливой татуировкой: «Боже, избавь меня от врагов, а от друзей я и сама избавлюсь».
— Наколочки-то, похоже, тюремные? — позевывая, как бы невзначай спрашиваю я.
— Они самые, — не без гордости констатирует Лычкина. — Нинка уже кое-где побывала, так что совхоз для нее — детские игрушки, — и она небрежно сплевывает на пол.
Исподволь начинаю расспрашивать о житье-бытье на поселении.
— А ты что, видно, тоже сачковала? — в свою очередь, интересуется Нинка. — Так вот, имей в виду: сачковать там не приходится. У нас, представляешь, какой порядочек заведен? Раз не выйдешь, два не выйдешь, а на третий — принуд. Кой-кому дали. После этого все как миленькие на наряд затрусили. Так что лучше сразу идти. Это тебе не кто-нибудь говорит, а Нинка Лычкина. А Лычкина трепаться не любит…
Ранним утром меня вызывают в дежурную. Усаживаюсь в уголок. Происходит смена дежурных по отделению. Милиционеры настроены отнюдь не агрессивно.
— И много дали? — не без сочувствия спрашивает тот, что сдал дежурство.
— Три.
— Это еще по-божески. А будете работать — вообще половиной срока обойдется, — подбадривает тот, что принял дежурство.
Никто, кроме капитана Голько, не знает, что тунеядка Алла Галкина и журналистка Алла Трубникова — одно и то же лицо. Значит, надо хорошо играть свою роль.
— Работать? — Я кривлю ярко накрашенный рот. — А знаете, как в песне поется?
День второй ВТОРНИК
Новый Париж еще меньше Старого. Протяженность села не более двух километров. Здесь всего одна улица и всего одна площадь. «Резиденция» коменданта ничем не отличается от других домиков. Самого коменданта, Николая Семеновича Каляду, еще очень молодого человека, мы застаем за обедом. Он поспешно застегивает распахнутый китель и, к явному неудовольствию супруги, встает из-за стола. — Вот еще одна краля на нашу голову. — Комендантша с сердцем отодвигает тарелку. — Откуда только такие берутся?! Может, их всех до Парижу сгонять решили?! Капитан Голько вкратце информирует коменданта: доставлена некая Галкина, осуждена на три года, бедовая. И он требует, чтобы со мной обращались построже. Видя, как хмурится комендант, я про себя усмехаюсь: чего мне бояться? Ведь рядом будет капитан, который знает, кто я, и, как было условлено, не выпустит меня из поля зрения. Вдруг резко, рывком открывается дверь. Вбегает запыхавшийся парнишка. — Товарищ капитан! — скороговоркой выпаливает он. — В контору из милиции звонили. Просят, чтоб вы срочно в район ехали. Я меняюсь в лице: отъезд капитана никак не входил в мои планы. Между тем Голько, не глядя в мою сторону, но, безусловно, для меня роняет: — Непременно вернусь к вечеру. — Вот что, Галкина, — комендант берется за фуражку, — пойдем-ка в столовую. Мы идем по селу. Под яркими солнечными лучами белые домики выглядят нарядно. На улицах ни души: «в самом разгаре страда деревенская». В парижском «ресторане» всего несколько человек. — Обед у нас вывозят в поле, — поясняет комендант. — Только те, кто поблизости работает, заходят в столовую. А ну-ка, Чувакина, зачислите на довольствие двадцать третью выселенную. Деньги после удержим. Становится неловко — пожалуй, не расплатиться с совхозом: вряд ли хватит заработанного мною. — Как фамилия? — Чувакина перестает убирать со стола и вынимает список. — Галкина, — с непривычки я запинаюсь. — Галкина? — Чувакина начинает давиться от смеха. — А может, Елкина? — Интересно, с чего это тебя так разобрало? — возмущаюсь я. — По-моему, быть Галкиной в сто раз лучше, чем Чувакиной. — А ты, собственно, из каких Галкиных будешь? — тотчас интересуется кто-то. — Случаем, не Степана Глухого сродственница? И тут выясняется, что все село сплошь состоит из Елкиных и Галкиных. Дернула же меня нелегкая подобрать себе именно эту фамилию! — Между прочим, соловья баснями не кормят. Может, мне все же дадут поесть в этом доме? Чувакина наливает объемистую миску борща. Ужасно горячо и ужасно невкусно: надо же умудриться так испортить продукты! — А куда тебя деть, Галкина, ума не приложу, — комендант в раздумье почесывает бровь. — Ну пойдем, пошукаем. В первом же домике, в который мы входим, двери и окна всех комнат открыты настежь. На стенах — платья, под кроватями — чемоданы. А людей нет — только одна женщина лежит на кровати. Однако она, по-видимому, не испытывает ни малейшего смущения от того, что в разгар рабочего дня комендант застал ее в постели с книгой. — Как отдыхаете, Гвоздева? — почему-то без всякой иронии спрашивает Каляда. — Мочи моей нет от того отдыха, Николай Семенович. Осточертело! Не знаю, как пять дней выдержала. Еще семь, прямо вам говорю, мне не дотянуть. Как хотите, а завтра пойду на наряд… Всматриваюсь в обветренное, почерневшее от солнца лицо. Так может выглядеть только человек, большую часть времени проводящий в поле. — Новенькая, что ли? — кивает на меня Гвоздева. — Тогда понятно, почему удивляется. Небось думает, что Гвоздева отлынивает? Так вот, к вашему сведению, в законном отпуске я нахожусь. Правду говорю, Николай Семенович? Комендант подтверждает: выселенным, как и всем трудящимся, положен раз в году отпуск. Конечно, в том случае, если они работали. — А я разве не работала? — Гвоздева открывает тумбочку и достает оттуда захватанную тетрадку. — Вот посмотрите, убедитесь. Смотрю, убеждаюсь: «Январь — тридцать один рабочий день, заработано пятьдесят шесть рублей пятьдесят три копейки. Февраль — двадцать два рабочих дня, заработано тридцать четыре рубля девяносто семь копеек». — Думаешь, я в феврале баклуши била? Вовсе нет! Просто отпускали доченьку навестить — она у меня в интернате… Свободной койки в домике нет. Мы выходим на улицу. — Гвоздева, — замечает комендант, — два года назад была выслана сюда как пьяница и лодырь. В первые же дни запила. За мной то и дело прибегали мальчишки: «Посмотрите, там ваша тунеядка пьяная под забором валяется». А теперь наша Гвоздева меньше нормы никогда не дает. — И с чего бы это она так вдруг к работе пристрастилась? Перевоспитали, что ли, к тридцатой годовщине со дня рождения? — не без иронии опрашиваю я, стараясь вызвать коменданта на откровенный разговор. Но Каляда и не думает сердиться. Подробно, доброжелательно и, как я подозреваю, не без «педагогической цели» принимается он рассказывать, как за два года удалось сделать из пьянчужки человека. — Прежде всего я решил узнать, почему женщина запила, — говорит комендант. — Проще простого, конечно, вызвать в кабинет: «Выселенная Гвоздева, поясните, по какому такому поводу позволяете вы себе напиваться до самого неприличного состояния?» Но я решил действовать по-другому. Однажды в клубе шел праздничный вечер. Все «подопечные» были налицо. Отсутствовала одна Гвоздева. Пошел к домику, где она жила, — так и есть: в окошке свет горит. Постучал. «Кого там еще черт несет?» — закричала Гвоздева. Вошел. «Меня, — говорю, — черт несет. Можно?» — «Можно, — махнула она рукой, — садитесь!» На столе полный ассортимент: лук зеленый, колбаса нарезана кружочками, стакан и початая поллитровка — видно, грамм двести уже выпито. А к буханке хлеба фотография прислонена. Глядит на нее Гвоздева и чуть не плачет. «Вот, — говорит, — товарищ лейтенант, какая у меня Верушка! Горькой сиротинкой теперь на свете осталась». Смотрю я на фотографию: девчушка лет восьми. Косички, школьная форма, все ребячье, а глаза по-взрослому грустные, будто слишком много плохого для своих малых лет видели. «Садись, лейтенант, может, выпьешь со мной для компании? — И Гвоздева снова потянулась за стаканом. — Что молчишь, начальник? Осуждаешь небось? А что сердце у меня от тоски разрывается, это ты понять можешь?» И с пьяными слезами принялась Гвоздева рассказывать, какой у нее попался пьяница муж, как бил ее смертным боем и пить приучал. В пьяном виде угодил под машину. И она стала уже одна «завивать горе веревочкой». Выпьешь, оно вроде и легче. «Только вот Верушку жаль, ни за что ни про что ребенок страдает». Гвоздева опять расплакалась. «Не увидеть мне больше моей кровиночки». — «А это, между прочим, исключительно от вас самой зависеть будет», — говорю я. «Нет, — мотает головой Гвоздева, — от меня теперь ничего не зависит. Отобрали у меня девчонку, в интернат определили. А мне без Верушки жизни нет, в пору руки на себя накладывать…» — «Ну, — говорю, — сейчас у вас голова несвежая, завтра встретимся. Теперь вам лучше всего спать лечь. И уж пить больше не советую». На следующий день Гвоздева ни свет ни заря заявилась. «Почудилось мне, что ли, с пьяных-то глаз, или ты и вправду мне Верушку повидать посулил?» — «Вправду, — подтвердил комендант. — Я так понимаю, Гвоздева. Вы страдаете алкоголизмом. И как всякому больному, вам лечиться нужно». Она отнекивается. «Да кто же меня теперь вылечит? У меня эта напасть лихая теперь в крови». Но я ее обнадежил — мол, ничего, и похуже болезни вылечивают. Только нужно, чтобы она сама захотела вылечиться, без этого никаких результатов не добиться. «Нет, — говорит, — никуда я не поеду, зряшная это все затея. Конечно, мы люди подневольные, если направят…» Ну, я, признаться, даже тогда рассердился. «Да вы что же, — говорю, — слепая, что ли? Не видите, что вам же помочь хотят…» Задумалась Гвоздева. А потом вскинулась и так это озлобленно: «Не твоя, комендант, печаль чужих детей качать», — и хлопнула дверью. Стал я с нее с тех пор глаз не спускать, — продолжал свой рассказ комендант. — Гляжу: день не пьет — держится. Два не пьет. А надо вам сказать — руки у нее золотые. Мастер своего дела. Когда трезвая — горы свернет. Ну, а на третий день не утерпела — опять напилась. И тут я решил рискнуть. — Комендант делает паузу, закуривает. — На следующее утро вызываю к себе Гвоздеву, подаю ей оформленные документы. «Поезжай дочку проведать». Она даже не поверила. «Шутишь, комендант?» — «Нет, — говорю, — не шучу. Поезжай и скажи дочке: „Жди меня, Верушка, каждое последнее воскресенье месяца в гости…“»
Приехала она от дочки веселая, трезвая. За работу взялась — смотреть любо-дорого. А на пятый день опять не стерпела, напилась-таки. Я очень, сказать по правде, огорчился. Но только на следующий день чуть свет Мария ко мне домой прибегает. «Николай Семенович! — просит, а на самой лица нет. — Отправьте меня, бога ради, лечиться. Самой-то мне не справиться». Ну, мы на следующий же день и отправили ее.
Вот ведь какая у нас история с той Гвоздевой произошла. Не простая история. Да, тут за каждого человека бороться приходится… — говорит парижский комендант.
Послушать его — рассуждает, как заправский педагог. Но я-то знаю, что у младшего лейтенанта милиции нет специального педагогического образования. Работал каменщиком, без отрыва от производства окончил строительный техникум, стал прорабом. Под его началом оказались те самые люди, с которыми он, Николай, сложил не одну стену. И не только каменщики, но и штукатуры, плотники, разнорабочие — словом, целая армия людей. И ответственность он стал нести уже не только за стены.
Однажды молодого прораба вызвали в райком комсомола. «А как ты, дружище, посмотришь на одно трудное задание? Парень ты молодой, энергичный». Тот без обиняков согласился: «Раз трудное — давайте».
Думал, на дальнюю стройку направят, а ему выдали милицейскую форму и послали в далекое, глухое село. Распрощался паренек со строительством, а заодно и с благоустроенной городской квартирой — только въехали, даже и пожить толком не пришлось. Так всей семьей — с женой Галей и пятилетним сынишкой — и приехал он в Новый Париж комендантом.
…День клонится к закату. Поиски квартиры комендант оставляет на вечер, а пока советует мне запастись постельными принадлежностями.
Проходит добрых три часа, прежде чем мне с трудом удается разыскать завхоза.
— Найдем все в наилучшем виде, — приговаривает завхоз и сует мне такую затасканную простыню, как будто ее долго жевала одна из совхозных коров. Но я принимаю без оговорок.
Безропотно расписываюсь и за жеваную простыню и за такое же жеваное одеяло. Но полотенце, заношенное, как портянка, переполняет чашу моего терпения.
— Да разве таким можно вытираться?!
— Ну, таким бездельницам, как ты, и это слишком хорошо, — насмешливо произносит сзади женский голос. — Постирай, милочка, потрудись, погни спинку.
Оборачиваюсь — и вздрагиваю: пока я занималась своими делами, в склад набилась уйма народу.
— Ай да бухгалтерова жинка! — пьяно гогочет завхоз. — Вот так отчебучила!
— Бессовестная ты баба, и больше ничего! — вмешивается в разговор еще одна из стоящих позади женщин. — Тунеядками обзывает, а сама сидит за мужниной спиной и баклуши бьет…
— Пошли, новенькая, я за тобой, — сквозь толпу протискивается коренастая женщина. — Тимонюк моя фамилия. А ты зови просто тетей Марусей, меня все так называют. Ты теперь у меня в звене. Так что не бойся — в обиду не дам. Только один уговор: на работу нажимать. Поняла?
С пылающими щеками пробираюсь сквозь толпу следом за тетей Марусей, которая снова приводит меня в столовую, на этот раз «вечерять».
В столовой полным-полно. Здесь на равных правах едят все, кто работает в поле, независимо от того, является ли он совхозным рабочим или высланным для трудового перевоспитания.
— А ты, новенькая, не горюй, — утешает меня сосед по столу, веселый тракторист Сашко, видя, что кусок не лезет мне в горло. — Правда, поначалу привыкнуть к месту вроде бы трудно.
Я слушаю тракториста невнимательно. Устала. А где-то еще придется ночевать?
На выручку снова приходит тетя Маруся.
— К нам пойдем, — говорит она решительно. — У нас сегодня Маргаритина койка пустует. Сама Маргаритка отпросилась к врачу, наверняка загуляет в Старом Париже.
В маленькой комнатке три кровати: одна — тети Маруси, другая — бабы Кили, как здесь называют еще не старую, но степенную сорокалетнюю Акулину, третья — Марго.
«Марго? Это еще кто? — силюсь припомнить я. — Ага, вспомнила. „Королева Марго с Приморского бульвара“ — это же кличка Людмилы Ткаченко…»
Вся стена возле койки Маргариты сплошь завешена фотографиями мужчин. На многих снимках изображена и сама Маргарита в откровенно низком декольте, со взбитой прической.
— А ведь она прехорошенькая, ваша Маргарита! — замечаю я, рассматривая фотографию.
— Та ни! — баба Киля морщится. — Червоне яблучко, та в сердце выни червяки…
Начинается дождь. Только его не хватало. На душе и без того невесело. Беспокоит мысль, что капитан Голько не вернулся, а тут еще этот дождь. Долго прислушиваюсь, как дробно барабанят капли о крышу нашего домика.
Стал я с нее с тех пор глаз не спускать, — продолжал свой рассказ комендант. — Гляжу: день не пьет — держится. Два не пьет. А надо вам сказать — руки у нее золотые. Мастер своего дела. Когда трезвая — горы свернет. Ну, а на третий день не утерпела — опять напилась. И тут я решил рискнуть. — Комендант делает паузу, закуривает. — На следующее утро вызываю к себе Гвоздеву, подаю ей оформленные документы. «Поезжай дочку проведать». Она даже не поверила. «Шутишь, комендант?» — «Нет, — говорю, — не шучу. Поезжай и скажи дочке: „Жди меня, Верушка, каждое последнее воскресенье месяца в гости…“»
Приехала она от дочки веселая, трезвая. За работу взялась — смотреть любо-дорого. А на пятый день опять не стерпела, напилась-таки. Я очень, сказать по правде, огорчился. Но только на следующий день чуть свет Мария ко мне домой прибегает. «Николай Семенович! — просит, а на самой лица нет. — Отправьте меня, бога ради, лечиться. Самой-то мне не справиться». Ну, мы на следующий же день и отправили ее.
Вот ведь какая у нас история с той Гвоздевой произошла. Не простая история. Да, тут за каждого человека бороться приходится… — говорит парижский комендант.
Послушать его — рассуждает, как заправский педагог. Но я-то знаю, что у младшего лейтенанта милиции нет специального педагогического образования. Работал каменщиком, без отрыва от производства окончил строительный техникум, стал прорабом. Под его началом оказались те самые люди, с которыми он, Николай, сложил не одну стену. И не только каменщики, но и штукатуры, плотники, разнорабочие — словом, целая армия людей. И ответственность он стал нести уже не только за стены.
Однажды молодого прораба вызвали в райком комсомола. «А как ты, дружище, посмотришь на одно трудное задание? Парень ты молодой, энергичный». Тот без обиняков согласился: «Раз трудное — давайте».
Думал, на дальнюю стройку направят, а ему выдали милицейскую форму и послали в далекое, глухое село. Распрощался паренек со строительством, а заодно и с благоустроенной городской квартирой — только въехали, даже и пожить толком не пришлось. Так всей семьей — с женой Галей и пятилетним сынишкой — и приехал он в Новый Париж комендантом.
…День клонится к закату. Поиски квартиры комендант оставляет на вечер, а пока советует мне запастись постельными принадлежностями.
Проходит добрых три часа, прежде чем мне с трудом удается разыскать завхоза.
— Найдем все в наилучшем виде, — приговаривает завхоз и сует мне такую затасканную простыню, как будто ее долго жевала одна из совхозных коров. Но я принимаю без оговорок.
Безропотно расписываюсь и за жеваную простыню и за такое же жеваное одеяло. Но полотенце, заношенное, как портянка, переполняет чашу моего терпения.
— Да разве таким можно вытираться?!
— Ну, таким бездельницам, как ты, и это слишком хорошо, — насмешливо произносит сзади женский голос. — Постирай, милочка, потрудись, погни спинку.
Оборачиваюсь — и вздрагиваю: пока я занималась своими делами, в склад набилась уйма народу.
— Ай да бухгалтерова жинка! — пьяно гогочет завхоз. — Вот так отчебучила!
— Бессовестная ты баба, и больше ничего! — вмешивается в разговор еще одна из стоящих позади женщин. — Тунеядками обзывает, а сама сидит за мужниной спиной и баклуши бьет…
— Пошли, новенькая, я за тобой, — сквозь толпу протискивается коренастая женщина. — Тимонюк моя фамилия. А ты зови просто тетей Марусей, меня все так называют. Ты теперь у меня в звене. Так что не бойся — в обиду не дам. Только один уговор: на работу нажимать. Поняла?
С пылающими щеками пробираюсь сквозь толпу следом за тетей Марусей, которая снова приводит меня в столовую, на этот раз «вечерять».
В столовой полным-полно. Здесь на равных правах едят все, кто работает в поле, независимо от того, является ли он совхозным рабочим или высланным для трудового перевоспитания.
— А ты, новенькая, не горюй, — утешает меня сосед по столу, веселый тракторист Сашко, видя, что кусок не лезет мне в горло. — Правда, поначалу привыкнуть к месту вроде бы трудно.
Я слушаю тракториста невнимательно. Устала. А где-то еще придется ночевать?
На выручку снова приходит тетя Маруся.
— К нам пойдем, — говорит она решительно. — У нас сегодня Маргаритина койка пустует. Сама Маргаритка отпросилась к врачу, наверняка загуляет в Старом Париже.
В маленькой комнатке три кровати: одна — тети Маруси, другая — бабы Кили, как здесь называют еще не старую, но степенную сорокалетнюю Акулину, третья — Марго.
«Марго? Это еще кто? — силюсь припомнить я. — Ага, вспомнила. „Королева Марго с Приморского бульвара“ — это же кличка Людмилы Ткаченко…»
Вся стена возле койки Маргариты сплошь завешена фотографиями мужчин. На многих снимках изображена и сама Маргарита в откровенно низком декольте, со взбитой прической.
— А ведь она прехорошенькая, ваша Маргарита! — замечаю я, рассматривая фотографию.
— Та ни! — баба Киля морщится. — Червоне яблучко, та в сердце выни червяки…
Начинается дождь. Только его не хватало. На душе и без того невесело. Беспокоит мысль, что капитан Голько не вернулся, а тут еще этот дождь. Долго прислушиваюсь, как дробно барабанят капли о крышу нашего домика.
День третий СРЕДА
Ночь не обошлась без происшествий. Просыпаюсь от осторожного стука в окно. — Тетя Маруся, откройте… — Никак Маргошка приехала? — Тетя Маруся зажигает свет и идет открывать дверь. Появляется знаменитая «Марго с Приморского бульвара» — в насквозь промокшей нейлоновой блузке, с босоножками под мышкой. Моргая ресницами, с которых на щеки стекает синяя краска, Марго с нескрываемым любопытством рассматривает того, кто занял ее койку. Я поспешно вскакиваю. — Нет, нет! — в три голоса уговаривают меня тетя Маруся, баба Киля и сама Марго. — Оставайся здесь. Марго ничего не стоит добежать до своей подружки Светки Гулидовой. Это же совсем рядом. И не успеваю я возразить, как промокшая Марго опять выбегает под дождь. …Встаем в шесть. Дождя, правда, нет, но пасмурно. Вместе со всеми иду «на наряд» — распределение работы, которым ведает совхозный бригадир. — Правильно начинаешь, Галкина, — одобрительно кивает мне Каляда. Нас, высланных, направляют на прополку. Что ни говори, а есть что-то символическое в том, что именно тунеядцев «бросают» на борьбу с сорняками. Тетя Маруся добыла мне сапку. Но вот беда: сапка совсем тупая. Бегу в кузню — времени в обрез. — Я тебе так наточу, дочка, — добродушно улыбается кузнец, — что меньше двух норм никак не выполнить. И действительно, вскоре лезвие сапки сверкает. — А вечерком зайди, ручку сменю, эта для тебя тяжела больно! — кричит кузнец мне вслед. Наскоро перекусив, залезаем в кузов машины. Понемножку начинаю узнавать вчерашних знакомых. Вон та, с обветренным лицом — Гвоздева: пришла-таки! И Марго тоже здесь и баба Киля в чистеньком наглаженном платье с белехонькой косыночкой на голове. И, разумеется, тетя Маруся. И даже жена коменданта чернобровая Галя.Тетя Маруся отмеряет каждому по четыре полоски. Себе и бабе Киле — по шесть. И Надежде Головань — тоже шесть. «Ишь ты, — думаю я, — по полторы нормы отрабатывают!» — Це по блату, — смеется баба Киля, — ведь мы родычи: на одному сонци онучи сушилы. Мне тетя Маруся отводит почему-то только две полоски. Хорохорюсь: что я, хуже других, что ли?! А кроме того, мне известны здешние порядки — за половину нормы и есть, чего доброго, не дадут! — Хорошо, если для начала и это осилишь, — звеньевая усмехается.
 — Совхозных-то рабочих сюда небось не гонят, — ворчит тетя Маруся. — Им, видишь ли, не выгодно: эта норма рубль девяносто тянет, а на другом больше заработаешь. Совхозные за телятками ухаживают, а нас норовят послать, куда Макар телят не гонял.
Совхозных сюда действительно не посылают. Но ведь не следует забывать, что поселенцы, между прочим, не просто поселенцы, а наказанные.
Тетя Маруся ловко орудует сапкой. А у меня ничего не получается: продвигаюсь, как черепаха. Уже где-то далеко-далеко маячит белая косынка бабы Кили, давным-давно обогнала меня Марго со своей неразлучной подружкой Светой — обе в коротеньких трусиках и майках, они движутся легко, как будто танцуют.
Горячий пот заливает лицо. Сбрасываю кофточку. Налегаю что есть мочи, но тщетно: все равно тянусь позади всех. Уже чуть ли не на горизонте размеренно машет сапкой тетя Маруся.
— И какого черта, — вдруг слышу я, — ты из себя вылазишь?!
Я разгибаюсь: оказывается, у меня есть «конкурентка»: на земле разлеглась ширококостая женщина с одутловатым лицом.
— А ты, новенькая, ложись позагорай! — советует мне она. — И учти: от работы даже лошади дохнут.
— А как же норма?
— Что норма? Был бы выход на поле. Раз выход есть, ко мне не прицепишься… — И она нарочито громко запевает сиплым голосом:
— Совхозных-то рабочих сюда небось не гонят, — ворчит тетя Маруся. — Им, видишь ли, не выгодно: эта норма рубль девяносто тянет, а на другом больше заработаешь. Совхозные за телятками ухаживают, а нас норовят послать, куда Макар телят не гонял.
Совхозных сюда действительно не посылают. Но ведь не следует забывать, что поселенцы, между прочим, не просто поселенцы, а наказанные.
Тетя Маруся ловко орудует сапкой. А у меня ничего не получается: продвигаюсь, как черепаха. Уже где-то далеко-далеко маячит белая косынка бабы Кили, давным-давно обогнала меня Марго со своей неразлучной подружкой Светой — обе в коротеньких трусиках и майках, они движутся легко, как будто танцуют.
Горячий пот заливает лицо. Сбрасываю кофточку. Налегаю что есть мочи, но тщетно: все равно тянусь позади всех. Уже чуть ли не на горизонте размеренно машет сапкой тетя Маруся.
— И какого черта, — вдруг слышу я, — ты из себя вылазишь?!
Я разгибаюсь: оказывается, у меня есть «конкурентка»: на земле разлеглась ширококостая женщина с одутловатым лицом.
— А ты, новенькая, ложись позагорай! — советует мне она. — И учти: от работы даже лошади дохнут.
— А как же норма?
— Что норма? Был бы выход на поле. Раз выход есть, ко мне не прицепишься… — И она нарочито громко запевает сиплым голосом:
 Сколько раз предупреждали эту не знающую ни заботы, ни труда особу! Сколько раз она бездумно чирикала: «Я, Воробьева, обязуюсь…» Но всякий раз ей удавалось под каким-нибудь предлогом увильнуть от своих трудовых обязанностей.
…Полдень. Солнце уже изрядно припекает, когда я, наконец, добираюсь до конца своего первого рядка. Только первого! А уже обед.
Столовая приехала в поле.
К огромному дымящемуся котлу подходят в порядке очереди — по принципу: «Кто лучше работает, тот лучше ест».
Первой очереди удостаивается звеньевая. Большущим черпаком она вылавливает солидный кусок мяса и капусту.
Баба Киля тоже черпает со дна погуще.
Затем каждый достает себе то, что ему больше по вкусу, — в этом поистине волшебном котелке есть чохом все: и мясо, и овощи, и крупа.
Однако когда очередь доходит до меня, на мою долю достается только жижица с желтыми разводами жира.
Баба Киля вынимает из узелка пучок зеленого лука и солидный ломоть брынзы.
— Куштуй, Галочка, будь ласка.
Я «куштую» все подряд: и суп, и лук, и брынзу. Воробьева тоже не отстает — требует вторую порцию.
— Исть за вола, а робить за комара, — замечает баба Киля.
— В работе «ох», а ест за трех! — подхватывает Гвоздева.
Но Воробьева продолжает невозмутимо уписывать за обе щеки.
После обеда полагается отдых. Блаженно растягиваюсь на земле. И как же она изумительно пахнет, эта земля!
— Да ты не кручинься, Галочка, смотри веселей, — ободряет меня баба Киля, которая по-своему комментирует выражение моего лица.
Эх, знала бы она, что я тревожусь совсем о другом — не знаю, куда мне запрятать свои записи. Не носить же их все время за пазухой! А капитана Голько, которому я могла бы их передать на хранение, все нет и нет.
Однако пора и за работу. После еды работать на поле еще тяжелее. Тем не менее приступаю к новому ряду.
— А ты лучше по старому рядку пройдись, — мягко советует мне звеньевая.
— По старому? — недоумеваю я. — Но ведь я его уже до самого конца прошла.
— А ты еще разок, — настаивает звеньевая. — У тебя, я глядела, и росточков много лишних пооставлено и сорняк встречается.
Что ж, приказ есть приказ. Переделать так переделать.
Да только где ее теперь найдешь, эту разнесчастную полоску?
— Твою-то полоску я разом отыщу, — с готовностью вызывается мне помочь звеньевая.
Есть отчего покраснеть до корней волос — выходит, моя работа настолько плоха, что даже бросается в глаза. Принимаюсь работать с остервенением, словно школьница, которую заставили из-за клякс заново переписать все задание.
— Ей-богу, даже смешно, — снова подает голос Воробьева, — да по мне, пропади всё пропадом!
Я молча продолжаю полоть.
К концу рабочего дня еле волочу ноги. Однако предстоит еще пройти пешком километра четыре — машина почему-то не пришла. Да, что ни говори, а любители легкой жизни здесь поймут, как зарабатывается хлеб. Но вот только научат ли их зарабатывать этот хлеб?
…По очереди над большой лоханью окатываемся холодной водой. Сразу становится легче.
— Как на ваш взгляд, — спрашивает меня Марго, — какой из мальчиков лучше? Этот, беленький, или тот, черненький с усиками? — Она тычет пальцем в развешенные на стенке фотографии. — Представьте, этот мне больше не нравится. Впрочем, и тот, белобрысый, мне тоже быстро надоел. Вон тот, с татуировкой, красивый малый, а тоже больше не волнует. Только в книгах врут, что есть любовь. Где же она, эта любовь? Покажите мне ее. За свои двадцать три года я ее и в глаза не видела…
— А что ты вообще в жизни любишь? — допытываюсь я. — Ну, предположим, стихи, музыку?
— Ага! — Марго оживляется. — Угадали. В самую, можно сказать, точку попали. Стихи я уважаю. И музыку тоже. Особенно мне нравится «Марина». Знаете такую песенку? — И она принимается напевать, отбивая такт босоножкой.
Сколько раз предупреждали эту не знающую ни заботы, ни труда особу! Сколько раз она бездумно чирикала: «Я, Воробьева, обязуюсь…» Но всякий раз ей удавалось под каким-нибудь предлогом увильнуть от своих трудовых обязанностей.
…Полдень. Солнце уже изрядно припекает, когда я, наконец, добираюсь до конца своего первого рядка. Только первого! А уже обед.
Столовая приехала в поле.
К огромному дымящемуся котлу подходят в порядке очереди — по принципу: «Кто лучше работает, тот лучше ест».
Первой очереди удостаивается звеньевая. Большущим черпаком она вылавливает солидный кусок мяса и капусту.
Баба Киля тоже черпает со дна погуще.
Затем каждый достает себе то, что ему больше по вкусу, — в этом поистине волшебном котелке есть чохом все: и мясо, и овощи, и крупа.
Однако когда очередь доходит до меня, на мою долю достается только жижица с желтыми разводами жира.
Баба Киля вынимает из узелка пучок зеленого лука и солидный ломоть брынзы.
— Куштуй, Галочка, будь ласка.
Я «куштую» все подряд: и суп, и лук, и брынзу. Воробьева тоже не отстает — требует вторую порцию.
— Исть за вола, а робить за комара, — замечает баба Киля.
— В работе «ох», а ест за трех! — подхватывает Гвоздева.
Но Воробьева продолжает невозмутимо уписывать за обе щеки.
После обеда полагается отдых. Блаженно растягиваюсь на земле. И как же она изумительно пахнет, эта земля!
— Да ты не кручинься, Галочка, смотри веселей, — ободряет меня баба Киля, которая по-своему комментирует выражение моего лица.
Эх, знала бы она, что я тревожусь совсем о другом — не знаю, куда мне запрятать свои записи. Не носить же их все время за пазухой! А капитана Голько, которому я могла бы их передать на хранение, все нет и нет.
Однако пора и за работу. После еды работать на поле еще тяжелее. Тем не менее приступаю к новому ряду.
— А ты лучше по старому рядку пройдись, — мягко советует мне звеньевая.
— По старому? — недоумеваю я. — Но ведь я его уже до самого конца прошла.
— А ты еще разок, — настаивает звеньевая. — У тебя, я глядела, и росточков много лишних пооставлено и сорняк встречается.
Что ж, приказ есть приказ. Переделать так переделать.
Да только где ее теперь найдешь, эту разнесчастную полоску?
— Твою-то полоску я разом отыщу, — с готовностью вызывается мне помочь звеньевая.
Есть отчего покраснеть до корней волос — выходит, моя работа настолько плоха, что даже бросается в глаза. Принимаюсь работать с остервенением, словно школьница, которую заставили из-за клякс заново переписать все задание.
— Ей-богу, даже смешно, — снова подает голос Воробьева, — да по мне, пропади всё пропадом!
Я молча продолжаю полоть.
К концу рабочего дня еле волочу ноги. Однако предстоит еще пройти пешком километра четыре — машина почему-то не пришла. Да, что ни говори, а любители легкой жизни здесь поймут, как зарабатывается хлеб. Но вот только научат ли их зарабатывать этот хлеб?
…По очереди над большой лоханью окатываемся холодной водой. Сразу становится легче.
— Как на ваш взгляд, — спрашивает меня Марго, — какой из мальчиков лучше? Этот, беленький, или тот, черненький с усиками? — Она тычет пальцем в развешенные на стенке фотографии. — Представьте, этот мне больше не нравится. Впрочем, и тот, белобрысый, мне тоже быстро надоел. Вон тот, с татуировкой, красивый малый, а тоже больше не волнует. Только в книгах врут, что есть любовь. Где же она, эта любовь? Покажите мне ее. За свои двадцать три года я ее и в глаза не видела…
— А что ты вообще в жизни любишь? — допытываюсь я. — Ну, предположим, стихи, музыку?
— Ага! — Марго оживляется. — Угадали. В самую, можно сказать, точку попали. Стихи я уважаю. И музыку тоже. Особенно мне нравится «Марина». Знаете такую песенку? — И она принимается напевать, отбивая такт босоножкой.
 Мне становится жаль эту девчонку. Эх, Людмила, Людмила, ты себе на иностранный манер не только имя выдумала. Ты и жизнь себе попыталась выдумать шиворот-навыворот. И какая же она оказалась неинтересная, твоя выдуманная жизнь, без работы, без стихов, без настоящих чувств, без свойственных юности идеалов, без мечты и романтики!..
Уже смеркается, а у меня все еще нет места для ночлега. Выжидающе посматриваю на дверь: не войдет ли капитан Голько? Но нет, видимо, капитан еще не вернулся.
— Да вы оставайтесь на моей коечке, — гостеприимно приглашает меня Марго. — А я опять пойду к Светланке.
— Как же так? — для приличия возражаю я, а сама только и мечтаю, как бы поскорее улечься на эту железную койку с продавленным матрацем.
— И очень даже просто, — безапелляционно заявляет тетя Маруся.
Подчиняясь нашей звеньевой, мы все садимся за стол и отдаем честь и тети-Марусиному салу, и брынзе бабы Кили, и шоколадным конфетам Марго, и копченой колбасе, прихваченной мной в дорогу.
Мне становится жаль эту девчонку. Эх, Людмила, Людмила, ты себе на иностранный манер не только имя выдумала. Ты и жизнь себе попыталась выдумать шиворот-навыворот. И какая же она оказалась неинтересная, твоя выдуманная жизнь, без работы, без стихов, без настоящих чувств, без свойственных юности идеалов, без мечты и романтики!..
Уже смеркается, а у меня все еще нет места для ночлега. Выжидающе посматриваю на дверь: не войдет ли капитан Голько? Но нет, видимо, капитан еще не вернулся.
— Да вы оставайтесь на моей коечке, — гостеприимно приглашает меня Марго. — А я опять пойду к Светланке.
— Как же так? — для приличия возражаю я, а сама только и мечтаю, как бы поскорее улечься на эту железную койку с продавленным матрацем.
— И очень даже просто, — безапелляционно заявляет тетя Маруся.
Подчиняясь нашей звеньевой, мы все садимся за стол и отдаем честь и тети-Марусиному салу, и брынзе бабы Кили, и шоколадным конфетам Марго, и копченой колбасе, прихваченной мной в дорогу.
День четвертый ЧЕТВЕРГ
Сегодня я уже чисто выполола свои две полоски. Правда, это всего полнормы, но звеньевая меня похвалила — для начала, мол, и это хорошо. Воробьева за целый день умудрилась «доконать», по ее выражению, лишь одну полоску. От гнева баба Киля даже покраснела. — Через одну погану вивцю вся отара пропадае. — За тебя, безрукую, прямо хоть сама допалывай, — чуть не плачет звеньевая. — Ну, как я бригадиру доложу? Директор и без того нас не шибко любит. Тунеядками, скажет, были, тунеядками и остались. — А у меня, может, жар, — откусывая увесистый кусок сала с хлебом, беззастенчиво врет Воробьева. — В гарячци лежить, а без памяти исть, — отплевывается баба Киля. Лицо у нее от солнца стало красным, словно созревший помидор. Вечером, когда мы пьем чай и я опять думаю о ночлеге, в комнату входит комендант. — Вот что, Галкина, — распоряжается он, — идите пока ночевать на место Лычкиной. — Но ведь Лычкина через несколько дней вернется. Куда же я тогда денусь? — Места у нас хватает. Только с кроватями загвоздка, — ободряет меня комендант. Делать нечего, приходится идти. Нехотя собираю вещички. Впрочем, комната, где живет Лычкина, недалеко, в том же домике. Здесь стоят всего две кровати. Одна, застеленная, временно поступает в мое пользование. На другой сидит молодуха в халате и изо всех сил трясет зашедшегося от крика малыша. — Да разве ж так можно? — Я беру у молодухи ребенка, разворачиваю. — Так и есть — мокрехонек. Перепеленываю крохотное худенькое существо в чистую, сухую тряпочку, и оно, успокоившись, сразу затихает. Разбираю свои вещи, перестилаю постель, ложусь и сквозь полузакрытые веки наблюдаю за своей новой соседкой. Эх, Светлана Цымбалова! Если бы ты только могла предположить, как много я о тебе знаю! Я ведь побывала в том самом родильном доме, где в 1956 году ты родила своего первенца Сережу. Тебя там хорошо запомнили — ты была единственной матерью, которая не хотела кормить своего новорожденного. Ты всегда втихомолку норовила отнять у него грудь, надеясь, что малыш умрет от истощения и тем самым освободит тебя от ненавистных уз материнства. Ездила я и в детскую инфекционную больницу, куда ты попала уже несколько позже со своими двойняшками Юрой и Андрюшей. И там у всех в памяти беспрецедентный случай — внезапно вошедшая медсестра обратила внимание, как странно лежат подушки. Каково же было всеобщее возмущение, когда оказалось, что подушки ты уложила на головы своих малюток. Здесь ты была единственной из матерей, которая не только не дрожала за жизнь своих детей, но мечтала об их смерти. Врачи потребовали лишить тебя материнских прав, обратились в прокуратуру. Состоялся суд — и тебе предложили сдать ребят в Дом малютки. Разыскала я и Дом малютки, где растет твой сын Андрей, «старший» из двойняшек. «Младшего», Юру, усыновили. Заведующая Нина Васильевна Пронина с законным возмущением рассказывала мне, что ты никогда не приходила навестить своих детей, ни разу не справилась, хотя бы письменно или по телефону, об их здоровье. Когда же нашлись хорошие бездетные люди, мечтавшие усыновить ребенка, они потратили бездну времени, прежде чем им удалось разыскать «нежную мамашу». А когда, наконец, они тебя нашли и не без робости поведали о своем желании, опасаясь могущего последовать отказа, ты шутя, с облегчением, с невиданной легкостью написала свое отречение: «Я, Светлана Цымбалова, мать Юрия Цымбалова, отказываюсь от прав матери на своего ребенка…» Чтобы не разлучать двойняшек, супруги хотели усыновить и Андрея. Но ты цинично заявила им: «И к чему вам второй мальчишка? Лучше приезжайте на будущий год — я вам к тому времени нарожу девчонку». Ты так и не дала усыновить Андрея. И хотя все были возмущены, но существует законоположение, по которому решающее слово принадлежит матери. А разве ты мать? Вот теперь ты опять родила. Правда, снова мальчика. Но разве и его не ждет в самом ближайшем будущем участь братишек?.. — Вот еще мне обуза, — Цымбалова со злостью сует грудь надрывающемуся от плача малышу. «И откуда только берутся такие матери? Кошка, и та своего котенка лишний раз облизнуть старается. А ведь ты не животное — человек как-никак», — с неприязнью думаю я, глядя на свою соседку. Но об этом я молчу. А вслух говорю: — Вот гляжу я на тебя, Светлана, как ты своего сынка кормишь, и вспоминается мне другая мать. Случилось это во время войны. Эшелоном из блокадного Ленинграда эвакуировали раненых и больных. Среди них оказалась и одна женщина с грудным ребенком. Сама-то совсем молодая, и мальчонка у нее крохотный, трехмесячный всего. У женщины той молоко пропало. А ребенок голодный, плачет. Ну, она его все водичкой с сахаром подпаивает. А вода — она и есть вода. Мальчик совсем ослаб. И пустышку в рот не берет — вроде понимает, что пустышка эта — один обман. Исходит ребенок плачем, даже весь синенький сделался. Девчонка-мать тоже ревет. И раненые, на них глядя, места себе не находят. Жалко до слез. А что будешь делать? Одна надежда на остановку. Но ведь поезда тогда ходили без всякого расписания. Какое там расписание — фашисты то и дело с воздуха бомбят. Видят, конечно, прекрасно, что поезд санитарный, с красным крестом, как не видеть — низко летали, на бреющем полете. И раненые их тоже отлично видели — под огромными очками, как чудища, выглядывали. И вот как начинается бомбежка, девчонка наклонится всем телом над сыночком, как будто она заслонить его могла! Два раза смерть пронеслась совсем близко — бомбы попали в задние вагоны. А эшелон пошел дальше… Только, бывало, поезд остановится, девчонка ребятенка в охапку и — прыг из вагона. Выскочит на перрон и кричит: «Есть здесь кормящие матери? Женщины, помогите! Спасите мне ребенка, женщины!» Кормящие, на ее счастье, всегда находились. У девчонки немного, но все же кое-какие вещицы имелись. И денег сколько-то было. Сперва она их все совала тем, кто кормил. Только ни одна женщина не взяла. Многие даже возмущались: «Не иначе, ополоумела ты с горя!» Вот так они и ехали целых четырнадцать дней. За это время того малыша, наверно, пятьдесят матерей выкормило… — И что же, он выжил? — В бесцветных Светланиных глазах мелькает что-то: простое любопытство или нечто большее? — Выжил. Да, тогда он выжил, — каждое слово дается мне с трудом, и я поспешно отхожу к окну, чтоб Светлана не заметила, что я плачу. В комнате, в которой только что отгрохотали взрывы, отстучали колеса, где только что плакал голодный ребенок и металась его обезумевшая от горя мать, в комнате, где голосами пятидесяти матерей говорило само великое милосердие, теперь воцаряется необыкновенная тишина. Слышно только сонное чмоканье умиротворенного Вовки. — Надо ж такое — полсотни баб чужого ребенка выкормили, — обычно резкий голос Светланы звучит приглушенно, как будто она впервые боится разбудить того, кто спит в бельевой корзине…День пятый ПЯТНИЦА
С утра коменданта атаковали Воробьева и две поселенки, которые живут с ней в одной комнате. Воробьева жаловалась, что те снова заперли дверь и вечером не пустили ее домой. Соседки, в свою очередь, заявили, что и впредь пускать не будут — они люди рабочие, им ночью отдыхать нужно, а эта и работать не работает да еще все ночи напролет гуляет. А под утро является и им еще спать мешает. Комендант пытается вразумить праздную гуляку. Но все его строгие слова для нее, видимо, трын-трава: на поле она, как и обычно, тотчас же укладывается подремать. — Чтой-то не то в поясницу вступило, не то в ногах ломит, — позевывая, жалуется она. Впрочем, всем ясно: лентяйка Воробьева просто не выспалась после ночной гулянки… Однако едва раздается удар половника о котел — сигнал прибытия полевой кухни, — как Воробьева вскакивает. В шесть часов вечера наша звеньевая «подбивает итоги». У всех, кроме Воробьевой, по сто процентов выработки, а у многих и больше. «Да, — думаю я, — если бы вы у себя в колхозах работали так, не попали бы сюда. Но интересно, почему вы здесь стали трудиться? Что явилось стимулом к тому: материальная ли заинтересованность, стремление ли освободиться „по половинке“, как на местном жаргоне называют укороченный срок, или же наконец-то пробудившаяся потребность человека в труде?» И вот вечером сидим мы и не спеша попиваем чай с баранками. К нам в гости (по-прежнему все свое свободное время я провожу у тети Маруси) приходит Надежда. Ей нет еще и двадцати трех лет, но она дружит с тетей Марусей и бабой Килей, хотя обе ее старше. Как я понимаю, в основе их дружбы лежат три обстоятельства: все они из одной местности, все трое выселены сюда по решению общих собраний колхозников, и все, как говорится, «горят» на работе. — Поначалу, как я сюда ехала, — вспоминает тетя Маруся, — зарок себе дала: с места не двинусь, пропади она вовсе пропадом, эта чертова работа. Я и дома до нее не шибко охоча была. Бывало, спозаранку бригадир стучит в окошко: «А ну, Кондратьевна, сей же час выходь на работу. Знаю я тебя, соню да лентяйку». И честит и честит. А меня зло разбирает: «Ах, значит, соня? По-твоему, выходит, лентяйка? Ладно, покажу я тебе, как над Кондратьевной насмешки строить». И сколько он, бывало, ни орет, я — ноль внимания. Перевернусь на другой бок — и будь тут посевная, будь уборочная — с печки не слажу. Мои-то денежки несеяные росли — грибов-ягод насобираю — и в райцентр на рынок. Наши деревенские злятся: «Маруська опять на промысел отправилась». А я и в ус не дую. Торжествую даже — вот, мол, без вашего колхоза сыта-обута. Ну, предупредили меня разок. Предупредили другой. Я опять-таки во внимание не приняла — пустые угрозы, чего они со мной сделают. А тут — бац! — и собрали общее собрание. Чуть не силком они меня на то собрание привели. Чего там было — сказать невозможно! Уж они меня крыли, крыли. Только я сидела, как будто и не про меня речь идет, и семечки лузгала. Зло меня разбирало на всех пуще прежнего, а как они свое решение объявили — и вовсе взбеленилась, — тетя Маруся сделала паузу, как бы показывая, что с тех пор прошло порядочно времени. — И вот такая злющая-презлющая приехала я, значит, сюда. И вот не успела, можно сказать, с машины спрыгнуть, гляжу — идет мне навстречу молодой человек в шинельке и говорит с эдакой улыбочкой: «Добро пожаловать, Мария Кондратьевна, на новое местожительство». — «Добро, — озлилась я, — хорошо добро, когда силком пригнали. Издевается, что ли, часом?» Однако Марией-то Кондратьевной меня давно никто не величал. А комендант, это был он самый, дальше — больше: «Пойдемте, — говорит, — Мария Кондратьевна, посмотрите вашу комнату. У нас пока еще поселенцев мало, так что мест свободных сколько угодно. Выберете себе жилье по вкусу». Тут меня прямо-таки взорвало — подшучивает комендант надо мной, беззащитной. Какое тут может быть жилье по вкусу — камера она и есть камера. Известное дело — на двери замок, на окнах — решетки. Ну, плетусь все-таки за ним. «Вот и пришли», — говорит комендант. Глянула я и глазам своим не поверила: домик чистенький, новенький, даже еще краской пахнет. А комендант улыбается: «Вижу, приглянулось вам помещение. Вот имейте в виду — домики только что выстроены. Так что новоселами будете. И, чур, уговор — порядочек соблюдать. Располагайтесь как дома. Сегодня отдыхайте с дороги. А завтра утречком в шесть я за вами зайду — на работу пойдем». У меня аж в голове все кругом пошло: я-то приготовилась огрызаться, представляла себе, как меня унижать и оскорблять будут. А тут… «Ну, — думаю, — если к тебе, Мария Кондратьевна, с таким уважением, то и ты уважь человека. Дай, — думаю, — выйду на поле. Пусть этот Каляда порадуется». Ну выйти-то я вышла, а только работаю через пень-колоду. Проходит неделя, другая. Комендант мимо меня пройдет, взглянет, а говорить ничего не говорит — присматривается. Только мне тот взгляд — хуже ножа острого. Руки как-то само собой за работу хвататься начинают. А комендант будто невзначай и остановится и как бы между прочим нет-нет да и обронит: «А как по-вашему, Мария Кондратьевна, пшеница ныне большая вымахает?» Или: «А как вам кажется, не стоит нам лучше весь луг скосить, а уж завтра всем вместе на прополку навалиться? Вы ведь в сельском-то хозяйстве специалист». А я глаз-то скошу и посматриваю: не смеется ли, часом, комендант, не шуткует ли надо мной? Нет, вижу, серьезно разговаривает, без улыбки. А однажды он мне доверительно, вроде бы по секрету, сообщает: «Эх, кабы вы только знали, Мария Кондратьевна, как мне трудно на этой работе. Ведь я в городе прорабом был, а сюда меня по комсомольской путевке направили. Вы уж помогайте». — «Ладно, — говорю, — Николай Семенович (в первый раз я его тогда по имени-отчеству назвала), в чем могу, так и быть, подсоблю. За мной остановки не будет». И мне его даже вроде бы жалко сделалось — за что парень с нами, дурными, мается? А эдак через неделю приходит ко мне комендант сам не свой: «Выручайте, Мария Кондратьевна. С нормами у нас полный зарез получается. Многие поселенцы городские проса от ячменя не отличают. Так что нам боевая звеньевая требуется». И не успела я ахнуть, стала звеньевой. Вот и мотаюсь, как белка в колесе, — тетя Маруся вздыхает, однако по ее лицу видно, что свою хлопотливую должность она ни за что никому не уступит. — И знаешь, Галочка, — продолжает тетя Маруся. — У себя-то в селе я все больше задами прошмыгнуть норовила. А вслед мне шипели: «Бездельница, лоботряска, дармоедка! Опять на гулянкуотправилась». А теперь я иду по селу, как царица. Люди мне еще издали кланяются: «Здрасте, тетя Маруся». Баба Киля энергичным движением отодвигает чашку. — А следом за Марусей и мы потянулись. Как говорится, одна головешка и в печи гаснет, а две и в поле горят… Оно, конечно, у каждой из нас свои думки булы. Надежда, например, тут человика повстречала. Дуже гарный работник совхозный. Разве такому яка-нибудь нероба буде по душе? И стала наша Надя так робити, что на нее не нахвалятся. А мени, тоби скажу, принарядиться захотелось. А ведь работать не заставят, так и есть не посадят, как говорится. Ось погляньте, скильки я за этот год накупувала, — баба Киля выдвигает из-под кровати объемистый деревянный сундучок. — А ведь я сюди без ничого приехала. Так я на себя зла, Галочка, так зла! Да коли б в колгоспи я так робила, я б теперь як наречена с приданым була. А у меня за цилый рик всех трудодней — шисть. Кто-то стучит в окно. — Надя, случаем, не у вас? — спрашивает мужской голос. Надя вспыхивает и, поправив косыночку, скрывается за дверью. — Жених Надюшкин, — степенно замечает тетя Маруся. — Поженятся скоро. Она уж назад не поедет. Туточки жить собирается. Хозяйство есть, оба работают. Плохо ли? — Вот ты небось думаешь, как это Надюшку сюда попасть угораздило, — едва закрывается дверь, обращается ко мне наша звеньевая. — Думаю, — сознаюсь я. — А с ней вот какая история произошла, — словоохотливо принимается рассказывать тетя Маруся. — Мы ведь с ней из одного села. И родителей я ее хорошо знаю — первые у нас работяги. Старшие-то ребята ихние тоже все у нас в колхозе работают. А Надюшка-то — младшенькая, известное дело, набалованная. Кончила девчонка десять классов. Председатель ей на выбор: хочешь — на птицеферму, хочешь — в лабораторию, хочешь — в доярки. А только она ото всего нос воротит. «В навозе, — говорит, — копаться желания не имею». Родители прямо даже столбом застыли. «Мы, — говорят, — испокон веку на земле трудимся». — «И трудитесь себе на здоровье, — отвечает. — А мне при моем образовании теперь только в город дорога. Выучусь на большого специалиста. И в деревню даже носа не покажу». Что там с ней в городе приключилось, Надюшка нам уже здесь рассказывала, — продолжает тетя Маруся. — Ну, приехала в город деревенская девчонка и, конечно, растерялась. Институтов-то, оказывается, этих — вагон и маленькая тележка. В какой податься? Тяги-то у нее ни к какой особенно науке не было, ради гонора поехала. Ну, только теперь отступать поздно было. Недолго думавши, подала бумаги в первый попавшийся. Мудреное название, не выговорю. Готовится экзамены сдавать. Да какое там! До них и дело не дошло! Вызвали ее для начала да как стали пытать: почему, мол, именно сюда решила? Да знает ли она, что после окончания работать придется в этой… как ее? — вечной мерзлоте. Надюшка наша, как говорится, схватила в охапку кушак да шапку и бежать… Побегла в другой институт. Так там на первом же экзамене провалилась. Куда деваться? Обратно в деревню — стыдно людям на глаза показаться. И стала она по городу шататься — где постирает, где пол помоет, а когда и вовсе ничего не делает. А ночевать на вокзале приходилось. Там, в зале ожидания, и задержала ее милиция. «Какое твое занятие? А, неопределенное. Вот мы тебя и определим». И прямиком, значит, сюда… Надюшкины-то родители, — помолчав, замечает звеньевая, — и сейчас ни о чем понятия не имеют… Она своим старикам сообщила, что, мол, все в порядке, учится, и в село Новый Париж на практику направлена. А что это на самом деле за «практика», им отродясь не догадаться. Отец с матерью ей сюда всё посылочки шлют. И домой зовут на каникулы — соскучились, да и в колхозе нынче побывать любопытно — большие перемены происходят. …Уже давно перемыты чашки, уже давно заснули мои собеседницы, и причмокивает во сне пустышкой Светланин сынишка, спит и сама Светлана, а недавний разговор за чаем все не идет у меня из ума. Вот как, оказывается, вышли на правильную дорогу три землячки. Каждая по-разному, каждая по-своему. Но все-таки первой-то была тетя Маруся. А кто знает, что произошло бы, не научись человек в милицейской форме действовать так, как учил Макаренко: «Как можно больше требований к человеку и как можно больше уважения к нему…»День шестой СУББОТА
Сегодня суббота. Трудовая неделя окончена. Комендант доволен, норма выполнена в среднем на сто двадцать процентов. Правда, за этой «средней» цифрой и полторы нормы тети Маруси, и полнормы Воробьевой, и недовыполненные сто процентов таких, как Гулидова, Цымбалова. Но в общем-то самого главного удалось достичь — люди в большинстве своем потянулись к труду, почувствовали себя коллективом, прониклись духом соревнования, узнали вкус труда. И сто двадцать процентов — это, что ни говори, неплохо. Интересно, каким станет лицо директора, когда он узнает об этом? Директор терпеть не может выселенных. Он уверен, что им следует работать только под охраной. …Возле конторы замечаю хорошо одетую, интеллигентного вида женщину. Она оживленно беседует с комендантом. Это мать Светки Гулидовой. Светка, вертлявая, с наглыми глазами, «из молодых, да ранних». Ей всего двадцать лет, но она уже прославилась шумными скандалами в ресторанах и кафе родного города. А ведь девочка из хорошей семьи: мать — врач, дедушка в прошлом старый кадровый рабочий, теперь пенсионер. Но вот не сумела опытный врач вырастить свою дочь морально здоровой, не смог приучить к настоящему труду свою внучку и проработавший чуть не полвека дед. Перевоспитанием Гулидовой пришлось заняться милиции. История Светки известна всем. По прибытии Гулидова не вышла на работу — ни в первый, ни на второй, ни на третий день. Она фланировала по селу в модной юбке с разводами и туфельках на каблучках-«шпильках». Время было горячее — шла уборочная. — Работать, как негр на плантации? Ну, знаете ли! — цинично заявляла Гулидова. На четвертый день она исчезла. Впрочем, комендант вскоре обнаружил след беглянки. Она стояла на перроне об руку с кавалером и, судя по всему, намеревалась ближайшим поездом удрать в город. — Ах, какая встреча, лейтенант! — Гулидова полыхала папиросой. — Насколько я понимаю, вы желаете пригласить меня прокатиться на своем персональном «козлике»? Не так ли? Что касается меня, то я, хоть и без удовольствия, принимаю ваше предложение…
На другой день было созвано общее собрание высланных. Поначалу Гулидова держалась, как обычно, нахально. Однако лишь до того, как большинством голосов утвердили решение: «При повторном проступке Гулидова должна быть без всякого предупреждения направлена в колонию на принудработы как не поддающаяся перевоспитанию в условиях переселения». После такого решения спесь с Гулидовой разом слетела. Дрогнувшим голосом Света дала обещание подчиниться существующему порядку, согласно которому каждый высланный обязан работать, а уходить с места поселения имеет право только с разрешения коменданта.
На следующий день Гулидова впервые вышла на работу.
…С тех пор прошел год. Нет, и сейчас еще коменданту нечем особенно порадовать мать. На работу Светлана когда выходит, когда не выходит.
— А вы с ней построже, — просит мать.
«Построже, построже», а сама навезла кучу носильных вещей и продуктов, хотя здесь есть магазин, в котором можно купить и конфеты, и колбасу, и многое другое. Правда, для того чтобы купить, надо иметь деньги, а для того чтобы иметь деньги, надо их заработать. За питание, жилье, постельные принадлежности совхоз вычитает всего-навсего девятнадцать рублей, а заработки здесь раза в три-четыре больше. Впрочем, не у Гулидовой.
…Уже часов с трех начинается предвоскресная суета: гладятся платья, зашиваются чулки, чистятся до блеска туфли.
Марго с насурмленными бровями и ресницами раскручивает бигуди и тянет тоненьким голоском:
— Ах, какая встреча, лейтенант! — Гулидова полыхала папиросой. — Насколько я понимаю, вы желаете пригласить меня прокатиться на своем персональном «козлике»? Не так ли? Что касается меня, то я, хоть и без удовольствия, принимаю ваше предложение…
На другой день было созвано общее собрание высланных. Поначалу Гулидова держалась, как обычно, нахально. Однако лишь до того, как большинством голосов утвердили решение: «При повторном проступке Гулидова должна быть без всякого предупреждения направлена в колонию на принудработы как не поддающаяся перевоспитанию в условиях переселения». После такого решения спесь с Гулидовой разом слетела. Дрогнувшим голосом Света дала обещание подчиниться существующему порядку, согласно которому каждый высланный обязан работать, а уходить с места поселения имеет право только с разрешения коменданта.
На следующий день Гулидова впервые вышла на работу.
…С тех пор прошел год. Нет, и сейчас еще коменданту нечем особенно порадовать мать. На работу Светлана когда выходит, когда не выходит.
— А вы с ней построже, — просит мать.
«Построже, построже», а сама навезла кучу носильных вещей и продуктов, хотя здесь есть магазин, в котором можно купить и конфеты, и колбасу, и многое другое. Правда, для того чтобы купить, надо иметь деньги, а для того чтобы иметь деньги, надо их заработать. За питание, жилье, постельные принадлежности совхоз вычитает всего-навсего девятнадцать рублей, а заработки здесь раза в три-четыре больше. Впрочем, не у Гулидовой.
…Уже часов с трех начинается предвоскресная суета: гладятся платья, зашиваются чулки, чистятся до блеска туфли.
Марго с насурмленными бровями и ресницами раскручивает бигуди и тянет тоненьким голоском:
 Однако надо видеть, какое у нее при этом лицо! Словно она впервые разглядела своего малыша. Когда ребенок засыпает, она долго еще возится в кухне — стирает пеленки.
Однако надо видеть, какое у нее при этом лицо! Словно она впервые разглядела своего малыша. Когда ребенок засыпает, она долго еще возится в кухне — стирает пеленки.
День седьмой ВОСКРЕСЕНЬЕ
В доме — тишина. Каждый занимается своим делом. Баба Киля стирает. На ней и в поле всегда чистое ситцевое платье. Чувакина вышивает гладью. К Соломахе приехал муж. Они чинно прогуливаются по селу: она — высокая, костистая, он — маленький, щуплый. Бывшая самогонщица Соломаха горделиво посматривает по сторонам — пусть, мол, все видят, что у нее есть законный муж, который ее ждет не дождется. Гвоздева затеяла побелку. Она немного выпила. — Я же бывший маляр. А все маляры любят баночку. Мне в праздник без этого никак нельзя, — благодушно оправдывается она под моим укоризненным взглядом. — И о дочке тоска. Поглядела бы ты, какая у меня Верушка! Чистое золото, ей-богу! Девять лет всего, а понимает, как большая, честное слово!.. Окно открыто настежь, и полевые цветы щедро напоили своим ароматом наше скромное жилище. Малыш спит, причмокивая соску. Света старательно примеряет, как половчее перекроить свой байковый халат на распашонки. Видимо, делает она это впервые, и поэтому моя консультация приходится кстати. — А знаешь, сегодня приходил ко мне комендант, — она берет ножницы и решительно отрезает полу. — Насчет мальчонки все беспокоится. Что я с ним делать собираюсь, удочку закидывает. «Конечно, — говорит, — дело твое, захочешь, можешь везти Вовку в город. И, как тех троих, в Дом малютки сдать. Там, конечно, примут, не откажутся. А захочешь, найдутся и здесь хорошие люди, твоего сынка, как родного, любить будут. Только до каких же ты пор, Светлана Сергеевна, как кукушка своих птенцов кидать будешь?» Так и сказал, как кукушка. — Света откладывает ножницы. — И знаешь, меня даже за сердце взяло — представила себе, как моего сына чужая женщина к груди приложит, как за ручку поведет, как он ей, а не мне первый раз «мама» скажет. Чуть не разревелась даже. А тут мне комендант и говорит: «Между прочим, в яслях есть одно свободное место. Мы перед совхозным начальством походатайствовать можем, чтоб оно именно тебе предоставлено было. А на воскресенье ты своего Вовку домой забирать будешь. Так и не заметишь, как он из пеленок вырастет…» Света принимается сметывать распашонку. — Знаешь, — она делает крупные неумелые стежки, — я ведь тех своих детей и не любила вовсе. А к этому вот привязалась. Может, и вправду оставлю. Она откладывает шитье и подходит к корзинке, в которой безмятежно посапывает Вовка, не ведая, что, возможно, сейчас решается вся его дальнейшая судьба.День восьмой. И СНОВА ПОНЕДЕЛЬНИК
Воробьева с самого утра, даже не взявшись за сапку, залегла в посадках, как здесь называют недавно посаженный молодой лесок. Ей опять «невмоготу». Марго, осунувшаяся, бледная, вяло ковыряется в земле. Гулидовой на работе нет, она тоже отправилась в Старый Париж, продала там привезенную матерью кофточку и напилась. Вот что наделала сердобольная родительница! Понедельник, будь он неладен, всегда считался тяжелым днем. Сегодня, наверное, нормы не вытянуть. Тетя Маруся представляет себе лицо директора и как он торжествующе выговаривает Каляде: «Я же вам говорил, что работать они будут только за колючей проволокой», — и начинает бегать по полю, подгоняя отстающих. Когда, отужинав, мы в сумерки возвращаемся из столовой, вдруг откуда-то из-под плетня выскакивает парень в широченных плисовых штанах и красной рубахе навыпуск. — Фу ты, чертяка непутный! Напугал как! — негодует тетя Маруся. — И чего тебя только в нашем Париже носит?! — Да не кричи ты, ради бога, тетя Маруся, — жалобно уговаривает разошедшуюся звеньевую парень в плисовых штанах. — Ты мне только скажи: вернулась моя Фатима или нет? И я исчезну, как утренний туман. Но только скажи, не томи сердце. — Эх ты, горе луковое! — укоризненно качает головой звеньевая. — Сперва натворил бед невпроворот, а теперь ему, вишь ты, опять Фатима понадобилась. Да не вернулась она еще. Недели не прошло, как справлялся, опять тут как тут. — Но, видя огорченное лицо, прибавляет более мягким тоном: — Вроде как через месяц ей срок должон выйти. Парень исчезает так же внезапно, как и появился. — Это еще кто такой? — спрашиваю я. — Да Фатимкин Володька, — поясняет звеньевая. — Была тут у нас одна цыганка, Фатимой звали. Да такая история получилась, и угодила девка в тюрьму. «Фатима? Цыганка? Стоп, — говорю я про себя. — Да ведь я же ее знаю!» Когда я в Управлении общественного порядка знакомилась с делами своих будущих товарок, меня особенно заинтересовала история цыганки Калбаш. Естественно, что в официальных документах она была пересказана весьма скупо. Но оказалось, что эта самая Калбаш находилась неподалеку — в городской трудовой колонии, где отбывала наказание за совершенный на поселении проступок. И я, обрадовавшись, что смогу незамедлительно познакомиться с таким колоритным персонажем, отправилась тогда к ней. Никогда до этого мне не приходилось бывать в трудовых колониях, и я, по правде говоря, просто растерялась, когда, миновав караульную будку и часовых, узнала, что заключенная Калбаш сейчас занята — выступает на смотре художественной самодеятельности. Смотр самодеятельности в таком месте! Этого я даже представить себе не могла! И вот я сижу в битком набитом зале, где зрители — заключенные, и те, что выступают на сцене, тоже заключенные. — Калбаш, цыганский танец, — объявляет конферансье. Появляется худенькая женщина. На ней самодельный цыганский костюм, в руках самодельный бубен. Но этот неповторимый жест плечами, эти скользящие движения рук и этот возглас: «Эх, чавела!» — подлинно цыганские. А потом мы сидели с Фатимой за кулисами, и она рассказывала мне свою грустную повесть. — С малых лет я осталась сиротой, — вспоминала она. — Босая, вечно голодная, бродила по дорогам, и если не крала, то не имела куска хлеба. В двенадцать лет угодила в колонию для малолетних, там впервые в жизни сыта была. А вышла — куда податься? Опять прибрела в табор. Так тянулись годы… — Фатима замолчала, как бы перебирая в памяти события той невеселой поры. И, будто вспомнив наконец что-то важное, оживилась. — Однажды разбили мы стоянку возле большого города и разбрелись кто куда. Одна наша пожилая цыганка взяла меня с собой «на практику». Вот стоим мы возле магазина и к покупателям в карман заглядываем — примеряемся. Вдруг откуда ни возьмись появляются двое, хватают нас за рукав и тащат: «А ну, пошли на расправу». Мы, признаться, здорово струхнули, а потом глядим — наши же, тоже цыгане. Сразу от сердца отлегло. «Чего, — говорим, — привязались? Ваше, что ли, место заняли? Так мы люди нездешние». А они как набросятся: «Нездешние? И откуда только вас принесло на нашу голову! Пошли к королю, он вам растолкует, что к чему». Тут нас прямо озноб забил. Шутка сказать, к самому королю угодили! Мы и раньше краем уха слыхали, что есть такой цыганский король, но в глаза его никогда не видывали. Ну, привели нас к какому-то дому, проводили в комнату. Сидим ждем. Наконец открывается дверь, и входит он. Конечно, я не думала, что король обрядится в золотую корону. Но только король в медной каске пожарника — это хоть кого с толку собьет. Ну, пока мы раздумывать стали, как с королем здороваться положено, он уж сам к нам подошел и так это по-простому: «В чем, мол, у вас до меня дело?» — спрашивает. Только мы и рта раскрыть не успели, как уж те, что нас привели, и про магазин и про карманы ему выложить успели. Король ужасно рассердился. «Вы что наш народ позорить вздумали! Вы что думаете, слово „цыган“ по-прежнему значит барышник, перекупщик, плут, обманщик? Нет, бита та крапленая карта. Мы, цыгане, теперь деньги честным трудом зарабатывать будем. Из брандспойта, что ли, вас окатить, чтоб поняли?» Разревелась старая. «Я, — говорит, — новых-то обычаев не знаю». А король ей в ответ: «Пора бы и знать, не первый десяток лет на советской-то земле живешь. Помни мой наказ и другим передай». Ну, вернулись мы восвояси ни живы ни мертвы. Рассказали обо всем нашему таборному атаману, а он сразу команду дал — сниматься с места. «Нам, — говорит, — с таким королем не по пути…» Надолго мне та встреча в сердце запала, — Фатима похрустела длинными пальцами. — Сперва решила я убежать из табора. А потом испугалась. Куда я одна-одинешенька подамся? Как по-новому жить начну? И потащились опять вслед за табором. — Фатима замолчала, задумчиво вертя тоненькое позолоченное колечко. — Много лет кочевали мы под молдавским небом, — продолжала она. — Там и любовь свою встретила. Володей звали мою любовь. — В чуть раскосых глазах Фатимы появились слезинки. — Ну, полюбили мы друг друга и, как водится по нашему цыганскому обычаю, свадьбу сыграли. Регистрироваться, конечно, не стали — у нас этого и в заводе нет. А тут милиция облаву устроила. «Чем занимаешься? Понятно, цыганка молодая, давайте погадаю?!» Велели мне на работу устраиваться. Разов десять все вызывали, все предупреждали. А я и значения не придавала. И тут разразилась гроза над моей бедной головушкой — выслали меня на пять лет. Володя тоже со мной поехал, поселился в том же селе. И вдруг узнаю: гуляет он с одной из наших. Не стерпела моя цыганская кровь — избила я до полусмерти злую разлучницу Марго. За это и угодила сюда. А в то время уже ребенка под сердцем носила. Только Володя ничего о том не знал. Уже здесь я и родила. Хочешь, пойдем поглядим, какой сынок у меня. Мы отправились в детские ясли. Они помещались в таком же типовом здании, как и на воле, с такими же верандами, с такими же комнатами для игр. И так же, как и там, здесь на специальной кухне для детей готовили специальное питание. — Вот мой красавчик, — Фатима с любовью глядела на маленькое существо с такими же чуть косящими, как у нее, глазами. — Скоро мой срок кончается. Вернусь обратно на место поселения. Что ж, я труда не боюсь. Для своего ребенка день и ночь работать стану — не будет он ни грязным, ни голым, ни голодным, как я в детстве. На все я для своего ребенка заработаю — и на шелковую рубашку хватит. Я ведь теперь даже грамотная стала. Да, да, здесь меня обучили. Не веришь? Давай покажу, как я свою фамилию подписываю. — Верю, — улыбнулась я. — Конечно, верю. Но скажи мне, Фатима, а как же Володя? Он знает, что родился маленький? — Убежал он после того скандала, — Фатима хмурится. — Но, если узнает, что сын родился, на коленях приползет. Только вряд ли прощу. Умом понимаю — во всем виновата та, проклятая, оплела его своими крашеными волосами, но сердце мое от обиды окаменело… И вот теперь этот-то самый Володя и повстречался нам. — Неподалеку работать устроился, в кузне, — рассказывает мне тетя Маруся, — и все свою Фатиму поджидает. Весь прямо высох парень. Недаром, видно, говорится: любовь — она не картошка, в один прием не выроешь, — тетя Маруся вздыхает, и уже до самого дома мы идем молча.День девятый. СНОВА ВТОРНИК
Норма, наконец-то норма! Тетя Маруся поздравила меня. Однако по вечерам, добираясь до дому, чувствую страшную усталость. Все кости ломит. Я уже предвкушаю, как сейчас посплю, но тут — неприятная неожиданность. Вхожу и вижу — все мои постельные принадлежности как попало сброшены в угол, а на кровати растянулась Лычкина с папироской в зубах. — Сматывайся отсюда, — она сплевывает прямо на пол, — хватит, поскрипела моей коечкой. Я молча собираю вещи в узел и, раздумывая, куда бы податься, бреду к тете Марусе. — Иди, иди, мы тебе завсегда рады, — приветливо приглашает звеньевая, видя мою унылую, нерешительно застывшую на пороге фигуру. — Ложитесь на старое местечко, а я на полу лягу, — Марго с готовностью стаскивает с кровати свое одеяло. В конце концов нам удается раздобыть для меня раскладушку, которую мы и водружаем торжественно возле окна. Теперь можно и почаевничать вволю. — Тут, случаем, нет Чувакиной? — Дверь рывком распахивается. Входит Лычкина. От нее еще издали несет винным перегаром. — Она тут у вас не сховалась? — Узенькие глазки подозрительно обшаривают комнату. — А то требуется старые счеты свести. Уж теперь-то она у меня не отвертится — все сполна получит. — Слушай, Лычкина, — я никогда не видела тетю Марусю такой рассерженной, — и заруби себе на носу: если ты только пальцем Чувакину трогаешь, мы тебя всем обществом судить будем. И тогда хорошего не жди. Хватит, натерпелись от твоих хулиганств. И слова с тобой тоже никто не скажет, пока ты у Людки прощенья не попросишь. Понятно? Лычкина так и затряслась от смеха. — Прощеньица просить? А может, еще в ножки поклониться да ручку поцеловать прикажете? Ну, так знайте наперед — Лычкина плевать хотела на все ваши разговорчики. Понятно? Привет! — и она трясет рукой с татуировкой. Сползший рукав закрывает первую половину надписи, и видна только вторая: «а от друзей я сама избавлюсь». Громко хлопнув дверью, Лычкина уходит. — Смотрите, девчата, — напоминает звеньевая, — помните уговор: с Лычкиной ни слова, ни полслова, как договорились. Надо ее раз и навсегда отучить рукам волю давать. Ничего, дойдет до нее. Вот посмотрите — еще как дойдет-то!День десятый. ЕЩЕ ОДНА СРЕДА
Во время обеденного перерыва мы — Марго и я — лежим в некошеной луговой траве. Где-то неподалеку, в лесочке, кукует кукушка. Марго загадывает, сколько ей еще осталось здесь жить, и вздыхает — кукушка, как строгий прокурор, добавила пару лет. — Рассказала бы ты мне, Галкина, чего-нибудь такое про любовь. — На лице Марго появляется мечтательное выражение. — Люблю слушать всякую ерунду — кто кого обманул, кто кого бросил, кто кому отставку дал или с носом оставил. — Ерунда, говоришь? А если настоящая любовь? Марго сплевывает надкушенный стебелек. — А где она, настоящая-то? О ней только в книжках сочиняют. — Почему же сочиняют? Она и в жизни встречается. Мне как раз вспоминается одна история… — Валяй рассказывай, — Марго зевает и устраивается поудобнее, всем своим видом показывая, что такого рода байки наводят на нее скуку и сон. — Так вот. И имей в виду — это чистая правда. Рассказал мне один официант, — начинаю я после некоторого раздумья. Марго оживляется: официант — знакомая фигура из того мирка, в котором сама Марго была «королевой». — Звали его Иваном Александровичем, — продолжаю я. — И вот однажды приметил этот Иван Александрович парочку. Молодые совсем. Ей не больше лет семнадцати. Даже с бантом в косе. И держатся так неуверенно, что сразу видно — в таких-то местах не часто бывают, а может, и вообще в первый раз пришли. Похоже, что растерялись даже в ресторанной сутолоке. Оглядываются кругом, к двери жмутся. А мест свободных, как назло, ни одного нет. Ну, приглянулись они тому Ивану Александровичу, освободил он им свой служебный столик. Обрадовались. Сели. Иван Александрович, как положено, меню подает. — Эх, я б сейчас котлеты деваляй за милую душу слопала, — размягченно тянет Марго. — Я всегда эти котлеты заказывала. Самые дорогие. Шик модерн. Ну, а она что заказала? — Вот молодой человек и спрашивает свою девушку: «Какое твое, Анечка, самое любимое блюдо?» Анечка в ответ так озорно засмеялась. «Куропатка, — говорит. — Куропатка с брусничным вареньем. Правда, я сама еще такого блюда не пробовала, но в бабушкиной поваренной книге так это аппетитно описано». Ну, посмеялись они, но все же эту самую куропатку заказали. И бутылку шампанского в придачу. Ивана Александровича к столу приглашают. Иван Александрович отнекивается — в ресторане обслуживающему персоналу не положено с посетителями выпивать. А молодой человек, Юрием его звали, не отстает. «Сегодня, — говорит, — папаша, случай особенный, из ряда вон выходящий. По такому случаю нельзя отказываться. Ведь мы с Анечкой только что из загса. Расписались». Ну, раз такое дело, Иван Александрович не захотел обидеть — чокнулся с молодыми, пожелал счастливых долгих лет в их совместной жизни. И для приличия пригубил шампанское, самую чуточку, конечно. После официант не раз вспоминал ту парочку — очень уж они ему по сердцу пришлись. Вспоминать-то вспоминал, а видеть не видел — не приходили они больше. И вот однажды подходят к нему молодой человек и девушка. Он сначала и не признал их: суета кругом, народу тьма. А молодой человек его за руку тянет: «Иван Александрович! Неужели вы нас забыли? Мы же у вас год назад свадьбу справляли?» Вгляделся попристальнее — да это же Аня с Юрой! Выросли, конечно, возмужали, но вообще-то все такие же! Только посерьезнее. — Развод праздновать, наверно, пришли, — иронизирует Марго. — А ты не спеши, — обрываю я. — Рассказали они официанту, как старому знакомому, про свое житье-бытье. «Хорошо, — говорят, — живем, лучше некуда». А жили они, между прочим, в шестиметровой комнатенке. И финансы весьма скромные имели — стипендия у него, стипендия у нее. И одеты были не ахти как. А настроение — отличное. «Чем же угощать-то вас, друзья дорогие?» — спохватился, наконец, Иван Александрович. А Юрий в ответ только смеется: «Да куропаткой, конечно, будь она неладна. Костей в ней, правда, больше, чем мяса, но раз моя жена хочет…» Словом, съели они свою куропатку, распили бутылочку шампанского: юбилей одногодичный — событие торжественное. Распрощались с Иваном Александровичем, как добрые друзья. На прощанье пообещали: «Ждите нас, Иван Александрович, ровно через год в это же число, шестого декабря то есть…» — Ну и что же, пришли они на следующий год? — Марго приподнимается на локте. — Нет, не пришли, — с грустью говорю я. — Ага! — торжествует Марго. — Так я и знала. Нагляделась я на эти сантименты. «Куропатка, которую так обожает моя любимая жена!» А сам небось уже себе другую подыскал и смылся. — Да нет же, — морщусь я, как от боли. — Ну тогда она подыскала, — безапелляционным тоном утверждает Марго. — Иначе почему бы им не прийти? — За это время началась война, — говорю я тихо. — Понимаешь, Марго, война? Ты, конечно, не знаешь, что такое война, да еще в блокадном Ленинграде… — Ну, а когда война кончилась? — нетерпеливо прерывает молчание Марго. — После окончания войны Иван Александрович, который с первого дня ушел на фронт, снова вернулся в ресторан. Подходит он как-то к столику заказ принять. Стоит ждет. И слышит, вдруг кто-то таким знакомым голосом говорит: «Как всегда, Иван Александрович, куропатку с брусничным вареньем». Он так весь и дернулся — чуть поднос не уронил. Так и есть — они! Ох, как же изменились! Худые, одни глаза. У него все виски седые. А у нее возле губ морщинки. А ведь им всего по двадцать с небольшим! Заказали они себе ужин. Куропатки, конечно, никакой и в помине тогда не было. В меню, спасибо, котлеты значились с пшенной кашей. Да и то по талонам. Но шампанское нашлось. Иван Александрович попросил, чтоб его ради такого случая подменили. И уселись они за столик втроем. В тот вечер разговорам конца-краю не было. Через что только не пришлось им пройти за эти годы! Юрий в первые дни войны ушел на фронт. Аня работала в родном Ленинграде, рыла траншеи. Родители умерли во время блокады, осталась она одна, и от Юрия вестей никаких. Чего только ей не пришлось пережить! А тут бомбежки, голод, ранение, эвакуация с госпиталем на Урал. Но все время, не переставая, ждала она вестей от Юрия. А он в окружение попал, потом к партизанам перебрался. Вот и встретились только после салюта Победы. Марго нервно теребит стебелек. — А теперь что с ними? — спрашивает она уже просто, у нее явно пропала охота острить. — Или вы не знаете? — Она вопросительно и требовательно смотрит на меня. — Почему же, знаю, я ведь изредка вижу Ивана Александровича. Так вот он каждый год шестого декабря ставит на маленьком столике в углу табличку «Занято». Опускает в серебряное ведерце со льдом бутылку «Советского шампанского». И собственноручно выбирает вместе с шеф-поваром самую мясистую куропатку. Словом, приготовляет все к их приходу. Он знает — в этот день они непременно придут. И они приходят. Да, конечно, многое за это время изменилось — оба давно окончили институты, он успел построить десятки домов, она выучила многих. И только их любовь осталась неизменной и по-прежнему молодой. — Целых двадцать лет! — удивленно говорит Марго. — Двадцать три, — уточняю я. — Бывает же такое, — Марго смотрит на меня изумленно. И теперь я впервые замечаю, какие у нее синие, до невероятности синие глаза.День одиннадцатый ЕЩЕ ОДИН ЧЕТВЕРГ
Сегодня спозаранку к нам ворвалась Лычкина и с искаженным лицом принялась орать на всю комнату, что у нее «сперли юбку», которую она повесила на дворе сушиться, и что «это дело рук Людки Чувакиной, которая осмелела благодаря тети-Марусиному покровительству», и что она, Лычкина, выведет всех на чистую воду. И если юбка не отыщется, без никаких натянет или вельветовую юбку Маргошки, или коричневую от костюма самой звеньевой. И Лычкина подкрепила свое заявление потоком слов, которые недаром относят к «подзаборным». Мы: баба Киля, тетя Маруся, Марго и я, как вскочили с кроватей, так и стояли, словно нас помоями облили. Но, как ни безобразна была форма, в которую облекла свое возмущение эта хулиганствующая особа, по существу-то она была права — юбка пропала на самом деле. Сгоряча тетя Маруся, кое-как одевшись, а следом за ней и мы в наспех накинутых платьишках бросились к Чувакиной. Та еще спала. Спросонья никак не могла понять, чего от нее хотят. Поняв, разревелась. Рывком вытащила из-под кровати чемодан. Начала лихорадочно выбрасывать свои пожитки. «Нате смотрите, проверяйте! — вне себя кричала она. — Сдалась мне ее тряпка, когда у меня три отреза лежат». Беспрецедентный случай взбудоражил поселенцев. Такого еще не бывало. Комендант стал сам не свой. И что же это будет, если один у другого начнет таскать вещи? Сегодня у Лычкиной недостает юбки, завтра, к примеру, кто-то хватится кофточки. Нет, воровство надо пресечь в корне. Чтоб больше неповадно было. Вот о чем говорил Каляда, когда собрал нас всех после работы прямо в поле. Потом выслушали Лычкину. Потерпевшая сперва было привычно ругнулась. Но Каляда ее сразу же осадил. Та только плечами передернула. — Может, я и заругалась, только такое слово я лично руганью не считаю, потому как на работе его всегда приходится применять. Однако под строгим взглядом коменданта осеклась. — Ну вот, — пояснила она, — постирала я вчера вечером юбку и повесила у нас во дворе на веревочке. Пускай, думаю, за ночь просохнет. Вот она и просохла. Вовсе испарилась… — Да на кой лях она сдалась, твоя тряпка, — рассвирепела Гвоздева. — Что, у нас своего барахла, что ли, мало?
— Да за это барахло, может, двадцать два рубля тридцать копеек плачено! — вскипела Лычкина.
— Дело не в том, сколько она стоит, та юбка, — покачала головой одна из женщин. — Пусть ей даже цена копейка…
— Нехай всех обыскивают, — в сердцах предложила звеньевая. — Прямо сейчас отрядим нескольких человек, пусть они обыск произведут, а мы туточки подождем. И уж у кого та юбка, будь она трижды неладна, отыщется, с тем мы своим судом расправимся…
— Да на кой лях она сдалась, твоя тряпка, — рассвирепела Гвоздева. — Что, у нас своего барахла, что ли, мало?
— Да за это барахло, может, двадцать два рубля тридцать копеек плачено! — вскипела Лычкина.
— Дело не в том, сколько она стоит, та юбка, — покачала головой одна из женщин. — Пусть ей даже цена копейка…
— Нехай всех обыскивают, — в сердцах предложила звеньевая. — Прямо сейчас отрядим нескольких человек, пусть они обыск произведут, а мы туточки подождем. И уж у кого та юбка, будь она трижды неладна, отыщется, с тем мы своим судом расправимся…
 Все принялись горячо обсуждать тети-Марусино предложение.
— Нет, — не согласился Каляда, — нет, обыска мы устраивать не будем. Это же что тогда получится? Что из-за одной нечистой руки всех под подозрение взяли? Давайте посмотрим, может, после сегодняшнего разговора пробудится совесть у того, кто взял, может, возвратит юбку хозяйке. Ну, а уж если в течение недели юбка не отыщется, все вместе сложимся и купим тебе, Лычкина, новую юбку.
Все опять загудели. Ничего себе! А если завтра у кого-то шуба пропадет, что ж, тогда и шубу покупать?
— Покупать, — упрямо подтвердил комендант. — И шубу придется покупать, если подымется рука украсть ее у своего же товарища…
На том и разошлись. Шли молча, нахмуренные, злые. Кто? Кто же из нас воровка?
Все принялись горячо обсуждать тети-Марусино предложение.
— Нет, — не согласился Каляда, — нет, обыска мы устраивать не будем. Это же что тогда получится? Что из-за одной нечистой руки всех под подозрение взяли? Давайте посмотрим, может, после сегодняшнего разговора пробудится совесть у того, кто взял, может, возвратит юбку хозяйке. Ну, а уж если в течение недели юбка не отыщется, все вместе сложимся и купим тебе, Лычкина, новую юбку.
Все опять загудели. Ничего себе! А если завтра у кого-то шуба пропадет, что ж, тогда и шубу покупать?
— Покупать, — упрямо подтвердил комендант. — И шубу придется покупать, если подымется рука украсть ее у своего же товарища…
На том и разошлись. Шли молча, нахмуренные, злые. Кто? Кто же из нас воровка?
День двенадцатый. ЕЩЕ ОДНА ПЯТНИЦА
И снова ночь. Тетя Маруся не успевает дойти до койки, как сразу засыпает. Баба Киля обычно долго вертится с боку на бок, охает, шепчет молитву. Марго всегда тихонько лежит, свернувшись калачиком, и неизвестно, спит она или не спит. Но сегодня, лежа в постели, Марго что-то горячо шепчет. — Ты что, Маргоша, никак молитву творишь? — Баба Киля с удивленьем приподнимается на локте. Марго смеется. — У меня своя молитва. — Неужто в бога поверила, шалопутка? — все еще сомневается собеседница, которая и сама-то носит крестик только «по обычаю», как она объяснила нам. — Почему именно в бога? — вскипает Марго. — Ты что же думаешь, кроме твоего всевышнего, и верить не во что? Держи выше. — Вот ведь балаболка, право, — примирительно вздыхает баба Киля. — Не гневила бы господа — вдруг ненароком услышит? — И она принимается жарко шептать «Верую, господи» и снова «Верую, господи» и шепчет это так много раз подряд, как будто хочет убедить в этом самое себя. Но даже когда сморенная монотонной молитвой баба Киля начинает выводить носом невероятные рулады, даже тогда Марго все продолжает шептать и шептать. А потом потихоньку плачет в подушку. И снова шепчет. Впрочем, даже мне, лежащей совсем неподалеку на своей раскладушке, не удается уловить из этого шепота ни единого слова. А юбку, между прочим, так никто и не подкинул.День тринадцатый. ЕЩЕ ОДНА СУББОТА
Под вечер в дверях нашей комнаты появляется незнакомая девушка. — Никак санкомиссия из отпуска приехала! Достанется нам теперь на орехи! — Тетя Маруся принимается оправлять кровать и взбивать подушку. С нескрываемым интересом рассматриваю «санкомиссию». Копна волнистых волос, миловидное лицо. Платье сшито по-модному, но без дешевого шика, каким отличаются наряды Марго. Пришедшая, в свою очередь, с не меньшим интересом разглядывает меня. — Вроде новое пополнение прибыло? — Она улыбается. — Будем знакомы — Лиза Узбаш… В поездах, в самолетах, на пароходе — словом, в дороге люди обычно знакомятся быстро. Может быть, поэтому здесь мы тоже быстро нашли общий язык — ведь, по существу, все, кто сюда попал, тоже были в пути — в пути к новой жизни. — Как вам у нас нравится? — спрашивает Лиза без тени насмешки и, не ожидая моего ответа, добавляет: — Ничего, поживете — понравится. У нас не воздух — сплошной озон и «аш два о» какая! Разве сравнить с водопроводной! Но вот мух развели зря, товарищ звеньевая! — Узбаш распахивает настежь окно, о которое бьется с дюжину мух. Тетя Маруся приглашает Лизу к столу, но та отказывается. — С удовольствием бы, тетя Маруся, да некогда. Надо еще успеть платье погладить, переодеться. Сами знаете — ведь сегодня суббота. И снова субботний вечер. Снова предвоскресная суматоха. Но Марго почему-то не принаряживается. Она валяется на койке и с отсутствующим лицом читает какие-то исписанные листки. Вбегает Светка Гулидова с «интересными тенями» под глазами, наведенными лиловыми чернилами, и в бигуди. — Тоже мне читальщица выискалась! Нашла чем заниматься в субботний вечерок! Уж не метишь ли ты, подруга дорогая, в старшие помощники младшего лейтенанта? Давай-ка я тебе лучше по-быстрому голову накручу, — и она протягивает руку к тумбочке, где хранится заветная коробка с пудрой, помадой и драгоценным пузырьком «Кармен», который здесь считается «высшим шиком». — Отстань, — резко обрывает ее Марго, — никуда я не пойду. Хватит с меня вашего Парижа, сыта по горло, — и она демонстративно углубляется в чтение. Светка корчит гримасу, означающую: «что на эту чудачку наехало?», и молниеносно исчезает — торопится на гулянку. Вечереет, в комнате тишина. Баба Киля и тетя Маруся, обе со свежевымытыми волосами, обе в накрахмаленных кофтах, обе наодеколоненные «Кармен», уже давно сидят на завалинке, щелкают подсолнухи и без умолку судачат с соседками о том, что случилось и чего не случилось. Марго все читает. Пользуясь случаем, я под видом писем к родственникам строчу свой дневник. Однако пишется плохо — сквозь раскрытое настежь окно тянет таким неповторимым запахом свежескошенного сена, парного молока и соснового бора, что я в конце концов прекращаю свое писание и решаю пойти подышать деревенским воздухом. — Не помешаю? — Марго вскакивает с кровати. — Нисколько, — отвечаю я. И вот мы сидим на лужайке возле самой опушки. Сидим и молчим — слушаем лесную симфонию из шелеста ветра, стрекота кузнечиков, перестука дятлов и тысячи других таких необыкновенных звуков, которые не под силу ни флейте, ни скрипке, ни виолончели. — А как по-вашему, красивое имя Людмила? — вдруг тихонько спрашивает Марго и при этом так смотрит на меня своими синими глазами, как будто от моего ответа зависит многое. Я киваю — да, Людмила очень красивое, старинное имя. Гордое. Женственное. Недаром Пушкин даже свою героиню так назвал. — А ведь это и есть мое настоящее имя, — с грустью говорит девушка. — А Марго меня окрестили, когда я стала «божьей коровкой», — и она с корнем вырывает уцелевшую от покоса ромашку. «„Божья коровка“? Это еще что за невидаль такая?» — так и подмывает меня спросить. Но я вовремя удерживаюсь от готового сорваться вопроса, понимаю — сейчас минута откровения, сейчас ни о чем не надо спрашивать: человек сам расскажет о том, что у него наболело. И я молчу. И лес тоже настороженно притих в ожидании, шевеля мохнатыми ушами веток. И стоящие у края поля подсолнухи тоже наклонили рыжие головы, как бы приготовившись не пропустить ни слова. …Свою сознательную жизнь Люда помнила с того времени, когда отец, и без того обычно неласковый, вдруг крикнул матери: «И запомни раз навсегда: надоело мне чужую девчонку на своей шее держать». С тех пор ссоры между матерью и отчимом стали возникать все чаще и чаще. И девочка все острее и острее понимала, что ссоры эти возникают из-за нее, что она, Люда, в этом доме совсем-совсем лишняя. А когда Люда училась в шестом классе, мать ей прямо заявила, что пора самой копейку добывать, а не есть чужой хлеб. Кстати, сейчас на примете одно отличное местечко на фабрике. Люда расплакалась — ей хотелось учиться. Она надеялась, что учителя не разрешат матери забрать ее из школы. Однако вопреки Людиным ожиданиям школа почему-то решила не вмешиваться. «Это ваше семейное дело», — замялась классная руководительница, к которой Люда бросилась за помощью. На работу мать повезла Люду далеко за город. — Устроим тебя как сиротку, чтоб общежитие дали. Скажешь: «Мать неродная, отец неродной — пожалеют люди, оставят» — наставляла дорогой дочку предусмотрительная мамаша. Люду приняли ученицей на прядильную фабрику. И большие цехи, и светлые комнаты общежития с аккуратно застеленными кроватями, и фабричный клуб, где по вечерам играла музыка, и библиотека, в которой столько новых книжек, — все понравилось Люде. Она с усердием принялась за работу. Поступила учиться в школу рабочей молодежи. Все наладилось в ее жизни. И только мысль о доме омрачала жизнь. Прошел, пожалуй, почти целый год, прежде чем «нежная» родительница выбралась, наконец, проведать дочь. А она, Люда, так ждала этой встречи! Однако уже с первых минут стала ясна цель приезда Евдокии Петровны: окрестные леса заполонила земляника, и экономная хозяйка решила запастись даровой ягодой. Провожая мать до автобуса, помогая ей грузить тяжелые ведра, Люда с горечью думала о том, что вот мать даже не поинтересовалась, как же она, Люда, живет, учится, работает. Только деловито осведомилась: «А получаешь-то прилично?» И, узнав, что зарабатывает Люда хорошо, милостиво разрешила: «Как получку получишь, заезжай». Видно, велика была тоска по теплу, по ласке, если, несмотря ни на что, девочка стала ездить к родным. Ездила два раза в месяц — в дни получки. Но однажды Люда приехала в неурочное время. — Я совсем, мама, — несмело застыла она на пороге с чемоданчиком в руках. — Совсем? А мы тебя уже из домовой книги выписали, — последовал ответ. Люда не помнила, как очутилась за дверью. Выгнали! Даже не поинтересовались, что с ней произошло! А произошло вот что. Однажды Люда проспала и по глупости решила вовсе не пойти на работу. Мастер потребовала наказать ее построже. Люда испугалась: неужели уволят с фабрики, которая стала для нее тем родным домом, которого у нее, по существу, никогда не было?! Нет, Ткаченко не уволили. А согласно приказу «за нарушение трудовой дисциплины, выразившееся в самовольном прогуле одного рабочего дня», перевели на низкооплачиваемую работу сроком на два месяца. Со следующего дня Люда взялась за метлу. Что и говорить, не было у нее ни стойкости, ни силы воли. Да и что удивительного — ведь ей с детства вдалбливали, что и никудышная-то она и никчемная. И вот,отработав положенный срок, Ткаченко попросила расчет. «Раз так себя опозорила, нечего больше здесь оставаться». — Да куда же ты пойдешь? — мимоходом поинтересовался секретарь комитета комсомола. Люда закусила губу, чтоб не расплакаться. Да, конечно, она не комсомолка, и, может, секретарю нет до нее никакого дела. Но ведь все же знают ее нерадостную биографию… Что было потом? Пока Люда рассказывает, я ясно представляю себе, как сидит она, жалкая, обиженная, у дверей родного дома. Смеркается. В комнате зажегся экран телевизора. И все: и мать, и отчим, и сводные сестры — смотрят какую-то веселую комедию, в то время как она… — Да чего же ты сидишь здесь одна на холоде? — Ласковое лицо соседки склоняется над озябшей фигурой. — Заходи, ложись в кухне, мы, все соседи, приглашаем тебя. А ночью соседи проснулись от криков: это родители чинили суд и расправу над Людой. Так начались Людины мытарства. Ночевала то в сарае, то на чердаке. Устроиться на работу без прописки нельзя, а в прописке мать ей категорически отказывала. Получался какой-то заколдованный круг. Выход нашелся совершенно неожиданно. Как-то в парке ее окликнул долговязый пижон. — Эй, королева Марго, — развязно раскланялся он, — разрешите представиться, — Макс, первые узкие брюки области. Люда горько улыбнулась: хороша королева — дырявые туфли, старое ситцевое платьишко. Но, взглянув на верзилу, невольно прыснула — сам с версту коломенскую, а на брючишки не больше полметра пошло. Ну, слово за слово, пригласил ее этот «узкобрючник» в ресторан. Хотела было Люда отказаться, да не устояла — голодна была. В ресторане познакомил ее новый знакомый со своей компанией. Все они показались девушке ужасно странными — разодеты, как попугаи, и кличут друг друга чудно: Сэм, Аф, Гортензия. На следующий день они снова кутили в ресторане. А потом Макс похвалился, что он-де является председателем клуба «божьих коровок», и предложил проехаться, «как это он выразился? — припоминает Марго, — ах да, „туда, где не пахнет нафталином предрассудков“». — Ну, меня любопытство взяло, что это еще за «божьи коровки» такие, и поехала я с ним, — Марго замолкает и принимается с ожесточением обрывать лепестки на ромашке, а когда остается одна желтая сердцевина, крошит ее в ладонях. …Постоянного места у «букашек» не было. Собирались в том доме или на даче, где отсутствовали «предки», то есть родители. Двери тотчас запирались на все затворы. Для начала у обескураженных девиц отбиралась верхняя одежда и сумочки — так отрезался путь к отступлению. Завешенные одеялами окна глушили звуки разнузданной какофонии и крики сопротивлявшихся. «Джентльмены» веселились вовсю: пили коктейли, «изысканно» сквернословили, «откалывали рок», били посуду и «галантно» хлестали партнерш по щекам. А наутро Макс, он же Максим Рыльников, недвусмысленно грозил потерпевшей стилетом: — Имей в виду, острый — до сердца достанет. Посмей только пикнуть, крошка… И крошки молчали. Как молчала и она, Марго. Сперва, правда, сильно горевала. Даже руки на себя хотела наложить. Но потом втянулась. И пошло: рестораны, кутежи, пьянки… Так в конце концов перестала она быть Людой и стала «королевой Марго с Приморского бульвара» — эта кличка так и прилипла к ней. — Но кто же были эти «божьи коровки»? — интересуюсь я. — Шайка бандитов, занимающаяся грабежом? — Нет, — качает головой собеседница. — Грабежом они не занимались. И тут, к моему удивлению, я узнаю, что «божьи коровки» даже где-то работали и чему-то учились. Само собой разумеется, что учились они чему-нибудь и как-нибудь, а работали спустя рукава. «Трудиться? — цинично смеялся приятель Макса Сэм. — Да за кого вы меня принимаете?» И прогуливал неделю-другую. «Пусть другие строят дома, — разглагольствовал студент строительного техникума Макс, — что касается меня лично, я бы охотно построил себе лавочку. Во мне проснулся частник», — утверждал уроженец 1939 года, в глаза не видавший живого нэпмана. — Ну, а куда же смотрели папеньки и маменьки? — возмущаюсь я. — Разве они не знали, не ведали, что творят чернокрапчатые? — Знали, конечно, — Марго откусывает кусочек стебелька и морщится — горько. — «Букашки» швыряли на свои кутежи большие деньги. Мне сперва противно было — я ведь деньги своим трудом добывать привыкла, с малых лет знала им цену. А тут щенок, который за всю жизнь и копейки не заработал, запросто десятками бросается. Ясно, не из своего кармана те денежки были — из папенькиного. И при этом, заметьте, ему не надо было лезть в карман. Папаша сам давал «на мелкие расходы». Хороши мелкие! А посмотрели бы, как эти нежные родители своих чад на суде выгораживали! И втянули-то их, бедненьких! И затащили-то, несмышленышей, в дурную компанию, а уж их-то сынок такой пай-мальчик, каких и не сыщешь! Пуще всех Максовы родители распинались: виноват, мол, сосед по лестничной площадке, какой-то там Тихонравов. Куда, спрашивается, он смотрел, пока они, горемычные, по заграницам разъезжали и по курортам обретались? Ну, после суда разослали «божьих коровок» кого куда. В колонии и на поселения. Вот так и очутилась она, Марго, в Новом Париже… — Третий год здесь живу, — тихо говорит девушка. — Работать я, конечно, работаю. Но ведь, кроме работы, тут и податься некуда. Скучища… Поневоле опять загуляешь… Уж давно крупные многовольтные звезды затеяли игру в мигалки с электрическими лампочками, горящими в хатах, когда мы, наконец, отправились домой. По дороге нам встречается Воробьева. Она сильно навеселе, а потому в отличном настроении. — Эй, Марго, — таращит она глаза с пьяным удивлением, — ты чего это не на гулянке? Заболела, что ли? — Какая я тебе Марго, — огрызается девушка. — Затвердили: «Марго да Марго». Людмила я. И нечего меня обзывать. Понятно? И мимо застывшей в виде вопросительного знака Воробьевой моя спутница проходит не своей обычной вихляющей походкой, а как-то особенно прямо переставляя ступни маленьких ног. …Сегодня я долго сижу над своими записями. Мне хочется по свежей памяти записать все рассказанное Людой. С горечью думаю я, что судьба ее могла бы и не быть искалеченной, не окажись жестокой мать, безучастными школьные педагоги, нечутким комсорг и многие другие, на чьих глазах проходила жизнь этой девушки. Ведь это по их общей вине превратилась в «божью коровку» Людмила Ткаченко. А сделать из «божьей коровки» человека куда труднее.День четырнадцатый. ЕЩЕ ОДНО ВОСКРЕСЕНЬЕ
Мы с тетей Марусей и бабой Килей немного задержались — ходили к Гвоздевой посмотреть, как она разделала под трафарет свою комнату. Тетя Маруся стала уверять, что и нам такая работенка вполне по плечу. Стоит только захотеть. Что ж, мы с бабой Килей согласны попробовать свои силы на новом поприще. Остается уговорить четвертую жилицу — Марго. И тогда можно сразу приступать к делу — пока тепло, краска быстро просохнет. Открываем мы дверь в свой дом — и от неожиданности застываем на пороге. Марго стоит посреди комнаты, а возле стола сидит парень — волосы русые, загорелый, в белой рубашке. Все честь по чести. «Наконец-то приличный ухажер нашелся», — решаю я и тяну тетю Марусю — пойдем, мол, погуляем. А тетя Маруся и не думает реагировать на мои тайные знаки, прямо перешагивает порог и только так, для виду спрашивает: — Не помешаем? — Конечно, нет, — улыбается парень. — У нас никаких секретов нет. Ну, продолжай, я тебя слушаю. Марго краснеет. — Прямо при них? — А почему бы и нет? — подбадривает ее парень. — Все равно рано или поздно они это услышат. Марго хрустит пальцами. Розовые пятна бегут по ее лицу. Видно, что она очень волнуется. Интересно, что же такое собирается Марго рассказать своему приятелю? — А в Москве я котиковое пальто имела, — начинает она несмело, — я котиковое пальто на кокаин променяла. — И уже с надрывом: — Мне осталось жить два лета. А потом отравлюсь кокаином от громадного порошка. Баба Киля испуганно застывает на месте. Пачка печенья, которую она достала из навесного шкафчика, видимо собираясь попотчевать гостя, с глухим стуком падает у нее из рук на пол. — Да ты что, девка, в своем уме? — набрасывается на Марго оторопевшая было тетя Маруся. — Рехнулась, не иначе! Марго не обращает на слова тети Маруси никакого внимания. И начинает отчаянным голосом петь:День пятнадцатый. ТРЕТИЙ ПО СЧЕТУ ПОНЕДЕЛЬНИК
Сегодня денек выдался на редкость жаркий. Под палящими лучами работать было тяжелей обычного. Но ведь солнце или дождь не учитывается — норма есть норма. И чтобы ее выполнить, приходится изрядно попотеть в самом буквальном смысле этого слова. После работы (закончили мы ее часа на полтора позже обычного) не торопясь идем домой. Домовитая баба Киля насобирала в кустах при дороге малины. — Насушу, с чайком зимой хорошо пойдет и от лихоманки помогает. Дома взяла она чистую газетку и полезла на чердак, чтоб там ягоды рассыпать. Только прибегает с чердака мигом сама не своя. — Бабоньки! — кричит. — Гляньте, что я за ягоду нашла! Глядим — что-то зеленое. Баба Киля разворачивает — да это же пропавшая лычкинская юбка! Теперь ясно — всю неделю она так и провисела на чердаке, куда ее повесила хозяйка. Повесила, а с пьяных-то глаз и забыла, где именно. И как это никому в голову не пришло слазить на чердак! Прямо с развевающейся юбкой в руках мы разом, не сговариваясь, побежали к коменданту. Николай Семенович очень обрадовался. — Да ведь не в тряпке суть, — говорит. А сам облегченно, как будто сбросил большую тяжесть, улыбается. — Да этой юбке цена никак не меньше миллиона. Миллиона, понимаете? Мы понимаем. Мы отлично понимаем… После того как Лычкиной вручили ее злополучную юбку, с ней опять никто не разговаривает. Даже Воробьева. Разудалая личность заметно погрустнела. — Да тут с вами глухонемой сделаешься, — не выдерживает она наконец, когда звеньевая на пальцах показывает ей, сколько она, Лычкина, выработала. — И долго вы еще над беззащитной женщиной измываться думаете? Марго хихикнула было — «нашлась тоже беззащитная», но под строгим взглядом тети Маруси осеклась.День шестнадцатый. И ТРЕТИЙ ПО СЧЕТУ ВТОРНИК
Мне необходимо хотя бы посмотреть директора совхоза в лицо. Собственно, в лицо-то я его видела — при въезде в село высится на шесте двухметровый портрет. И под тем портретом крупными буквами обозначено, что это-то и есть сам Алексей Петрович Деревяшко собственной персоной. Из-под косматых, сросшихся на переносье бровей хмуро смотрят на совхозное хозяйство серые холодные глаза. Один глаз немного прищурен. Как будто одно око у директора «дреманное», а другое «недреманное». Интересно только, на что товарищ Деревяшко предпочитает зажмуриваться — на хорошее или на плохое? За все время пребывания в селе мне так и не удалось увидеть совхозное начальство в натуральную величину — здесь не заведено представлять нового поселенца. Правда, рассказывают, что поначалу комендант попытался это сделать, но сразу же получил резкий отпор. — Да на что они мне сдались, твои тунеядцы? — рассвирепел Деревяшко. — Буду я еще голову себе забивать, как их звать. От них одно требуется — пусть план дают. А все остальное мне, как говорится, до лампочки… Конечно, не в интересах коменданта было снижать авторитет руководителя совхоза. Но сам Деревяшко и не думал делать секрета из своего отношения к выселенным. Он не упускал случая разразиться злобной бранью в адрес «дармоедов, которых сбагрили на совхозную шею». Обо всем этом мне было известно. И все же я решила с эдаким наивным видом явиться в его кабинет — так, мол, и так, разрешите представиться — новая поселенка Галкина. В правлении толкалось порядочно народу. А между ними сновала курносая черноглазая делопроизводитель Анечка и, чуть не плача, уговаривала каждого: — Да не стойте вы зря! Вы же сами знаете — приемные часы только с шести до восьми. Товарищ Деревяшко ни одной минуткой позже никого не примет. Можно подумать, вы первый раз, граждане. Лучше записывайтесь на прием в следующий вторник. — А если у меня дело неотложное? Если оно отлагательства не терпит? Тогда как? — наступает на девушку мужчина в брезентовом плаще. — Ну я-то что могу сделать, Федор Михайлович? — чуть не со слезами взмолилась девушка. — Да если б от меня зависело, — и она безнадежно машет рукой. Мужчина хмурится и усаживается на место — авось повезет. Стрелки ходиков подползают к восьми. Дверь кабинета широко распахивается, и на пороге его вырастает большая, грузная фигура. Лицо точно как на портрете — художнику удалось уловить недовольное, хмурое выражение. К Деревяшко бросается пожилая женщина. — Алексей Петрович, отец родной! Моя сейчас очередь. Который раз достояться не могу. Хворая я. Тяжело идти-то. Выдай ты мне, ради Христа, справку для пенсии. И всех дел-то на пять минут. Деревяшко колеблется — задержаться или нет. — Дел у меня, мать, невпроворот, — говорит он и неохотно кидает Анечке: — Ну, так и быть, строчи. Анечка поспешно хватается за ручку — успеть бы написать справку, пока управляющий не раздумал. — Пиши, — важно диктует Деревяшко, — «Справка. Выдана сия Петрову Михайле Матвеевичу…» — Да как же Петрову, — робко вставляет женщина, — Михайла-то Матвеевич помер, царство ему небесное, — и она мелко крестится, — справку-то, не Петрову, а мне, Петровой, выдавать надо… — А ты не встревай, необразованная, — перебивает ее Деревяшко. — Я как-нибудь лучше тебя знаю, что надо. Пиши, Анечка: «Выдана сия Петрову Михайле Матвеевичу, рабочему совхоза „Первомайский“, в том, что он действительно умер…» Когда твой-то помер, мать? — Еще на третий день пасхи, Петрович, — и, видя, что тот недовольно морщится, поспешно добавляет: — на второе мая, выходит. — «…в том, что он действительно умер второго мая сего года», — диктует Деревяшко. — Написала? Давай подмахну! Деревяшко лихо делает витиеватый росчерк. Похоже, что он долго упражнялся на досуге в написании своего автографа.
— Держи, мать, — он протягивает справку обескураженной старушке. — Можешь быть спокойна — с таким документом тебе пенсия обеспечена. — И обращаясь к Анечке: — Если кто будет спрашивать — скажи, уехал, мол, по неотложным делам.
И он быстрым шагом проходит сквозь столпившихся людей.
— Известны его неотложные дела, — человек в брезентовом плаще трет в раздумье давно не бритую щеку. — Накопает червей и на всю ночь рыбалить закатится. А в совхозе хоть трава не расти. Эх, видно, самому решиться…
— Да ведь вам не впервой, Федор Михайлович, — утешает его Анечка. — И в полевых работах вы хоть кому сто очков вперед дадите.
Выхожу на улицу. Вот я и познакомилась с директором Деревяшко.
Деревяшко лихо делает витиеватый росчерк. Похоже, что он долго упражнялся на досуге в написании своего автографа.
— Держи, мать, — он протягивает справку обескураженной старушке. — Можешь быть спокойна — с таким документом тебе пенсия обеспечена. — И обращаясь к Анечке: — Если кто будет спрашивать — скажи, уехал, мол, по неотложным делам.
И он быстрым шагом проходит сквозь столпившихся людей.
— Известны его неотложные дела, — человек в брезентовом плаще трет в раздумье давно не бритую щеку. — Накопает червей и на всю ночь рыбалить закатится. А в совхозе хоть трава не расти. Эх, видно, самому решиться…
— Да ведь вам не впервой, Федор Михайлович, — утешает его Анечка. — И в полевых работах вы хоть кому сто очков вперед дадите.
Выхожу на улицу. Вот я и познакомилась с директором Деревяшко.
День семнадцатый. И ТРЕТЬЯ ПО СЧЕТУ СРЕДА
Вечером к нам забежала та самая курносенькая черноглазая Анечка, которую я видела в правлении. — Я к тебе, новенькая, — она с облегчением опускает на стул тяжелую стопку книг. — Ты у нас еще библиотекой не охвачена. Я с готовностью соглашаюсь — пускай «охватывает», раз тут так заведено. Я читать любительница. — Ну, значит, договорились, — улыбается черноглазая. — Имей в виду — я к вам раз в неделю приходить буду. А если раньше прочтешь — милости просим, приходи в правление. Я тебе всегда книгу подберу. Только ты мне скажи, Галкина, что тебя больше всего на свете интересует? — А ее интересует, как бы отсюда поскорее выкатиться, — бросает Лычкина, которая, несмотря на то, что с ней никто не разговаривает, продолжает приходить к нам в комнату. — А ты всех-то на свой аршин не меряй, Лычкина, — обрывает ее Аня, которая уже успела развязать бечевку и разложить на столе книги. — Вот ты посмотри, Галкина, и выбери себе по вкусу. Ну, к примеру, может, тебе нравится фантастика, про межпланетные путешествия и тому подобное. Тогда возьми вот эту. Или хочешь про любовь и дружбу? А может, тебе лучше познакомиться с классиками, с Антоном Чеховым, Львом Толстым? А хочешь про прошлое? Очень здорово написано у Мамина-Сибиряка и Ильфа и Петрова. Я перебираю книги. Марго интересуется «про любовь». Анечка протягивает ей стихи Евтушенко. Марго открывает первую попавшуюся страницу. — Это я прочитаю. Запиши за мной, — просит она Анечку. И, взгромоздившись на кровать, погружается в чтение. Тетя Маруся меняет «Кавалера Золотой Звезды» на «Золотого теленка». Баба Киля с завистью посматривает на книги. Ей еще рано менять. Она третий месяц никак не осилит «Украинские сказки». — А с вами у нас особый разговор, баба Киля, — обращается к ней Анечка. — Вот погодите — управимся с уборочной, и как снежок выпадет — опять за учебу засядем. Вы не беспокойтесь, я не забуду — это мое комсомольское поручение. Баба Киля довольно кивает. Она знает: если Анечка что пообещает — это крепче камня. Золотая дивчина! И ведь ни копейки она за то не получает. Раньше-то она, баба Киля, только и знала что расписаться. А теперь хоть по складам, а читает. Спасибо девчонке. Да если так дальше пойдет, к весне можно домой письма писать. Вот там небось удивятся! Между тем Анечка уже проворно собирает книги, увязывает их в стопку. — Ну, пока! — кричит она весело. И след ее простыл.День восемнадцатый. И ТРЕТИЙ ПО СЧЕТУ ЧЕТВЕРГ
Сегодня Лычкина не выдержала — подошла к тете Марусе и уже без обычной своей наглой манеры попросила: — Теть Марусь, а теть Марусь, да прекрати ты, за ради бога, эту молчанку. Ну, проучили маленько Нинку Лычкину. Ну, поняла Нинка Лычкина, что к чему. Слово даю — не подойду я к той Чувакиной на километр. — Я что? Как народ решит, — нехотя цедит сквозь зубы звеньевая. — Только имей в виду — ручку можешь не целовать, а прощенья просить придется. От этого тебе не отвертеться. Иначе я зря и людей-то тревожить не стану. Нинка уныло кивает головой в знак согласия. И вот после работы, прямо на поле, собираемся мы всем скопом; и задира Лычкина, смущаясь и запинаясь, дает слово никогда больше не затевать никаких ссор и тем более драк. При этом для верности трясет рукой. И мы видим, что от затейливой татуировки сохранилась только первая фраза: «Боже, избавь меня от врагов», а вторая, насчет друзей, — густо замазана чернилами. Теперь, пожалуй, и не установишь, кому первому пришло в голову применить бойкот к Лычкиной. Но одно очевидно — мера эта была принята без подсказки коменданта. И это уже само по себе хорошо. …Вечером не сидится в комнате. Хочется побродить по селу. Время — одиннадцатый час — достаточно поздно для людей, которые встают чуть свет. Редко где блестит огонек. Только из полуоткрытых окон клуба тянутся светлые полоски. Подхожу ближе. И слышу вроде знакомый голос: «Ребята, как хотите — выручайте!» Ба! Да это же наш комендант! Интересно, кого и в чем он просит помочь. Приподымаюсь на цыпочки и заглядываю в окно. Теперь мне видна вся комната и те, кто в ней находится. За столом сидят светловолосый паренек Петр Богатько — тот самый секретарь комитета комсомола, который тогда репетировал с Марго. Рядом с ним дымит папиросой тракторист Сашко. Тут же Анечка и высокий худой Костя — руководитель кружка художественной самодеятельности. Что за чрезвычайное событие обсуждается здесь чуть не за полночь в разгар полевых работ? — Вы поймите, ребята, — говорит Каляда, — Лиза — дивчина неплохая. И если мы ей отметим день рождения — это будет большим событием не только для нее. Ну, вроде бы день рождения нового человека, понимаете? — Да кто против этого возражает, Коля, — Сашко устало трет лоб. — Конечно, отметим твоей Лизавете — на всю жизнь память останется. — Поздравим честь по чести, — поддерживает его Анечка, — цветов нарвем, подарок купим. — Можно и стих сказать коллективно, — оживляется Костя. — Добре, добре, — обрадовался Каляда. — Но только у меня и другая задумка есть. Вы же знаете нашего директора. Он к поселенцам неправильно относится. За людей их не считает. Сами понимаете, как это мешает их перевоспитанию. Мало того, что начальство в сторонке стоит, еще спасибо надо говорить, когда оно палки в колеса не ставит. Конечно, если мы Елизавету поздравим — это будет тоже хорошо. Но представьте себе, что ее сам директор поздравит! Каляда окидывает взглядом присутствующих. Всех по очереди. И ни на одном лице не видит поддержки. — Ишь, чего захотел! — машет рукой Сашко. — Хорошо-то оно хорошо, кто будет отрицать. Но чтоб наш Деревяшко поселенку поздравлением удостоил — факт не из его биографии. — Сам знаешь нашего директора, — вздыхает Петр Богатько, — его, кроме как рыбной ловлей, ничем не прошибешь. Каляда огорченно опускает голову. Все тянутся к лежащей посредине стола пачке папирос. Воцаряется молчание. — Есть крючок! — закричал вдруг Костя таким радостным голосом, каким, наверно, кричал матрос с корабля Колумба, обнаружив землю. — Клюнет наш директор на эту приманку! Еще как клюнет! — Я лично очень даже сомневаюсь, — Сашко бросает окурок в пепельницу, — чтоб нашлась такая блесна. — А ты заранее у Кости энтузиазм не охлаждай, — обрывает его Петр. — Ну, говори, Константин, в чем дело, а то время позднее… — А что, если… — пять голов сближаются над столом, и Костя что-то жарко шепчет им. — Понятно? — говорит он уже громким повеселевшим голосом. — В общем самого я беру на себя… — Ну и выдумщик же ты, Костька! — вскакивает с места Анечка. — Молодец! — Подожди хвалить раньше времени, — недоверчиво тянет Сашко. — А все же попробовать стоит, — как бы говоря свое «добро», поднимается и Петр. — Конечно, задача нелегкая, но… Я быстро зашагала прочь. А интересно, что придумал неугомонный Костя?День девятнадцатый. И ТРЕТЬЯ ПО СЧЕТУ ПЯТНИЦА
Совсем свыклась со своим положением и, сказать по правде, не очень задумываюсь над тем, как и когда буду отсюда выбираться. Но сегодня комендант сообщил: — Дня через три с первым конвоем приедет Фатима Калбаш. Она с ребенком. Так что вы ее встретьте как положено. Да что это у вас, Галкина, лицо такое кислое стало? А лицо у меня действительно перекосилось. Дело в том, что Галкина, то бишь корреспондент Трубникова, ведь уже знакома с Калбаш. Именно у нее-то в трудколонии я и побывала перед самым своим отъездом. …И вот Фатима с минуты на минуту должна прибыть сюда. Само собой разумеется, она узнает меня. И скажет всем, кто я на самом деле. Что же делать? Единственный выход — бежать. Когда? Лучше всего в понедельник. Сказавшись с утра нездоровой, остаться дома. А там — дождаться, пока все уйдут на работу, подхватить чемоданчик, выбраться на дорогу и на попутной машине доехать до станции. Ну, а если убежать не удастся и бдительный комендант, как в свое время Гулидову, задержит и меня?! Тогда, конечно, сраму не оберешься. Ох, как же подвел меня капитан Голько!.. Вечером в клубе созывается общее собрание. — А по какому, собственно, поводу это собрание? — интересуюсь я. Но тетя Маруся не успевает ответить. В президиуме, где сидит парторг совхоза, поднимается наш комендант. В руке у него листок бумаги. Воцаряется настороженная тишина. Здесь привыкли: бумага — вещь серьезная: по одной бумаге люди выходят на волю, по другой — попадают в тюрьму. — «Рапорт начальнику районного отделения милиции подполковнику милиции Дорошу от коменданта районного отделения милиции младшего лейтенанта милиции Каляды, — отчетливо выговаривая каждое слово, читает Николай Семенович. — Станиславская Нина Федотовна, 1936 года рождения, прибыла в 1961 году сроком на три года. К работе относилась добросовестно, выполняла ее „на отлично“. Своим честным трудом и примерным поведением в быту Станиславская заслуживает досрочного освобождения». Все, в том числе и парторг, дружно аплодируют. Только Гулидова сидит безучастно. Лицо у нее изжелта-бледное. Видно, опять пьет втихомолку. Сама Станиславская чуть не плачет от радости. — Видишь? — шепчет мне тетя Маруся. — По половинке люди уходят, а ты в грусть-тоску впадаешь…День двадцатый. И ПОСЛЕДНЯЯ ПО СЧЕТУ СУББОТА
С утра лихорадочно обдумываю план бегства. Работа из рук валится. Вот так история! И вдруг — так бывает только в кинокомедиях со счастливым концом — на одноколке едет не кто иной, как капитан Голько. Он сходит с лошади и журавлиной походкой прямиком направляется ко мне. Делаю вид, что я его не вижу, и начинаю усердно орудовать сапкой. — Если бы вы только знали, в какую мы передрягу угодили! — извиняющимся тоном говорит Голько. Он, видите ли, угодил в передрягу! Но сейчас не время сводить счеты — неподалеку люди, поэтому я тихонько шепчу: — Во вторник возвращается Калбаш. Она меня видела в трудколонии. Так что необходимо как можно скорее уехать отсюда. — Все организуем наилучшим способом, — заверяет меня капитан Голько и, видя, что я полна недоверия, виновато улыбается. — Что ж, вы думаете, если один раз оплошность вышла, значит так и дальше пойдет? И, стремясь наверстать упущенное, капитан принимается усердно щелкать серию фотографий «Тунеядцы за работой», ту самую серию, о которой мы договорились еще перед отъездом. — Сегодня редколлегия, — напоминает мне вечером Каляда. — Хорошо бы вам, Галкина, прийти. Присмотритесь, что к чему. — Ладно, — говорю я, — приду. Итак, отправляюсь в клуб. Редколлегия еще только собирается. Заглядываю в зал. Там идет репетиция. По сцене в своем самом хорошем платье из черной тафты разгуливает Марго. Напротив нее стоит Петр Богатько — комсомольский вожак. Внизу бегает Костя — руководитель художественной самодеятельности, он же и режиссер-постановщик, суфлер и рабочий сцены. — Да, кстати, я все хотел тебя спросить, — говорит Марго Петр Богатько, — какое твое настоящее имя? А то все заладили: Марго да Марго. Так и вспоминается Дюма с его «Ожерельем королевы Марго». — Ну, у меня ожерелья нет, одни бусики. А что касается имени — в детстве Людой звали. — Запомним. А теперь, — командует Костя, — начинаем. Помни, Петя, ты хоть и начальник, но начальник настоящий, то есть ты чувствуешь, чем дышат твои люди. Ты, Люда, заметь, что Сонька — совсем не пропащая, у нее уже начинают возникать кое-какие сомнения: а правильно ли прожита жизнь? Нет ли ошибок? И можно ли эту ошибку исправить. Понятно? Тогда продолжайте. Петр-начальник. Я про тебя слыхал. А ты еще молодая. Марго-Соня. Смотря для чего. Петр-начальник. Для того, чтобы жить. Марго-Соня. С кем? Петр-начальник. Смела. Марго-Соня. Не скрываю. Петр-начальник. Ты второй месяц отказываешься работать. Марго-Соня. Ошибаетесь, я пятнадцать лет отказываюсь работать. Петр-начальник. Куришь, конечно? Марго-Соня. Ну, ну, без подходов… — Стоп, стоп! — кричит Костя. — Последнюю фразу ты не так говоришь. Представь себе на минутку, что перед тобой твой комендант Каляда. И что он предлагает тебе закурить. Предлагает потому, что знает — в лагере с куревом тяжело, а ты — курящая. И он тоже курящий. И понимает: когда курящий человек, наконец, до своего курева дорывается, то ему вроде и на душе легче становится. А он именно того и хочет, чтобы тебе душу облегчить. Теперь понятно? Ну, начинаем сначала… И они снова принимаются за репетицию погодинских «Аристократов». Между тем на столе уже разложен большой почти полностью исписанный лист бумаги — будущий номер стенгазеты. Главный редактор-тракторист Сашко. Редколлегия — Анечка, застенчивый паренек, ученик здешней школы Василек. От поселенцев — я. С любопытством заглядываю — о чем-то там написано? Передовая носит название «Равняться по лучшим». Подписана самим Деревяшко. Среди упомянутых в статье нет фамилий ни тети Маруси, ни бабы Кили, а ведь кое-кто из выселенных работает не хуже совхозников и перевыполняет нормы. Деревяшко остается верен себе. Ага! Рядом статья Каляды. Да, он упоминает фамилии поселенцев, не преминув при этом сказать, что труд уравнивает всех.
Художник Василек старательно, буковка к буковке, выводит заголовок последнего отдела: «С улыбкой и без». Вписывает броской красной тушью: «Запомни: одна пчела дороже сотни мух. Одну голову две руки кормят».
— А ты, Галкина, заполняй тут пустое место, — распоряжается Сашко. — Да не робей. Придумай только сначала, о чем писать будешь.
Через полчаса я подаю Сашко густо исчерканный помарками листок. Он морщится:
— Неужели такую простую вещь написать не можешь? Ну, так и быть, для первого раза Анечка за тебя перепишет. Но только смотри — для первого раза.
По дороге домой меня нагоняет комендант.
— Ну как, понемногу привыкаете? — спрашивает. — Я, знаете, раньше тоже все по Сибири тосковал. А теперь привык. И здесь хорошо. Прошлые годы все на старые места в отпуск норовил съездить. А будущей зимой твердо решил — махну на месячишко в Казахстан.
— В Казахстан? Зимой? — удивляюсь я. — Да там мороз — не продохнешь.
— Нам, сибирякам, мороз нипочем, — смеется Каляда. — А в Казахстане мне своих повидать надо.
— Ну, это дело другое, — соглашаюсь я. — Если родственников навестить…
— Да не к родственникам. Я, знаете, Галкина, вычитал, что в Казахстане есть поселение вроде нашего. Только порядки там поинтереснее — документов будто у выселенных не отнимают, охранять их не охраняют. Пользуются они полной свободой. А бежать не бегут. И даже наоборот, что ни день — обязательно кто-нибудь лишний оказывается. Это, значит, к ним из других поселений своим ходом прибывают. И очень меня интересует, почему оттуда люди не бегут? Как вы думаете, Галкина?
Я молчу. Затруднительно ответить на такой вопрос.
— Вот и я не знаю, — просто признается Каляда. — Съезжу, посмотрю, что к чему. Может, и у себя такой порядок заведем…
И до чего же неугомонный этот наш комендант Каляда! Как неистощима энергия и как же велико желание младшего лейтенанта милиции стать настоящим воспитателем!
Ага! Рядом статья Каляды. Да, он упоминает фамилии поселенцев, не преминув при этом сказать, что труд уравнивает всех.
Художник Василек старательно, буковка к буковке, выводит заголовок последнего отдела: «С улыбкой и без». Вписывает броской красной тушью: «Запомни: одна пчела дороже сотни мух. Одну голову две руки кормят».
— А ты, Галкина, заполняй тут пустое место, — распоряжается Сашко. — Да не робей. Придумай только сначала, о чем писать будешь.
Через полчаса я подаю Сашко густо исчерканный помарками листок. Он морщится:
— Неужели такую простую вещь написать не можешь? Ну, так и быть, для первого раза Анечка за тебя перепишет. Но только смотри — для первого раза.
По дороге домой меня нагоняет комендант.
— Ну как, понемногу привыкаете? — спрашивает. — Я, знаете, раньше тоже все по Сибири тосковал. А теперь привык. И здесь хорошо. Прошлые годы все на старые места в отпуск норовил съездить. А будущей зимой твердо решил — махну на месячишко в Казахстан.
— В Казахстан? Зимой? — удивляюсь я. — Да там мороз — не продохнешь.
— Нам, сибирякам, мороз нипочем, — смеется Каляда. — А в Казахстане мне своих повидать надо.
— Ну, это дело другое, — соглашаюсь я. — Если родственников навестить…
— Да не к родственникам. Я, знаете, Галкина, вычитал, что в Казахстане есть поселение вроде нашего. Только порядки там поинтереснее — документов будто у выселенных не отнимают, охранять их не охраняют. Пользуются они полной свободой. А бежать не бегут. И даже наоборот, что ни день — обязательно кто-нибудь лишний оказывается. Это, значит, к ним из других поселений своим ходом прибывают. И очень меня интересует, почему оттуда люди не бегут? Как вы думаете, Галкина?
Я молчу. Затруднительно ответить на такой вопрос.
— Вот и я не знаю, — просто признается Каляда. — Съезжу, посмотрю, что к чему. Может, и у себя такой порядок заведем…
И до чего же неугомонный этот наш комендант Каляда! Как неистощима энергия и как же велико желание младшего лейтенанта милиции стать настоящим воспитателем!
День двадцать первый. ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Вечером клуб показался мне непривычно уютным. Ах вон оно что! Просто постирали занавески, пол начисто вымыт, на сдвинутых столах постелены чистые скатерти. Всюду полевые цветы, свежие, только что сорванные. Народу полным-полно. Все поселенцы, начиная с тети Маруси и кончая Воробьевой, принаряженные, отутюженные. Но особенно красивой выглядит сама виновница торжества — Лиза. Наш комендант уже, конечно, тоже здесь. Вместе с чернобровой супругой. И вся комсомольская братия в сборе. Не видно только Кости. Однако начинать все еще не начинают. Чего-то ждут. Каляда поминутно поглядывает на дверь и заметно нервничает. Так проходит добрых полчаса. Каляда советуется с Петром — придется, видно, начинать, не ждать же до вторых петухов. Я тоже беспокоюсь. И хотя не знаю, как именно собирались комсомольцы затащить на это празднество твердокаменного Деревяшко, понимаю, что затея сорвалась. А жаль! Николай Семенович приглашает всех к столу, где расставлено угощение. Воробьева с ходу тянется к миске с салатом. Баба Киля чинно усаживается и старательно оправляет туго накрахмаленную юбку. Надежда сидит с каким-то рослым парнем — это, по-видимому, и есть ее будущий муж. Тетя Маруся солидно откашливается — готовится сказать приветствие. Марго-Люда сегодня накрашена меньше обычного, и от этого ее внешность только выигрывает. Гулидова и Цымбалова, перемигнувшись, придвигают к себе поближе графин с красноватой жидкостью, не ведая о том, что там налит всего-навсего морс. Каляда встает, собираясь открыть торжество. И в этот самый момент дверь широко распахивается и входит «сам» директор, за которым, запыхавшись, следует какой-то незнакомый субъект в очках, с черными усиками и фотоаппаратом через плечо. За этими двумя как-то боком, видимо с чувством неловкости, протискивается парторг. Директора как будто подменили — лицо его так и сияет. — Где у нас виновница торжества? — весело спрашивает он и бросается пожимать руку вконец смущенной Лизе. Субъект с усиками быстро подбегает. — Хотелось бы запечатлеть. — Запечатляйте, молодой человек, запечатляйте, — не выпуская Лизиной руки, Деревяшко, осклабясь, смотрит в фотообъектив. Вспыхивает магний. Аппарат щелкает. — Итак, можно считать, что нас увековечили для потомства. — Деревяшко, наконец, оставляет Лизину руку. — Очень прошу вас, дружище, не забыть прислать мне экземпляров десять газет, когда это появится… — Непременно, — обещает корреспондент. — Непременно. Каляда так и сияет. Все шумно усаживаются за стол. Деревяшко, едва успев усесться, подымается, держа в руках граненый стакан. И, выпятив грудь, обращается к Лизе: — Мне хотелось бы, многоуважаемая, извините, не знаю, как вас по имени-отчеству… — Лиза, Лизавета, — подсказывают в несколько голосов сидящие за столом. — Елизавета Сергеевна, — уточняет комендант, который, наверное, даже если ночью разбудить, так и то без запинки перечислит имена и отчества поселенцев. — Итак, позвольте мне, уважаемая Лизавета Сергеевна, поздравить вас с днем вашего рождения (от директора так и веет добродушием). Поздравить с днем вашего рождения и пожелать вам… пожелать вам… — Деревяшко ставит стакан и лезет в карман. Достает помятую бумажку, расправляет ее. Подносит к самым глазам. — Ну и почерк у тебя, Григорий, как курица лапой… Парторг смущенно заглядывает в бумажку, подсказывает: «Пожелать вам наилучших успехов». — Пожелать вам наилучших успехов, — повторяет Деревяшко. — И снова берет бумажку себе. — Я всегда знал и говорил, — читает он запинаясь, — что дело перевоспитания есть наше общее дело. Что мы не можем стоять в стороне от тех задач, которые на нас возложены. Что мы не собираемся наказывать дважды людей и без того уже наказанных… Каляда поглядывает на сидящих за столом — ради них и притащили сюда этого Деревяшко. Поселенцы довольны — похоже, что директор сменил гнев на милость. — Я считаю… — продолжает дальше читать по бумажке Деревяшко и вдруг, как бы вспомнив что-то, оборачивается к обладателю фотоаппарата. — Вы, между прочим, молодой человек, успеваете записывать? Я не слишком быстро говорю? — Вполне, — наклоняет голову тот. — Я стенографирую особым способом. — И он снова принимается строчить в своем блокноте. Директор удовлетворенно хмыкает. — Итак, я считаю, что, — Деревяшко опять углубляется в бумажку, — что я считаю? Да, что научить людей трудиться можно и не из-под палки. У меня все, — и он бросает скомканную, уже больше ненужную бумажку на пол. Деревяшко поспешно опрокидывает стакан и встает из-за стола. — Дела неотложные, сами понимаете. Парторг смущенно уходит следом. И тогда со своего места подымается Каляда. Он волнуется, наш комендант, говорит сбивчиво. Но сколько тепла и искренности в этой его заранее не написанной и не прочтенной с чужого голоса речи! — Мне хочется от души поздравить вас, Лиза, — говорит он просто. — Ведь сегодняшний день не просто день вашего рождения. Сегодня день вашего второго рождения, Лиза. И с этим днем я и хочу вас поздравить… — Позвольте и мне сказать, — с места порывисто подымается комендантова жена Галя, та самая, что по приезде так в штыки встретила меня. — Вот, признаюсь откровенно перед всеми, — поначалу я высланных терпеть не могла. Даже говорила своему: «Давай побросаем здесь все и поедем назад на строительство. Что это за дело с дурными девками возиться?» Но я ведь не слепая, вижу: оно, конечно, здесь не так, как на стройке — стену сложил, она и видна, а не сложил, так и место пусто. Здесь, может, того сразу не углядишь, как люди растут. Но это… Очень хорошо, когда они растут, даже лучше, чем когда растут стены… После Гали говорил Сашко, потом тетя Маруся, а когда были произнесены все речи и вручены все скромные дары, завели патефон… «Корреспондента» уже давно след простыл. Ай да молодец, этот Костя! Сдержал-таки свое слово, приволок Деревяшко. И роль свою сыграл превосходно. Похоже, что никто, кроме посвященных, так и не узнал в «корреспонденте» своего односельчанина. Вот, значит, на какую удочку клюнул Деревяшко! Директор не прочь, оказывается, покрасоваться в газете, прогреметь, так сказать, в областном масштабе! А то, что его слова не отражают подлинных дел, для него не имеет ровно никакого значения… Лиза не танцует. Уселась со мной в уголок. — Садитесь и вы с нами, Николай Семенович, — приглашает она Каляду. — По душам поговорить хочется. Вы ведь знаете одно — какая плохая попала к вам сюда Узбаш. А хотите знать, как это все произошло? (Комендант кивает.) Росла я у тети с дядей, — взволнованно начала Лиза. — Конечно, баловали меня, души не чаяли: «Сиротинка бедная, надо ей счастливое детство создать». Но кончилось детство, уже и медучилище позади, а они все продолжали со мной нянчиться. Нужно, например, в больницу на дежурство идти, а тетя за голову хватается: «Ах, деточка недоспит… Ах, деточка всю ночь глаз не сомкнет!» Я сперва смеялась: «Да полно вам, тетя, я же потом двое суток гулять буду, успею выспаться». А тетка свое: «Не по тебе эта работа, не для того ты на свет родилась, чтоб по ночам надрываться». Ну и стала я с теткиных поблажек прогуливать. Раз не вышла, два не пришла, — Лиза заметно нервничает. — Времени свободного у меня хоть отбавляй. А тут компания подвернулась — рестораны и прочее. Работать стало вовсе некогда. Днем отсыпаюсь, вечером гуляю. И ведь вот что странно — ночные «дежурства» в ресторане не вызывали у тетки никаких возражений. Наоборот, тетя даже поощряла меня: «Гуляй, гуляй, девочка, пока мы с дядей живы. Успеешь еще наработаться на своем веку». Вот так и закрутилась моя жизнь. А чем все это кончилось, вы и сами знаете, Николай Семенович… Да, Каляда отлично помнит, какой приехала сюда Узбаш. Работать она не хотела упорно. Сколько актов он тогда составил, сколько выговоров объявил, сколько вынес предупреждений! Туго ему приходилось: он ведь тоже только начинал свою комендантскую жизнь. «Нет, — сказал он себе однажды, — видно, одними выговорами работать не заставишь». — А помните, Николай Семенович, ваш «индивидуальный подход» ко мне? — улыбается Лиза. — Пришли вы ко мне, а я на кровати валяюсь. Волосы разлохмачены, сама вся мятая-перемятая, в зубах папироска. А на дворе — белый день, товарки по комнате на работе давно. Ну, думаю, и всыплет мне сейчас комендант за милую душу! А вы спокойно так поздоровались. «Все лежите?» — «Все лежу». — «А ведь, между прочим, вы как человек с медицинским образованием должны знать, что человеку необходимо двигаться». — «А вы пришли лекции мне читать, что ли?» — «Какие там лекции, — говорите вы и так устало на стул опускаетесь. — Я и без лекций замучился. Просьба у меня к вам, Елизавета Сергеевна». — «Просьба? Скажите прямо — приказание». А сама думаю: «Плевать я хотела на твои приказы». А вы опять: «Нет, именно просьба, Елизавета Сергеевна». — «Ну, — говорю, — раз так, выкладывайте вашу просьбу и топайте отсюда». Тут вы мне и объяснилипо-человечески: люди, мол, сюда понаехали разные, культура отсутствует, грязь непролазная. Словом, по-вашему выходило, что без Узбаш порядка никак не навести. И предложили вы мне тогда санкомиссию возглавить. Я про себя очень этому удивилась. Но, конечно, даже и виду не подала, что ваше предложение мне по сердцу пришлось. Вот с этого, наверное, и началось. — Сперва, кажется, силос закладывала? — припоминает Каляда. — Закладывала, — подтверждает Лиза. — А потом вроде навоз подвозила? — Подвозила. — А летом коров пасла? — Пасла. А потом Узбаш копала картошку, гнула спину на кукурузе, сгребала зерно на элеваторе. Пожалуй, не было такой работы, которой не испытали бы ее руки. Вот о чем я узнала в день рождения Лизы Узбаш. Видно, недаром поздравляли ее со вторым рождением.День двадцать второй. ЕЩЕ ОДИН И ПОСЛЕДНИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
Часов в семь вечера, когда мы только собираемся пить чай, появляются комендант и капитан. Каляда явно взволнован. — Вот что, Галкина, — его голос полон суровости, — собирайте свои вещи, да побыстрее. Есть приказ отправить вас сейчас же. Похоже, вы что-то еще похуже натворили. Что тут стало! Баба Киля запричитала. Тетя Маруся принялась меня ободрять: мол, еще ничего не известно, может, меня и выпустят. Люда растерянно захлопала накрашенными ресницами. А Нинка Лычкина значительно процедила: «Это неспроста, дело пахнет керосином». И вот на виду у сбежавшихся со всех сторон людей — плохие вести расходятся быстро — сажусь в кузов машины. — Ты нам адресок отпиши, — кричит вслед звеньевая. — Посылочку пришлем. У нас фрукты-овощи скоро поспеют. — Я тоби носочки теплые вывяжу с козьего пуха, не змерзнешь в камере-то, — доносится до меня голос бабы Кили. Это последнее, что я слышу, — наш «лимузин» с решеткой трогается с места. «Прощай, Париж, моя деревня!», как поется в старой французской песенке. И вот, пока мы едем к железнодорожной станции, я думаю о том, что пришлось мне увидеть за три такие короткие и такие длинные недели. И в первую очередь я думаю о нашем коменданте Каляде. Что он, бесспорно, воспитатель по призванию. Я ни разу не слышала, чтоб комендант кричал на кого-нибудь или разговаривал в раздраженном тоне, чтобы он придирался или обидел кого-нибудь незаслуженным упреком. А между тем Каляду побаиваются. Порученные им задания выполняются беспрекословно. Все знают: комендант строг, но справедлив. Не цыканьем, не угрозами достиг этот молоденький лейтенант того, что трудовая норма выполняется не менее чем на сто процентов в среднем. Но как часто еще не хватает Каляде педагогических знаний и педагогического опыта! Ведь будь у него это, не пришлось бы ему брести на ощупь, «открывать Америку», а подчас и расписываться в своей беспомощности… Теперь, уезжая, я, пожалуй, могу попытаться ответить на тот самый важный вопрос, который был для меня загадкой, когда я сюда ехала. А именно: «Перевоспитываются ли на поселении люди и если перевоспитываются, то почему, а если нет, то опять же почему?» Что ж, теперь я на него отвечу. Да, перевоспитываются. Не все, но в большинстве своем. Почему? Здесь нельзя ограничиться перечислением причин — ведь как нет одинаковых людей, так не существует и одинаковых причин. Конечно, есть и такие, которые спешат выйти «по половинке», а так как срок укорачивают только тем, кто хорошо себя проявил на работе, они стараются работать хорошо. Но ведь и привычка к труду, которую они при этом непременно получат, сыграет свою роль, уже независимо от того, хотят этого вчерашние тунеядцы или не хотят. Что скрывать, есть на поселении и такие, которых работать заставила материальная заинтересованность. Но ведь опять-таки, для того чтобы заработать совхозный рубль, надо набить не одну трудовую мозоль. Так что и в этой причине подспудно кроется положительное зерно. Но, конечно, особую ценность, на мой взгляд, представляют те, кто почувствовал наконец-то потребность в труде, понял, что от того, будут ли они в дальнейшем работать, зависит вся их будущая жизнь. И таких на поселении уже немало — это не только незадачливые в прошлом колхозницы тетя Маруся и баба Киля, но и «рабочая косточка» — маляр Гвоздева, и «без пяти минут врач» — Лиза Узбаш, и многие другие. Ведь разве не примечательно, что таких, как злостная лентяйка Воробьева, считанные единицы? Более того, те самые поселенцы, которые два-три года назад лодырничали, возмущаются теперь воробьевским ничегонеделаньем. Для них Воробьева — вчерашний день, и в их отношении к ней разве не отражено отношение к собственному прошлому?! Как сложится их жизнь дальше, конечно, трудно сказать. Но мне кажется, что ни наша звеньевая, ни баба Киля, ни Лиза Узбаш, ни многие другие уже не вернутся на прежнюю обочину. Что, разъехавшись по домам, они и без Каляды займутся настоящим делом. И кто знает, может, годы спустя приеду я в какой-нибудь совхоз и в передовой его работнице узнаю свою старую знакомую тетю Марусю? Или из дверей районной больницы, о которой потребуется написать очерк, выйдет навстречу корреспонденту доктор в белой шапочке на пышных волосах? И этим доктором будет не кто иной, как Лиза Узбаш. Мне почему-то кажется, что так непременно будет… Но беспокоит другое: произойдет ли переворот в душе поселенцев, изменится ли моральный облик поселенцев Нового Парижа? Ведь от этого зависит, станет ли потом Люда Ткаченко снимать свой рабочий табель или снова превратится в «королеву Марго с Приморского бульвара». И если говорить начистоту, как раз в моральном облике поселенцев есть еще очень много наносного, грязного, что тяжелым балластом лежит на их душах. Возможно, на таких, как Лычкина, лучше подействовал бы более строгий режим. Может быть, и перевоспитанием злостной нарушительницы трудового распорядка Воробьевой следовало заняться в условиях трудовой воспитательной колонии. Но помочь Люде вылезти из пестрых лоскутьев убогой королевы уличных подонков можно было бы и здесь. Естественно, что, будучи сама «тунеядкой», я не имела возможности поговорить обо всем этом ни с директором, ни с парторгом. Впрочем, я на себе ощутила занятую ими в корне неверную позицию этакого презрительного, сверху вниз, взгляда на высланных. Возможно, конечно, что, когда в село привезли «новоселов», они показались не очень-то желанными гостями, все эти спекулянтки, дармоедки, самогонщицы и пьянчужки. Но ведь приехали они в Новый Париж не для того, чтобы гнать самогонку или спекулировать кофточками. Их ведь привезли сюда работать, и работать не где-нибудь, а на полях совхоза «Первомайский», на его животноводческих фермах. Работать и жить бок о бок с другими совхозными рабочими, питаться с ними в одной столовой и смотреть кино в одном и том же клубе. Вот бы и надо всем вместе: и коменданту, и совхозному руководству, и общественности заняться одним общим делом: перевоспитанием. Помнится, очень хорошо сказала баба Киля: «Одна головешка и в печке гаснет, а две и в поле горят!»ПОНЕДЕЛЬНИК. Двадцать два часа по московскому времени
И вот мы опять в поезде. Капитан Голько вытаскивает из чемоданчика учебники: он, оказывается, учится на пятом курсе автодорожного техникума. — Ox, — хватается капитан за голову, — у меня же экзамен на носу. Очень прошу вас — погоняйте меня по билетам. — С огромным удовольствием. Наконец-то мне удастся взять реванш за все, — говорю я. — Теперь только держитесь, — и я принимаюсь читать билеты, подыскивая вопрос потруднее. — А ну-ка, уважаемый товарищ Голько, расскажите, пожалуйста, что вы знаете о технологическом процессе правки шатуна? — строго спрашиваю я по билету номер семь. И Голько, собравшись с мыслями, отвечает, что шатун правится усилием мастера, поворотом и промеряется шаблоном. А я по ассоциации думаю о том, что «шатуны» вроде тех, что остались в совхозе «Первомайском», правятся тоже усилием мастера и поворотом. С той только разницей, что человеческие характеры не поддаются никакому шаблону.ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА

Запись первая
 Начальник Управления охраны общественного порядка от души посмеялся над злоключениями «тунеядки» Галкиной.
— Что ж, об одном поселении вы теперь, пожалуй, имеете представление. А мы тут сделали некоторые цифровые обобщения. И знаете, что они показали? Тунеядцы в большинстве своем молоды и, следовательно, вполне трудоспособны, большинство из них — пьяницы. Но цифры цифрами, — говорит генерал, однако «для полноты картины» советует мне съездить еще в одно поселение, на этот раз к тунеядцам мужского пола.
Я охотно соглашаюсь: почему бы не проследить за какой-нибудь искалеченной судьбой с самого начала? С того момента, когда дело тунеядца поступило в суд?..
Начальник Управления охраны общественного порядка от души посмеялся над злоключениями «тунеядки» Галкиной.
— Что ж, об одном поселении вы теперь, пожалуй, имеете представление. А мы тут сделали некоторые цифровые обобщения. И знаете, что они показали? Тунеядцы в большинстве своем молоды и, следовательно, вполне трудоспособны, большинство из них — пьяницы. Но цифры цифрами, — говорит генерал, однако «для полноты картины» советует мне съездить еще в одно поселение, на этот раз к тунеядцам мужского пола.
Я охотно соглашаюсь: почему бы не проследить за какой-нибудь искалеченной судьбой с самого начала? С того момента, когда дело тунеядца поступило в суд?..
Запись вторая. САМОЕ ОБЫКНОВЕННОЕ ДЕЛО
 Секретарь суда удивленно вскинула брови.
— Вы хотите слушать дело Тенькина? Но ведь это самое обычное, ничем не примечательное дело. Заурядный случай.
— Спасибо, — благодарю я. — Так вы говорите, оно слушается во вторник?
Секретарша недоуменно пожимает плечами, но я-то знаю, что мне нужно именно такое, самое обычное, ничем не примечательное дело, совсем заурядный случай.
В назначенный день прихожу в зал заседаний одного из народных судов города. Прихожу как раз вовремя — на скамье подсудимых уже сидит широкоплечий детина в черном свитере. Места за судейским столом еще пустуют.
В зал с шумом влетает пергидрольная блондинка. Осторожно оправляя плиссированную юбку — «не смять бы!» — она втискивается рядом со мной и тотчас начинает сыпать сто слов в минуту.
— Ой, вы только посмотрите, он же совсем молодой! Интересно, кого он убил, кого он ограбил, этот красавчик? — громко, на весь зал тараторит блондинка.
— Себя, — невозмутимо констатирую я.
— Ой, какой кошмар! — Дамочка топорщит намазанные ресницы, но тут же спохватывается. — Нет, вы смеетесь! Неужели вы думаете, я настолько глупа? По-вашему, выходит, что этот обворожительный брюнет залез сначала к себе в карман, а потом на самого же себя наложил руки! Ха-ха! Так я и поверила!..
Секретарь суда удивленно вскинула брови.
— Вы хотите слушать дело Тенькина? Но ведь это самое обычное, ничем не примечательное дело. Заурядный случай.
— Спасибо, — благодарю я. — Так вы говорите, оно слушается во вторник?
Секретарша недоуменно пожимает плечами, но я-то знаю, что мне нужно именно такое, самое обычное, ничем не примечательное дело, совсем заурядный случай.
В назначенный день прихожу в зал заседаний одного из народных судов города. Прихожу как раз вовремя — на скамье подсудимых уже сидит широкоплечий детина в черном свитере. Места за судейским столом еще пустуют.
В зал с шумом влетает пергидрольная блондинка. Осторожно оправляя плиссированную юбку — «не смять бы!» — она втискивается рядом со мной и тотчас начинает сыпать сто слов в минуту.
— Ой, вы только посмотрите, он же совсем молодой! Интересно, кого он убил, кого он ограбил, этот красавчик? — громко, на весь зал тараторит блондинка.
— Себя, — невозмутимо констатирую я.
— Ой, какой кошмар! — Дамочка топорщит намазанные ресницы, но тут же спохватывается. — Нет, вы смеетесь! Неужели вы думаете, я настолько глупа? По-вашему, выходит, что этот обворожительный брюнет залез сначала к себе в карман, а потом на самого же себя наложил руки! Ха-ха! Так я и поверила!..
 — Суд идет! — раздается голос секретаря.
Все встают. Разговоры обрываются на полуслове. Со скамьи подсудимых развязно поднимается парень.
— Почему не работал? Я работал, — неуверенно бубнит он. — За февраль у меня три рабочих дня, за март почти неделя.
— И это вы называете работой?!
Да, время от времени Тенькин действительно устраивался на работу. До первого аванса. А потом… Потом здоровенный балбес день-деньской пьянствовал, сквернословил, скандалил.
— Итак, заработки ваши были случайными. На какие же средства вы, Тенькин, имели возможность вести такой образ жизни? — в упор спрашивает судья.
Верзила сутулится. Голова с подстриженной по-модному челкой опускается так низко, что не видно больше ни одутловатого лица, ни безвольных губ.
Тенькин стоит, не подымая глаз. Ведь иначе его взгляд встретится с глазами двух женщин, сидящих в первом ряду. Они смотрят на него в упор, не отрываясь, эти две женщины — мать и бабушка. У матери вздутые вены на натруженных руках, у бабушки от старости трясется голова. Жалованье уборщицы, старушечью пенсию — все пропивал «любящий» сынок и внучек.
— Суд идет! — раздается голос секретаря.
Все встают. Разговоры обрываются на полуслове. Со скамьи подсудимых развязно поднимается парень.
— Почему не работал? Я работал, — неуверенно бубнит он. — За февраль у меня три рабочих дня, за март почти неделя.
— И это вы называете работой?!
Да, время от времени Тенькин действительно устраивался на работу. До первого аванса. А потом… Потом здоровенный балбес день-деньской пьянствовал, сквернословил, скандалил.
— Итак, заработки ваши были случайными. На какие же средства вы, Тенькин, имели возможность вести такой образ жизни? — в упор спрашивает судья.
Верзила сутулится. Голова с подстриженной по-модному челкой опускается так низко, что не видно больше ни одутловатого лица, ни безвольных губ.
Тенькин стоит, не подымая глаз. Ведь иначе его взгляд встретится с глазами двух женщин, сидящих в первом ряду. Они смотрят на него в упор, не отрываясь, эти две женщины — мать и бабушка. У матери вздутые вены на натруженных руках, у бабушки от старости трясется голова. Жалованье уборщицы, старушечью пенсию — все пропивал «любящий» сынок и внучек.
 Решением суда «Николай Тенькин, 1942 года рождения, ранее не судимый, нигде не работающий, ведущий паразитический образ жизни, высылается из Одессы и направляется на поселение сроком на три года с обязательным привлечением к труду».
Зал постепенно пустеет. Решение суда о Тенькине встречено присутствующими одобрительно. «Давно пора не давать спуску лодырям». Недовольна только «химическая» блондинка.
— Подумаешь, удивили! Мальчик не хочет работать! Так за это его уже надо выслать, чтоб он моря не видел?! Что касается меня лично, так я тоже предпочитаю не греметь табелем, — и, пренебрежительно передернув плечами, она уходит.
Рука об руку, поддерживая друг друга, направляются к выходу мать и бабушка Тенькина. Старушка украдкой утирает слезы.
Я решаю выждать неделю-другую, а потом отправиться вслед за Тенькиным и посмотреть, как будет происходить его «лечение» трудом.
Решением суда «Николай Тенькин, 1942 года рождения, ранее не судимый, нигде не работающий, ведущий паразитический образ жизни, высылается из Одессы и направляется на поселение сроком на три года с обязательным привлечением к труду».
Зал постепенно пустеет. Решение суда о Тенькине встречено присутствующими одобрительно. «Давно пора не давать спуску лодырям». Недовольна только «химическая» блондинка.
— Подумаешь, удивили! Мальчик не хочет работать! Так за это его уже надо выслать, чтоб он моря не видел?! Что касается меня лично, так я тоже предпочитаю не греметь табелем, — и, пренебрежительно передернув плечами, она уходит.
Рука об руку, поддерживая друг друга, направляются к выходу мать и бабушка Тенькина. Старушка украдкой утирает слезы.
Я решаю выждать неделю-другую, а потом отправиться вслед за Тенькиным и посмотреть, как будет происходить его «лечение» трудом.
Запись третья ОСОБАЯ ПРИМЕТА
Мне повезло — Василий Владимирович Бойченко из Управления охраны общественного порядка, «главный капитан над всеми тунеядцами», как раз собрался в совхоз «Степное» навестить двадцать девять своих подопечных. — Значит, увидим двадцать девять Обломовых, — усмехаюсь я. — Не только Обломовых. Там и Ноздревых хватает, и Остапы Бендеры тоже водятся, — уточняет капитан. Капитан раскрывает папку, в которой собраны «дела» всех двадцати девяти, все биографии, все справки из вытрезвителей, все протоколы о нарушениях, все акты о скандалах и драках. Здесь же заполненная на каждого «Тенькина» анкета, где, помимо обычных параграфов, имеется еще специальная графа: «особые приметы». Тут же подклеены и фото. Само собой разумеется, что все они выглядят по-разному: у одного из них короткая шея, у другого, наоборот, длинная с кадыком. Один отек от пьянства, другой по этой же причине высох. Однако есть у всех двадцати девяти одна общая особая примета — все они тунеядцы, бездельники, дармоеды, живущие за счет чужого труда. В папке есть, конечно, и анкета Николая Тенькина. Но ведь ни одна анкета не расскажет о том, как и почему человек становится тунеядцем. А именно это мне хотелось знать, прежде чем я отправлюсь на поселение вслед за своим «героем». И поэтому я решила еще до поездки побывать в доме на Дегтярной улице, где до ареста жил Николай. Вот и квартира номер десять. Две маленькие, очень чистые комнатки, обстановка скудная. — Все у нас было, — горестно вспоминает мать Николая. — Коля ведь у меня сантехник. Хорошо зарабатывал. Да толку-то что? Магнитофон купил? Купил. Пропил. Приемник купил? Купил. Пропил. Костюмы хорошие справил? Справил. А где они? — Женщина тихонько сморкается в уголок фартука, чтоб не видно было ее слез. — Но как все это началось? — спрашиваю я, когда она успокаивается. Мать беспомощно разводит руками. — Улица, улица испортила. Компания такая попалась, затянула… Компания. Улица. Я понимаю, что вкладывала в это понятие мать Николая. Улица — это азартные игры на деньги, улица — это папироса в зубах малолетнего пацана, улица — это обслюнявленное, переходящее изо рта в рот горлышко бутылки, изощренная ругань, пьяная драка в подворотне. Такой улицей обычно верховодят всякие темные людишки, стремящиеся подчинить себе безусых молокососов. Сначала они делают их своими собутыльниками, потом соучастниками нечистоплотных делишек. Но ведь на этой же самой Дегтярной, более того, в этом же самом доме выросли стоящими парнями многие Николаевы сверстники. Почему же Николай променял завод на пивную? Почему отбился, как говорится, от рук?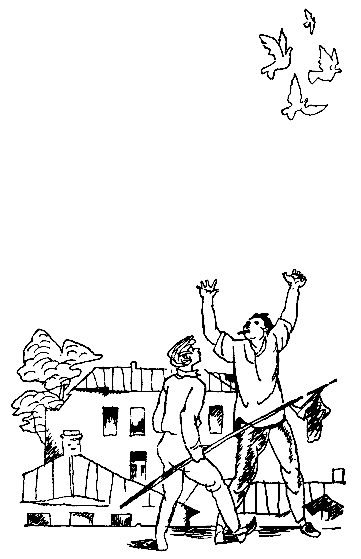
 Не в том ли причина, что рос парнишка без отца, что не могла уследить за ним вечно занятая работой мать? Что не под силу было слабохарактерной, души не чаявшей в единственном внуке бабушке совладать со своенравным подростком? И вот безнадзорный и, в сущности, предоставленный самому себе Николай становится «уличным».
С тяжелым сердцем вышла я от Тенькиных. А проходя по двору, увидела, как какие-то великовозрастные парни с гиканьем и улюлюканьем гоняли голубей. Возле забора на опрокинутом ящике шло жаркое картежное сраженье, и каждый взмах захватанной карты сопровождался отборной руганью.
…Я вспоминаю об этом по дороге в совхоз, где живет рабочий народ, где, как сказал мне капитан, «создана атмосфера общественной нетерпимости к тунеядцам», где их учат жить в труде. Чтобы не уподобились они тунеядам — насекомым, или паразитам-растениям, что существуют за счет других. А чтобы стали они людьми.
Не в том ли причина, что рос парнишка без отца, что не могла уследить за ним вечно занятая работой мать? Что не под силу было слабохарактерной, души не чаявшей в единственном внуке бабушке совладать со своенравным подростком? И вот безнадзорный и, в сущности, предоставленный самому себе Николай становится «уличным».
С тяжелым сердцем вышла я от Тенькиных. А проходя по двору, увидела, как какие-то великовозрастные парни с гиканьем и улюлюканьем гоняли голубей. Возле забора на опрокинутом ящике шло жаркое картежное сраженье, и каждый взмах захватанной карты сопровождался отборной руганью.
…Я вспоминаю об этом по дороге в совхоз, где живет рабочий народ, где, как сказал мне капитан, «создана атмосфера общественной нетерпимости к тунеядцам», где их учат жить в труде. Чтобы не уподобились они тунеядам — насекомым, или паразитам-растениям, что существуют за счет других. А чтобы стали они людьми.
Запись четвертая. «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ»
— Прежде всего зайдем к коменданту, — говорит капитан, когда мы, наконец, добираемся до цели нашего путешествия — села Отрадного. Лейтенанта Ливанского мы находим без труда — он живет в общежитии вместе с совхозными рабочими и переселенцами. — Как дела? — осведомляется у него Бойченко. — Что, неукротимый Пшеничный все еще воюет? — В камере предварительного заключения воюет, — лейтенант мрачнеет. — Оформили по 206-й. За хулиганство. — Ну, а Жирков? — День работает, два гуляет. — А Севастьянкин как? — В порядке. В общем все на уровне. Вот только новенький… — Давай-ка пройдем по комнатам, посмотрим, — и Бойченко направляется к двери. Первым, кого я увидела в общежитии, был мой «старый знакомый» Тенькин. — Новенький, — комендант кивнул в его сторону. — День-деньской матрац продавливает. Тенькин, словно речь идет вовсе не о нем, невозмутимо курит и следит за колечками дыма. — Как можете вы спокойно смотреть на такое? — вскидываюсь я, когда мы выходим в коридор. — Нагляделся. — Лейтенант достает из портсигара сигарету. — Что здесь два года назад творилось, когда привезли первых поселенцев! Залегли все по койкам, и конец. Дела, говорят, не голуби, не разлетятся. — А теперь-то они работают? — допытываюсь я. — Теперь? Да вы, товарищ корреспондент, лучше свежим глазом сами посмотрите. И «товарищ корреспондент» стала все смотреть «свежим глазом». Увидела книги на тумбочках, музыкальные инструменты. И не без удовольствия отметила: в комнатах ни души. И еще одна любопытная деталь так и просится в мой блокнот: заведующая совхозным магазином полушутя, полусерьезно жаловалась: не выполняется-де план товарооборота из-за того, что мал здесь спрос на… вино-водочные изделия. Вечером, когда в общежитии стал собираться народ, мое внимание привлек худощавый мужчина. Он занимался рисованием. По красному полотнищу он старательно выводил: «Повысим производительность труда». — Наглядная агитация, — поясняет комендант, и неизвестно, что он имеет в виду: самый плакат или то, что поселенец во внеурочное время по собственному почину занимается нужным для совхоза делом.
— Куровский, наш художник, — не без гордости рекомендует худощавого лейтенант. — Что новенького задумал нарисовать, Григорий Александрович?
Куровский тщательно вытирает запачканные красками руки, после чего лезет в деревянный сундучок и выкладывает пачку литографий. Бережно перебрав пачку, он кладет для всеобщего обозрения довольно потрепанный лист.
— Вот поглядите — «Последний день Помпеи». Правда, здорово? Я, откровенно говоря, большие надежды на эту самую Помпею возлагаю.
Наши недоуменные лица подогревают пыл рассказчика.
— Все очень даже просто, — невозмутимо продолжает наш собеседник. — Расчерчиваю я всю Помпею на квадраты и тютелька в тютельку срисовываю. Картина богатейшая. Так что эффект огромный, сами понимаете. А кроме того — прощай Отрадное. Как в песне поется: «Последний нынешний денечек гуляю с вами я, друзья».
— Это еще почему? — опасаясь подвоха, настораживается лейтенант. — Бежать, что ли, собрался?
— Зачем бежать? Все на законном основании. Да меня за такую Помпею, если хотите знать, вы же сами первый, товарищ лейтенант, досрочно освободите. «Иди, — скажете, — Куровский, иди, милый человек, на все четыре стороны, раз ты для нашего клуба такую замечательную вещь написать постарался. Недаром ты потрудился. Теперь с открытой душой возвращайся к своей жене, которая честно барахтается в торговой сети, и к малютке сыну, который в свои семь лет уже печатается во всемирно известном журнале „Мурзилка“. Надеюсь, я правильно передаю ваши мысли, гражданин комендант?»
Гражданин комендант сосредоточенно молчит.
— Я только в одном сомневаюсь, — с жаром продолжает Куровский, — может, мне лучше другую картину нарисовать? Вот эту — «Не ждали». Представляете, нарисовал «Не ждали», и сам нежданно-негаданно досрочно домой заявился, а? Так или иначе, за мной остановки не будет. Мне бы только холстом раздобыться, а то прямо хоть простыню используй.
— Но-но, — сердится Ливанский, — простыня — имущество казенное.
— Знаю, что казенное, — огрызается Куровский, — так ведь и я не для себя, кажется, стараюсь.
Наутро, когда общежитие опустело, в коридоре я снова увидела знакомую долговязую фигуру «художника», как здесь прозвали Куровского. Весь заляпанный белилами, Куровский проворно водил кистью по потолку и время от времени покрикивал на своего напарника, нехотя колупавшего штукатурку.
— А ты пошевеливайся, любезный. Если так дальше бездельничать будешь, я, ей-богу, не посмотрю, что ты мой бывший начальник…
«Любезный» чертыхается, однако принимается яростно отдирать порченые куски.
Лейтенант между тем разъясняет мне, что теперь в подчинении Куровского находится его бывший прораб, у которого тот когда-то работал маляром. Оба вместе они и попали сюда за пьянство, прогулы и халтуру на стороне.
— Ты, похоже, забыл, Петрович, — снова раздается глуховатый голос Куровского, — что нам за неделю все общежитие покрасить надо? А я еще задумал трафарет навести. Так что придется работать. Ясно?
Петрович со злостью бросает кусок штукатурки на пол.
…Я далеко не уверена, что, даже если Куровский скопирует «Помпею», из него получится второй Брюллов. И, конечно, не за картину как таковую ему могут «скостить срок». Важно другое: вкус к труду он наверняка почувствовал.
— Наглядная агитация, — поясняет комендант, и неизвестно, что он имеет в виду: самый плакат или то, что поселенец во внеурочное время по собственному почину занимается нужным для совхоза делом.
— Куровский, наш художник, — не без гордости рекомендует худощавого лейтенант. — Что новенького задумал нарисовать, Григорий Александрович?
Куровский тщательно вытирает запачканные красками руки, после чего лезет в деревянный сундучок и выкладывает пачку литографий. Бережно перебрав пачку, он кладет для всеобщего обозрения довольно потрепанный лист.
— Вот поглядите — «Последний день Помпеи». Правда, здорово? Я, откровенно говоря, большие надежды на эту самую Помпею возлагаю.
Наши недоуменные лица подогревают пыл рассказчика.
— Все очень даже просто, — невозмутимо продолжает наш собеседник. — Расчерчиваю я всю Помпею на квадраты и тютелька в тютельку срисовываю. Картина богатейшая. Так что эффект огромный, сами понимаете. А кроме того — прощай Отрадное. Как в песне поется: «Последний нынешний денечек гуляю с вами я, друзья».
— Это еще почему? — опасаясь подвоха, настораживается лейтенант. — Бежать, что ли, собрался?
— Зачем бежать? Все на законном основании. Да меня за такую Помпею, если хотите знать, вы же сами первый, товарищ лейтенант, досрочно освободите. «Иди, — скажете, — Куровский, иди, милый человек, на все четыре стороны, раз ты для нашего клуба такую замечательную вещь написать постарался. Недаром ты потрудился. Теперь с открытой душой возвращайся к своей жене, которая честно барахтается в торговой сети, и к малютке сыну, который в свои семь лет уже печатается во всемирно известном журнале „Мурзилка“. Надеюсь, я правильно передаю ваши мысли, гражданин комендант?»
Гражданин комендант сосредоточенно молчит.
— Я только в одном сомневаюсь, — с жаром продолжает Куровский, — может, мне лучше другую картину нарисовать? Вот эту — «Не ждали». Представляете, нарисовал «Не ждали», и сам нежданно-негаданно досрочно домой заявился, а? Так или иначе, за мной остановки не будет. Мне бы только холстом раздобыться, а то прямо хоть простыню используй.
— Но-но, — сердится Ливанский, — простыня — имущество казенное.
— Знаю, что казенное, — огрызается Куровский, — так ведь и я не для себя, кажется, стараюсь.
Наутро, когда общежитие опустело, в коридоре я снова увидела знакомую долговязую фигуру «художника», как здесь прозвали Куровского. Весь заляпанный белилами, Куровский проворно водил кистью по потолку и время от времени покрикивал на своего напарника, нехотя колупавшего штукатурку.
— А ты пошевеливайся, любезный. Если так дальше бездельничать будешь, я, ей-богу, не посмотрю, что ты мой бывший начальник…
«Любезный» чертыхается, однако принимается яростно отдирать порченые куски.
Лейтенант между тем разъясняет мне, что теперь в подчинении Куровского находится его бывший прораб, у которого тот когда-то работал маляром. Оба вместе они и попали сюда за пьянство, прогулы и халтуру на стороне.
— Ты, похоже, забыл, Петрович, — снова раздается глуховатый голос Куровского, — что нам за неделю все общежитие покрасить надо? А я еще задумал трафарет навести. Так что придется работать. Ясно?
Петрович со злостью бросает кусок штукатурки на пол.
…Я далеко не уверена, что, даже если Куровский скопирует «Помпею», из него получится второй Брюллов. И, конечно, не за картину как таковую ему могут «скостить срок». Важно другое: вкус к труду он наверняка почувствовал.
Запись пятая. ЖОРА С ГИТАРОЙ
Мы сидим у Ливанского. Комендант подробно знакомит капитана с происшествиями за последние два месяца. Вдруг из-за стены доносится бренчанье гитары и чей-то простуженный голос с хрипотцой тянет: — Комендант, — Дойнас понизил голос до конфиденциального шепота. — чтоб вы знали, тореадора из меня не получится. Меня, к вашему сведению, в детстве боднула корова, и с тех пор я питаю естественную неприязнь к парнокопытным. Что касается молока, то, видите ли, после грудного я сразу же перешел на «старку». Надеюсь, гражданин комендант, я достаточно популярно изложил свое мирное воззрение?
— Уж чего ясней! — Комендант нахмурился. — Но только имей в виду, Дойнас, отлынивать от работы тебе не удастся. Надеюсь, я тоже достаточно популярно изложил нашу установку?
После полудня Жора появился в коровнике. Шла дойка.
— Откровенно говоря, здесь не пахнет «Красной Москвой» и даже «Серебристым ландышем». — Жора брезгливо сморщил нос. — Впрочем, мадемуазель, ваше присутствие способно украсить даже такое место.
Молоденькая доярка густо покраснела, пальцы ее заработали еще быстрее. Тогда, вытащив из кармана смятую салфетку с меткой «Кафе „Европа“» и вытерев вспотевший лоб, Жора, который явился сюда со своей неизменной гитарой, оперся о притолоку и взял несколько аккордов. Коровник огласился звуками его хриплого голоса.
— Комендант, — Дойнас понизил голос до конфиденциального шепота. — чтоб вы знали, тореадора из меня не получится. Меня, к вашему сведению, в детстве боднула корова, и с тех пор я питаю естественную неприязнь к парнокопытным. Что касается молока, то, видите ли, после грудного я сразу же перешел на «старку». Надеюсь, гражданин комендант, я достаточно популярно изложил свое мирное воззрение?
— Уж чего ясней! — Комендант нахмурился. — Но только имей в виду, Дойнас, отлынивать от работы тебе не удастся. Надеюсь, я тоже достаточно популярно изложил нашу установку?
После полудня Жора появился в коровнике. Шла дойка.
— Откровенно говоря, здесь не пахнет «Красной Москвой» и даже «Серебристым ландышем». — Жора брезгливо сморщил нос. — Впрочем, мадемуазель, ваше присутствие способно украсить даже такое место.
Молоденькая доярка густо покраснела, пальцы ее заработали еще быстрее. Тогда, вытащив из кармана смятую салфетку с меткой «Кафе „Европа“» и вытерев вспотевший лоб, Жора, который явился сюда со своей неизменной гитарой, оперся о притолоку и взял несколько аккордов. Коровник огласился звуками его хриплого голоса.
 Корова закрутила шеей и так двинула копытом, что едва не опрокинула подойник.
— Шел бы ты отсюда, непутевый, — рассердилась доярка.
Ухмыльнувшись, Жора стряхнул приставшие к брюкам соломинки и расхлябанной походкой направился к выходу.
Около дверей он, демонстративно откашлявшись, снова стал исполнять что-то из своего репертуара.
Жориным «портом» стало Отрадное. Эта «тихая гавань трудяг», как Жора окрестил совхоз, все больше разочаровывала любителя острых приключений.
Вернувшись из коровника, Дойнас рассчитывал найти партнеров и перекинуться в картишки, однако общежитие встретило его открытыми настежь дверями. В комнатах не было ни одной живой души, если не считать кота, по прозвищу «Туник», который блаженно посапывал на Жориной койке. Жора с досады хватил кота вдоль спины гитарой и уселся на согретое Туником место.
— Так все и поешь? — удивились соседи по комнате, когда, возвратившись вечером домой, застали новичка бренчащим на гитаре.
— А почему бы мне, собственно, и не петь, джентльмены? — Не меняя позы, бездельник сплюнул на пол.
На него не обращали внимания. Каждый спешил переодеться, умыться и отправиться в столовую. После работы на свежем воздухе никто не страдал отсутствием аппетита. Впрочем, и провалявшийся весь день лежебока тоже успел изрядно проголодаться.
— Представляю себе, чем кормят в вашем фешенебельном ресторане «От-рад-ное», — протянул иронически Жора, проворно надевая ботинки. — Просто ума не приложу, что мне заказать, котлеты деваляй или ростбиф по-гамбургски?
— Да ты никак в столовую собрался? — спросил его кто-то.
— Вы угадали, сэр. Так и быть, почту своим присутствием вашу убогую таверну. Рискну попробовать бифштекс по-деревенски.
— Не попробуешь, лучше не рискуй. — В глазах соседа по койке сверкнули лукавые искорки. — Поесть тебе не придется.
— Не беспокойтесь, мосье, — Жора ухмыльнулся, — у нас еще имеются рупии.
— Рупии? А кому они нужны, твои рупии? Что, ты их заработал? — вмешался Севастьянкин.
— Вы только послушайте, что мелет этот мистер в телогрейке! Между прочим, в отличие от ваших сапог, которые вы смазываете чем-то необыкновенно вонючим, тугрики не пахнут.
— Э нет, ошибаешься. Еще как пахнут, — и мужчина в телогрейке, засучив рукава, поднес к самому носу Жоры свою пропитанную мазутом руку. — Так что можешь не спешить. У нас здесь такой принцип: кого работать не заставят, того и есть не посадят.
Кассы в нашей столовой не имеется. Кормят за те денежки, что заработал. Прямиком из бухгалтерии их, значит, и начисляют.
Жора заметно сник.
— Что же, по-вашему, выходит, сеньоры? Значит, молодой человек, полный, между прочим, жизненных сил и энергии, должен помирать с голоду?
— Зачем помирать, — успокоили его. — Просто молодой человек, полный этой, как ее, энергии, должен работать…
Комната снова опустела. Все ушли ужинать. Только Жора остался лежать на застеленной койке. Петь уже не хотелось. Туник потерся было о ножку кровати, выпрашивая подачку.
— Ну за что тебя кормить, паразит толстобрюхий? — Жора пнул кота ногой. — Или ты мышей ловишь? Только и умеешь чужую колбасу лопать. Мотай отсюда, пока жив!
На следующее утро Дойнас поднялся задолго до сигнала подъема.
— Решил, стало быть, парень за ум взяться, — улыбнулся сосед по койке.
— Вы не знаете Жору, но вы его еще узнаете, — многозначительно пообещал тот, подтягивая свои «техасские» брючки с «молниями».
Однако ни в коровнике, ни на свиноферме, ни в мастерской Жора так и не появился. Он ввалился в общежитие поздним вечером. Из увесистой авоськи недвусмысленно выглядывали два бутылочных горлышка и кульки со снедью. От самого Дойнаса разило спиртным.
Он плюхнулся на кровать и во всю мощь хмельного голоса загорланил:
Корова закрутила шеей и так двинула копытом, что едва не опрокинула подойник.
— Шел бы ты отсюда, непутевый, — рассердилась доярка.
Ухмыльнувшись, Жора стряхнул приставшие к брюкам соломинки и расхлябанной походкой направился к выходу.
Около дверей он, демонстративно откашлявшись, снова стал исполнять что-то из своего репертуара.
Жориным «портом» стало Отрадное. Эта «тихая гавань трудяг», как Жора окрестил совхоз, все больше разочаровывала любителя острых приключений.
Вернувшись из коровника, Дойнас рассчитывал найти партнеров и перекинуться в картишки, однако общежитие встретило его открытыми настежь дверями. В комнатах не было ни одной живой души, если не считать кота, по прозвищу «Туник», который блаженно посапывал на Жориной койке. Жора с досады хватил кота вдоль спины гитарой и уселся на согретое Туником место.
— Так все и поешь? — удивились соседи по комнате, когда, возвратившись вечером домой, застали новичка бренчащим на гитаре.
— А почему бы мне, собственно, и не петь, джентльмены? — Не меняя позы, бездельник сплюнул на пол.
На него не обращали внимания. Каждый спешил переодеться, умыться и отправиться в столовую. После работы на свежем воздухе никто не страдал отсутствием аппетита. Впрочем, и провалявшийся весь день лежебока тоже успел изрядно проголодаться.
— Представляю себе, чем кормят в вашем фешенебельном ресторане «От-рад-ное», — протянул иронически Жора, проворно надевая ботинки. — Просто ума не приложу, что мне заказать, котлеты деваляй или ростбиф по-гамбургски?
— Да ты никак в столовую собрался? — спросил его кто-то.
— Вы угадали, сэр. Так и быть, почту своим присутствием вашу убогую таверну. Рискну попробовать бифштекс по-деревенски.
— Не попробуешь, лучше не рискуй. — В глазах соседа по койке сверкнули лукавые искорки. — Поесть тебе не придется.
— Не беспокойтесь, мосье, — Жора ухмыльнулся, — у нас еще имеются рупии.
— Рупии? А кому они нужны, твои рупии? Что, ты их заработал? — вмешался Севастьянкин.
— Вы только послушайте, что мелет этот мистер в телогрейке! Между прочим, в отличие от ваших сапог, которые вы смазываете чем-то необыкновенно вонючим, тугрики не пахнут.
— Э нет, ошибаешься. Еще как пахнут, — и мужчина в телогрейке, засучив рукава, поднес к самому носу Жоры свою пропитанную мазутом руку. — Так что можешь не спешить. У нас здесь такой принцип: кого работать не заставят, того и есть не посадят.
Кассы в нашей столовой не имеется. Кормят за те денежки, что заработал. Прямиком из бухгалтерии их, значит, и начисляют.
Жора заметно сник.
— Что же, по-вашему, выходит, сеньоры? Значит, молодой человек, полный, между прочим, жизненных сил и энергии, должен помирать с голоду?
— Зачем помирать, — успокоили его. — Просто молодой человек, полный этой, как ее, энергии, должен работать…
Комната снова опустела. Все ушли ужинать. Только Жора остался лежать на застеленной койке. Петь уже не хотелось. Туник потерся было о ножку кровати, выпрашивая подачку.
— Ну за что тебя кормить, паразит толстобрюхий? — Жора пнул кота ногой. — Или ты мышей ловишь? Только и умеешь чужую колбасу лопать. Мотай отсюда, пока жив!
На следующее утро Дойнас поднялся задолго до сигнала подъема.
— Решил, стало быть, парень за ум взяться, — улыбнулся сосед по койке.
— Вы не знаете Жору, но вы его еще узнаете, — многозначительно пообещал тот, подтягивая свои «техасские» брючки с «молниями».
Однако ни в коровнике, ни на свиноферме, ни в мастерской Жора так и не появился. Он ввалился в общежитие поздним вечером. Из увесистой авоськи недвусмысленно выглядывали два бутылочных горлышка и кульки со снедью. От самого Дойнаса разило спиртным.
Он плюхнулся на кровать и во всю мощь хмельного голоса загорланил:
Запись шестая. АВАГИС — НОЧНАЯ ОБЕЗЬЯНА
Однажды, сидя у коменданта, я задала ему вопрос, который давно вертелся у меня на языке: — А каким этот Жора был раньше? Комендант вместо ответа подошел к письменному столу и, порывшись в одном из ящиков, достал трепаную тетрадку в клеенчатом переплете. — Вот это вам, пожалуй, многое объяснит, — сказал он. — Тетрадку «великолепный» Жора, видимо, впопыхах забыл в тумбочке. Листаю страницу за страницей, с каждой из которых так и торчат ослиные уши трутня и циника. Впрочем, чтобы не быть голословной, я приведу эти небрежно сделанные карандашом записи.«Январь 1963 года. Всю неделю праздновали новый год. Блеск! С этого завода, конечно, тоже потурили за прогульчик, но я чихать хотел. Когда Ньютона стукнуло по голове яблоком, он открыл закон всемирного тяготения. Сейчас, когда меня „стукнули“ на заводе, мой чердак тоже осенила гениальная идея. А на что она мне вообще сдалась, эта принудиловка? Февраль. Целый месяц полной свободы личности от труда. Классное житье! Правда, у меня, к сожалению, нет папаши-профессора. Но еще, слава богу, не вымерли бабушка и дядя. И они хотя и числятся инвалидами труда, но вдвоем ухитряются за день поклеить целую уйму конвертов. Я считаю, что тоже вношу в это дело посильную лепту, ибо увеселяю их игрой на гитаре. А вообще скука адская, от зевков скулы сводит. С тоски начал набрасывать в блокнотец кое-какие мыслишки для потомства. Лишь бы убить время до вечера. А уж вечером я свое беру — напиваюсь в дым. На какие пфенниги? А все очень просто — у меня есть закадычные дружки, у этих дружков есть приличные предки. На их фартинги и пьем. Банально, но факт. Между прочим, заманиваем девчонок на пустую Володькину дачу (его маман и папан укатили в отпуск). И начинается детский писк на лужайке. Март. От нечего делать выписываю для освоения и пуска в оборот некоторые словечки. Как-то: „„Авагис“ — ночная человекообразная обезьяна, водится в лесах Мадагаскара“. Прямо зависть берет. Вот устроилась: висит себе, бродяга, вниз головой и знай лопает апельсины! Не жизнь, а сплошной фестиваль! „Эль“ — род пива. „Сули“ — по-корейски водка. (Далее следовал ряд нецензурных выражений на разных языках.) Март — апрель — май — июнь. Все время напиваемся в дугу. Когда не хватает золотых кружочков, оставляем в кабаках пиджаки в залог. Во всех питейных заведениях нашего города их уже целая коллекция. Вопрос стоит остро: где бы раздобыть тугриков? Июль. Делаю отличный бизнес — в порту знакомлюсь с интуристами и потом скупаю у них барахло. О’кэй! На апельсинчики хватает… Между прочим, ребята прозвали меня „Авагис“. Мне это импонирует. Август. Ура! Я расту в собственных глазах — моей скромной особой начинает интересоваться милиция. Сентябрь. Все течет, все меняется: раньше я бегал в школу, потом стоял за станком. Затем валялся на кровати. Сейчас я сижу в камере. В ожидании суда заставляют копать землю. Никакой выдумки! То ли дело в Америке! Я как-то вычитал, что начальник детской тюрьмы в Пенсильвании оказался неплохим педагогусом. Он предложил, чтоб за время пребывания в тюрьме подростки, обвиненные в угоне автомашин, проходили курс автомобильного дела. Тогда в случае, если по отбытии срока они снова сопрут машину, то уж по крайней мере будут уметь с ней профессиональнообращаться. Октябрь. Жестокая судьба всем раздала арбузы и дыни, а на мою долю достался огурец. Меня приговорили к высылке на три года „с обязательным привлечением к труду“. Ха! Давно я так не смеялся — эти наивные люди думают, что Жора будет работать вместо трактора. Как бы не так».
На этом записи обрывались. Я захлопываю тетрадь. Вот теперь ясно, что представляет собой пресловутый Жора. Разве не свой собственный портрет, сам того не ведая, набросал он на одной из страниц этой тетрадки? Эдакий получеловек-полуобезьяна в заграничной одежонке с чужого плеча. Пьет до звериного образа и изрыгает непристойности. Труд очеловечил обезьяну. И сейчас единственный способ сделать такого Жору человеком — это научить его трудиться. …Неделю спустя комендант ходит по общежитию — зачитывает приговор по делу Дойнаса. Растолковывает — вот ввиду того, что Дойнис не выполнял своих трудовых обязанностей на поселении, да к тому же еще совершил побег, к нему применены более крутые меры — он будет в продолжение трех лет находиться в лагере строгого режима. Надо сказать, что Жоре никто не посочувствовал. Даже мягкосердечный служитель религиозного культа санкционировал приговор библейским изречением: «Наказуемы мы за грехи свои».
Запись седьмая. «ДИРЕКТОРУ В СОБСТВЕННЫЕ РУКИ»
Комендант как бы между прочим показывает мне подшитый в папку документ. Я равнодушно пробегаю глазами первую строчку. Однако дальше начинаю читать уже с явным интересом. «Все мы, рабочие совхоза „Степное“, ранее выселенные по указу, обязуемся добросовестно выполнять порученную работу. Строгой критике будем подвергать каждого, кто не признает честного труда. Крепить авторитет среди рабочих совхоза своей дисциплиной и сознательным отношением к труду. Не иметь ни единого дисциплинарного проступка или прогула. Взяв на себя вышеуказанные обязательства, вызываем на соревнование всех поселенцев области!» Вот это да! Комендант Ливанский краешком глаза наблюдает за мной, но помалкивает. Однако по всему видно — доволен, очень доволен. А ведь он сам признавался мне, что чуть было не смалодушничал: как увидел поначалу, что тунеядцы по койкам валяются, решил просить о переводе: «Разве с такими справишься?» А теперь я сама убедилась — поселенцы лежат на койках только тогда, когда всем людям положено спать, чтобы поутру встать отдохнувшими и начать новый трудовой день. — Но как удалось всего этого добиться? — Я задаю этот вопрос уже не только коменданту, но и директору Большаку и парторгу Ярову, когда мы поздним вечером сидим в директорском кабинете. У директора на двери не висит табличка с расписанием приемных дней и часов. Сюда заходят запросто. До и после работы. Все знают — Большака застанешь и за полночь. Дверь маленького кабинета всегда распахнута настежь. Здесь с трудом вмещаются стол и несколько стульев, но просто удивительно, сколько сюда народу набивается. Набивается потому, что нужд и забот — хоть отбавляй. А тут еще прислали тунеядцев. — Конечно, народ трудный, — признается Большак. — Вот, к примеру, тот же Жирков. Никак его к рукам не приберем. И ничего удивительного — ведь мы сталкиваемся с многолетней привычкой к безделью, страшной привычкой. Сколько лет этот Жирков первым бездельником слыл! Само собой, что так сразу его не перелицуешь. Тут срок понадобится и усилия немалые. Со временем, будем надеяться, мы из него человека сделаем. Как сделаем? А вот как, — директор принимается пространно объяснять, что прибывших не сажают в стеклянную колбу. Поселенцам дают одинаковую с вольнонаемными работу. Поселяют жить бок о бок с совхозными рабочими. Именно таким образом поселенцы волей-неволей оказываются втянутыми в общий темп совхозной жизни. Стоит кому-нибудь не выйти на работу, уж его так застыдят — только держись. Ну, а к особо упорным бездельникам применяются и другие меры: общественное воздействие — собрание, а иногда и суд. Впрочем, это мера самая крайняя. — Но позвольте, — возражаю я, — ведь и раньше все эти лодыри тоже жили не на пустом месте! — Да, конечно, — соглашается директор. — Но в городе труднее уследить за каждым. А здесь, в селе, весь человек как стеклышко просматривается. Да, кстати, — замечает директор, — надо поговорить с Чубрицкой, что-то там у них опять не ладится. Парторг Яров удивленно вскидывает брови — Чубрицкая одна из лучших доярок, надои у нее отличные, он сам только вчера был на ферме. Но парторг — новичок в совхозе, он еще не знает многого. — Схожу к ней вечерком домой, — говорит комендант. Он с полуслова понял — не о надоях беспокоится директор. С тех пор как вышла их Ольга замуж за этого поселенца Чубрицкого, сама не своя стала женщина. Да оно и понятно — живет как на вулкане. Пока Чубрицкий не пьет — все идет как нельзя лучше. И работник он толковый и хозяин рачительный. Но стоит выпить — и пиши пропало: забуянит, в драку полезет, рубашку последнюю спустит. Я слушаю, как разговаривают между собой Большак и Ливанский. Не это ли «чувство локтя» и помогает им легче справиться с трудностями, как бы велики они порой ни были? Мне вспоминается парижский комендант Каляда. И он, конечно, добивается больших успехов, но ему приходится «воевать» не только с трудновоспитуемыми подопечными, но и «грудью отражать» непрерывные атаки директора. Парижский директор всегда норовил противопоставить поселенцев совхозным рабочим; отрадненский же директор стремится приобщить поселенцев к общим интересам, к общему делу и тем самым уравнять их с совхозниками. Конечно, прав Большак, если человека уверить, что он не может ходить, он начнет ползать. А если уверить, что он может летать, он почувствует себя окрыленным. …В кабинет входят два паренька, оба худощавые, смуглые, черноволосые. — Товарищ директор, — говорит тот, что повыше ростом, — как насчет моего отпуска? — Все в порядке, Дариоглу, можешь с первого числа оформлять. Второй парнишка, тот, что поменьше ростом, нерешительно комкает в руках кепку, порывается что-то сказать, но, видимо, никак не решается. — Нет, Урун, — опережает его директор, — тебе еще в отпуск рановато. Потрудись, как твой дружок, тогда, пожалуйста, езжай себе на здоровье, а сейчас придется повременить… Когда парни уходят, Большак рассказывает мне их историю. Спустя полгода после того, как Дариоглу-младший, увиливавший от работы в колхозе, попал сюда, Дариоглу-старший решил проведать непутевого сына. Он ничего хорошего не ожидал. Дома с лодырем никакого сладу не было. Приятель сына Урун, такой же шалопай, увязался за ним, рассчитывая проведать друга и заодно весело провести время. Приехали — и старик Дариоглу не поверил своим глазам: мороз, ветер, а его лентяй на самом юру вовсю орудует вилами, грузит навоз. Да еще как грузит-то! По-хозяйски, аккуратно. Сперва утрамбует как следует, а уж потом везет. И так до позднего вечера — только часов в десять смогли они толком поговорить. Уселись в общежитии, а старик и советует дружку сына: «Ты, — говорит, — заблаговременно местечко себе присмотри. Вон в углу койка свободная, не иначе — тебя дожидается». — И поверите ли? — директор смеется. — Словно в воду смотрел. Месяца через три Урун и впрямь угодил к нам. Старик Дариоглу теперь ждет не дождется возвращения сына домой: сейчас-то он не нахлебником — добрым помощником будет… — А вот отцу Пшеничного нам тяжеленько ответить, — замечает комендант. Пшеничный? Уж не тот ли это «герой», о котором в момент нашего приезда докладывал комендант, что он «воюет в камере предварительного заключения»? Да, оказывается, тот самый. Директор достает из письменного стола конверт и протягивает его мне. — Читайте. «Совхоз Отрадное. Директору, в собственные руки». Вынимаю убористо исписанный листок бумаги. «Мой сын Иван как тунеядец выслан к вам в совхоз, — читаю я прыгающие строки (наверно, у старика дрожала рука). — Видимо, за три месяца он себя показал, не знаю только, с какой стороны». Директор тяжело вздыхает: с некрасивой стороны показал себя отпрыск Пшеничного. Систематически отлынивал от работы, пьянствовал, хулиганил. И откуда только взялась в нем эта гнильца? Отец — заслуженный человек, еще тринадцатилетним подростком участвовал в гражданской войне, жизнь отдал партийной работе. А сынок… «Мой сын, — читаю я дальше, — получил от советской власти высшее образование. Он обязан искупить честным трудом свою задолженность перед государством. Как больно сознавать все это отцу. Но я уверен — неисправимых нет. Подскажите, — просил в заключение Илья Иванович, — в каком направлении мне действовать, чтобы общими силами вывести его на правильный путь». — Легко сказать: «подскажите», — Большак морщится и трет лоб. — Если бы мы сами знали, как его вывести. Уже давным-давно вычищены и опрокинуты вверх дном котлы в столовой. Уже погнали коней в ночное. Уже в бараке, где живет трудовой народ совхоза, погашен свет, а в тесном директорском кабинетике еще и еще раз анализируют, обдумывают и проверяют все, что связано с Пшеничным. Может, слишком с ним нянчились? Слишком мягко усовещивали? Может, с ним надо покруче, порезче? Может, прикрепить к нему кого-нибудь из «перевоспитанных», скажем, того же Дариоглу? А может… Лампочка на потолке вдруг начинает подозрительно мигать — это совхозная ГЭС подает условный знак, что, мол, время позднее, пора выключать свет. — Ничего, ничего, — директор чиркает спичкой и зажигает стоящую наготове керосиновую лампу, — впотьмах не останемся, а разговор наш еще не кончен… И долго-долго еще сидят в кабинете трое — директор, парторг и комендант — в глубоком раздумье над судьбой человека, вверенной в их руки. Когда мы, наконец, выходим на улицу, стоит уже ночь. Темно — ни зги не видно. Хлещет не по-летнему холодный дождик. Отрадненский тротуар, который в отличие от московского не асфальтирован, успел превратиться в скользкое месиво. Кляня себя за фасонистые туфельки и куцый плащик, которые немедленно намокают, я припускаюсь бежать так, будто собираюсь установить новый рекорд бега по пересеченной местности. А директор шагает себе в своем видавшем виды неуклюжем дождевике и здоровенных кирзовых сапогах. «Дома», завернувшись в одеяло, я еще долго не могу уснуть и все думаю о Большаке. Я знаю, что Лев Давыдович Большак — один из тех тысяч коммунистов, которые по зову партии двадцать лет назад отправились на самые трудные участки. Ему поручено было организовать совхоз буквально на голом место. Ну, казалось бы, организовал, и все в порядке. Можно уезжать назад, в город. Ведь задание выполнено. Но Большак остался. И вот уже третий десяток лет живет нуждами и заботами своего детища. Впрочем, на вопрос, почему он так поступает, этот человек, в возрасте которого многие уходят на пенсию, я, пожалуй, могу ответить. Не одного такого Большака повстречала я во время своих частых поездок по Союзу. Многие посланцы партии, что бы они ни делали — строили ли города, прокладывали ли дороги, разрабатывали ли месторождения полезных ископаемых, считают себя в бессрочной командировке. И эта командировка действительна, пока бьется сердце. Проснувшись ни свет ни заря — на новом месте обычно плохо спится, я тотчас бросаюсь к окошку посмотреть, что за погода. Вот невезенье — дождь продолжает лить как из ведра. Сквозь его серую пелену я вижу человека в брезентовом плаще и кирзовых сапогах, шагающего размеренным шагом по направлению к конторе. Я не могу разглядеть его лица. А в этой спецовке, какие носят все совхозные, ни за что бы не отличить директора от рабочего. Но есть одно обстоятельство, по которому я безошибочно узнала директора, — дело в том, что он выходит на работу задолго до того, как люди идут получать наряд.Запись восьмая. АЛКОГОЛИК СО СТАЖЕМ
По совхозу разнеслась новость — Тенькин пропил рубашку и майку. Вернулся из соседнего села в одних штанах и сильно навеселе. — Так вот ты каков! — не может сдержать горечи комендант. — Мы-то целую неделю надеялись: одумаешься, за ум возьмешься. А ты мало того, что бока отлеживал, еще и в пьянку пустился. Хорош! Тенькин невнятно бормочет: — А я что? Я — ничего. Так, с горя дернул по маленькой. — С горя? — не выдержал, вступил в разговор Дариоглу. — Да какое у тебя горе? Откуда оно взялось? — А насчет «маленькой» это ты брось, парень, — сердито пробубнил бывший «специалист по рюмочке» Севастьянкин. — Я тебе уже сколько раз доказывал, до чего может довести человека эта «маленькая». — Судить тебя будем, Тенькин! — Комендант решительно встает, показывая тем самым, что разговор окончен. Тенькин меняется в лице. — И что же со мной сделают? — упавшим голосом спрашивает он. — Что товарищи решат, то и сделают. А кроме всего прочего, еще и домой сообщим, каков ты есть. — Товарищ комендант, — Тенькин шмыгает носом, — очень прошу вас, не пишите домой. Бабушка у меня совсем хворая, да и мамаша чуть дышит. — Видать, ты ночей не спишь, о них думаючи. И когда последнюю рубашку спускал, тоже о матери думал? Нет, теперь я один ничего предпринимать не буду. Как все решат, так с тобой и поступим… Когда в кабинете директора снова заходит разговор о Тенькине, Большак мрачнеет. — Молоко еще на губах не обсохло, а туда же, в завзятые алкоголики метит! Надо сразу же взять его в оборот. Если пьянство войдет в привычку, пропадет парень. Знали бы вы, — обращается ко мне Лев Давыдович, — сколько горя хлебнули мы с алкоголиками! Одним из первых привезли к нам года два назад Севастьянкина. И так это, полушутя, полусерьезно советуют: «Относитесь к нему чутко, он запои переносит на ногах». Посмотрел я на этого Севастьянкина — пьянчуга горький, так на лице и написано. Поинтересовался, что за личность. И между прочим, узнал заключительный эпизод из вольной жизни поклонника Бахуса. Оказывается, после суда, вынесшего решение о выселении Севастьянкина Е. А. «как лица, ведущего паразитический образ жизни и систематически пьянствующего», тот обратился с настоятельной просьбой об отсрочке исполнения решения «ввиду необходимости похоронить безвременно усопшего друга юности, не имеющего никого родных или близких по духу», кроме него, Севастьянкина. Причину сочли уважительной, и осужденный был отпущен на сорок восемь часов. Севастьянкин не соврал: он действительно отправился на похороны. Однако благоразумно умолчал о том, что «безвременно усопший друг юности» был ему близок именно по винному духу и что смерть забулдыги последовала в результате отравления древесным спиртом. Впрочем, последнее обстоятельство еще более усугубило скорбь собутыльника и укрепило в нем желание проводить дружка в последний путь честь по чести. Севастьянкин разорился на пол-литра очищенной, которую и положил «на дорожку» прямо в гроб, под изголовье. А потом, окончательно разжалобившись, сунул туда же банку «Бычков в томате». Предав земле проспиртованные останки друга юности, вконец расстроенный Севастьянкин выпил «на помин души», как позднее признался, «по рюмочке, по маленькой, чем поят лошадей». Короче говоря, являться в милицию Севастьянкину не пришлось — в полубесчувственном состоянии он был доставлен прямо в вытрезвитель. На следующий день, когда мы с комендантом разговаривали в одной из комнат общежития, там появился Севастьянкин — приземистый мужчина лет сорока. В такой же, как у всех, телогрейке, в таких же заляпанных грязью сапогах. Небритый, угрюмый. И почему-то при его появлении все начали пересмеиваться. — Ну, сейчас начнется потеха! — предупреждает кто-то. Вошедший не спеша исподлобья обводит комнату колючим взглядом и, мрачно уставившись на коменданта, монотонно, без всяких знаков препинания, начинает тираду: — На работе будь здоров вкалываю, а как всякому трудящемуся мне законный отпуск положен, об чем я не раз говорил лейтенанту, а он затвердил одно, как, мол, тебя отпускать, попадешь, чего недоброго, в вытрезвитель, а чего я не видал в этом вытрезвителе, как будто я одесских вытрезвителев не знаю, да я по всему Союзу в каждом городе вытрезвитель указать могу. Последние слова тонут в хохоте — смеется вся комната. — Ну, и чем дело кончилось? — капитан спрашивает, конечно, только для того, чтобы еще раз послушать прирожденного комика — он-то ведь уже наверняка знает, чем окончилась эта эпопея с отпуском. Стоило Севастьянкину снова открыть рот, как вся комната мгновенно притихла — ясно было, что его импровизированные рассказы пользуются здесь успехом. — Все-таки я уломал лейтенанта. Подписал он мне отпускное, — все тем же бесстрастным тоном продолжает рассказчик. — Но печати не хватало — заедешь, говорит, в райцентр, все равно мимо проезжать будешь. Слушатели, тоже, видимо, неоднократно слышавшие эту историю, буквально закатываются от хохота. — Ну, ехать мне надо было еще через два дня, — все с тем же индифферентным видом шепелявит Севастьянкин. — Дай, думаю, подлечусь немного, а то нехорошо в дорогу отправляться, когда под ложечкой сосет. Как бы воспаление легких не подхватить, думаю. И взял перцовочки — она, заметьте, от всех болезней помогает. Пропустил я ту бутылочку исключительно как лекарство. Только это меня по-настоящему прохватывать начало, вдруг — бац! — начальство откуда ни возьмись понаехало. И стукни мне в дурную башку — самый, мол, подходящий момент, чтоб печать пришлепнуть. Ну и пришлепнул… Все смеются — ведь именно поэтому-то злополучного неудачника и не пустили в очередной отпуск. — Вам бы в больнице полечиться, — робко советую я. И не понимаю, почему такой разумный совет вызывает новый взрыв смеха. Оказывается, история лечения Севастьянкина тоже стала здесь своего рода фольклором. Однако Севастьянкин не заставляет себя упрашивать — он с готовностью повторяет ее для меня. — Что же, я не лечился, что ли, — говорит он своим скучным голосом, и все сразу притихают. — Еще в шестидесятом угодил на принудлечение, а толку чуть. Врачи первым долгом как придут: «Ну-ка, больной, дыхните». Я дыхну, они за голову хватаются: «Да от него же за версту несет». И ну сестер распекать. И строжайший наказ дают, чтобы «к этому пьянчужке», ко мне то есть, ни под каким видом алкоголь не допускать, чтобы никаких посетителей, значит, и тому подобное, а ко мне и так никто не ходит. А разит все по-прежнему. Ну, в конце-то концов они дознались, высмотрели, как я ихней же микстурой опохмеляюсь. Если нос зажать да всю склянку разом махнуть, очень даже действует — микстурка-то на чистом спирту изготовлена. После этого заизолировали меня и стали поить проклятущей микстурой по одной ложке. Противно, аж с души воротит… После выписки из больницы «алкоголик со стажем» был направлен на поселение. И хотя рассказывал Севастьянкин о себе по-прежнему комично, смеяться уже не хотелось. Какой тут смех, когда судьбу человека решает «белая головка»! Впрочем, когда на следующий день спозаранку я увидела вчерашнего рассказчика в ремонтной мастерской, трудно было представить себе, что это тот самый Севастьянкин. Как старательно возился он с мотором, как ловко вывинчивал какие-то малюсенькие винтики, как умело орудовал слесарным инструментом! — Механики чертовы, — ворчал он на совхозных трактористов. — Не понимают, что трактор такой же механизм, как и человек: ему, сердечному, тоже смазка требуется. И не без досады я подумала о том, что не злоупотребляй Севастьянкин некоей «смазкой», не пристрастись к бутылке, как много мог бы он достигнуть со своей недюжинной сметкой, с природным чувством юмора, с ловкими руками, способными не только откупоривать бутылки.Запись девятая. «ПРОСТО ВЕРА»
Я упросила директора, чтобы меня послали за книгами, которые надо было отобрать для пополнения отрадненской библиотеки. Очень и мне хотелось хоть чем-нибудь быть полезной для «своего» совхоза. И вот отобрала я в соседнем селе положенное количество литературы и отправилась восвояси. Еду по проселочной дороге в легонькой бричке, не спеша еду, ибо, будучи человеком городским, наслаждаюсь местным ландшафтом. Вокруг тянутся желтые квадраты пшеницы, подсолнухов, зеленые квадраты лугов. И вдруг впереди на дороге замечаю маленькую фигурку с большущим чемоданом. Подъезжаю ближе: девица в модной яркой кофточке на неимоверных каблуках-«шпильках» еле тащит свою поклажу. — Садитесь, — предлагаю я, — подвезу. Ну, девица себя просить не заставила, тотчас вскарабкалась рядом. Ехали сперва молчком. Она молчит. И я молчу. Хотя мне, сказать по правде, и хотелось бы знать, что за гостья катит в наши края. — Скажите, пожалуйста, — не выдерживает, наконец, моя новая спутница, — далеко до Отрадного? — Скажу, пожалуйста, — отвечаю я, — не меньше двух, но зато и не больше трех километров. Пока мы ехали эти два, а может, и все три километра, моя спутница весьма туманно намекнула, что из города в совхоз ее привело «очень и очень важное дело, от которого зависит жизнь одного человека, а может быть, даже и двух людей», и что поэтому ей «необходимо как можно скорее переговорить с самим товарищем директором». Я, не без задней мысли узнать нечто интересное, сама повела приезжую к товарищу директору. Так, держась вдвоем за ручку чемодана, мы и появились перед Большаком. «Сам товарищ директор» просматривал пухлую кипу бумаг. Но он тотчас поднял к нам свое озабоченное лицо и выжидающе посмотрел на обладательницу модной кофточки и модных туфелек. — Мне сказали, что в деревне нужны дефицитные специалисты, — бойко отчеканила приезжая. — Что правда, то правда, — согласился Большак, — хотя мы, между прочим, не деревня, а село. Но специалисты нам действительно нужны. — Ну, село или деревня — все равно не город, — девушка нетерпеливо переступила с ноги на ногу — видно, остроносые туфельки ей изрядно нажали ноги. — Так или иначе, а я хочу работать у вас. — Что ж, мысль хорошая, — Большак тянется за папиросой и с наслаждением затягивается. — Ну, а что у вас за специальность? — Самая что ни на есть дефицитная. — Неужели зоотехник? — обрадовался директор. — Так зоотехники нам действительно позарез нужны! Прибывшая отрицательно качает головой — нет, она не зоотехник вовсе. — Тогда, может, агроном? — с надеждой в голосе осведомляется директор. Девица пожимает плечами — нет, на место агронома она не метит. — А, понял! — иронически тянет директор. — Вы поставили перед собой задачу охватить отсталую сельскую молодежь этим, как его? Рок-н-роллом. Так вот придется вас огорчить — у нас в степи один тустеп танцуют. — И при чем здесь рок-н-ролл? — обижается девушка. — Да я его, если хотите знать, и сама-то танцевать не умею. — Ну ладно, — миролюбиво замечает Лев Давыдович и, сделав последнюю затяжку, бережно тушит окурок о край пепельницы. — Знаете что, милая девушка, может, мы не будем больше тут с вами ребусы-шарады разгадывать. И вы мне просто скажите, что у вас за специальность такая? — Паразитолог я, вот какая моя специальность, — с гордостью говорит девушка. — Как? Как вы сказали? — переспрашивает директор. — Па-ра-зи-то-лог? — Ну да, — с достоинством подтверждает девушка. — Специалист по уничтожению бытовых паразитов. Голову кладу наотрез, что паразитологов у вас как раз нехватка. — Так ведь у нас и паразитов мало осталось, — шутит директор, — пожалуй, один Жирков. — Чтоб вам было понятнее, — снисходительно поясняет девушка, — под бытовыми паразитами имеются в виду клопы, тараканы, блохи, мыши и… — Ах, вон оно что! — смеется директор. — Но с чего вы взяли, что именно на наше Отрадное ринулись тараканьи полчища, что клопы заедают наш век, а мыши взялись уничтожать наши семенные фонды? — И директор со смешинкой смотрит на «молодой дефицитный кадр». «Молодой дефицитный кадр» явно надулся. — Ну, я пошутил. Не сердитесь, пожалуйста. И скажите-ка лучше, что за причина привела вас именно в совхоз «Степное»? Чтобы не было между нами никаких туманов-растуманов. Воцаряется неловкое молчание. — Тенькин Николай у вас работает? — запыхавшись, как будто она вскарабкалась на крутую гору, робко спрашивает девушка. — Тенькин Николай у нас действительно есть. Правда, к сожалению, он отличается пока не на работе… — Ну, так вот, — по лицу девушки бегут красные пятна, куда девалась вся ее самоуверенность! — я его невеста. — Так бы сразу и говорили, — мягко укоряет Большак. — А то заладила: паразитолог да паразитолог. Невеста, вот это действительно дефицитная специальность, тем более верная невеста. Ну так вот, невеста, на работу мы вас обязательно устроим. Только не борцом с паразитами. У нас такой должности по смете не предусмотрено. Вот на молочную ферму, пожалуйста. — Да ведь я коров боюсь, товарищ директор, — еще больше смущается девушка. — Они же бодаются. — Не без того, — улыбается директор и на минуту задумывается. — Значит, коровы отпадают. Ну что, ж, тогда в полеводческую бригаду вас определим. — Не будет с меня толку в поле, — упавшим голосом говорит девушка. — Я, знаете, в прошлом году так опростоволосилась! Поехала к тете в Узбекистан погостить. Вышла в поле и давай удивляться: «Ах, какая у вас высокая картошка вымахала! Ах, как она у вас красиво растет, не то что у нас в России». А люди меня на смех подняли: «Какая же это картошка, ханум, когда это вовсе хлопок!» Большак смеется — вот она, городская-то молодежь, хлопка от картошки отличить не может! — Ну вот что, разборчивая невеста, — делает решительный жест директор, — отправляйтесь-ка вы на птицеферму. У птицы нет ни рогов, ни копыт, а петуха от курицы, надеюсь, отличить нетрудно. — На птицеферму я с удовольствием, — девушка с готовностью хватается за ручку чемодана. В чемодане что-то предательски звякает. — Случайно не горючее для сердечного дружка? — настораживается директор. — Что вы! — пугается девушка. — Мы ведь с Николаем, если хотите знать, только из-за проклятой водки и ссорились. А это я дезинсекталь прихватила, паразитов опрыскивать. Очень даже сильнодействующее средство. Может, побрызгать для профилактики? — Что ж, разве что для профилактики, — благодушно соглашается директор. — Впрочем, если вам очень повезет, так и в натуральную величину паразита увидите. Сейчас я дам вам записку в общежитие, — директор подвигает чистый лист бумаги и берет ручку. — Так как же вас зовут, невеста? — Вера, — карие глаза доверчиво смотрят на директора. — Просто Вера? — понимающе переспрашивает Большак. — Просто Вера, — подтверждают карие глаза. — Чудесное имя. Многозначительное, — и Большак выводит своим крупным почерком: «Прошу подательнице сего Вере обеспечить место в общежитии для девушек». И протягивает записочку девушке. — Устраивайтесь, Вера, осматривайтесь. Повидайтесь со своим Тенькиным и пристыдите его хорошенько. А завтра приступайте к работе — чего хорошее дело откладывать? Ну и, само собой разумеется, добро пожаловать в наш совхоз. Большак встает и обеими руками пожимает худенькую Верину руку. «Просто Вера», как пушинку, подхватывает свой большущий чемодан-сундук. — Вы не думайте, я ведь совсем приехала и шубу прихватила, — говорит она и устремляется к выходу. Сквозь раскрытую дверь видно, как она с разбегу спускается на своих тоненьких каблучках-«гвоздиках» с крыльца, нимало не заботясь о том, что бутылки с клопиной жидкостью угрожающе чокаются. Я понимаю, почему Большак не стал выспрашивать у вновь прибывшей анкетные данные. Это всегда успеется. Большак же увидел значительно больше, чем могут сказать самые многочисленные пункты самой подробной анкеты. Вот она стояла перед ним, тоненькая городская девушка, лет двадцати от роду. Кончики пальцев у нее изъедены кислотами — не неженка, значит. И ведь бросила все — город, родных — и прикатила сюда. Значит, эта невеста умеет любить по-настоящему — безоглядно, крепко. Вот, выходит, что за человечек в яркой кофточке и модельных туфельках, по имени «просто Вера», заявился в совхоз «Степное».Запись десятая. СУББОТА — ДЕНЬ БАННЫЙ
Субботу в Отрадном называют банным днем не только потому, что в жарко натопленной баньке можно отмыть въевшуюся за неделю грязь, попариться, похлестаться горячим веничком. Банный день имеет еще и символическое значение: в субботу в клубе происходят итоговые недельные собрания, на которых комендант Ливанский имеет обыкновение устраивать головомойку провинившимся. Листаю протоколы общих собраний. Скупые, лаконичные строчки: слушали, постановили. А за ними сложная, нелегкая, чреватая неожиданными перипетиями жизнь разношерстного коллектива. …На одном из таких собраний обсуждалось случившееся ЧП. Молдавчук, которого за его «рвение» к работе прозвали «Лодырничук», в компании с Севастьянкиным, вместо того чтобы отвезти зерно в соседнее село на мельницу, сложились и купили «на двоих» бутылку денатурата. Произошло тяжелейшее отравление. Молдавчук и по сю пору находится в больнице. А заводила и виновник Севастьянкин, изжелта-бледный, с запавшими глазами, предстал тогда перед возмущенным собранием. Один за другим говорили те, кто жил рядом с Севастьянкиным, кто работал с ним на поле и ел в одной столовой. — Братцы, — не выдержал вконец пристыженный обвиняемый, — да я вам зарок даю: никогда в жисть свою спиртного в рот не возьму. Хотя собрание и «приняло к сведению» раскаяние Севастьянкина, этим дело не ограничилось. Всего в нескольких строчках сформулировано решение. Но как оно весомо, это решение коллектива: «Севастьянкину зарплату на руки не выдавать. Оплачивать столовую, переводить десять рублей на магазин. Остальные деньги отправлять жене, поскольку у него дома двое ребятишек…» И действительно, Севастьянкину больше зарплату на руки не выдавали. И по сей день не выдают. И по сей день где-то в далеком маленьком городке мать двух ребятишек, всю жизнь перебивавшаяся на гроши, выуженные у забулдыги мужа, с радостью откликается на стук почтальона. — Гражданка Севастьянкина, получите, вам опять перевод из совхоза. От мужа. Видать, наконец, за ум взялся… И сегодня тоже общее собрание. Все двадцать девять поселенцев в сборе. И комендант и парторг тоже присутствуют. Нет только Большака — ночью у директора был сильный сердечный приступ. Сперва честь по чести избирается председатель и секретарь, после чего Анатолий Мартынов принимается вести собрание, а Криворученко выводит на листе бумаги: «Протокол». Первое слово берет комендант. Обстоятельно подводит итоги рабочей недели. С нормой все обстоит благополучно, но вот новенький, Тенькин, натворил бед… Поведение Тенькина — в центре внимания. Я вглядываюсь в лица собравшихся. На лице Хоменко — упрек, нечто вроде: «Эх, отрок, отрок, попутал же тебя лукавый!» Севастьянкин сидит, не поднимая глаз, — похоже, вспоминает свое собственное, наболевшее и клянет себя за загубленные вот также молодые годы. Чубрицкий беспокойно ерзает на стуле — как бы разговор с Тенькиным не свернул на него. Хотя эту неделю он чист как стеклышко, но ведь было — срывался. Потом сам себе противен, и перед людьми стыдно, да и Ольгу жалко — ни за что баба страдает. Вера сидит в уголке как в воду опущенная. И только один Жирков ухмыляется, показывая всем своим видом: «Подумаешь, выпил парень, так его уж и судить за это? Небось на свои пьет». Сам виновник сидит с таким растерянным видом, словно не может понять, как такое могло случиться. Неужели это он лодырничает и пьянствует да еще пропил рубашку и майку? Краска стыда заливает его лицо. Он потихоньку бросает растерянные взгляды в угол, где сидит Вера. Но ведь и в Одессе на суде он тоже сидел сконфуженный, не смея встретиться глазами с матерью и бабушкой. Теперь ему также стыдно смотреть на окружающих. Нет, поселенцы не верят Тенькину — они так резко хлещут его словами правды, что он готов сквозь землю провалиться. Для них Тенькин — их недавнее прошлое, и поэтому они, как никто, понимают Николая, как никто, осуждают и, как для себя, хотят раз и навсегда исключить для него возможность возврата к такому черному дню. Нет, не только для формы принимали поселенцы свои соцобязательства. Вот здесь сейчас передо мной претворяется в жизнь один из основных пунктов: «Строгой критике будем подвергать каждого, кто не признает честного труда». — Ты, парень, не крути, ты прямо перед всем народом отвечай, — «ножом к горлу» пристает к нему Груша, — собираешься ты работать и жить как положено или намерен и дальше баклуши бить? Ты новенький, и, возможно, кое-что до тебя еще не дошло. Так вот заруби себе на носу — у нас много чего растет, а лень не растет. Климат не тот, понял? Тенькин еще ниже опускает голову. — Да не вертись ты, — строго выговаривает ему Куровский, с досадой принимаясь действовать резинкой. — Не видишь, что ли, с тебя карикатуру рисуют? Будь уверен — завтра в стенгазете увидишь себя на самом видном месте. Рядом с Жирковым твою физиономию пропечатаем. — Дался тебе Жирков, — недовольно бурчит носитель этой фамилии, — все Жирков да Жирков. — А я уж на твоей личности, друг любезный, руку набил, — невозмутимо отвечает художник. — Ты сам посуди, кого еще протаскивать, кроме тебя? Напоследок поднимается со своего места Дариоглу и просит собрание удовлетворить его просьбу. Пусть ему разрешат взять под свою опеку Тенькина. Ведь он сам на себе испытал, что значит товарищеская опека. Когда поначалу он вздумал лодырничать, запил и его уже совсем было собрались переправить в лагерь, товарищи по комнате взяли над ним шефство и прямо-таки не спускали с него глаз. Утром, хочешь не хочешь, подымали на работу. Не давали никуда отлучаться. В конце концов спасибо им — помогли. А теперь он, в свою очередь, будет контролировать Тенькина. Как за родным братом, станет присматривать за этим непутевым. Собрание единогласно одобряет предложение Дариоглу. — А деньги, как и Севастьянкину, пусть ему на руки не выдают, — предлагает Дариоглу. — Пусть, сколько положено, за харчи вычтут, а остальное отсылают мамаше. Все голосуют «за». «Постановили, — записывает секретарь, — деньги Тенькину на руки не выдавать. Отсылать матери по адресу: Одесса, Дегтярная, 10». Представляю себе, как обрадуется старая мать этим трудовым деньгам, полученным от сына.Запись одиннадцатая. ТУНЕЯДЦЫ С КРЕСТОМ
Раннее утро. Но разве в страду утро бывает ранним? Все давным-давно на ногах. Даже Тенькин. Он расстался, наконец, со своим черным свитером, облачился в клетчатую рубашку, и я вижу, как вместе со всеми собирается на поле этот долговязый, неуклюжий парень. Со двора доносится шум перебранки. Выделяется густой бас. Выхожу на крыльцо. Обладатель баса отнюдь не похож на Геркулеса, как можно было предположить по его мощному голосу, — это щуплый бородатый человечек. Однако надо видеть, с какой силой упирается он костылем в землю, словно хочет врасти в глинистую рыжую почву. — Не поеду в Одессу — и баста! — багровеет он. — И на черта она мне сдалась, ваша Одесса-мама! Хороша мама! Самая настоящая мачеха. А где у меня гарантия, что я возвернусь обратно? Думаете, Хоменко дурной, не понимает, к чему дело клонится? Опять на паперти стоять, руку протягивать: «Подайте, Христа ради». Нет, баста! Никуда отсюда я не поеду… — И что ж это такое? — увидев капитана, Хоменко решил апеллировать к начальству. — Только стал собственные деньги зарабатывать, только себе сберкнижку завел — бац! Опять хватают и опять везут. И главное куда? В ту самую Одессу, из которой вывезли! — Но вам ведь необходимо в больницу, — уговаривает его капитан Бойченко. — Подлечите ногу, и мы вас опять заберем. — Честное слово? — Хоменко все еще полон недоверия. — Смотрите, если не заберете, я теперь сюда и сам дорогу найду. — Вот видите, — обращается ко мне капитан, — убедительный пример того, как поставил крест на своей прошлой жизни один из тунеядцев с крестом. — Один из тунеядцев с крестом? — так и загораюсь я. — С каких же это пор религиозные тунеядцы находятся в компетенции милиции? Нет, разумеется, Управление охраны общественного порядка меньше всего склонно бороться за «чистоту церковных кадров». Милицию, конечно, нисколько не заботит, исправно ли снимает табель к заутрене некий работник религиозной нивы, тщательно ли готовится он к проповеди или несет отсебятину. …Хоменко много лет подряд служил пономарем в церкви. Был охоч до выпивки. «Вино — божья кровь, не грех и приобщиться», — любил говаривать он при случае, а когда пономарского жалованья перестало хватать на выпивку, стал запускать руку в церковный карман. Его уличили в присвоении денег, которые верующие адресовали богу. И, к великому изумлению, «всем можно, а мне одному, почему-то нельзя», выгнали. Так Хоменко очутился на паперти. Стал побираться. — Он и в святцы-то не заглядывает, ему душа праздники подсказывает, — возмущались односельчане, видя, как еще не старый, совсем здоровый мужчина выклянчивает подаяние. Милиция неоднократно предлагала Хоменко выйти на работу. — У бога дней впереди много, еще наработаюсь, — каждый раз отнекивался тот. В конце концов терпение милиции лопнуло: в суде было возбуждено дело о выселении «помазанника божьего», как обыкновенного тунеядца. Когда за Хоменко пришли, он не спеша поднялся с лавки, степенно огладил густую бороду и, глядя ясными глазами в лицо оперуполномоченного, заявил: — Имейте в виду, со мной произошло то же самое, что с апостолом Павлом: «Уже я не живу, но живет во мне Христос». — Что касается Иисуса Христа, — снисходительно усмехнулся оперуполномоченный, — то он у нас не прописан. А вот вы, гражданин Хоменко, числитесь в списках жителей села и поэтому будьте любезны… — Вот и сбылось пророчество Иоанна: «Возненавидеша мя туне», то есть понапрасну, — бывший пономарь вздохнул и стал собирать вещи. — А за что ж вас любить, если вы «туне»? Потому-то и хотят вас научить трудиться, — вежливо заверил его милиционер. — «Втуне и о суетном печется», как сказано в Ветхом завете, — грустно процитировал пономарь в отставке. — В ветхом? А вам давно по новому завету жить пора. — Так ведь и в Новом сказано, — оживился уволенный служитель культа. Уполномоченный только рукой махнул — ясно было, что они говорят о разных вещах и на разных языках. Уже уходя, Хоменко вдруг спохватился. — Надеюсь, мне дозволено будет взять с собой святое семейство? — Пожалуйста, папаша, о чем речь, — заулыбался уполномоченный. — Многие и жен и детей с собой забирают. А потом так всей семьей на новом месте и жить остаются. Пономарь укоризненно возвел очи к небу и бросился снимать со стены икону, изображавшую божью матерь с младенцем. Когда церковного попрошайку доставили в совхоз, был он одет в заплатанное рубище, невероятно грязен и вшив. — Господи, спаси и помилуй, — мелко крестился он, пугливо озираясь по сторонам, — не дай заблудиться, ведь сам знаешь, господи, дальше своего прихода я нигде не бывал. А тут… — и он тоскливым взглядом окидывал бескрайнюю степь. «Новосела» прежде всего хорошенько пропарили с веничком в бане, обрядили в чистую спецовку, сытно накормили, а уж потом дали наряд на свиноферму: начинай, мол, гражданин, свой трудовой стаж. А у Хоменко даже лицо исказилось. — Братцы, ослобоните меня от свинарника, — взмолился он, — ведь это же у самого черта на куличках. Лучше уж на какую ни есть работу возле дома определите. Вот те крест, не подведу, — и он истово закрестился. Хоменко пошли навстречу — послали сторожить оборудование, метров за пятьдесят от общежития. Он поблагодарил и отправился отдавать первую в своей жизни дань общественно полезному труду. К вечеру все заволокло густым туманом. И вдруг из серой мглы донесся истошный крик нового сторожа: «Люди, спасайте, Христа ради, погибаю!» Кто был поблизости, бросился на помощь. Прибежали. Видят, Хоменко стоит себе, цел и невредим. — Небось уж время ужинать подошло, — невозмутимо пробасил Хоменко, — утроба, понимаешь, она свое требует. А в этом проклятущем тумане разве найдешь, где столовая?.. После этого случая Хоменко наотрез отказался ходить на работу. Этому немало способствовало и то обстоятельство, что вскоре в Отрадное прибыл еще один его «коллега по культу». Однако вопреки ожиданиям между «братьями во Христе» не только не возникло взаимопонимание, но, наоборот, то и дело возникали ссоры. Они не упускали случая побольнее уязвить друг друга. Как выяснилось, «братья» были разного вероисповедания: Хоменко «страдал» во славу православной церкви, Криворученков же был сектантом-субботником. У них возникало множество разногласий. И только одно обстоятельство роднило «деятелей религиозного культа» — желанный для обоих культ праздности… Вначале все происходило приблизительно так. Стоило заговорить о работе, как разгорались горячие дебаты. — Да ведь сегодня суббота. А господь повелел: «Чти день субботний». «Субботы мои сохраните», — стоял на своем один. — Господь сотворил мир за шесть ден, а отдыхать повелел на седьмой, — возражал другой. До поры до времени комендант терпеливо слушал всю эту галиматью. Но в один прекрасный день комендант пришел не один, а с Екатериной Семеновной Черновой, или попросту Катей, ибо совхозный специалист по садоводству был еще слишком молод, чтобы его называть по имени-отчеству. — Так вот, хочу вам по-дружески посоветовать, граждане, — спокойно, но очень твердо начал Ливанский, — забудьте-ка вы свои распри и идите-ка работать. Самое что ни на есть райское место вам подобрал — сад. Знаете, тот самый, что по краю оврага? А вот и бригадир. Уж куда лучше, — и он кивнул в Катину сторону. Начетчики святого писания оторопели: — Неужели мужчина, высшее творение господа, может подчиниться женщине? — Не только может, — разъяснил им комендант, — должен. Иначе… — И он популярно изложил им, что, если завтра «высшие творения» не соизволят выйти на наряд, они, как и все трудновоспитуемые, будут препровождены в трудколонию. Не до второго же пришествия ждать, на самом-то деле… «Братья» заметно приуныли. И грустно переглянулись, в первый раз за все время почувствовав единство мыслей. На следующее утро чуть свет неугомонная Катя уже стучала в окно. Те, к кому этот стук имел непосредственное отношение, завздыхали, заохали, закрестились, но делать нечего: поднялись-таки с належанных мест — не позориться же, в самом деле, перед «низшим творениемгоспода». Дорогой завязалась беседа. — А я, между прочим, тоже верующая. — Катя исподволь кинула лукавый взгляд на своих спутников: какое впечатление это на них произведет! Те сразу оживились — вот приятная неожиданность! Да ведь если так, то они обретут общий язык с отроковицей! Договорятся, как обойти коменданта. — Нашей веры, конечно? — деловито поинтересовался один. — Наша вера одна подлинная, — вскипел другой. — У меня своя вера, — пояснила Катя. — Какая? — так и вскинулись оба разом. Уж не завлекли ее, случаем, те, что кличут себя истинно православными христианами? Может, и она, не приведи господь, двумя перстами крестится? — Я всеми десятью перстами зараз действую, — рассмеялась Катя. — Вера у меня такая — в руки свои верю. И вам советую. Хорошая вера, настоящая. Катины спутники надулись и весь остальной отрезок пути шли молча. В саду Катя проворно раздала инструменты, показала, как ими пользоваться, распределила обязанности. — Вот этот ряд вам, папаша, — за бороду она называла так Хоменко. — А это вам, — показала она на другой ряд Криворученкову. — А тот крайний мой будет. Деревьев в рядах поровну. Так что посмотрим, кто кого обгонит. Но и о качестве, конечно, не забывайте. И неуемная в работе Катерина задала такой темп — только держись. Ее напарники еле успевали за ней. Трудно сказать, что именно сыграло решающую роль: нежелание ударить в грязь перед представительницей «слабого пола рода человеческого»? То ли извечное соперничество между представителями различных религиозных толков? Так или иначе, но работа в саду закипела. Теперь по вечерам им было уже не до религиозных дебатов. Обсуждали, разжечь ли костры: как бы не померзли деревья. Спорили, когда лучше производить опрыскивание, и под дождем бегали на другой край села к Кате за советом. А сейчас мы идем по разросшемуся совхозному саду. Ветки тянутся к небу, откуда, как из худого решета, сеет дождик. И в этом открытом всем ветрам месте я вижу прилежно работающего Криворученкова. В прежние времена консистория, наказывая провинившихся попов, для «тонкости нравственных пыток» приговаривала их к бессмысленной, бесполезной работе — толочь воду в ступе. Совсем иные принципы заложены в современных методах перевоспитания. Не пытка бессмысленной работой, а труд, дающий ощутимые материальные результаты. Труд, возвращающий человеку уважение окружающих, рождающий в нем чувство собственного достоинства, сознание того, что он приносит пользу обществу и общество нуждается в нем, — вот что день за днем, по капле проникает, укореняется в сознании поселенцев. А капля, как известно, и камень точит. Бывший сектант старательно подрезал сухие сучья, прививал черенки, смолил стволы и опрыскивал от вредителей фруктовые деревья. Я смотрела на него и думала: если таких людей еще и не перевоспитали окончательно, то научили очень важному — находить удовольствие в работе. — У нас тут, почитай, круглый год настоящая благодать божья, — с оттенком хозяйской гордости говорит Криворученков. — Отцветет черешня — пойдут персики, отойдут персики — пойдут яблоки. Райские кущи, да и только, — и он посмотрел на ветки с поспевающими грушами — плодами упорного каждодневного труда, затраченного им и его товарищами. — Фруктов у нас: ешь — не хочу. И людям от этого сада большая радость. И ведь это говорил тот самый Криворученков, который еще совсем недавно предпочитал «труд на ниве божьей» труду на совхозном поле! Впрочем, тот ли самый Криворученков?Запись двенадцатая. ПОЖАР
Просыпаюсь от топота ног в коридоре и гомона многих голосов. Спросонья в темноте, натыкаясь на табуретки, бросаюсь к выключателю. Выключатель щелкает впустую — света нет. Чиркаю спичкой — на моей ручной «Заре» еще далеко до зари — всего три часа ночи. Видимо, что-то стряслось. Кое-как одевшись, выскакиваю в коридор. Ни души. Выбегаю на крыльцо. Вблизи нет ни одного человека, но спрашивать, собственно, уже нет необходимости: где-то неподалеку, километра за два, видно яркое зарево. Как будто из гигантской керосиновой лампы взметнулись вверх, в черное небо, языки пламени, высвечивая его, как стеклянный купол. — Свиноферма горит! — кричит мне на ходу какой-то мужчина с ведром, и я опрометью бросаюсь туда, куда уже со всех сторон бегут и бегут люди… Когда мы прибегаем к месту происшествия, пламя уже полыхает вовсю. Задняя часть свинарника, выстроенного в виде длинного сапога, уже вся объята огнем. Горячий и буйный, он как будто только и ждал своего часа, чтобы вырваться на простор и вволю побеситься и понеистовствовать. Однако большая часть свинарника уцелела от горячего напора, хотя крыша уже занялась… Люди с перемазанными копотью лицами оттаскивали занявшиеся доски, лили воду из шланга на начинающую тлеть крышу. Возле колодца стоял Севастьянкин, Он проворно вытягивал ведро и выплескивал воду в другое, порожнее. А потом опять принимался тянуть за веревку. Между тем наполненное ведро уже подхватывал Куровский и, в свою очередь, из рук в руки передавал его своему бывшему прорабу. А к ведру уже тянулся Дариоглу и, схватив его за мокрую скользкую ручку, без промедления совал вконец растерянному Тенькину. А последним по цепи был парторг. Он бросился с ведром к самому пламени… Из свинарника доносились испуганное хрюканье и пронзительный визг. Вдруг в дверях свинарника показался человек. В тлеющей одежде, с лицом, на котором видны были только белки глаз, он бросил на чьи-то с готовностью протянутые руки двух по-детски визжащих поросят, жадно глотнул воздух пересохшим ртом и снова скрылся в дверном проеме. — Да что же это ты над собой делаешь, Леня! Хоть бы о детях-то подумал, шальная голова твоя! — истошно запричитала вслед женщина. Растрепанная, простоволосая, обезумевшая от страха, она все продолжала кричать в черный пустой проем. А «Леня» — Леонид Груша уже снова тащил из огня совхозное добро. На этот раз это был здоровенный кабанчик. Животное визжало, всячески пытаясь вырваться из рук своего спасителя. — Да беги ты, глупый, — шлепнул кабанчика Груша, стараясь отогнать его подальше. — Не смейте больше рисковать, Груша! — сквозь толпу протискивался к Груше Большак. — Слышите? Я вам запрещаю? Слышите? Слышит ли Груша? Конечно, он слышит. Слышит и то, что кричит ему жена. И то, что приказывает директор. Но, как знать, может быть, именно в эту минуту Груша впервые услышал голос своей совести? Голос, который потребовал, чтобы именно он не отдал на погибель народное добро. Груша, схватив ведро, опрокидывает его на себя и в мокрой дымящейся куртке опрометью бросается в огонь. Двадцать три штуки свинячьего поголовья удалось спасти Леониду Груше, тому самому Леониду Груше, которого когда-то выслали из колхоза «Заря» за лодырничанье. Я не ездила в колхоз «Заря». Не знаю, каким образом там «упустили» своего односельчанина. И хотя с Грушей дело, безусловно, пошло на лад, я вовсе не собираюсь делать обобщение, что имеет смысл высылать в целях перевоспитания из одного совхоза в другой. Может быть, и такая мера — это расписка в собственной беспомощности, в желании переложить тяжесть собственных дел на чужие плечи? Секрет же того, что произошло с Грушей, прост — нашлись наконец-то люди, которых по-настоящему обеспокоила его судьба, которые помогли ему стать человеком. И теперь этот самый Леонид Груша уже два с лишним года выращивает поросят, заботится о сохранности опороса, о привесе свиноматок.
Как ни старались люди, отстоять свиноферму не удалось — она сгорела дотла. Погибло много животных. И теперь, когда уже тлели головешки, гнев обрушился на голову виновника. Им был Жирков. С бледной, как-то сразу осунувшейся физиономией, он выл по-бабьи, в голос. Хмель разом слетел с него.
— Вот до чего докатился, дармоед проклятый, — презрительно, как плевок, бросил ему в лицо Дариоглу.
— Нашли кому доверять! — гудел народ. — Это же первый трутень! Судить его надо! По всей строгости судить!
Теперь уже все знали, что послужило причиной пожара. Пришел Жирков на работу «в ночную». Затопил печку, а сам, вместо того чтобы чистить свинарник и варить поросятам еду, завалился спать, так как по своему обыкновению был сильно выпивши. Тем временем из печки выпала головешка. От головешки мигом занялась подстилка из соломы. Но даже когда Жирков спохватился, что начался пожар, даже тогда он мог спасти, если не свиноферму, то по крайней мере все поголовье. Ведь печка находилась в задней части помещения, а дверь — в передней. Однако вместо того чтобы позаботиться о совхозном имуществе, Жирков, к тому же еще с пьяных глаз плохо соображавший, только выскочил наружу и продолжал стоять столбом возле все разгорающегося пожара.
И теперь этот самый Леонид Груша уже два с лишним года выращивает поросят, заботится о сохранности опороса, о привесе свиноматок.
Как ни старались люди, отстоять свиноферму не удалось — она сгорела дотла. Погибло много животных. И теперь, когда уже тлели головешки, гнев обрушился на голову виновника. Им был Жирков. С бледной, как-то сразу осунувшейся физиономией, он выл по-бабьи, в голос. Хмель разом слетел с него.
— Вот до чего докатился, дармоед проклятый, — презрительно, как плевок, бросил ему в лицо Дариоглу.
— Нашли кому доверять! — гудел народ. — Это же первый трутень! Судить его надо! По всей строгости судить!
Теперь уже все знали, что послужило причиной пожара. Пришел Жирков на работу «в ночную». Затопил печку, а сам, вместо того чтобы чистить свинарник и варить поросятам еду, завалился спать, так как по своему обыкновению был сильно выпивши. Тем временем из печки выпала головешка. От головешки мигом занялась подстилка из соломы. Но даже когда Жирков спохватился, что начался пожар, даже тогда он мог спасти, если не свиноферму, то по крайней мере все поголовье. Ведь печка находилась в задней части помещения, а дверь — в передней. Однако вместо того чтобы позаботиться о совхозном имуществе, Жирков, к тому же еще с пьяных глаз плохо соображавший, только выскочил наружу и продолжал стоять столбом возле все разгорающегося пожара.
 Теперь-то он ревел — понимал, что так не обойдется. Придется отвечать по всей строгости.
Народ стал расходиться. Доктор Володя, такой же перемазанный копотью, как и все, уже оказавший первую помощь обожженному Груше, настаивал, чтобы тот непременно отправился с ним в больницу.
— Да пустяки, — отнекивался Груша, — на мне все и так хорошо заживет.
Но доктор в конце концов все-таки настоял на своем. Жена Груши тихонько всхлипывала, размазывая по лицу смешанные с копотью слезы, но по всему видно было, что эта измученная женщина, хлебнувшая немало горя с лодырем мужем, теперь гордилась им и радовалась за него.
Большак, парторг и комендант уходили с пожарища последними. Они шли медленно.
— Спешить некуда, не на пожар, — невесело пошутил Большак.
— И как мы будем ферму строить? — огорченно произнес парторг. — Лесов-то кругом нет.
— Из самана, — как уже о деле решенном, заметил Большак. — Ферма — еще полбеды. Вот с поголовьем туго придется. Разве что у соседей взаймы попросить…
Некоторое время все шли молча.
— Да, кстати, а у этого вашего Груши, — спрашивает директор Ливанского, — у него ведь как будто жена и двое ребятишек?
— Да, Лев Давыдович, — подтверждает комендант. — Двое пацанов. Он недавно сюда семью выписал. Наказал жене дом продать. У него ведь скоро срок кончается. Так он думает здесь навовсе обосноваться. Вот только не решался с вами разговор о постоянной прописке завести. Боялся, как бы не отказали.
— Я думаю, неплохо будет, если такие, как этот Груша, поселятся в Отрадном постоянно. Ты как думаешь, Яков?
— Согласен, — говорит парторг.
— Так скажи своему Груше — пусть приходит.
Оформим ему постоянную прописку, — решает директор.
Комендант Ливанский довольно улыбается — он знает, постоянная прописка в их Отрадном не простая проформа. Право работать и жить в совхозе «Степное» надо заслужить.
Теперь-то он ревел — понимал, что так не обойдется. Придется отвечать по всей строгости.
Народ стал расходиться. Доктор Володя, такой же перемазанный копотью, как и все, уже оказавший первую помощь обожженному Груше, настаивал, чтобы тот непременно отправился с ним в больницу.
— Да пустяки, — отнекивался Груша, — на мне все и так хорошо заживет.
Но доктор в конце концов все-таки настоял на своем. Жена Груши тихонько всхлипывала, размазывая по лицу смешанные с копотью слезы, но по всему видно было, что эта измученная женщина, хлебнувшая немало горя с лодырем мужем, теперь гордилась им и радовалась за него.
Большак, парторг и комендант уходили с пожарища последними. Они шли медленно.
— Спешить некуда, не на пожар, — невесело пошутил Большак.
— И как мы будем ферму строить? — огорченно произнес парторг. — Лесов-то кругом нет.
— Из самана, — как уже о деле решенном, заметил Большак. — Ферма — еще полбеды. Вот с поголовьем туго придется. Разве что у соседей взаймы попросить…
Некоторое время все шли молча.
— Да, кстати, а у этого вашего Груши, — спрашивает директор Ливанского, — у него ведь как будто жена и двое ребятишек?
— Да, Лев Давыдович, — подтверждает комендант. — Двое пацанов. Он недавно сюда семью выписал. Наказал жене дом продать. У него ведь скоро срок кончается. Так он думает здесь навовсе обосноваться. Вот только не решался с вами разговор о постоянной прописке завести. Боялся, как бы не отказали.
— Я думаю, неплохо будет, если такие, как этот Груша, поселятся в Отрадном постоянно. Ты как думаешь, Яков?
— Согласен, — говорит парторг.
— Так скажи своему Груше — пусть приходит.
Оформим ему постоянную прописку, — решает директор.
Комендант Ливанский довольно улыбается — он знает, постоянная прописка в их Отрадном не простая проформа. Право работать и жить в совхозе «Степное» надо заслужить.
Запись тринадцатая. СВАДЬБА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
Поначалу в этой истории не было ничего необыкновенного: он и она полюбили друг друга, он и она решили пожениться. Загвоздка состояла в другом: она, то есть Катя Чернова, была не только совхозным садоводом, приехавшим сюда год назад по окончании техникума, но и дочерью заместителя председателя райисполкома. А он был поселенцем Анатолием Мартыновым, которому предстояло еще год «отрабатывать срок». И папе Чернову кандидатура жениха пришлась явно не по вкусу. Как, впрочем, и маме Черновой тоже. — Он же тунеядец! — вне себя кричал папа. — Бывший, — спокойно парировала дочь. — Ему же еще надо целый год отрабатывать в этом стоящем у черта на куличках совхозе! — ломала руки мама. — Больше, значительно больше года, мамочка, — уточняла дочь. — Мы с Толей решили навсегда поселиться в Отрадном. Но сколько ни противились родители Черновы, сколько доводов ни приводили против замужества своей единственной дочери, сама дочь твердо стояла на своем — она любит Анатолия, и они должны пожениться. И вот в одно из воскресений будущие супруги рука об руку отправились на совхозном «газике», украшенном по такому случаю пучками полевых цветов, в село Дубки, где находится райисполком, и перешагнули обветшалый порог брачного ведомства. Нет, не заметили они ни унылой комнаты, ни облупленной печки, ни голого подоконника без единого цветка. Их глазам даже мигавшая вполнакала лампочка, видимо, казалась факелом, зажженным в их честь, а обвязанная крест-накрест платком заведующая брачными узами чем-то вроде наследницы Гименея по женской линии.
— Женишься раз, а плачешься век, — вместо приветствия авторитетно заявила наследница Гименея. — Жениться-то легко, а вот разжениться трудно. Так что вы над этим, молодые люди, поразмыслите на досуге, а там, глядишь, и передумаете. Все к лучшему и обернется.
Но молодые люди считали, что любовь уже прошла ОТК их сердец. И вежливо попросили приступить к соблюдению необходимых формальностей.
— Каких еще там формальностей? Мы вас вообще регистрировать не собираемся.
— То есть как это? — опешили молодые.
— А очень даже просто, — представительница Гименея продолжала невозмутимо лузгать семечки. — Папаша не хочет, и вся недолга. И распоряжение его у нас имеется.
Обычно тихая Катя так и взорвалась.
— Но ведь я же совершеннолетняя. И выхожу-то, между прочим, замуж я, а не мой отец!
— Я даже права голоса не лишен, не то что права жениться! — вспылил Анатолий.
Однако как ни мужественно сражались за свои права жених и невеста, им пришлось возвратиться назад ни с чем.
Грустное это было возвращение. Напрасно постарались товарищи Анатолия и путем добровольного уплотнения выделили молодоженам маленькую комнатку. Напрасно совхозная стряпуха тетя Поля напекла целую груду своих знаменитых пирожков с яблоками и большой торт с вензелем «АК». Свадьба, на которой молодым под предлогом дать лишний раз поцеловаться многократно кричат «горько», оказалась горькой всерьез.
На следующий день сам директор совхоза поехал в райцентр. Люди, знавшие его долгие годы, говорят, что давно не видели Большака таким рассерженным. Рассказывают, что в Дубках он немедленно прошел в кабинет председателя райисполкома товарища Прохорова. Что через десять минут туда же был вызван и заместитель председателя товарищ Чернов, являющийся по совместительству и отцом Кати. А еще через десять минут туда же спешной походочкой проследовала и заведующая загсом.
Потом события стали разворачиваться в обратном порядке: сперва из кабинета пулей выскочила вся в розовых пятнах заведующая. Следом за ней выбежал папа Чернов, и при этом лицо его пылало, как сердцевина перезревшего арбуза. Потом, тяжело дыша и оттирая пот, вышел Большак и, отойдя в сторонку, не откапал, а прямо налил на сахар неположенное число капель лекарства.
…В следующее воскресенье Катя и Анатолий снова рука об руку, снова на совхозном «газике» направились в районное отделение загса.
— Желаю вам всяческого несчастья, — от души «поздравила» молодоженов Гименея, швыряя брачное свидетельство. — И ведь непременно разводиться придете, так что уж до скорого свиданьица!
…Остается добавить, что все вышеизложенное произошло больше года назад. И рассказали мне о нем в связи с тем, что Мартыновы на этих днях снова отправились в загс. Однако к пророчествам Гименеи, «схватившей», как и папа Чернов, выговор за злоупотребление служебным положением, это не имело ровно никакого отношения. Молодая чета поехала регистрировать своего первенца. Ехали не без опасения, как шутили некоторые: «А вдруг папаше взбредет в голову не признать и внука?» Впрочем, все обошлось благополучно — маленькому Коле Мартынову было беспрепятственно выдано метрическое свидетельство, удостоверяющее, что он действительно родился в Отрадном.
Нет, не заметили они ни унылой комнаты, ни облупленной печки, ни голого подоконника без единого цветка. Их глазам даже мигавшая вполнакала лампочка, видимо, казалась факелом, зажженным в их честь, а обвязанная крест-накрест платком заведующая брачными узами чем-то вроде наследницы Гименея по женской линии.
— Женишься раз, а плачешься век, — вместо приветствия авторитетно заявила наследница Гименея. — Жениться-то легко, а вот разжениться трудно. Так что вы над этим, молодые люди, поразмыслите на досуге, а там, глядишь, и передумаете. Все к лучшему и обернется.
Но молодые люди считали, что любовь уже прошла ОТК их сердец. И вежливо попросили приступить к соблюдению необходимых формальностей.
— Каких еще там формальностей? Мы вас вообще регистрировать не собираемся.
— То есть как это? — опешили молодые.
— А очень даже просто, — представительница Гименея продолжала невозмутимо лузгать семечки. — Папаша не хочет, и вся недолга. И распоряжение его у нас имеется.
Обычно тихая Катя так и взорвалась.
— Но ведь я же совершеннолетняя. И выхожу-то, между прочим, замуж я, а не мой отец!
— Я даже права голоса не лишен, не то что права жениться! — вспылил Анатолий.
Однако как ни мужественно сражались за свои права жених и невеста, им пришлось возвратиться назад ни с чем.
Грустное это было возвращение. Напрасно постарались товарищи Анатолия и путем добровольного уплотнения выделили молодоженам маленькую комнатку. Напрасно совхозная стряпуха тетя Поля напекла целую груду своих знаменитых пирожков с яблоками и большой торт с вензелем «АК». Свадьба, на которой молодым под предлогом дать лишний раз поцеловаться многократно кричат «горько», оказалась горькой всерьез.
На следующий день сам директор совхоза поехал в райцентр. Люди, знавшие его долгие годы, говорят, что давно не видели Большака таким рассерженным. Рассказывают, что в Дубках он немедленно прошел в кабинет председателя райисполкома товарища Прохорова. Что через десять минут туда же был вызван и заместитель председателя товарищ Чернов, являющийся по совместительству и отцом Кати. А еще через десять минут туда же спешной походочкой проследовала и заведующая загсом.
Потом события стали разворачиваться в обратном порядке: сперва из кабинета пулей выскочила вся в розовых пятнах заведующая. Следом за ней выбежал папа Чернов, и при этом лицо его пылало, как сердцевина перезревшего арбуза. Потом, тяжело дыша и оттирая пот, вышел Большак и, отойдя в сторонку, не откапал, а прямо налил на сахар неположенное число капель лекарства.
…В следующее воскресенье Катя и Анатолий снова рука об руку, снова на совхозном «газике» направились в районное отделение загса.
— Желаю вам всяческого несчастья, — от души «поздравила» молодоженов Гименея, швыряя брачное свидетельство. — И ведь непременно разводиться придете, так что уж до скорого свиданьица!
…Остается добавить, что все вышеизложенное произошло больше года назад. И рассказали мне о нем в связи с тем, что Мартыновы на этих днях снова отправились в загс. Однако к пророчествам Гименеи, «схватившей», как и папа Чернов, выговор за злоупотребление служебным положением, это не имело ровно никакого отношения. Молодая чета поехала регистрировать своего первенца. Ехали не без опасения, как шутили некоторые: «А вдруг папаше взбредет в голову не признать и внука?» Впрочем, все обошлось благополучно — маленькому Коле Мартынову было беспрепятственно выдано метрическое свидетельство, удостоверяющее, что он действительно родился в Отрадном.
Запись четырнадцатая. «КОРОЛЬ» БОЛЬШОГО ФОНТАНА
Товарищ капитан, разрешите обратиться? — к капитану Бойченко подходит не по годам грузный мужчина. С одутловатого лица недобро глядят неестественно маленькие запухшие глазки. — Слушаю вас, Мохов, — капитан Бойченко, с которым мы шли на птицеферму, останавливается. — Просьба у меня имеется, — когда мужчина открывает рот, видно, что все передние зубы у него золотые. — До каких же это пор я с буряками копаться буду? Я, как вам известно, шофер первого класса. Почему мне не дают, сидеть за баранкой? — Все полегче работу ищете? — хмурится капитан. — А вас сюда не на курорт направили, а наказали. Поработайте как следует, а там посмотрим. Мужчина недовольно хмыкает и медленно, еле передвигая ноги, направляется к полю. — Знаете, кто это? — кивает вслед уходящему капитан. — Это один из скрытых тунеядцев. И капитан разъясняет мне, что в отличие от «открытых» тунеядцев, которые беззастенчиво у всех на виду лодырничают, пьянствуют и дебоширят, «скрытые» тунеядцы имеют определенное место работы. «Скрытый» тунеядец уверен, что надежно прикрыт своей трудовой книжкой. А работает-то он только так, для отвода глаз, на какой-нибудь маленькой должности. И зарплату получает соответственно небольшую. А между тем, глядишь, у него и дачка выросла, и гардеробом, как у американской кинозвезды, обзавелся, и в ресторанах кутит, и по курортам всем семейством разъезжает. Откуда течет Волга — знает каждый школьник. И какие притоки образуют эту быстроходную голубую реку, тоже знает. Но вот за счет каких притоков денежных средств образуется быстроходная голубая «Волга» у такого рода субъектов, покрыто мраком неизвестности. До той поры, впрочем, пока этим не заинтересуется милиция. — Пожалуй, это самая колоритная фигура такого тунеядского племени, — замечает капитан. — Это ведь, знаете, кто? Сам «король» Большого фонтана. Так это и есть тот самый экс-король, о котором я читала в толстом томе судебного дела! По мере того как я листала страницы, мне становилось ясно, как превратился в «короля» некто А. И. Мохов. Обычно королями становятся по наследству. Из рода в род восседали на троне Бурбоны. Династия Валуа передавала трон от отца к сыну. В жилах Мохова не текла голубая кровь. Однако королевский размах пришелся ему по вкусу. Мысль добыть поистине королевские средства была назойлива, как оса. «С чего бы начать?» — терзался претендент на королевское житье. По преданию, когда задумали строить город Одессу, прежде всего принялись искать воду. Искали, искали. Наконец нашли. Место, где брызнула обильная струя, назвали Большим фонтаном. Когда Арсений Иванович Мохов задумал стать «королем», он стал искать не воду, а землю. И нашел ее именно в районе Большого фонтана. Отличный участок земли находился возле самого синего моря. Вскоре на облюбованном райском местечке выросла королевская резиденция. Безусловно, выстроенный дворец был по своим габаритам несколько меньше Лувра или, скажем, Версаля. Зато у тамошних владельцев и в помине не было ни телевизора «Темп-1», ни холодильника «ЗИЛ». В отличие от королевских конюшен, на которых ржали разномастные жеребцы в одну лошадиную силу каждый, в гараже Мохова красовался серенький «Москвич» в сто лошадиных сил. Впрочем, вскоре выяснилось, что «Москвич» маловат для королевских выездов. Поэтому его место в самое ближайшее время заняла голубая «Волга». А вскоре следом за «Волгой» блестящим черным жуком вполз комфортабельный «ЗИМ». И зажил «король»! И хотя это происходило у всех на глазах, люди только ахали, охали, негодовали, сетовали, но никто не вывел «короля» на чистую воду. До тех пор, пока «делами его величества» вплотную не занялась милиция.
— Скажите, пожалуйста, гражданин Мохов, — вежливо осведомился следователь, — на какие, собственно, средства вы приобрели свои машины и отгрохали такой домик?
— То есть как это на какие? — «король» вознегодовал. — Я же работаю в гараже.
— Да, шофером. Нам это известно, — успокоил его следователь. — И что оклад у вас вместе с прогрессивкой не превышает ста рублей в месяц, нам тоже известно. Поправьте меня, если я ошибаюсь, и следователь протянул Мохову листок, на котором с точностью до копейки были учтены все доходы и все расчеты семьи за круглый год.
Но Арсений Иванович не склонен был снимать корону.
— По вашим подсчетам моя дражайшая половина должна, видите ли, покупать себе четыре платья в год, — вознегодовал он. — А может, все пятнадцать лет нашей счастливой супружеской жизни я держу ее в черном теле и одном-разъединственном платье?
— Маловероятно, — следователь недоверчиво покачал головой.
Как ни петлял Мохов, как ни прикрывался шоферской спецовкой, в ходе следствия было вскрыто: «Извлекал нетрудовой доход с земельных участков». «Король» был низвергнут.
И вот теперь мне довелось получить у него аудиенцию.
— У нас этих скрытых тунеядцев целая компания, — говорит капитан. — Приучаем их к честному труду.
И хотя это происходило у всех на глазах, люди только ахали, охали, негодовали, сетовали, но никто не вывел «короля» на чистую воду. До тех пор, пока «делами его величества» вплотную не занялась милиция.
— Скажите, пожалуйста, гражданин Мохов, — вежливо осведомился следователь, — на какие, собственно, средства вы приобрели свои машины и отгрохали такой домик?
— То есть как это на какие? — «король» вознегодовал. — Я же работаю в гараже.
— Да, шофером. Нам это известно, — успокоил его следователь. — И что оклад у вас вместе с прогрессивкой не превышает ста рублей в месяц, нам тоже известно. Поправьте меня, если я ошибаюсь, и следователь протянул Мохову листок, на котором с точностью до копейки были учтены все доходы и все расчеты семьи за круглый год.
Но Арсений Иванович не склонен был снимать корону.
— По вашим подсчетам моя дражайшая половина должна, видите ли, покупать себе четыре платья в год, — вознегодовал он. — А может, все пятнадцать лет нашей счастливой супружеской жизни я держу ее в черном теле и одном-разъединственном платье?
— Маловероятно, — следователь недоверчиво покачал головой.
Как ни петлял Мохов, как ни прикрывался шоферской спецовкой, в ходе следствия было вскрыто: «Извлекал нетрудовой доход с земельных участков». «Король» был низвергнут.
И вот теперь мне довелось получить у него аудиенцию.
— У нас этих скрытых тунеядцев целая компания, — говорит капитан. — Приучаем их к честному труду.
Последние комментарии
13 часов 52 минут назад
22 часов 44 минут назад
22 часов 47 минут назад
3 дней 5 часов назад
3 дней 9 часов назад
3 дней 11 часов назад