Между Памиром и Каспием [Борис Яковлевич Ставиский] (fb2) читать онлайн
- Между Памиром и Каспием (и.с. По следам исчезнувших культур Востока) 7.09 Мб, 282с. скачать: (fb2) читать: (полностью) - (постранично) - Борис Яковлевич Ставиский
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
[Оглавление]
Б. Я. Ставиский
МЕЖДУ ПАМИРОМ и КАСПИЕМ
(Средняя Азия в древности)

*
М., Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1966
Глубокий мрак тысячелетий Расходится при этом свете…Валерий Брюсов
Мы — археологи, и нам нечего делать там, где в глубь веков ведут широкие шоссе, освещенные мощными прожекторами письменных источников. Но если впереди густой мрак, если молчат летописи и история целых стран и народов известна лишь по смутным намекам древних преданий, — тогда нужны мы, нужны наши глаза, наш мозг, наши руки. Тогда в тайгу, в сыпучий песок, к вечным льдам поднебесных гор ползут наши машины, бредут кони, олени, верблюды, упрямо идут пешие группы. Тогда по едва уловимым приметам определяется место первых раскопов, вбиваются первые колья, снимаются первые пласты грунта… Густая пыль вьется над нами. Но всмотрись, товарищ, и ты увидишь, что с каждой лопатой мы раздуваем мелкие искры. Их все больше и больше, этих искр, первых светящихся точек в густой мгле неведения. И вот запылали костры и, сердито клубясь, отступает туманная мгла. Кольцо молчания прорвано. Путь вперед пробит. По расчищенной нами дороге за строем строй идут лингвисты и искусствоведы, историки и философы. Они закрепят успех; их огни уничтожат в клочья туман неведения. И, уводя на краткий отдых запыленные группы прорыва, мы гордимся своей судьбой и мечтаем о новых походах.Светозар Бирман
ОТ АВТОРА
Мне впервые посчастливилось участвовать в археологических работах в Средней Азии в 1946 г. в качестве студента-практиканта Верхнезеравшанского отряда Согдийско-Таджикской экспедиции. Этим отрядом (и всей экспедицией в целом) руководил один из видных советских востоковедов, член-корр. Академии наук СССР Александр Юрьевич Якубовский, замечательный популяризатор исторических знаний и большой патриот Средней Азии. Тогда же, при посещении нашим отрядом величественного городища древнего Самарканда — Афрасиаба, я впервые повстречал Алексея Ивановича Тереножкина, пожалуй самого опытного из археологов, когда-либо работавших в Средней Азии. Меня с детства интересовала среднеазиатская история, и в сущности не удивительно, что непосредственная встреча с археологическими памятниками долины Зеравшана (а среди них были и Афрасиаб, и легендарный замок на горе Муг), знакомству с которыми я к тому же обязан таким замечательным наставникам, увлекла меня и я стал археологом. Немало способствовали этому интересные, будившие мысль лекции и семинары профессора ЛГУ Александра Натановича Бернштама, яркого исследователя и горячего энтузиаста археологии Средней Азии. Удивление и радость всегда вызывали у меня тот интерес, с которым слушала лекции и доклады А. Ю. Якубовского самая разнообразная аудитория: сотрудники академических учерждений столицы Таджикистана, интеллигенция небольшого районного центра Пенджикента, курсанты военных училищ Ленинграда. Позднее, когда я сам стал руководить раскопками и экспедициями, отчитываясь перед общественностью тех мест, где мне доводилось работать, выступая с лекциями в университетах культуры или проводя экскурсии и занятия в залах Эрмитажа, я вновь постоянно встречался с живым интересом к истории и археологии Средней Азии самых различных групп населения. Всем им, людям разных возрастов, профессий и национальностей, которые наряду с эпохальными достижениями нашей науки в освоении космоса и проникновении в глубь атома, наряду с новейшими успехами химии и медицины хотят знать также и о дешифровке древних письменностей майя, об истории заселения островов Полинезии и о разгадках многих других тайн истории человечества, — всем им посвящается эта книга. В ней я хотел рассказать об успехах, достигнутых советскими археологами и востоковедами в изучении древней истории Средней Азии, и о том, какие вопросы стоят или встают ныне перед ее исследователями. Обширность материалов, добытых за годы широких исследовательских работ советских археологов в Средней Азии, равно как и неразработанность ряда историко-культурных вопросов, вынудили меня ограничить свой рассказ лишь наиболее изученными или наиболее важными, на мой взгляд, разделами древней среднеазиатской истории. Более того, я сознательно оставил в стороне длительный период древнейшего прошлого Средней Азии, в изучении которого советская археология также достигла крупнейших успехов. Но что делать: нельзя объять необъятное, и содержание этой книги ограничивается временем от первых шагов цивилизации, т. е. перехода от собирательства и охоты к земледелию и животноводству, до грозных пожаров арабского завоевания, ознаменовавших наступление более освещенного письменными источниками периода развитого мусульманского средневековья. Разная степень изученности различных вопросов и крайнее разнообразие источников для их изучения невольно вынудили меня подходить по-разному к освещению той или иной темы. В результате стиль и характер изложения отдельных глав и даже отдельных разделов внутри одной и той же главы часто заметно отличаются от предшествующего и последующего повествования. Это, конечно, нарушает единообразие книги, но, надеюсь, не затруднит пользования ею. В работе над этой книгой я опирался на труды многих своих коллег — как востоковедов и археологов старшего поколения, так и своих сверстников и младших товарищей (основные из этих трудов перечислены в конце книги). Из сводных работ больше всего мне приходилось обращаться к книге Б. Г. Гафурова «История таджикского народа в кратком изложении», первому тому коллективной «Истории таджикского народа», «Истории Узбекской ССР», «Истории ТССР», «Очеркам истории СССР». Были привлечены, конечно, и мои собственные работы и полевые материалы. Не раз я прибегал также к трудам зарубежных коллег: О. Дальтона, Г. Камерона, В, Тарна, Н. Дибвойза, А. К. Нарайна, В. Хеннинга, Э. Бенвениста, Д. Шлюмберже. Использовал я и книгу Л. Успенского и К. Шнейдер «За семью печатями», авторы которой, будучи не специалистами, а профессиональными писателями, продемонстрировали интересные приемы популярного изложения сложных историко-археологических вопросов. В целом же, повторяю, я хотел лишь ознакомить широкие слои нашей общественности, интересующиеся достижениями современной науки, с успехами, достигнутыми советскими исследователями в изучении неведомого ранее далекого прошлого народов Средней Азии, с трудностями, которые им пришлось преодолеть, с вопросами, которые стоят или встают перед ними по мере дальнейшего углубления исследовательских поисков.Б. СтавискийЛенинград — Москва Июнь 1964 г.
Введение
Археологи наступают

К югу от бескрайних казахских степей, между Памиром и Каспием, раскинулась Средняя Азия, обширная страна, по площади в два с лишним раза превышающая территорию Франции. Долгое время эта страна оставалась загадочной для всех областей науки. Немалые трудности, а то и смертельная опасность поджидали каждого, кто пытался приоткрыть завесу таинственности, скрывавшую от посторонних глаз природу, культуру и историю среднеазиатских ханств: Бухарского, Хивинского, Кокандско-го. Достаточно показательны в этом отношении смелые до авантюризма поездки в Бухару под видом мусульман в 1834 г. учителя татарского языка оренбургской гимназии Демезона и 30 лет спустя — венгерского востоковеда Вамбери, совершивших во имя науки поистине героические подвиги, которые, однако, дали мизерные научные результаты.
Сведения, проникавшие из Средней Азии, были столь скудны, что еще в середине XIX в., когда границы России уже соприкоснулись со среднеазиатскими ханствами, о горных системах этой страны ученые знали немногим больше, чем во времена Марко Поло, знаменитого путешественника XIII в., и в географической литературе тех лет утверждалось, со ссылкой на китайские источники, что на Тянь-Шане существуют огромные действующие вулканы, а горные цепи Памиро-Алая тянутся не с востока на запад, а с севера на юг.
И только в 60—80-х годах, после присоединения значительной части Средней Азии к России, началось ее всестороннее изучение. В итоге уже к рубежу XX в. замечательной плеядой русских исследователей был, в частности, заложен прочный фундамент нового раздела знаний — средневековой истории Средней Азии. Особенно крупную роль в создании этой исторической науки сыграл акад. Василий Владимирович Бартольд, проделавший титаническую работу по сбору и изучению сведений арабских, персидско-таджикских и тюркоязычных авторов и издавший в 1900 г. свою знаменитую монографию «Туркестан в эпоху монгольского нашествия», которая и поныне служит одним из основных трудов по истории Средней Азии и близлежащих стран.
Но ни в многочисленных работах В. В. Бартольда, ни в исследованиях других русских востоковедов дореволюционной поры и первых полутора десятилетий советского периода не получила, да и не могла еще получить, должного освещения древняя история Средней Азии. Все, что творилось на среднеазиатских землях до арабского завоевания конца VII–VIII вв., оставалось таинственным и неопределенным. Победа ислама и его борьба против язычества и иных религиозных систем привели к почти полному забвению древнего домусульманского прошлого. Немногочисленные, а часто и противоречивые свидетельства иноземных авторов и смутных преданий при полном отсутствии древних местных письменных источников, забытых или специально уничтоженных мусульманами, не позволяли даже в самых общих чертах судить о каких-либо закономерностях исторического развития, об особенностях культуры или искусства древней Средней Азии. Прорыв в эту область неведения могла осуществить археология. Ведь именно она открыла для европейской науки в начале XIX в. Египет, Ассирию и Вавилонию, а позднее и многие другие древние цивилизации и культуры, о которых до развертывания широких археологических работ было известно немногим больше, чем о Средней Азии.
Но в том-то и дело, что систематических археологических исследований в Средней Азии вплоть до середины 30-х годов нашего века не производилось, и ее обширная территория представляла собой на археологической карте мира большое «белое пятно». Ассигнования на развитие археологии Средней Азии в царское время были более чем скудными, а об отношении к ней многих официальных лиц как нельзя лучше говорит ответ туркестанского генерал-губернатора на обращенную к нему просьбу принять меры к охране памятников культуры: «Чем скорее разрушится все это, тем лучше для русской государственности».
Памятники старины, щедро разбросанные по всей Средней Азии, невольно, однако, бросались в глаза, и наиболее крупные городища и находившиеся на поверхности земли средневековые постройки были осмотрены, результаты опубликованы, причем некоторые городища и отдельные здания удалось отождествить с упоминавшимися у средневековых авторов древними городами и выдающимися сооружениями. Прочие же археологические памятники, ставшие известными в результате нескольких экспедиций археологов-профессионалов и в значительной мере благодаря энтузиазму местных краеведов, как правило, не получали даже обоснованного хронологического определения. Достаточно показательно в этом отношении полное пессимизма авторитетное заявление акад. В. В. Бартольда, писавшего еще в 1922 г., что в Средней Азии «самые ранние из существующих остатков городов и поселений относятся только к тому Туркестану, который застали в VII в. по Р. X. арабские завоеватели». А тремя годами позднее, характеризуя состояние археологии Средней Азии, председатель Средазкомстариса (Среднеазиатского комитета по делам музеев и охраны памятников старины, искусства и природы) Д. И. Нечкин прямо указывал: «В Средней Азии сокровища 'древней культуры не только не изучены, но в большей части даже не имеют простого обследования».
При таком уровне знаний археология была, конечно, не в состоянии серьезно помочь исследователям в изучении древней среднеазиатской истории. Выправить положение могло лишь поистине широкое «археологическое наступление». И как только отгремели последние выстрелы гражданской войны, затянувшейся здесь до начала 30-х годов, такое «наступление» началось. А в ходе этого «наступления» стало ясно, что в Средней Азии для археологов открываются самые грандиозные перспективы, открывается возможность изучить одни из древнейших в нашей стране цивилизаций, созданные отдаленными предками среднеазиатских народов. В истории археологического изучения Средней Азии настала пора широких планомерных разведок, сочетающихся с большими стационарными раскопками.
Эта пора широких исследований началась всего лишь тридцать лет назад, около середины 30-х годов, причем на это тридцатилетие пришлась и военная страда, когда археологические работы были почти полностью свернуты. Таким образом, «археологическому наступлению» в Средней Азии едва исполнилось 25 лет. Но и за это время советская археология Средней Азии достигла замечательных успехов. Ныне почти вся обширная территория среднеазиатских республик покрыта маршрутами разведывательных экспедиций. Самолеты советских археологов, их автомашины, их конные и пешие группы видели и близ вечных ледников «Крыши мира», и в цветущих оазисах великих рек среднеазиатского междуречья, и в суровых песках пустынь. В разных районах, на различных высотах — от поднятых на тысячи метров выше океана памирских нагорий до Сарыкамышской впадины, лежащей ниже уровня моря, — велись и ведутся сейчас систематические раскопки. В республиканских академиях наук, в институтах всесоюзной Академии, во многих музеях, включая Государственный Эрмитаж, появились богатые коллекции памятников культуры и искусства древней Средней Азии. В свете археологических открытий зазвучали понятными голосами многие неясные или не известные ранее упоминания древних авторов. И за всем этим потоком новых материалов все отчетливее стали проступать общие контуры древней истории Средней Азии, поднялись из забвения ее древние цивилизации, стали выясняться их исторические связи с другими древними культурами Старого Света, яснее определилось место Средней Азии во всеобщей древней истории человечества.
Глава I
Первые шаги цивилизации

И пусть преданья мира — немы! Как стих божественной поэмы, Как вечно ценные алмазы, Гласят раздробленные вазы…Неподалеку от столицы Туркменской ССР — Ашхабада — лежит небольшая железнодорожная станция Анау, хорошо известная археологам всего мира. Еще бы: ведь ее именем шесть десятилетий назад было названо несколько замечательных древних культур Средней Азии. Открытие этих культур связано с двумя холмами, поднимающимися над широким простором распаханных полей к югу от дороги на Ашхабад. Эти холмы — северный и южный — в конце XIX в. посетил тогдашний начальник Закаспийской области генерал А. В. Комаров, интересовавшийся памятниками старины (он даже председательствовал как-то на археологическом съезде). По его приказу северный холм Анау был разрезан широкой поперечной траншеей. При этих «раскопках» было найдено немало всевозможных предметов, и в том числе глиняные сосуды с разнообразными расписными узорами. Беспомощность археологических методов, запечатленная комаровской траншеей, не позволила тогда ни разобраться в памятнике, ни понять историческое значение найденной в нем керамики. Но все же этой «траншее генерала Комарова» мы обязаны открытием культур Анау, так как именно она привлекла к анауским холмам внимание самой крупной из дореволюционных археологических экспедиций в Средней Азии — американской экспедиции во главе с Р. Пэмпелли. Уже в 1903 г., во время рекогносцировочных поездок, участники экспедиции внимательно обследовали эту траншею, а в 1904 г. провели здесь раскопочные работы и выявили четыре последовательных слоя — четыре анауские культуры. Итоги раскопок 1904 г., изданные в виде двухтомного труда с большим количеством фотографий и таблиц, принесли всемирную известность холмам Анау и представленным ими культурам. Однако методика раскопок, примененная Р. Пэмпелли на холмах Анау, фантастический характер датировок и многих определений добытого материала уже вскоре после выхода в свет трудов экспедиции вызвали резкую критику в научной литературе, в том числе и со стороны знаменитого русского историка-востоковеда В. В. Бартольда. Ныне труды экспедиции совершенно устарели. Но до самого недавнего времени работы экспедиции Р. Пэмпелли составляли основу наших сведений о культурах Анау, а холмы Анау еще в 20-х годах нашего столетия оставались единственными известными науке поселениями древнейших земледельцев Средней Азии. Огромный интерес к культурам Анау, который проявился в археологической науке сразу же после работ 1903–1904 гг., объясняется тем, что найденная при этих работах расписная керамика живо напоминает глиняную посуду, характеризующую многие древнейшие земледельческие цивилизации Ближнего и Среднего Востока, а также юго-восточной Европы (включая распространенную на территории Молдавии и Украины знаменитую трипольскую культуру). Поэтому открытие в далеком Туркестане новых культур расписной керамики, древнейшую из которых Р. Пэмпелли к тому же относил к IX тысячелетию до н. э. (т. е. представлял как наиболее раннюю из всех известных культур этого круга), явилось настоящей сенсацией. На основании работ Р. Пэмпелли некоторые не в меру горячие головы склонны были даже видеть в культуре Анау прародину племен, создавших якобы все земледельческие цивилизации Древнего Востока. Работы послевоенных лет, в особенности раскопки ашхабадских археологов и сотрудников Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции (ЮТАКЭ) под руководством проф. М. Е. Массона, позволили изучить целый ряд последовательно сменявшихся древнеземледельческих культур южной Туркмении — от зарождения в VI или V тысячелетии до н. э. самой ранней из них, джейтунской культуры до упадка в конце II тысячелетия до н. э. так называемой третьей культуры Анау. В ходе этих работ выяснилось, что казавшиеся ранее грандиозными и уникальными по своему историческому значению холмы Анау на самом деле были лишь двумя небольшими и сравнительно бедными поселениями, которые к тому же отражали далеко не все этапы развития древнеземледельческих культур южной Туркмении. Сейчас, если бы мы захотели осмотреть все обнаруженные археологические памятники этих культур, нам пришлось бы совершить довольно продолжительное путешествие по многим древним поселениям. А описание только этих памятников превратилось бы в большую книгу.В. Брюсов
Колыбель древнейших земледельцев Средней Азии
Самое раннее из известных ныне древних поселений Средней Азии было открыто всего десять лет назад. Его остатки затерялись среди песчаных барханов Каракумов, в 30 км северо-западнее Ашхабада. Здесь, на вершине песчаного холма, В. М. Массон, известный исследователь древнейших земледельческих культур (сын проф. М. Е. Массона), собрал интересную серию каменных орудий и черепков с примитивной росписью. Этот-то «подъемный материал», как его принято называть, и был первым сигналом существования Джейтунского поселения, названного так по имени близлежащего урочища.
Рис. 1. План Джейтунского поселения
Как показали раскопки, все поселение умещалось на плоской вершине песчаного холма, площадь которого не превышала половины гектара (рис. 1). Некогда здесь теснилось 40–50 небольших домиков с плоскими крышами. Домики были сооружены из высушенных на солнце удлиненных кусков глины, перемешанной с рубленой соломой; по виду эти строительные вальки напоминали булку. Каждое жилище состояло из отдельного однокомнатного домика (площадью в среднем около 25 кв. м) и располагавшихся близ него подсобных загородок и клетушек. Устройство жилого джейтунското дома было несложным и однотипным. В одной из стен (обычно южной или восточной) помещался узкий входной проем, который завешивали, вероятно, плетеной циновкой или шкурами. Справа от входа, у стены комнаты, помещался массивный прямоугольный очаг, а рядом с ним — огороженная площадка. Пол и стенки этой площадки были сильно прокалены. По-видимому, сюда выгребали из очага угли, и тогда площадка служила своеобразной жаровней. Напротив очага, невысоко над полом, в стене был устроен выступ и в нем ниша. В некоторых домах стена с выступом и нишей была покрыта черной краской, а то и трехцветной росписью. В других случаях был окрашен в красный цвет один лишь выступ с нишей. Этому устройству, следовательно, придавалось какое-то особое значение. Вполне возможно, что в такой нише, озаренной отблесками от пЛамени очага, помещали глиняные магические фигурки, изображавшие либо женщину — «мать-прародительницу», либо животных, на которых охотились жители Джейтуна. Исследователи Джейтуна полагают, что в каждом жилом домике этого поселения помещалась отдельная семья, а весь поселок в целом принадлежал родовой группе, состоявшей примерно из сорока таких семей. Они вели единое хозяйство и имели общие хранилища продовольствия, а возможно, и необходимого рабочего инвентаря. Этот инвентарь жителей был небогат: он состоял из костяных и каменных орудий — особых кремневых вкладышей для лезвий серпов (сами серпы вместе с лезвием изготовлялись из кости или дерева), резцов, скребков, проколок и т. п., а также из керамических поделок и немногочисленных украшений (рис. 2).

Рис. 2. Материалы джейтунской культуры
Джейтунское поселение, таким образом, не может похвастаться ни величественными дворцами или храмами, ни сокровищами древнего искусства. И тем не менее его научное значение вряд ли можно переоценить. Сравнение материалов из Джейтунского поселения с другими древнейшими памятниками Средней Азии и близлежащих областей и стран позволило датировать джейтунскую культуру V или даже VI тысячелетием до н. э, т. е. тем далеким временем, когда не существовало еще ни древнеегипетских пирамид, ни ирригационной сети древнего Двуречья, ни древнеиндийских городов, ни древнейшей цивилизации долины Хуанхэ. Но поистине огромная научная ценность Джейтуна отнюдь не исчерпывается одной лит к его баснословной древностью. Джейтун — древнейший открытый на территории нашей страны поселок оседлых земледельцев, а район распространения джейтунской культуры — своеобразная колыбель древнейших земледельцев Средней Азии. Чтобы лучше осознать научную значимость Джейтуна и джейтунской культуры, вспомним, что вплоть до X–VIII тысячелетий до н. э. первобытные люди довольствовались тем, что давала им природа: они собирали дикие растения, охотились на диких зверей, ловили рыбу в реках, морях и озерах, иными словами — лишь присваивали себе дары природы. Такой вид хозяйства не давал ни постоянной прочной основы для жизни, ни уверенности в завтрашнем дне. И только к VIII–VII тысячелетиям до н. э. в наиболее передовых в то время областях Европы, Азии и Африки сложились предпосылки для перехода к цивилизации: культурное развитие человеческих общин этих областей, накопивших богатый производственный опыт и научившихся изготовлять важные орудия труда, подготовило возникновение двух первых основных отраслей производящего хозяйства — земледелия и скотоводства. Зарождение этих новых, прогрессивных видов человеческой деятельности происходило, вероятно, в разных областях самостоятельно и в разное время, но, с точки зрения истории в целом, это был некий единый процесс, охвативший обширные территории Ближнего Востока. Именно на этих территориях и примыкавших к ним землях Юго-Восточной Европы и глубинной Азии в V–II тысячелетиях до н. э. возникают древнейшие центры человеческой культуры, именно здесь складываются первые в истории нашей планеты государственные образования, вырастают первые города, закладываются основы научных и эстетических взглядов, послужившие базой для дальнейшего развития человеческой культуры. Район распространения джейтунской культуры, занимавшей узкую полосу пригодных для орошения земель южной Туркмении, которые протянулись вдоль северных склонов Копет-Дага, между его скалистыми отрогами и наступающими с севера песчаными волнами Каракумов, и был в тот важный исторический период крайним северо-восточным рубежом этого массива, этой ойкумены передовых оседло-земледельческих общин. И многие особенности джейтунской культуры перекликаются с теми чертами других культур, которые известны из раскопок древнейших ближневосточных поселений. Это относится и к знакомым нам однокомнатным домикам, и к хозяйству их обитателей, и даже к отдельным предметам их быта. На джейтунских домиках как жилищах отдельной первобытной семьи, связанной с другими подобными же семьями не только кровным родством, но единым общим хозяйством, мы уже останавливались. О занятиях родового коллектива, населявшего Джейтунское поселение, свидетельствуют как находки сельскохозяйственных орудий, зернотерок и отпечатков зерен ячменя и пшеницы в глинобитных полях, так и анализ костей животных, найденных при раскопках. Среди костей домашних животных в Джейтуне были лишь кости коз и баранов: это говорит об отсутствии в поселении одомашненного крупного рогатого скота. По-видимому, большую часть мясной пищи жителям Джейтуна все еще приносила охота, что объясняет находки на территории поселения большого числа костей диких животных: джейрана, кулана, безрогого козла. На слабое еще развитие скотоводства указывает и полное отсутствие находок пряслиц — непременной принадлежности ткацкого ремесла. По-видимому, в отличие от выделки шкур (для чего служили различные каменные скребки и костяные скобели и проколки, найденные при раскопках), ткачество в Джейтуне находилось еще в зачаточном состоянии. Довольно примитивным было и джейтунское земледелие. Древнейшие земледельцы южной Туркмении не могли еще ни по уровню своих знаний, ни по характеру орудий труда строить какие-либо оросительные сооружения, каналы и ограничивались использованием разливов вод, которые в пору весеннего половодья заполняли естественные низины в устьях ручейков и ручьев, стекающих с Копет-Дага и часто несущих с собой плодородный ил с предгорных холмов. Вода в этих пониженных участках постепенно высыхала и впитывалась в почву, ил же оседал тонкими слоями. В эти-то слои не просохшего еще ила древние земледельцы и разбрасывали семена злаков, а затем терпеливо ждали созревания урожая. Но, хотя техника земледелия у обитателей Джейтунского поселения была еще примитивной, а навыки домашнего животноводства зачаточными, все-таки именно они заложили основы многих дальнейших хозяйственных достижений племен и народов древней Средней Азии. Уже сам переход от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству как основе хозяйственной жизни означал решительный шаг на пути к цивилизации. И именно с этим шагом связаны те существенные перемены в быту, которые столь резко отличают жителей Джейтунского поселения от более ранних обитателей южной Туркмении и Прикаспия, бродячих охотников, собирателей и рыболовов, скрывавшихся в пещерах и под скалистыми навесами. И как бы ни были неказисты жилища обитателей Джейтуна, — это были первые известные нам долговременные постройки, и в них уже использовался тот строительный материал, который затем на протяжении тысячелетий оставался основным строительным материалом всех среднеазиатских обществ. Примитивные глиняные «булки» джейтунских домиков были прямыми предшественниками и сырцовых кирпичей, и нарезанных на крупные блоки пластов сбитой глины — пахсы, гувалля — глиняных комьев с рубленой соломой, и даже современного обожженного кирпича. Особенно интересными среди находок из Джейтунского поселения были обломки глиняных сосудов — керамика, один из самых массовых и важнейших видов археологического материала. Появившись на самой заре цивилизации, когда человек впервые стал готовить горячую растительную пищу, глиняная посуда стала постоянным и верным признаком жизни человеческого общества. Ее в изобилии находят на всех древних поселениях, причем технология изготовления глиняной посуды позволяет судить об уровне производства и физико-химических знаний, а ее формы и орнаментация — об эстетических вкусах и воззрениях тех людей, которые создавали глиняные сосуды и пользовались ими. Наконец, керамика обычно служит и основным материалом для датировки тех или иных археологических слоев, памятников и культур. Поэтому-то археологи уделяют ей столько внимания и безропотно сносят насмешливую кличку «охотников за черепками». Судя по находкам в Джейтуне, древнейшие земледельцы южной Туркмении в то время только лишь начинали осваивать гончарную технику. Глина, использованная для лепки посуды (все сосуды в Джейтуне изготовлены вручную), как и строительные глиняные вальки, содержала значительную примесь рубленой соломы. Разнообразие форм сосудов было еще крайне невелико, причем форма хумов, больших сосудов для хранения продуктов, четко показывает их происхождение от вырытых в земле ям с обожженными стенками. Джейтунские хумы имели форму сосуда с цилиндрическим туловом и подкошенной придонной частью. Такие подкосы были почти у всех древнейших сосудов, предназначавшихся для хранения продуктов. Как показало изучение археологических материалов Ближнего Востока, подобная форма не была случайной: такие сосуды закапывали в землю до самого ребра, отделяющего подкос от тулова. Вероятно, первоначальные ямы-хранилища, стенки которых обмазывали глиной, смешанной с рубленой соломой, и затем обжигали, и натолкнули людей на изготовление хранилищ из одной обмазки, т. е. из обожженной глины. Однако посуда в Джейтуне была уже неплохо обожжена, а некоторые сосуды окрашены в кремовый или красный цвет, поверх которого коричневой или красновато-коричневой краской был нанесен примитивный расписной орнамент в виде вертикальных волнистых линий или вертикальных рядов небольших дуг. Эта роспись сосудов Джейтуна — первый шаг к той богатейшей расписной орнаментации, которая характерна для последующих, анауских культур южной Туркмении. Среди керамических поделок из Джейтунского поселения были и уже упоминавшиеся нами глиняные статуэтки (в то время еще, правда, немногочисленные), обычай изготовления которых существовал в Средней Азии много тысячелетий, вплоть до распространения мусульманства в VII–VHI вв. н. э., а кое-где и столетиями позднее. Внимание исследователей Джейтуна привлекли к себе также странные глиняные (реже каменные) поделки в виде конусов, то удлиненных, то усеченных, а то и с вогнутым верхом (см. рис. 2). Сходные с джейтунскими конусы археологи не раз находили на поселениях древнейших земледельцев Ближнего Востока и даже на трипольских поселениях. Об их назначении высказывались самые различные предположения. Так, известный французский археолог-востоковед Р. Гиршман считал их миниатюрными ступками для растирания румян. Другие предлагали рассматривать их как печатки и даже какие-то «затычки для носа». Однако наиболее убедительно мнение крупного украинского археолога С. Н. Бибикова, который высказал предположение, что перед нами не что иное, как игральные фишки. Подтверждение этому предположению, высказанному исследователем раннетрипольских поселений, пришло из Египта: именно там в одном из кладбищ додинастийного периода (т. е. до воцарения древнейших фараонов) был найден столик из обожженной глины, расчерченный на квадраты; по квадратам этой древней игральной доски и переставлялись глиняные конусовидные фишки. Видимо, это одна из любимых и широко распространенных игр древнеземледельческих племен. Игральные доски вовсе не обязательно были глиняными — они могли быть изготовлены из дерева, а то и просто начерчены на земле. Во всяком случае отсутствие таких досок в Триполье и в Джейтуне ничуть не колеблет предположения С. Н. Бибикова. Джейтунская культура — первая из культур анауского круга, начальный этап истории древнеземледельческих обществ южной Туркмении. Эта история, даже если исключить из нее джейтунскую культуру, охватывала около трех с половиной тысячелетий, т. е. гораздо больший промежуток времени, чем все последующие эпохи, от древних скифов и до наших дней. И для того, чтобы легче ориентироваться в материалах и событиях этой огромной исторической эпохи, и археологи, и неспециалисты пользуются условной терминологией и техническими историко-археологическими классификациями. Поэтому, прежде чем перейти от Джейтуна к собственно анауским культурам, необходимо хотя бы в общих чертах остановиться на этих терминах и классификациях. Еще сотрудник Р. Пэмпелли археолог Г. Шмидт (сам руководитель американской экспедиции археологом не был) установил, что весь материал из раскопок на северном и южном холмах Анау можно разделить, исходя из типологического анализа находок и наблюдений за стратиграфией (т. е. последовательностью залегания слоев), на четыре последовательные комплекса-культуры: Анау I (древнейший комплекс), Анау II, Анау III и Анау IV. Анау I и Анау II уже тогда были определены как культуры энеолита, т, е. медного века, а Анау III — как культура эпохи бронзы (Анау IV, как это установлено ныне, относится уже ко времени Ахемеяидского государства, т. е. к более поздней и качественно иной исторической эпохе). Эта классификация, т. е. деление всех материалов древнеземледельческих обществ южной Туркмении на три анауские культуры, сохранилась вплоть до Великой Отечественной войны, правда с некоторыми уточнениями, внесенными в результате работ 20—30-х годов известным археологом А. А. Марущенко. Когда же в послевоенные годы в южной Туркмении развернулись широкие раскопки памятников анауских культур, то были разработаны и новые классификации. Так, исследование в 1948–1953 гг. одного из крупнейших археологических памятников древнейших земледельцев Средней Азии — Намазга-депе позволило расчленить материал с этого поселения на шесть комплексов: от Намазга I (древнейший) до Намазга VI (позднейший). Такие же локальные археологические классификации разработаны и по некоторым другим раскапываемым древнеземледельческим поселениям южной Туркмении. Но наиболее важными по сей день остаются именно две упомянутые нами классификации: анауская и намазгинская. Помимо чисто археологического подразделения эпохи существования древнеземледельческих обществ южной Туркмении на три культуры Анау и шесть комплексов Намазга-депе ныне применяется и условная историческая периодизация, согласно которой эпоха анауских культур делится на четыре периода (см. таблицу на след, стр.): ранний энеолит (или период однокомнатных домов), поздний энеолит (или период многокомнатных домов), бронзовый век (или период расцвета анауских культур) и позднебронзовый век (или период упадка анауских культур).

Историко-археологическая периодизация материалов древнеземледельческих (анауских) обществ южной Туркмении
Как видно из таблицы, в Анау отсутствуют материалы, относящиеся к концу позднего энеолита, а в Намазга-депе — к началу раннего энеолита. Кроме того, Намазга дает возможность более дифференцированного подхода к материалам периодов бронзового века и поздней бронзы. Таким образом, эти классификации существенно дополняют друг друга, и в последующем изложении нам придется пользоваться помимо исторической периодизации как анауской, так и намазгинской археологическими классификациями.
Расселение на восток
Джейтун — наиболее изученное, но не единственное поселение древнейших земледельцев южной Туркмении: ныне известны еще пять или шесть памятников, на которых найдены образцы керамики и орудий джейтунской культуры. Однако территория распространения этой культуры весьма невелика: все ее поселения сконцентрированы на небольшом западном участке северных предгорий Копет-Дага, между Ашхабадом и Кизыл-Арватом. Здесь по берегам небольших ручьев, стекавших с Копет-Дага, и возникла, по-видимому, эта древнейшая земледельческая культура нашей страны. И уже вскоре отсюда началось медленное, но неуклонное расселение древнеземледельческих племен на восток, вдоль подгорной полосы Копет-Дага. Эти переселения из родных мест групп древнейших земледельцев были вполне закономерны. Относительно обеспеченное существование в оседлых поселках привело к более быстрому, чем раньше, росту населения, в то время как хозяйственная база поселений джейтунской культуры была еще весьма ограниченна: дальнейшее развитие и земледелия, и скотоводства — этих основных отраслей хозяйства в поселениях джейтунской культуры, тормозила нехватка полей и пастбищ. Участки, заливаемые ручьями и пригодные под поля, были невелики, и с увеличением населения урожая с них становилось недостаточно. Близких пастбищ для скота тоже не хватало. Надо было искать новые места, переселяться. Такие переселения неоднократно совершались в истории человечества и на более высоких ступенях развития; в одной из своих работ Карл Маркс метко определил их причину как неуклонное «давление избытка населения на производительные силы». Период, когда древнейшие земледельцы Средней Азии в результате таких переселений распространились из района Джейтуна далеко на восток, и был периодом раннего энеолита, первым (после джейтунской культуры) этапом истории древнеземледельческих обществ южной Туркмении. Характерной особенностью всего этого периода в целом было то, что основным жилищем древних земледельцев в это время все еще были небольшие домики отдельной, не ведущей своего хозяйства семьи. Поселения этого времени, разбросанные от станции Кизыл-Арват до района к востоку от Теджена, свидетельствуют о том, как происходило расселение древних обитателей тех мест. Исследователи делят эти поселения на четыре локальные группы по географическому размещению памятников (см. карту 1). В первом из таких районов, самом западном, там, где зародилась южнотуркменская раннеземледельческая культура, в рассматриваемый нами период жили и трудились потомки тех джейтунцев, которые остались близ древнейших полей и пастбищ на участке между Кизыл-Арватом и Анау. Это район небольших ручьев, похожих на тот, что орошал поля обитателей Джейтунского поселения. Незначительная величина этих ручьев облегчала древнейшим земледельцам использование их разливов для посевов, но вместе с тем ограничивала рост местных поселений: площадь всех известных раннеэнеолитических поселений этого района не превышает одного гектара. Вторым районом расселения ранних земледельцев южной Туркмении была местность между железнодорожными станциями Артык и Душан. Этот район, расположенный непосредственно к востоку от первого, также на северном склоне Копет-Дага, орошался более полноводными потоками, и поселения, основанные здесь, отличаются большими размерами, чем поселок этого же времени в Анау. По размерам и по географическому размещению в дельте крупных ручьев с этими памятниками сходны поселения третьей группы, расположенные на восточном краю северных копетдагских предгорий, между станциями Чаача и Меана. И, наконец, четвертую, пожалуй, наиболее интересную группу составляют памятники мертвого оазиса Геоксюр, расположенные к востоку от железнодорожной станции Теджен, в древней дельте р. Теджен. Памятники этой группы — немые свидетели первого вторжения оседлых земледельцев в глубь песчаных пустынь Средней Азии, к первой большой среднеазиатской реке, которая стала на службу человеку. Поселения раннего энеолита во всех этих четырех районах первоначально сохраняли несомненные черты единой культуры: единую и характерную для всей обширной территории расселения ранних земледельцев керамику типа Намазга I (рис. 3).
Рис. 3. Материалы комплекса Намазга I
Это довольно однообразная посуда (фактически лишь различные вариации глубоких чаш), как и в Джейтуне еще лепленная вручную из глины, в которую была подмешана рубленая солома. От другой посуды, употреблявшейся в быту ранних земледельцев южной Туркмении, эту разновидность керамики отличает роспись, которая покрывала снаружи стенки сосудов. В отличие от примитивной росписи сосудов джейтунской культуры керамику типа Намазга I украшают уже четкие узоры: полосы из горизонтальных рядов треугольников или из ломаной линии, образующей острые углы. Однако эти отличия не заслоняют связи расписной посуды типа Намазга I с керамикой Джейтуна: эта связь видна и в формах сосудов, и в том, что роспись, как правило, наносится коричневой краской по красному или желтоватому фону, и, наконец, в близости росписи отдельных сосудов Джейтуна р примитивными углами и треугольниками к более сложным, но сходным узорам посуды Намазга I. Вероятно, люди, изготовившие керамику типа Намазга I, во-первых, опирались на опыт и традицию гончаров Джейтуна и, во-вторых, придерживались еще единых технических приемов, обладали единым художественным вкусом.
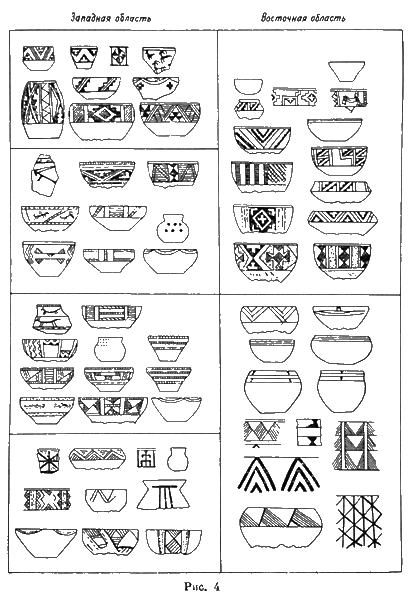
Рис. 4. Таблицакерамики времени Намазга II
Изучение более поздней расписной керамики типа Намазга II (рис. 4) свидетельствует уже о существенных изменениях в культуре ранних земледельцев южной Туркмении в конце рассматриваемого нами периода раннего энеолита. Для этого времени можно говорить о разделении единой (хотя и состоящей из четырех локальных групп) культуры на две части: западную и восточную. В области распространения первой из них (районы прежних западной и центральной групп) на смену описанной выше расписной керамике пришла посуда с двухцветными или многоцветными узорами. Узоры, как и на более ранней посуде, тянутся полосой по верху сосуда. Состоят эти узоры часто из различных сочетаний треугольников и косых и вертикальных полос, т. е. элементов, характерных и для росписи типа Намазга I. Но в целом благодаря много-цветности (полихромности) общий характер росписи здесь совсем иной. Это заметно отличает керамику западной области от посуды восточных памятников, где роспись более последовательно развивает традиции Намазга I, оставаясь монохромной. Это четкое различие в орнаментации сосудов исследователи объясняют постепенным расхождением культурных традиций, связанным с ростом хозяйственной самостоятельности западной и восточной областей расселения людей ранее единой культуры. Остатками одного из западных поселений южной Туркмении этого периода как раз и был северный холм Анау, тот самый, с которого более 70 лет назад началось изучение южнотуркменских раннеземледельческих культур. Древнейшее поселение Анау возникло в конце V — начале IV тысячелетия до н. э., когда потомки джейтунцев только начинали свое постепенное расселение на восток, вдоль северных предгорий Копет-Дага. Поселение это было сравнительно невелико: его площадь равнялась примерно одному гектару, что, однако, в два раза больше площади джейтунского поселения. Его дальнейший рост был, очевидно. лимитирован размером полей в дельте протекавшего здесь ручья Кельте-Чинар. Вызванную ограниченностью полей нехватку продовольствия не смогло возместить даже бурно развивавшееся скотоводство: в отличие от Джейтуна в Анау даже в древнейших слоях встречено много костей крупного рогатого скота; диким животным принадлежит уже меньше половины найденных здесь костных останков. Постройки в северном поселении Анау с самого начала его существования возводились из стандартного прямоугольного кирпича-сырца, достигавшего в длину почти полуметра. Жизнь на северном поселении Анау продолжалась больше тысячи лет. Поселок за это время многократно перестраивался. На месте разрушившихся старых сырцовых зданий возводились новые, причем руины более ранних домов использовались в качестве фундамента при сооружении более поздних построек. Поселение, таким образом, как бы росло вверх, образуя искусственный холм, и позднейшие дома располагались уже примерно на 15 м выше поверхности окрестной равнины. Поселение на месте северного холма Анау характеризует, как мы уже отмечали, западную группу памятников периода раннего энеолита. Однако изучено оно еще далеко не достаточно. Так, здесь еще не выявлена планировка какой-либо постройки целиком, а только отдельные части разных зданий. Гораздо лучше исследовано восточное поселение этого периода — Дашлыджи-депе, один из наиболее изученных раннеэнеолитических памятников южной Туркмении. Остатки этого небольшого поселения (его площадь всего 1200 кв. м) раскопаны полностью. Располагалось Дашлыджи-депе в древней дельте р. Теджен, в 6 км к северо-западу от современной железнодорожной станции Геоксюр, за первой грядой песков Каракумов. Дома, раскопанные на Дашлыджи-депе, как и в Анау, сложены из крупного прямоугольного кирпича-сырца, что заметно отличает их от построек Джейтунского поселения. Однако, как и в Джейтуне, люди жили здесь отдельными семьями, входившими в состав большого родового коллектива, ведущего общее хозяйство. Каждый дом в Дашлыджи-депе состоял из одной жилой комнаты небольших размеров (площадью около 10 кв. м) и одного или нескольких подсобных помещений. В жилой комнате, в углу (обычно слева от входа), помещался очаг. Другой угол отделялся от остальной части комнаты поперечной стенкой и использовался, вероятно, для хозяйственных надобностей. В одном из домов, который, возможно, был не жилищем отдельной семьи, а сооружением общественного характера, найдена древнейшая в Средней Азии глинобитная лежанка — суфа, расположенная вдоль стены помещения и отделенная от остального пространства комнаты невысоким барьером (позднее, вплоть до наших дней, глинобитная суфа становится одной из постоянных принадлежностей среднеазиатских построек — от домов бедняков до дворцов князей и царей). В целом памятники периода раннего энеолита и на западе, и на востоке южной Туркмении свидетельствуют о больших успехах, достигнутых людьми этого периода по сравнению с обитателями Джейтунского поселения: раннеземледельческая культура в этот период распространилась по всему северному склону Копет-Дага, причем наряду с дельтами небольших ручьев были уже освоены и берега более крупных потоков, паводковые разливы которых охватывали участки большей величины, чем поля древнейших поселений. На период раннего энеолита приходится также начало освоения ранними земледельцами дельты р. Теджен. Исследования, проведенные здесь в последние годы, показали, что низовья этой реки в древности находились значительно южнее, чем теперь: сейчас ее разветвление начинается близ городка Теджен, в древности же дельта реки была около Серахса, откуда ее воды несколькими рукавами устремлялись на северо-восток, в район современных станций Геоксюр и Джуджуклу. Вот здесь-то, на берегу одного из боковых протоков древней тедженской дельты и возникло уже знакомое нам поселение Дашлыджи-депе. Как и их западные собратья, жители этого небольшого поселка использовали под поля и пастбища земли в дельте протока, разливы которого мало чем отличались от разливов крупных потоков северо-западных предгорий Копет-Дага. Но само появление пришедших оттуда основателей Дашлыджи-депе на Теджене, в четырех днях пути от последних прикопетдагских поселков, означало не только выход южнотуркменской раннеземледельческой культуры, прежде как бы привязанной к узкой прикопетдагской полосе, на широкий простор среднеазиатских степей, но также важнейший этап в истории орошения Средней Азии — переход земледельцев от сравнительно бедных водой копетдагских ручьев и потоков к берегам первой большой реки. От использования весенних разливов ручьев и потоков, в том числе и протоков р. Теджен, до создания первых каналов, отводящих воду из естественного русла к удобным для орошения участкам земли оставался всего лишь один шаг. И этот шаг был сделан. Теперь в Средней Азии наряду с отдельными земледельческими поселками начали возникать и первые оазисы — относительно большие территории, орошаемые каналами, берущими воду из больших ручьев или рек. Судьба таких оазисов, созданных трудом и потом многих поколений земледельцев, бывала различной. Одни из них еще и сейчас радуют взор зеленью своих полей и садов, среди которых разбросаны поселки или отдельные дома-усадьбы. Другие, покинутые людьми, погибли под натиском летучих песков, и останки их в течение тысячелетий были загадкой для окрестных жителей. Одним из таких «мертвых оазисов» был Геоксюрский оазис, возникший на берегах протоков дельты Теджена. В. М. Массон так описывает нынешний вид этого оазиса: «Геоксюрский оазис? Само сочетание этих слов может показаться странным людям, хорошо знающим южные районы Туркменской ССР. В самом деле, о каком оазисе может идти речь, если имя Геоксюр носит небольшая станция в 18 км к востоку от г. Теджен с несколькими кирпичными домами и прилепившимися к ним дощатыми загородками для коз и баранов. Правда, перед станционным зданием приветливо зеленеет палисадник, но ведь воду для него привозят сюда в железнодорожных цистернах». Вместе с тем Геоксюрский оазис существовал. И у нас есть полное основание говорить об этом столь определенно: в результате многолетних работ В. М., Массона, И. Н. Хлопина, В. И. Сарианиди и других здесь открыты девять раннеземледельческих поселений, в том числе самое крупное из них — поселение Геоксюр I. Остатки этого поселения находятся среди песков, в 7 км к юго-востоку от железнодорожной станции Геоксюр, и представляют собой огромный холм площадью 12 га л высотой 10 м. Поселение Геоксюр существовало долгое время. Лучше всего изучен здесь слой, относящийся к периоду позднего энеолита. Дома, раскопанные в этом слое, так же как и в более ранних поселениях, сложены из крупных прямоугольных сырцовых кирпичей. Но это уже не маленькие однокомнатные постройки, как в Анау или Дашлыджи-депе, а большие многокомнатиые здания. В одном из таких домов насчитывалось 14 помещений, группировавшихся вокруг небольшого внутреннего дворика. Среди этих помещений были и большие прямоугольные, вероятно, жилые комнаты, и кухня с очагом, и отдельные кладовые-зернохранилища, и специальное, возможно культовое, помещение, что-то вроде святилища. Посреди одной из его стен находился прямоугольный выступ, обмазанный штукатуркой и отгороженный от остальной части комнаты двумя рядами поставленных на ребро кирпичей. Эта стена сохранила следы долгого воздействия огня. На полу этой странной комнаты при раскопках было найдено много обожженных костей. По-видимому, около стены с выступом пылал неугасимый священный огонь или же многократно разводились культовые костры. Здесь же, вероятно, совершались религиозные жертвоприношения. Картина, сходная с той, которую мы видели на поселении Геоксюр I, предстала перед исследователями и на наиболее изученном позднеэнеолитическом «западном» поселении — Кара-депе, заброшенном жителями около пяти тысяч лет назад, примерно в 3000 г. до н. э. Остатки поселения Кара-депе в виде слегка распластанного холма лежат в 4 км севернее железнодорожной станции Артык. Холм этот общей площадью примерно 15 га разделен ложбиной на две части: восточную, высотой 11,5 м, и несколько более низкую — западную. Пока основные раскопки идут в восточной части Кара-депе, но уже сейчас можно говорить об общем характере поселения в целом.

Рис. 5. Мужские статуэтки из Кара-депе
В центре его располагался большой незастроенный участок — главная площадь. Вокруг площади стояли сходные с геоксюрскими большие многокомнатные дома, разделенные узенькими (шириной не более двух метров) улочками. В состав каждого дома входило несколько больших жилых комнат с углублениями в полу; в этих углублениях помещались очаги, служившие для отопления. Наряду с жилыми комнатами в домах были и маленькие хозяйственные каморки; в одной из них при раскопках найдено 14 целых расписных сосудов, аккуратно расставленных вдоль стен. Каждый дом Кара-депе имел небольшой внутренний дворик, куда выходили двери жилых комнат. В этом дворике помещалась общая для всего дома кухня. Кроме того, к домам примыкали большие дворы, которые, возможно, служили загонами для скота. Весь поселок Кара-депе, насколько об этом позволяют судить материалы раскопок, состоял примерно из 10–15 таких многокомнатных домов.

Рис. 6. Женские статуэтки из Кара-депе
Устройство и планировка домов Геоксюра и Кара-депе ярко свидетельствуют о тех существенных изменениях, которые произошли в IV тысячелетии до н. э. в общественной жизни древнейших земледельцев Средней Азии. На смену родовым поселкам Джейтуну, Анау и Дашлыд-жи-депе, населенным единым хозяйственным родовым коллективом, состоявшим из нескольких десятков отдели-пых семей, теперь пришли поселки группы хозяйственно самостоятельных семейных общин; каждая такая община объединяла живущих под общей крышей многокомнатного дома-массива 6–8 малых семей, которые, по всей вероятности, вели общее, нерасчлененное хозяйство. Этнографические параллели позволяют предполагать, что такие большесемейыые общины, обитавшие в одном поселке, состояли в родстве между собой и все поселение в целом представляло единую родовую организацию, во главе которой стоял совет старейшин или выборные вожди. Может быть, облик одного из таких вождей, выборного военного предводителя древних жителей кара-депского поселения, запечатлен в глиняной головке, найденной во время раскопок на Кара-депе: она изображает воина в шлеме с наушниками, с макушки шлема на затылок падает плетеная коса. Эта находка — единственная в своем роде, тем более что глиняные фигурки, изображающие мужчин, в энеолитических памятниках южной Туркмении вообще довольно редки (рис. 5). Гораздо чаще встречаются здесь глиняные фигурки женщин (рис. 6). На этих фигурках следует остановиться несколько подробнее, так как их находки, обычные на поселениях древних земледельцев и в Иране, и в Месопотамии, и на трипольских памятниках Украины и Молдавии, характеризуют вполне определенные религиозные представления. Достаточно даже беглого взгляда на глиняные женские фигурки Геоксюра и Кара-депе, чтобы увидеть черты схематизации и своеобразного обобщения передаваемого образа. Людей, которые лепили эти статуэтки, мало занимали голова, лицо или руки женщины; некоторые фигурки вообще лишены этих существенных деталей. Есть даже статуэтки, изображающие лишь нижнюю часть женской фигуры. Зато передаче пышных бедер и других женских признаков древние скульпторы придавали большое значение. Фигурки явно должны были воспроизвести обобщенный образ женщины-матери. Это несомненно богиня-мать, обожествленная мать-земля, богиня плодородия. Поклонение богине-матери было широко развито у всех раннеземледельческих племен, поскольку все их благосостояние зависело в конечном счете от того урожая, который приносили им семена, брошенные в лоно матери-земли. Силы природы, управлявшие этим урожаем, такие могущественные и таинственные, требовали, по представлению древних земледельцев, жертвенных даров и магических заклинаний. Еще совсем недавно у некоторых отсталых племен этнографы наблюдали верование, которое можно выразить формулой «подобное вызывает подобное». Исходя из такого представления, древние земледельцы очевидно полагали, что женщина-мать благотворно влияет на урожайность земли и рост стад. Сопоставление женщины, приносящей своему мужу детей, с матерью-землей, дающей обильный урожай, встречается во многих народных сказках. С ним же сталкиваемся мы и в «Авесте», священной книге зороастризма, религиозной системы, корни которой уходят в глубокое прошлое Средней Азии и сопредельных стран. Вот что мы читаем, например, в одном из гимнов «Авесты»:
«Тому, кто обрабатывает землю правой рукой и левой рукой, левой и правой, опа приносит богатство. Как любящая молодая женщина, сидящая на убранном ложе и приносящая своему возлюбленному сына и богатство… тому так говорит земля: «Человек, который пашет меня левой рукой и правой, правой и левой! Вечно я буду помогать тебе, приносить всякого рода пищу, все, что могу принести помимо зерна полей».Это сопоставление женщины-матери и матери-земли породило женские божества плодородия и любви у многих народов древнего мира. Ему же обязаны своим происхождением и глиняные женские статуэтки Кара-депе и Геоксюра, отдаленные предшественники прекрасных античных статуй. Период позднего энеолпта, к которому относятся поселения Геоксюр I и Кара-депе, характеризуется дальнейшим культурным обособлением западной и восточной областей расселения древних земледельцев южной Туркмении. Как и для более раннего этапа (конца раннего энеолита), это обособление лучше всего видно по росписи глиняных сосудов. На востоке, в Геоксюрском оазисе, в этот период основным мотивом ярких орнаментальных росписей стали крестообразные фигуры, полукресты и пиловидные линии, в то время как в поселениях западной области встречаются и изобразительные мотивы — фигуры животных, а иногда и людей. В керамике Кара-депе, например, часты скупые, но достаточно выразительные изображения стоящих или идущих козлов с большими рогами, идущих или стоящих птиц, пятнистых барсов или леопардов[1].

Рис. 7. Керамика из Кара-депе
Культурное обособление западной и восточной областей расселения древних земледельцев южной Туркмении в эпоху позднего энеолита не означало, однако, их полной разобщенности и изолированности. Напротив, между ними постоянно поддерживались какие-то связи, отразившиеся, в частности, в находках на Кара-депе сосудов геоксюрского стиля (рис. 7). Посуда эта несомненно доставлялась сюда из восточных древнеземледельческих поселений. Возможно, что она попадала в Кара-депе и в качестве приданого «восточных» женщин, сосватанных в жены тем или иным карадепинцем.
Расцвет и упадок культур Анау
Культурные и хозяйственные достижения древнеземледельческих обществ южной Туркмении в периоды раннего и позднего энеолита подготовили наивысший расцвет анауских культур эпохи бронзы, который приходится приблизительно на 2400–1700 гг. до н. э. В это время поселения южнотуркменских древних земледельцев четко делятся на два типа: крупные, занимающие площадь в десятки гектаров, и мелкие, площадью не более 1,5–2 га. Крупные поселения были своеобразными центрами оазисов, мелкие — сельскими поселками, состоявшими из одного-двух многокомнатных домов большесемейных общин. Примером поселений первого типа является Намазга-депе, один из крупнейших древних населенных пунктов предгорий Копет-Дага. Это огромное поселение лежало в 6 км к западу от современного районного центра Каахка. С севера на юг, на расстоянии почти в целый километр, здесь тянутся безжизненные холмы. При виде этих оплывших песчаных горбов никому, кроме археологов, и в голову не придет, что здесь некогда существовало многолюдное селение. Но величественность многих холмов, достигающих 20-метровой высоты, огромные размеры занятой ими территории[2], многочисленные обломки глиняных сосудов, которые буквально усеяли склоны холмов и впадины между ними, невольно обращают на себя внимание всякого, кто побывал в этих краях. Нечего и говорить, какое профессиональное волнение испытывает перед этим грандиозным памятником археолог. «Столичный» характер Намазга-депе определялся, по-видимому, благоприятными природными условиями: расположенный здесь ныне Каахкинский оазис представляет собой один из богатейших земледельческих районов копетдагских предгорий. Относительное обилие воды, доставляемой двумя потоками — Арчиньян и Лайнсу, при довольно высоком для того времени уровне развития земледелия и составило, вероятно, экономическую основу для бурного роста Намазга-депе. Раскопочные работы на Намазга-депе проводились не один год, но и сейчас величина участков, затронутых раскопками, крайне мала по сравнению с колоссальной площадью всего поселения, и судить о его общем облике пока рано. Выяснена лишь последовательность шести археологических комплексов, характеризующихся сменой различных типов расписной посуды (сменой, которая характерна не только для Намазга-депе, но и для всех северных предгорий Копет-Дага), а также основные этапы развития самого поселения и некоторые его особенности.
Рис. 8. Материалы комплекса Намазга III
Впервые поселение на Намазга-депе возникло еще в IV тысячелетии до н. э., в период раннего энеолита, в то время, когда древние земледельцы начинали свое расселение вдоль северных предгорий Копет-Дага (время Намазга I и Намазга II). Бурный рост Намазга-депе относится к концу IV — первой половине III тысячелетия до н. э., к периоду позднего энеолита — времени расцвета Кара-депе и Геоксюра (рис. 8). В это время поселение на Намазга-депе увеличилось во много раз и достигло тех гигантских размеров, в которых оно (вернее, его остатки) дошло до нас (время Намазга III). Слои Намазга-депе, характеризующие три первых этапа его истории, залегают на большой глубине, что особенно усложняет их изучение, и поэтому исследованы они сравнительно слабо. Лучше изучено поселение на Намазга-депе, относящееся ко второй половине III — первой трети II тысячелетия до н. э., т. е. к периоду бронзового века. К этому периоду относятся два комплекса Намазга — четвертый и пятый (рис. 9), изученные, как уже отмечалось, лишь на отдельных участках, хотя и крупных по своим размерам, но ничтожно малых по сравнению с огромной площадью поселения того времени. Постройки, относящиеся к этому периоду, напоминают многокомнатные дома Кара-депе и Геоксюра.

Рис. 9. Материалы комплексов Намазга IV и Намазга V
Одна из таких построек, раскопанная на Намазга-депе, состояла из 27 комнат, соединенных проходами. Помещения в этой постройке были весьма разнообразны: наряду с квадратными и прямоугольными здесь были и комнаты неправильной формы. Стены построек в Намазга-депе были возведены из крупного кирпича-сырца и больших глинобитных (пахсовых) блоков, причем некоторые коридоры имели не плоское, балочное, а сводчатое перекрытие; своды целиком выводились из сырцовых кирпичей, позволяя, таким образом, экономить такой драгоценный в Средней Азии строительный материал, как дерево (в среднеазиатской архитектуре последующих периодов, как мы еще увидим, своды приобретают чрезвычайно большое значение). Многие помещения были снабжены очажными нишами, служившими для приготовления пищи и отопления. Внутристенные ниши использовались также для хранения посуды, и в одной из комнат в нише были найдены стоявшие в ней шесть глиняных кувшинов. Внутри жилых помещений вдоль стен тянулись глинобитные суфы, наиболее ранний образец которых мы уже отмечали в одном из домов (по-видимому, общественного характера) на поселении Дашлыджи-депе. Такие глинобитные лежанки безусловно покрывали циновками, тканями, возможно кошмами и коврами. Циновками и тканями завешивали, вероятно, и некоторые входы. В других входах находились деревянные двери, ось которых опиралась на каменные подпятники, встреченные во многих дверных проемах. Многоквартирные дома Намазга-депе, как и здания Кара-депе и Геоксюра. вероятно, объединяли под одной крышей несколько малых родственных семей, составивших большую патриархальную семью. Многокомнатные постройки таких большесемейных коллективов образовывали крупные жилые массивы-кварталы, где один дом отделялся от другого лишь узкой улочкой, на которой с трудом могли разойтись два пешехода, а навьюченное животное неизбежно застряло бы. В ряде случаев по соседству с жилыми домами были найдены печи для обжига глиняной посуды, а один раз — остатки сооружения, служившего скорее всего для плавки металла. В таких многолюдных жилых массивах, в их густонаселенных домах и узких улочках протекала большая часть жизни основной массы населения Намазга-депе. Но наряду с подобными участками, отличавшимися чрезвычайно тесной застройкой, на поселении Намазга-депе обнаружены и довольно большие свободные от построек площади, и значительные углубления, которые в древности могли служить водоемами-хаузами. Как показали раскопки последних лет, на Намазга-депе существовали также постройки, заметно отличные от упомянутых рядовых жилых массивов. Это два дома, открытые на окраине поселения и имевшие облик монументальных зданий. Их толстые стены целиком выведены из пахсовых блоков, а планировка отличается четкостью замысла: каждый такой дом состоит из небольших комнат, окружающих центральный квадратный двор. Вполне вероятно, что оба эти дома принадлежали не рядовым жителям Намазга-депе, а более богатым патриархальным семьям, решившим выстроить свои массивные жилища на краю селения, на участке, не запятой скученными домами их менее состоятельных земляков. Большие жилые массивы в центральной части поселения и монументальные изолированные дома на его окраине — этими двумя видами построек исчерпываются пока наши знания архитектурного облика Намазга-депе. Однако огромные размеры этого поселения и сосредоточение в нем ремесленников, о чем свидетельствуют находки, выделяют Намазга-депе из среды близлежащих памятников и позволяют предполагать, что его главы могли распространять свою власть и на соседние территории. Учитывая же этот «столичный» характер Намазга-депе, мы вправе говорить, что в древности здесь существовали и не раскрытые еще большие культовые здания, и постройки общественного назначения. Во времена своего расцвета Намазга-депе было окружено сырцовой стеной, так же как Алтын-депе, еще более крупное поселение этого периода близ станции Меана, в северо-восточной части копетдагских предгорий. Поселение Алтын-депе, также служившее центром большого древнеземледельческого района, занимало площадь, равную примерно 100 га. Период бронзового века для древних земледельцев южной Туркмении был временем больших успехов в развитии хозяйства и культуры. Именно тогда появились орудия и оружие из нового материала — бронзы, более твердого, чем медь. Существенно изменилось и гончарное производство. Изменились способы украшения и формы глиняных сосудов и, что особенно важно, — технология их изготовления. Керамика типа Намазга IV украшается еще по традиции расписными узорами. Обычно это «ковровая» орнаментация, но часто встречаются также изображения козлов и птиц, еще более выразительные и реалистичные, чем в росписях энеолитической посуды. Однако с течением времени сосудов с росписью становится все меньше и меньше, а посуда Намазга V уже совершенно лишена расписных узоров. Да и сами сосуды в это время становятся уже иными. Еще во время Намазга IV наряду с сосудами ручной лепки все чаще и чаще попадается посуда, сделанная на гончарном круге. В комплексе же Намазга V почти вся керамика изготовлена именно таким образом. Изготовление глиняной посуды становится в это время массовым ремесленным производством. Усовершенствован был и обжиг глиняных изделий, о чем помимо высокого качества черепков позволяют судить и уже упоминавшиеся нами гончарные печи, которых на территории Намазга-депе раскопано около полутора десятков. Введение гончарного круга и усовершенствованных обжигательных печей повысило производительность труда древних керамистов и позволило изготовлять сосуды более быстро. В то же время развитие гончарного производства открыло новые горизонты, и в комплексах Намазга IV и V мы находим уже не только различные вариации глубоких чаш, но и разнообразные высокие кубки, и высокогорлые кувшины без ручек, и острореберные сосуды, и «чайники». Главный упор при изготовлении глиняной посуды делается теперь не на роспись, а на совершенствование формы, изящество сосуда. Изменилось в период бронзового века и изобразительное искусство древних земледельцев, известное нам по лепной глиняной скульптуре. В отличие от энеолитических статуэток фигурки этого времени более сухи и условны. Животные обычно изображены так, что трудно определить их породу. Изображения женщин, как правило, плоскостные. Реалистичная скульптурность форм исчезает. Руки и ноги переданы в виде нескладных обрубков. Весьма схематично изображается и лицо. Очень интересны находимые на Намазга-депе глиняные модели повозок. В отличие от фигурок животных и людей в моделях повозок их создатели стремились с возможной точностью передать общий вид и устройство их реальных прототипов. Глядя на эти глиняные изображения, можно ясно представить себе способ перевозки людей и грузов, распространенный у древних земледельцев около четырех тысяч лет назад. Повозки были двух типов. Более обычными, судя по находкам их глиняных моделей, были одноосные двухколесные повозки вроде колесницы или современной арбы. Применялись и более массивные повозки с двумя осями и четырьмя колесами, напоминающими современную телегу. На передней части одной из найденных при раскопках моделей повозок обнаружено изображение головы верблюда. Видимо, верблюд был древнейшим упряжным животным. Впрочем, надо полагать, что эту участь с верблюдами делил и крупный рогатый скот. Использование тягловой силы животных для перевозки тяжестей позволяет предположить использование скота и на полевых работах. Огромные размеры отдельных поселений того времени и существование целых оазисов вполне согласуются с предположением о том, что в период бронзового века в областях древних южнотуркменских земледельцев на смену ограниченному огородничеству и возделыванию небольших полей пришло уже пашенное земледелие, при котором для обработки полей могла применяться тягловая сила животных. О широком ассортименте растении, которыми пользовались древние земледельцы, позволяют судить находки обгорелых зерен пшеницы и ячменя, винограда и нута (растение из семейства бобовых). Расцвет хозяйства и культуры в южной Туркмении в конце III — начале II тысячелетия до н. э. сочетался и с новыми, существенными изменениями в общественном устройстве. Усовершенствование орудий труда и рост его производительности, наметившееся уже отделение ремесла от земледелия, специализация отдельных отраслей производства и развитие обмена — все это повышало роль больших патриархальных семей и вело к обогащению некоторых из них. Прежнее имущественное равенство начинало исчезать, что четко фиксируется археологическими данными. Так, в это время в отличие от раннеэнеолитических захоронений Анау или позднеэнеолитических захоронений Геоксюра и Кара-депе наряду с обычными бедными могилами встречаются уже и богатые погребения с обильным инвентарем. Различия в типе жилищ Намазга-депе также позволяют предполагать выделение на этом поселении более богатых семей. Можно предположить и накопление у некоторых семей значительных сокровищ; во всяком случае на такую возможность указывает так называемый «астрабадский клад», собрание золотых, бронзовых и каменных предметов эпохи бронзового века, найденное еще в XIX в. на территории северо-восточного Ирана, тесно связанного с южной Туркменией. На появление частной собственности богатых семей, а возможно, и отдельных лиц указывают и частые находки крупных медных печатей. Все это несомненно свидетельствует об интенсивном разложении первобытнообщинного строя. Но насколько далеко зашло это разложение и каков был общественный строй земледельческих общин южной Туркмении в первой половине II тысячелетия до н. э.? На этот вопрос однозначного ответа в нашей науке еще нет. Ряд археологов, в том числе А. А. Марущенко, полагают, что высокий уровень развития производительных сил, появление имущественной дифференциации, зарождение ремесленного производства и существование огромных поселений (городов), огражденных крепостными стенами, позволяют говорить о возникновении в это время на юго-западе Средней Азии классового раннерабовладельческого общества. Другие, и прежде всего В. М. Массон, возражают против такого заключения. В. М. Массон ссылается при этом на историю раннеклассовых обществ Шумера, Элама и древней Индии, доказывая, что и гончарный круг — орудие гончарного ремесла, и печати — знаки собственности, появились там за несколько столетий до сложения классового общества. Он обращает внимание также на то, что даже такие крупные поселения южной Туркмении II тысячелетия до н. э., как Намазга-депе и Алтын-депе, не имеют еще цитаделей, возникающих повсеместно при образовании государства как оплот правителя против своих подданных. Свою точку зрения о незавершенности процесса разложения первобытнообщинного строя у древних южнотуркменских земледельцев В. М. Массон обосновывает и тем, что в южной Туркмении периода бронзового века еще не было письменности, столь необходимой для хозяйственного учета и канцелярских установлений любых классовых обществ и государств. Этот исследователь полагает, что южнотуркменские раннеземледельческие общины в силу исторических и природных условий отставали в темпах развития от более передовых в то время «городских цивилизаций» Месопотамии, Ирана и Индии и хотя находились на пути становления классового общества, но не успели дожить до его окончательного оформления, так как процесс становления классового общества был в южной Туркмении прерван какими-то событиями периода поздней бронзы. Этот период, охватывающий немногим более пятисот лет, примерно с 1700 по 1100 г. до н. э., знаменует собой известный упадок древнеземледельческих культур южной Туркмении. В подгорной полосе Копет-Дага в это время развивается культура, представленная комплексом Намазга VI. Керамика типа Намазга VI, мелкая глиняная скульптура, отдельные вещи вроде каменных зернотерок и ступок, кремневых наконечников стрел, каменных и металлических печатей, глиняных моделей повозок — все, казалось бы, следует традициям предшествующего периода. Но почти во всех видах изделий заметны черты огрубения и упадка. Более того, огромные цветущие поселения — «столицы» времени Намазга IV и Намазга V, такие, как Намазга-депе и Алтын-депе, в этот период неожиданно оказываются покинутыми, и преобладающими становятся мелкие поселки с площадью в 1,5–2 га. На территории Намазга-депе, например, жизнь сохраняется лишь на небольшой территории в северной пасти былого поселения. В это же время в северных предгорьях Копет-Дага появляются стоянки с грубой лепной керамикой степных племен, вторгнувшихся, по-видимому, в область расселения древних земледельцев из северных областей Средней Азии и вступивших в тесные контакты с потомками древних обитателей юга Туркмении: фрагменты степной керамики найдены в слоях этого периода на многих поселениях, в том числе и на южном холме Анау. Вполне вероятно, что под натиском этих пришельцев часть древних земледельцев покидает насиженные места и, перейдя через сыпучие пески, отделяющие Теджен от другой крупной реки Мургаба, создает в дельте последней небольшой оазис, первый форпост земледельческой культуры в этом районе, сыгравшем впоследствии важную роль в среднеазиатской истории. Какие события происходили в это бурное время в южной Туркмении, нам еще далеко не ясно, но знакомство с археологическим материалом невольно создает впечатление насильственного перерыва в проходивших здесь процессах развития экономической и общественной жизни. Дальнейший ход культурного развития Средней Азии нельзя рассматривать как прямое продолжение древнейших традиций земледельцев южной Туркмении. Казалось бы, на этом можно окончить рассказ о замечательных культурах Анау, однако, прежде чем расстаться с ними, нельзя не указать на место, которое они занимали среди культур и цивилизаций древнего Востока вообще. Говоря о возникновении древнейших земледельческих поселений, мы уже отмечали, что процесс выделения земледельческо-скотоводческих племен из общей массы охотников, рыболовов и собирателей проходил в VII–V тысячелетиях до н. э. на весьма обширных пространствах Ближнего Востока. С выделением земледельческо-скотоводческих поселений на Ближнем Востоке возникли две культурно-хозяйственные зоны — зона оседлых общин с производящим хозяйством и быстро развивающейся культурой и обширная зона племен, не вышедших еще за рамки присвояющего хозяйства (см. карту 2). Джейтунская культура южной Туркмении была одним из центров оседлоземледельческой зоны, ее дальним северо-восточным форпостом. Дальнейшее развитие культуры древних земледельцев южной Туркмении, самостоятельное в своей основе, проходило, однако, не изолированно, а в постоянном контакте с другими центрами оседлоземледельческих культур. Следы каких-то воздействий со стороны древнейших земледельцев центрального Ирана исследователи находят уже в наиболее раннем слое Анау I. Отдаленные воздействия далекой древнешумерской (так называемой убейдской) культуры Месопотамии В. М. Массон, В. И. Сарианиди и другие ученые видят в памятниках южной Туркмении и в конце периода раннего энеолита, т. е. примерно в середине — третьей четверти IV тысячелетия до н. э. В. М. Массон объясняет воздействием извне (на сей раз из юго-западного Ирана, из древнего Элама) и появление на керамике типа Намазга II некоторых элементов росписи, таких, как отдельные изображения козлов и ряд геометрических узоров. Как осуществлялись эти месопотамские и юго-западноиранские влияния, доходившие до поселений южной Туркмении через тысячекилометровые просторы Иранского плато, мы пока не знаем. Более определенно можно говорить о контактах древнеземледельческих племен южной Туркмении в период позднего энеолита в конце IV — первой половине III тысячелетия до н. э. В это время в росписях сосудов южнотуркменских древних земледельцев появляется немало мотивов центральноиранского происхождения, а в захоронениях на Кара-депе не только заметно частичное изменение погребального обряда (часть погребенных помещается теперь головой на запад, а не на юг, как это было в более ранних захоронениях), но и сам антропологический тип некоторых погребенных оказывается близким населению центрального Ирана того периода. Все эти факты заставляют предположить, что в конце IV — начале III тысячелетия до н. э. в южную Туркмению проникают какие-то группы выходцев из центрального Ирана, с появлением которых исследователи связывают и ряд других элементов культуры древних земледельцев Средней Азии. Анализ всей совокупности археологических материалов позволяет, однако, утверждать, что проникновение центральноиранских племен в Среднюю Азию носило характер постепенного переселения сюда отдельных родовых и большесемейных коллективов, которые растворялись среди местного оседлоземледельческого населения, внося свой вклад в местную культуру, но не изменяя ее общего характера и основного направления ее развития. Это проникновение в южную Туркмению и на другие территории центральноиранских земледельческих племен, вызванное быстрым подъемом у них на родине производительных сил общества и недостаточностью там водных ресурсов, в свою очередь привело, вероятно, к перенаселению в целом ряде районов и явилось как бы началом цепной реакции, охватившей обширную территорию. В сложных перемещениях земледельческих племен того периода какую-то роль сыграли, вероятно, и южнотуркменские земледельцы. Во всяком случае В. М. Массон и В. И. Сарианиди выделяют в керамике северного Белуджистана второй половины III тысячелетия до н. э. посуду, восходящую, по их мнению, к керамике Геоксюрских поселений. К этому времени существенно меняется вся обстановка на древнем Востоке. Во-первых, в IV–III тысячелетиях до н. э. происходит расширение зоны расселения оседлоземледельческих племен: в этот период, в частности, происходит (не без воздействия центральноиранскпх и среднеазиатских общин) переход от присвояющего к производящему хозяйству в южном Афганистане и северо-западной Индии. Во-вторых, внутри оседлоземледельческой зоны возникает новая зона городских цивилизаций. Опираясь на благоприятные природные условия, оседлоземледельческие племена сначала на юге Месопотамии и в Эламе, а затем и в долине Инда стремительными темпами развивают свою экономику и культуру, что приводит к появлению здесь крупных, хорошо укрепленных городов с развитым ремеслом и монументальной архитектурой, к возникновению письменности и в конечном счете к образованию раннеклассовых обществ и государств. На смену двум культурно-хозяйственным зонам предшествующей эпохи теперь приходит деление на три такие зоны, характерной особенностью которых является неравномерность исторического развития (см. карту 3). Древнеземледельческие культуры Анау входят в это время во вторую по уровню развития зону, обширную область земледельческо-скотоводческих племен, находившихся в тесной взаимосвязи с вырвавшимися вперед городскими цивилизациями. Развитие экономики и общественной жизни древних земледельцев южной Туркмении, как и других сходных с ними раннеземледельческих обществ, идет по тому путл, который уже прошли в то время древневосточные городские цивилизации. Это длительное вхождение в одну культурно-хозяйственную зону объясняет и многочисленные переклички в археологических материалах и неоднократные контакты древних земледельцев южной Туркмении времени расцвета с племенами Ирана, Афганистана и северо-западной Индии. Историческая общность древнеземледельческих племен этих территорий сказалась и в период позднебронзового века. В то время когда в южпой Туркмении пустеют крупные поселения и видно огрубение и упадок многих элементов материальной культуры, о чем мы уже говорили выше, сходные явления наблюдаются и на ряде других памятников зоны оседлоземледельческих племен. Примерно тогда же прекращается жизнь на крупных североиранских поселениях Тюренг-тепе, Шах-тепе, Тепе-Гиссар, причем на материалах последнего удается проследить отражение ожесточенной межплеменной борьбы. На юге Афганистана в исследованном там поселении Мундигак в слоях этого периода, также видны следы разрушений. Бытовавшая ранее изготовленная на круге посуда сменяется сосудами ручной лепки, а немногим позднее наступает полное запустение. В нынешнем западном Пакистане, в Сеистане и Белуджистане тогда же замирает жизнь в ряде оазисов, наблюдаются перемещения племен. Примерно на середину II тысячелетия до н. э. приходится также упадок городской цивилизации в долине Инда. Чем были вызваны все эти перемещения и разрушения, пока неясно, и конец культур Анау все еще остается окутанным глубокой тайной.
Глава II
Запад — Восток

От жизни той, что протекала здесь, От крови той, что здесь рекой лилась Что уцелело, чтодошло до нас? Два-три кургана, видимых поднесь…В течение пяти веков после упадка культуры Анау бушевали над просторами Средней Азии грозные политические и социальные бури, о которых, однако, мы почти ничего не знаем. Сообщения легендарного характера, сохраненные более поздними авторами, звучные, но во многом загадочные тексты «Авесты» и немногочисленные археологические материалы представляют широкие возможности для бурных научных споров и смелых гипотез о якобы существовавших в то время древнейших среднеазиатских государствах. Но достоверными сведения об исторических судьбах народов Средней Азии I тысячелетия до н. э. становятся лишь с середины VI в., когда ее основные области вошли в состав Ахеменидской державы. С тех пор в течение двух столетий, вплоть до походов Александра Македонского, история Средней Азии тесно связана с историей ахеменидского «царства стран», первой в истории человечества державы, претендовавшей на мировое господство, т. е. на власть и над Востоком, и над Западом, Позднее народы Средней Азии вошли в состав империи Александра, а после его смерти — в царство Селевка, одного из наиболее талантливых сподвижников этого великого полководца. И, наконец, около середины III в. до н. э, завершая эпоху тесного переплетения исторических судеб древних народов Запада и Востока, на севере современного Афганистана и в южных районах Средней Азии возникает своеобразное Греко-Бактрийское царство, государство наследников Александра в самом сердце Азиатского материка.Ф. Тютчев
В «царстве стран»
Судьбы ахеменидского «царства стран» уже давно привлекли к себе внимание европейских исследователей. Достаточно вспомнить, что еще Нибур, единственный уцелевший участник первой европейской научной экспедиции на Восток, снаряженной в 1761 г. королевским правительством Дании, немало сил и времени уделил истории Ахеменидской державы и пытался, правда без особого успеха, прочитать древнеперсидские клинописные надписи; копии нескольких из них он, как известно, привез с собой в Европу. Со времени Нибура история ахеменидского Ирана и тайна древнеперсидской клинописи не переставали волновать европейских ученых. Интерес к Ахеменидской державе ничуть не ослабел и после прогремевших подвигов Генри Роулинсона, который в 1835–1847 гг. скопировал и расшифровал самую большую, самую ценную в историческом отношении и самую прославленную в истории науки древнеперсидскую надпись, высеченную по приказу царя Дария I на Бехистунской скале, на древнем пути из Месопотамии в Иран. Однако ни ранние исследователи, ни многочисленные ученые, изучавшие в конце XIX — начале XX в. историю древнего Ирана, не уделили, да и не могли в силу тогдашнего уровня знаний уделить должного внимания истории северо-восточных владений ахеменидских царей — территории современных среднеазиатских республик. Что касается работ по археологии и истории культуры и искусства, то в них до Великой Октябрьской революции, если не считать верхний слой Анау (как теперь установлено, этот слой относится к ахеменидскому времени), речь шла лишь об одном памятнике, вернее, об одной коллекции, которую можно было связывать со Средней Азией VI–IV вв. до н. э. Эта коллекция, состоящая примерно из 200 золотых, бронзовых и других художественных изделий и полутора тысяч монет, получила всемирную известность под названием «Аму-дарьинского клада» (рис. 10–11). Она была куплена в 1880–1882 гг. по частям английскими коллекционерами О. У. Фрэнком и А. Кэннингхемом на антикварном рынке северо-западной Индии, впоследствии попала в Британский музей в Лондоне и была опубликована в 1905 г. хранителем этого музея, известным искусствоведом О. М. Дальтоном в книге «Клад Окса»[3]. Что представлял собой этот клад и где он был найден, еще не совсем ясно.
Рис. 10. Золотой браслет из «Аму-дарьинского клада»

Рис. 11. Ручка серебряного сосуда из «Аму-дарьинского клада»
Со слов торговцев древностями из города Равалпинди А. Кэннингхем сообщил, что купленные им и О. У. Фрэнком вещи были найдены в 1877 г. на северном берегу Аму-Дарьи у переправы Тахтп-Кувад на полпути между городами Хульм (в современном Афганистане) и Кобадиан (на юге Таджикской ССР). Бухарские купцы, доставившие все эти вещи в Индию, рассказывали, что их сокровища найдены в самом Кобадиане. М. М. Дьяконов же, руководивший в 1950–1953 гг. археологическими работами на территории бывшего Кобадианского бекства на юге нынешнего Таджикистана, вообще отказывался признать рассматриваемую коллекцию как найденную одновременно, полагая, что вещи «клада» были собраны в разных местах Кобадианского бекства в разное время и лишь случайно все вместе попали к одним и тем же купцам. Совсем недавно, уже в 1962 г., вопрос о месте и условиях находки Аму-дарьинского клада был рассмотрен вновь Т. И. Зеймаль и Е. В. Зеймалем, которые, указав, что после 1877 г. в Кобадианском бекстве ни разу больше пе было зафиксировано находок золотых вещей, привели дополнительные доводы, подтверждающие, что коллекция из Кобадиана это все-таки клад. Они сочли также более вероятной информацию А. Кэннингхема, указав как на вероятное место находки клада на городище Тахти-Кувад, лежащее у слияния рек Вахша и Пянджа (верхнее течение Аму-Дарьи). Лучше известен путь клада из Кобадиана в Равалпинди, вернее, события, которые чуть было не прервали его путь. Эти события таковы. В мае 1880 г., во время второй англо-афганской войны, в лагере одного из английских резидентов в южном Афганистане, капитана Бэртона, стало известно о нападении на караван бухарских купцов, идущий из Кабула в Индию, афганцев из племени гильзаев. Путешественники были ограблены начисто. Благодаря вмешательству Бэртона значительная часть сокровищ была, однако, возвращена, и незадачливые бухарские купцы отправились в дальнейший путь, оставив английскому капитану золотой браслет прекрасной работы. Содержимое их вьюков, правда, уменьшилось (по мнению Бэртона, примерно на четверть, по словам же самих пострадавших— несколько больше), так как кое-что из добытого гильзаи все же прибрали к рукам. Но купцы были рады и тому, что удалось спасти, и, по-видимому, до индийской границы с их сокровищем не случилось ничего особенного, хотя вполне вероятно дальнейшее уменьшение его веса: бакшиш — великое зло, а на пути каравана было столько застав! Наконец, в Равалпинди бухарские купцы вручили свой груз какому-то индийцу-меняле. Затем кобадианские вещи прошли, видимо, через руки не одного ювелира и торговца древностями, прежде чем попасть к А. Кэннингхему и О. У. Фрэнку. Дальнейшая судьба клада, вернее, того, что от него осталось, нам уже известна. Встает, конечно, вопрос, почему все-таки замечательный клад, богатейшая находка на землях Бухарского эмирата (Кобадианское бекство входило в его состав) уплыл за тридевять морей, вместо того чтобы украшать один из музеев нашей страны. Объясняется это тем, что Бухарский эмират, вассал Российской империи, был отсталым феодальным государством с низким уровнем культуры, с почти поголовно неграмотным населением. Музеев, не говоря уже о научно-исследовательских институтах, в эмирате не было, да и вообще историей своей страны в бухарских владениях тогда почти никто не интересовался. В этих условиях большой спрос на памятники старины среди английских офицеров и чиновников в северо-западной Индии породил постоянный приток туда среднеазиатских древностей. Такое положение сохранялось еще и в 1898 г. А. А. Семенов (позднее известный советский востоковед, действительный член Академии наук Таджикской ССР) при встрече в Кабуле с пешаварскими купцами услышал от них такой рассказ об их занятиях в Средней Азии: «…собираем здесь старинные вещи… а в Индии у нас их покупают англичане, так что иной раз и хорошие деньги зарабатываем… У «инглизов» много денег, — твердили они (А. А. Семенову) и не без иронии добавляли: чем мы виноваты, если русские господа так бедны, что не могут заплатить, сколько мы просим?» Так и ушел за границу Аму-дарьинский клад, состоящий из замечательных по исполнению и по историческому значению предметов. Причем даже О. Дальтон рассматривал этот клад не как памятник, освещающий культуру и искусство древних народов Средней Азии, а как неизвестно кем привезенное сюда собрание произведений древнеперсидских и древнегреческих мастеров. Что же касается положения среднеазиатских областей в составе Ахеменидской державы, то оно просто выпадало из поля зрения исследователей. Правда, общие представления о племенах и народах Средней Азии того периода были уже достаточно определенными. Так, было известно, что все основные племена и народы Средней Азии VI–IV вв. до н. э. по их хозяйственной деятельности и культуре делились на две группы: оседлых земледельцев и кочевников-скотоводов. О скотоводческих племенах речь у нас будет идти ниже, в третьей главе. К оседлым же земледельцам Средней Азии тогда относились бактрийцы, жители Бактрии — обширной области, охватывавшей юг современных Узбекской и Таджикской ССР и север Афганистана; согдийцы, заселявшие Согд — центральную часть среднеазиатского междуречья с долинами Зеравша-на и Кашка-Дарьи; хорезмийцы, жившие в Хорезме, в низовьях Аму-Дарьи; парфяне — в Парфпи, в предгорьях Копет-Дага. Земледельцами были жители древней Маргианы, долины р. Мургаб, куда в период грозных событий упадка культур Анау переселились потомки древнейших земледельцев Средней Азии. Оседлоземледельческими были также и древние поселения Ферганской долины, нынешней жемчужины Средней Азии. Каковы, однако, были культура, искусство и быт этих народов, большей частью подчиненных ахеменидским «царям царей», оставалось неясным. Историки древнего Востока, как правило, ограничивались лишь лаконичным указанием на то, что эти народы вошли в состав Ахеменидской державы в результате завоевательных походов ее знаменитого основателя, царя Кира. И лишь гибель этого прославленного полководца и государственного деятеля в войне со среднеазиатскими кочевниками-массагетами описывалась более тщательно и подробно. Но вот в изучении Средней Азии VI–IV вв. до н. э. наступила новая эпоха, эпоха углубленных исследований тех сведений, которые содержат письменные источники, эпоха широких археологических работ в поисках новых материалов. И оказалось, что, как пи скудны сведения этих источников, — рассмотренные под соответствующим углом зрения они позволяют все же выявить общие контуры политических событий в среднеазиатских областях той эпохи, составить представление и о некоторых других важных историко-культурных проблемах. Многое выяснилось и в результате анализа новых находок в Иране, Афганистане и Ираке, равно как и тех уточнений и открытий, которые были сделаны за последние 20–30 лет в изучении ахеменидских надписей. И, наконец, немалую роль сыграли открытия советских археологов в самой Средней Азии. Наиболее результативны пока исследования сотрудников Хорезмской экспедиции. Организатор и руководитель этой крупнейшей археологической экспедиции С. П. Толстов (ныне член-корреспондент Академии наук СССР) еще до Великой Отечественной войны, приступая к широким полевым исследованиям, собрал воедино и проанализировал все сведения письменных источников о Хорезме, области Аму-дарьинской дельты. И хотя эти сведения были весьма скудными, выяснилось, что Хорезм действительно входил в состав ахеменидского «царства стран». Стало также ясным и то, что ко времени походов Александра Македонского Хорезм освободился уже от власти Ахеменидов и представлял собой независимое государство.

Рис. 12. План городища Кюзели-гыр (1. Пески. 2. Такыры. 3. Расчищенные стены. 4. Шурфы. 5. Нерасчищенные стены. 6. Полосы поверхностной расчистки. I–VII — раскопы.)
По мере того как в Хорезме развертывались раскопочные работы, перед нами один за другим стали открываться и археологические памятники ахеменидского времени. Так, было исследовано сравнительно большое поселение — крепость ахеменидского времени, городище Кюзели-гыр (рис. 12) площадью примерно 20 га. располагавшееся на вершпне одной из возвышенностей Заунгузских Каракумов, в западном (левобережном) Хорезме (в 85 км к западу от г. Ташауз). Как показали раскопки, поселение было окружено крепостной стеной с овальными башнями; вдоль стены тянулся стрелковый коридор, а в ее кладке были прорезаны прямоугольные бойницы, расположенные в два яруса в шахматном порядке (рис. 13 а, б). В центре поселения находилось крупное здание, раскопанное частично в 1953–1954 гг. О. А. Вишневской. Это был, невидимому, дворец или цитадель с просторными парадными помещениями: одно из них, вскрытое при раскопках, занимало площадь в 285 кв. м. Севернее этой постройки были раскопаны основания трех башен (рис. 14), назначение которых точно определить не удалось (по мнению С. П. Толстова, это культовые сооружения, связанные с центральным зданием). Помимо центральной дворцовой постройки на территории городища под защитой его крепостных стен располагались также небольшие жилые и хозяйственные помещения. И крепостная стена, и башни, и все другие постройки Кюзели-гыра были сооружены из сбитой глины — пахсы и крупного сырцового кирпича.
 а
а
 б
б
Рис. 13. Кюзели-гыр. Раскопки башни (а) и крепостных стен (б)

Рис. 14. Кюзели-гыр. Раскопки цоколей трех сооружений в центре городища (снимок с самолета)
Из тех же строительных материалов возводились степы большого здания (возможно, загородной усадьбы), раскопанного в 1958–1960 гг. отрядом М. Г. Воробьевой в урочище Дингильдже, в правобережном Хорезме (в 10 км к северо-востоку от Турткуля). В северо-восточном углу усадьбы открыт многокомнатный дом с полутора десятками помещений жилого, хозяйственного и парадного назначения. Между домом и внешней стеной усадьбы найдены также подземные комнаты с плоскими перекрытиями. На территории усадьбы раскопан и большой прямоугольный водоем. Но, пожалуй, наиболее интересным археологическим памятником Хорезма ахеменидского времени следует признать городище Калалы-гыр I — огромную резиденцию ахеменидского наместника конца V — начала IV в. до н. э, оставшуюся недостроенной в связи с происшедшим, по-видимому, именно в то время освобождением Хорезма от власти персов. Это городище лежит неподалеку от Кюзели-гыра, к востоку от него. Расположено оно на краю каменистой возвышенности на сухом русле р. Даудан — одном из древних протоков Аму-Дарьи, пересекающем северо-восточные Каракумы. Городище Калалы-гыр I— прямоугольное в плане (рис. 15). Его площадь превышает 63 га, это крупнейшее по своим размерам городище Хорезма. Стены Калалы-гыра I по замыслу его строителей должны были усиливаться башнями, а обороне четырех его ворот должны были способствовать сложные предвратные лабиринты и башни. Близ западной крепостной степы, с ее внутренней стороны, располагалось (вернее, должно было располагаться) грандиозное дворцовое здание. Исследования, проведенные здесь в 1953 и 1958 гг. отрядом Ю. А. Рапопорта, показали, что ни оборонительные сооружения, ни дворцовое здание — единственная постройка на огромной площади городища — не были закончены; работы по их возведению были прерваны в то время, когда во дворце велись отделочные работы, а по всему периметру огромного городища был уже воздвигнут высокий 15-метровый пахсовый цоколь крепостных стен и башен. После неожиданного прекращения строительных работ городище Калалы-гыр I было заброшено, и лишь через несколько десятилетий после этого в сохранявших еще свои перекрытия дворцовых помещениях разместился небольшой пограничный гарнизон, который, однако, тоже вскоре покинул негостеприимные руины после какой-то катастрофы, сопровождавшейся большим пожаром. Вновь люди пришли на Калалы-гыр лишь много веков спустя (не раньше II в. н. э.), но жить здесь уже никто не стал: новые пришельцы, жители близлежащих мест, долгое время (вплоть до IV в. н. э.) использовали древние сооружения как кладбище для оссуарных захоронений (об этих своеобразных захоронениях, представлявших собою одну из загадок среднеазиатской археологии, мы еще будем говорить ниже).

Рис. 15. План городища Калалы-гыр
Что же увидели на калалы-гырском городище археологи Хорезмской экспедиции? Остатки дворца и сейчас производят сильное впечатление; отдельные останцы древних дворцовых стен вздымаются в высоту более чем на 7 м, а план всего сооружения еще до раскопок питался почти полностью, так как контур стен был довольно четок даже в сильно разрушенных и засыпанных помещениях; особенно хорошо виден он был с самолета (рис. 16). И, хотя раскопки затронули пока всего лишь около одной шестой части площади дворца (1750 из 10 460 кв. м), многое и в планировке, и устройстве его можно считать выясненным (рис. 17). Так, установлено, что степы дворцовых помещений были сложены из блоков пахсы (внизу) и сырцовых кирпичей, выше которых находились еще кладки из гипсовых (алебастровых) плиток; слон таких плиток должен был защищать сырцовые и пахсовые кладки от размывания. Такими же плитками была, вероятно, выстлана и плоская крыша. Наряду с обычными квадратными плитками (40 X 40 × 7 см) при раскопках были обнаружены также алебастровые кирпичи длиной 30 и высотой 20 см. На их торцовой стороне имеются полуцилиндрические выемки, которые, если составить два таких кирпича вместе, образуют круглое отверстие — гнездо для балки перекрытия. Среди найденных на Калалы-гыре архитектурных деталей имеется и часть алебастровой формы для отливки орлиной головы (рис. 18). Сравнение этой находки с капителями, венчающими колонны знаменитого «Стоколонного зала», одной из резиденций Ахеменпдов в Персеполе, не оставляет сомнений, что калалы-гырская форма предназначалась для отливки орлиноголового грифона, изображения которого должны были украшать капители колонн парадного зала (или парадных залов) во дворце ахеменидского наместника в Хорезме. Среди раскопанных помещений по крайней мере два могли иметь такие капители. В одном из них (помещение № 23) было шесть деревянных колонн с каменными основаниями, расположенных в два ряда (рис. 19), в другом (помещение № 12) плоскую кровлю поддерживали вытянутые в ряд четыре таких колонны (рис. 20).

Рис. 16. Дворец Калалы-гыр (снимок с самолета)

Рис. 17. План дворца Калалы-гыр (№ 1—18 — помещения дворца)

Рис. 18. Голова грифона. Отливка по форме, найденной в Калалы-гыре

Рис. 19. Дворец Калалы-гыр. Помещение № 23

Царство греков в глубинной Азии

Рис. 23. Александр Македонский в бою. Деталь мозаики из Помпеи
11 июня 323 г. до н. э. среди воинов многочисленных царских отрядов и пестрого разноязычного населения величайшего города древности — прославленного Вавилона поползли тревожные слухи о смерти Александра Македонского, великого царя и знаменитого полководца, с именем которого связаны и крах Ахеменидской державы, и колоссальные изменения всего привычного образа жизни древних народов восточного Среднеземноморья и глубинной Азии. Несмотря на свою молодость — ему было всего 33 года, — Александр (рис. 23) пережил уже многое: невероятные трудности походов и сражений и фантастические победы. Его имя окружал ореол громкой немеркнувшей славы. Казалось, что в мире не было силы, которая могла бы противостоять этому «любимцу богов», которого египетские жрецы объявили «сыном Амона», чье божественное происхождение скрепя сердце признали вольнолюбивые греки. Даже один из злейших его врагов, знаменитый греческий оратор Демосфен, и тот счел за лучшее посоветовать афинянам смириться и считать грозного царя, «если он того хочет, сыном Зевса или также и Посейдона». И вот, говорят, он умер. Тысячи сподвижников великого полководца, поверив слухам, огромной толпой явились к наглухо закрытым воротам царского дворца и добились, наконец, свидания с лежащим на смертном одре, обессилевшим, утратившим дар речи Александром. За несколько дней до этого, в разгаре бурной деятельности по упорядочению государственных дел и подготовки к новым военным предприятиям, чередующейся с буйными ночными пиршествами, молодой царь был сражен тяжелым приступом малярии. Железный организм, подорванный многолетними тяготами походной жизни и многочисленными ранениями, на сей раз сдал. Недолгая, но яркая жизнь Александра с тех пор вот уже более чем два тысячелетия служит неисчерпаемой темой различных легенд, исторических романов и всевозможных научных исследований. Картины ее проходили, наверно, перед глазами его воинов, когда те медленно, в глубокой скорби, один за другим шли мимо царского ложа. Среди этих воинов были люди различных возрастов и разных национальностей. Как сообщают древние авторы, Александр еще узнавал кое-кого из воинов и слабо кивал им головой. С умирающим царем в тот день пришли проститься старые ветераны, которые помнили еще его отца Филиппа, превратившего маленькую, слабую Македонию в гегемона всего греческого мира и уже готового во главе союзных войск начать решительную схватку с Ахеменидским царством, чтобы отомстить за разрушительные походы персов на Грецию, оградить Элладу от их повторения и освободить от персидского ига греческие области и города Малой Азии. Они помнили также убийство Филиппа одним из его телохранителей, подкупленным, как говорили, на персидские деньги. С умирающим полководцем в тот день прощались и воины другого поколения, те, кто через два года после воцарения Александра, летом 334 г. до н. э, переправой через Геллеспонт начинали великий восточный поход, а позднее участвовали в завоевании Египта и в кровопролитных битвах, стоивших последнему ахеменидскому царю Дарию III престола и жизни. Этим воинам довелось сражаться и на древних землях Бактрии и Согда. Они были свидетелями тех ужасных, отнюдь не принесших славы их предводителю, репрессий, которые он обрушил на бактрийцев и согдийцев: взбешенный сопротивлением согдийцев, царь-завоеватель отдал приказ сжигать все встречавшиеся на пути его отрядов деревни и предавать смерти всех взрослых их обитателей. По словам Диодора Сицилийского, Александр истребил при этом более 120 тысяч человек. В итоге на усмирение одного лишь Согда македонянам потребовалось три года, тогда как до этого они менее чем за пять лет завоевали Малую Азию, Египет, Месопотамию и весь Иран. Эти воины участвовали в торжествах по случаю гибели легендарного Спитамена, одного из согдийских предводителей, и сдачи Александру других среднеазиатских вождей, изменивших своему народу. Эти воины, следуя примеру своего царя, женившегося на прекрасной Роксане, дочери вождя бактрийцев Оксиарта, вступали в браки с согдийскими, бактрийскими или персидскими женщинами. Эти воины, наконец, пройдя долину Инда и узнав, что до «края света» все еще очень далеко, доведенные до крайности многолетними тяготами походов и сражений, отказались однажды в дебрях индийских джунглей идти вперед и принудили своего честолюбивого полководца, никогда не отступавшего ни перед какими трудностями, отдать приказ об окончании похода. Среди тех, кто в скорбный день прощания проходил перед угасающим взором Александра, были и молодые воины, сыны Персии, Бактрии и Согда, те, на кого он возлагал особые надежды. Этим юным воинам, по его замыслам, предстояли новые походы на завоевание всех еще не покоренных стран и областей: через морские просторы Персидского залива и Красного моря — на побережье Аравийского полуострова, через пески Африки — в Ливию и Карфаген, через север Балкан и Адриатическое море — в земли этрусков и римлян в Италии, а там позднее, быть может, и снова на восток — в долину Ганга, о существовании которого эллинский мир узнал впервые после походов Александра, из рассказов, услышанных им на берегах Инда. Этим воинам, по плану Александра, предстояло стать ядром будущего единого народа («персогреков») будущей единой и всеобъемлющей его, Александра, «мировой империи»… Вечером 13 июня Александра не стало. И вместе со смертью прославленного царя не только рухнула его империя, простиравшаяся уже от песков Ливии до индийских джунглей и от Черного моря до Персидского залива: в прах оказалась развеяна и сама идея мирового господства, с которой долгие годы носились определенные слои тогдашнего общества. Среди тех, кто лелеял эту идею, наряду с ближайшим окружением великого македонца и приближенной им к себе древнеперсидской знатью, были и представители Бактрии. Той самой Бактрии, о которой до походов Александра среди греков ходили лишь смутные, легендарные слухи. Той самой Бактрии, которая в период господства Ахеменидов многократно пыталась посадить на трон персидского «царя царей» своих ставленников. Той самой Бактрии, которая, став после разгрома персидских армий местом концентрации всех антимакедонских сил, позднее, после привлечения Александром бактрийской знати на свою сторону, превратилась в основной форпост его власти на востоке империи. Той самой Бактрии, чья верхушка, окружая свою землячку царицу Роксану и ее сына, провозглашенного наследником Александра (наряду со слабоумным братом Александра Филиппом Арридеем), полагала, и не без некоторых оснований, что приблизилась, наконец, к престолу вселенной. В длительной, многолетней борьбе, вспыхнувшей сразу же после смерти Александра, когда сподвижники (диадохи) великого полководца никак не могли поделить между собой его обширное наследство, Бактрия в лице своей знати и войсковых подразделений последовательно поддерживала тех диадохов, которые выступали за продолжение попытки сближения греков и азиатов и признавали идею неделимости империи. Однако ход истории был неумолим. Роксана и ее малолетний сын, проведя несколько лет в неволе в Македонии, были задушены по приказу вдовствующей македонской царицы Олимпиады, матери Александра и Филиппа Арридея. «Мировая империя» распалась на несколько крупных и множество мелких царств. Да и сам населенный мир после походов Александра оказался значительно более обширным, чем это представлялось ранее: он уходил куда-то далеко на юг от нильских порогов и далек» на восток от берегов Инда. И завоевать весь этот мир оказалось не по плечу даже великому македонцу… Но десятилетне славных и страшных дел не прошло бесследно. Грандиозные и удивительные походы горстки греков через Малую Азию и Египет, Месопотамию, Иран, Среднюю Азию, Индию не только расширили географический кругозор тогдашнего общества, но также способствовали взаимному сближению народов. И дело здесь не только и не столько в попытке Александра создать единый народ путем включения в свою свиту восточной знати, переселения одних людей из Европы в Азию, а других — из Азии в Европу или поощрения браков греко-македонских воинов с восточными женщинами (из сообщений древних авторов известно, что ко времени смерти Александра примерно 80 его высших военачальников находились в родстве с восточной знатью; известно также о праздновании за счет царя свадьбы 10 тысяч воинов с «азиатками»). Деяния этого великого полководца и государственного деятеля соответствовали исторически обусловленному стремлению передовых народов того времени к хозяйственному и культурному сближению. В результате его походов стало возможным непосредственное их ознакомление с культурными достижениями разных областей древнего мира. И если идея политического объединения всех населенных частей света потерпела тогда решительный крах (хотя и применялась еще частенько как пропагандистский лозунг для одурманивания народа и воинов), то процесс взаимовлияния и синкретизма различных культурных традиций после походов Александра стал приобретать все более и более широкий размах. Этот процесс не в состоянии была остановить ни вражда наследовавших Александру диадохов, разрывавших на части его «мировую империю», ни выдвижение новых царствующих династий. В жестокой борьбе, развернувшейся сразу же после смерти Александра между его военачальниками — диодохами, в конечном счете наибольший успех выпал на долю двух талантливых полководцев — Птолемея и Селевка. Первый уже в 323 г. до н. э., сразу после смерти Александра, обосновался в Египте, где царствование его потомков продолжалось около трех веков и завершилось гибелью последней птолемеевской царицы — Клеопатры и ее возлюбленного — римского триумвира Марка Антония в борьбе с первым императором Рима Октавианом Августом. Государство Селевкидов, основанное Селевком, просуществовало на полстолетие меньше, но охватывало оно одно время более обширные территории — почти все владения Александра в Азии. Вынужденный поспешно покинуть былую столицу «мировой империи», Селевк во главе небольшого отряда вновь вступил в Вавилон в октябре 312 г. до н. э., радостно встреченный как греческим, так и более многочисленным азиатским его населением. Эта радостная встреча, как показали события последующих лет, отнюдь не была только данью восхищения военным талантом Селевка. Она была подчеркнутой демонстрацией поддержки той политической линии, которую проводил этот царь-диадох. Один из приверженцев курса Александра на сближение между греками и азиатами, муж Анамы, пользовавшейся огромным авторитетом дочери согдийского героя Спитамена, Селевк резко отличался от господствовавших до него в Вавилоне в течение нескольких лет представителей так называемой старомакедонской группировки, которая еще при жизни Александра роптала против его «измены» эллинским порядкам и приверженности к «варварам». Для политики Селевка показательно также, что и сам он, и его сын, верный соратник и соправитель на Востоке (а позднее и преемник на царском престоле), Антиох (рис. 24 а, слева) усиленно демонстрировали свою любовь и уважение к Анаме, называя ее именем города своего царства и оказывая ей всяческие почести; таким путем первые Селевкиды стремились подчеркнуть не только македонские, но и восточные корни своей династии.

Рис. 24. Монеты Антиоха I (а)
Селевку I и Антиоху I удалось на первых порах создать государство, по площади почти не уступавшее Ахеменидскому «царству стран», государство, протянувшееся от Дарданелл до восточных рубежей Бактрии. Однако именно обширность и неоднородность царства Селевкидов в отличие от компактности и хозяйственной целостности Птолемеевского Египта и были причиной его слабости. Уже в 50-м году «селевкидской эры» (262 г. до н. э.) из-под власти Антиоха освобождается Пергам, небольшое царство на западе Малой Азии, позднее прославившееся восстанием рабов (во главе с Аристоником) и знаменитым алтарем Зевса (из этой постройки происходит тот изумительный скульптурный фриз, который хранился в Берлинском музее, был спасен в конце второй мировой войны воинами Советской Армии и перед возвращением в Германию демонстрировался в залах Эрмитажа). А еще 10–15 лет спустя на востоке Селевкидских владений возникают два новых государства, одно из которых — Парфянское царство — в скором будущем объединит почти на 500 лет весь Иран и Месопотамию и станет главным соперником Рима в Передней Азии, в то время как второе — своеобразное царство греков в Бактрии, — просуществовав немногим более столетия, оставит по себе долгую память как форпост эллинизма в самом сердце Азии. О Парфии речь еще будет идти в одной из последующих глав, а на царстве наследников Александра и Селевкидов в Бактрии остановимся несколько подробнее сейчас. О существовании этого государства ученые узнали уже давно. Еще в 1738 г. в Петербурге было опубликовано и первое монументальное исследование, посвященное этому удивительному царству, — книга академика Ф. З. Байера, написанная по латыни и озаглавленная «Historia regni graecorum Bactriani» («История Бактрийского царства греков»), а ровно столетие спустя в Бонне вышла в свет вторая обобщающая работа К. Лассена «К истории греческих и индо-скифских царей в Бактрии, Кабуле и Индии». Интересно, что одно из наиболее серьезных исследований нашего времени по истории греков в Бактрии и Индии — труд известного английского ученого В. В. Тарна был издан в 1938 г., т. е. через 200 лет после книги Байера и столетием позже работы Лассена. Истории греческой власти в глубинной Азии посвящены также многочисленные статьи и монографии, в том числе книги члена-корреспондента Академии наук СССР К. В. Тревер (1940 г.) и профессора индийского Бенаресского университета А. К. Нарайна (1957 г.) На первый взгляд об этом царстве, во всяком случае о политической истории его, мы имеем достаточно определенное представление. Увы, это совсем не так. Политическая история греко-бактрийских и греко-индийских царей крайне запутана. Объясняется это странное, казалось бы, явление не только скудостью сведений письменных источников, но и тем поистине грандиозным количеством недоказанных предположений, которые существуют еще в науке по поводу основного источника наших знаний об этих царях — их многочисленных монет. Эти предположения, переходя в течение столетий из одной работы в другую, постепенно превращались в сознании исследователей в нечто неоспоримое и несомненное, так что часто, читая то или иное сочинение, нельзя даже понять, что в нем является прочно установленным фактом, а что не более чем гипотетическим утверждением. Более того, эта отрасль исторических знаний и ныне предоставляет широкий простор для всевозможных предположений. И М. Е. Массон, известный советский археолог и нумизмат, не слишком уж сгущает краски, когда обвиняет даже столь серьезного и авторитетного исследователя, как В. В. Тарн, в том, что в своей книге тот женит «по своему усмотрению» разных государей. «Дочь Антпоха II (Селевкида. — Б. С.) и сестра Селевка II, — пишет М. Е. Массон, — выдана им (т. е. Тарном. — Б. С.) замуж за Диодота I (первого греко-бактрийского царя. — Б. С.). Возможно родившийся от этого заподозренного брака ребенок рекомендуется дочерью, которая, являясь сама предположенным лицом вторичного допущения, в третьем допущении становится женой Евтидема, одного из приближенных Диодота I… В четвертом этаже предположений эта мнимая внучка Антиоха II объявляется матерью Деметрия[4], что для читателя должно звучать приемлемо, поскольку его отец был Евтидем. Менандру (греческому государю в Индии. — Б. С.) устраивается брак с дочерью Деметрия, и даже в сераль Чандрагупты (индийский царь из династии Маурья. — Б. С.) выделена одна из селевкидских принцесс. И т. д. и т. п.». Но, несмотря на все сложности, исследователи пришли все же в изучении истории Греко-Бактрийского царства и к позитивным результатам. Эти результаты хотя еще далеко не всеобъемлющи, по все-таки достаточно определенны. Они намечают основные общие контуры политической истории греков в Бактрии и Индии.

Рис. 24. Монеты греко-бактрийского царя Диодота (б)
Политическая история этих наследников Александра и Селевкидов в глубинной Азии началась примерно в 250 г. до н. э., когда, воспользовавшись борьбой между Селевкидами и Птолемеями за господство над восточным побережьем Средиземного моря, от своих былых государей отложился, по словам Юстина, «Диодот, правитель тысячи бактрийских городов, и приказал именовать себя царем». Носило ли это отделение мирный характер или явилось вооруженным выступлением, — неясно. Но в сердце Азии было провозглашено новое царство с центром в Бактрии и с былым селевкидским наместником-греком на царском престоле. Селевкидам на первых порах было не до Бактрии, тем более что в это же время от них отпала и Парфия, причем там власть вскоре перешла из рук греческого наместника к представителям местных кочевых племен[5]. Последнее обстоятельство толкнуло Диодота I (рис. 24 б), опасавшегося, возможно, подобного же оборота дел в Бактрии, на сближение с Селевком II. Однако власть греков в Бактрии оказалась достаточно прочной. И уже сын и преемник первого греко-бактрийского государя Диодот II, исходя из чисто личных соображений, позволил себе такую роскошь, как разрыв союза с Селевкидами и поддержка боровшегося с ними парфянского царя. Этот опасный эксперимент не вызвал, понятно, восторга греческой верхушки Бактрии, и Диодот II был свергнут Евтидемом, одним из соратников его отца: по сообщению Страбона, вместе с Диодотом I в отпадении Бактрии участвовали и другие наместники, в том числе Евтидем (единственный названный по имени), действовавший в «окрестной области». (Как показал анализ нумизматических данных, произведенный советскими исследователями, этой областью скорее всего был Согд; более точно — район современного Бухарского оазиса, где и позднее выпускались монеты, подражающие чекану Евтидема.) Когда умер Диодот I и долго ли правил Бактрией его преемник, прежде чем к власти пришел Евтидем, пока с достаточной убедительностью определить не удается. Известно лишь, что в 212 г. до н. э. Евтидем был уже греко-бактрийским царем.

Рис. 24. Монеты греко-бактрийского царя Евтидема (в)
На время царствования Евтидема (рис. 24 в) приходится последняя попытка Селевкидов восстановить свою власть над Бактрией. Вражда между нею и молодым парфянским государством, явившаяся неизбежным последствием свержения Диодота II, облегчала, казалось бы, задачу восточного похода Антиоха III, с правлением которого (223–187 гг. до н. э.) связаны временное возрождение селевкидской мощи и первое роковое столкновение с Римом. Утвердившись на троне и урегулировав более или менее дела на Западе, Антиох III разбил в 209 г. до н. э. парфян и заставил их царя признать свою зависимость от центральной селевкидской власти. Обезопасив тем самым свой тыл, Антиох III обратился против Греко-Бактрийского царства. Разгромив на границе Бактрии десятитысячный авангардный конный отряд Евтидема, селевкидская армия осадила греко-бактрийского царя в его столице Бактрах. Осада продолжалась два года и закончилась в 206 г. до н. э. миром, заключенным по предложению Евтидема. Селевкидский царь по этому миру фактически узаконил независимость Греко-Бактрийского государства. Евтидем же согласился признать свою номинальную зависимость от Селевкидов и предоставить Антиоху боевых слонов для похода в Индию. Союз двух греческих государей Азии скреплялся браком сына Евтидема Деметрия с дочерью Антиоха. Интересно, что одним из аргументов Евтидема в пользу заключения мира было указание на опасность, угрожавшую всем эллинам. Посредник Евтидема, по словам Полибия, прямо указывал Антиоху, что на севере «стоят огромные полчища кочевников, угрожающие им обоим, и если только варвары перейдут границу, то страна наверное будет завоевана ими». Это напоминание, известное в литературе как «угроза Евтидема», послужило, вероятно, одним из наиболее убедительных доводов. Восточный поход Антиоха III, широко разрекламированный его приверженцами и заметно поднявший авторитет этого безусловно способного политического деятеля, удостоенного титула «Великий», был тем не менее не слишком результативным: ведь нельзя же забывать, что в обмен на номинальное признание зависимости от Селевкидов и Парфянское, и Греко-Бактрийское царства получили юридические подтверждения их самостоятельности. Не лучшими были и результаты похода Антиоха в Индию: думать о каких бы то пи было территориальных приобретениях здесь он и не смел — времена Александра безвозвратно миновали, — и дело ограничилось дружеской встречей с царем Субхаласеной и получением от него в подарок 150 слонов. Однако Антиох считал, что он добился крупного политического успеха, и, главное, на время обезопасил себя от угрозы с востока. По возвращении на запад он вскоре вновь ввязался в длительную борьбу за гегемонию в восточном Средиземноморье. Приютив у себя при дворе знаменитого карфагенского полководца Ганнибала, Антиох III столкнулся с молодой Римской республикой и, недооценив эту новую угрозу, потерпел сокрушительное поражение под Магнезией (190 г. до н. э.) от Публия Корнелия Сципиона. И хотя Селевкидское царство продолжало еще существовать, судьба его действительно была уже решена: оно неминуемо должно было пасть под ударами римлян и парфян…

Рис. 24. Монеты греко-бактрийского царя Деметрия (г)
Между тем в глубинах Азии, отделенное от остального эллинского мира все увеличивающимся Парфянским государством, как прочный бастион греческой власти, раскинулось царство Евтидема, сумевшее не только как-то избегнуть немедленного вторжения грозных кочевников, но даже перейти к завоевательным операциям. На основании смутных указаний Страбона, писавшего, что «бактрийские цари простерли свои владения до Серов (китайцев?) и фринов (жителей Восточного Туркестана? или хуннов?)», некоторые исследователи считают возможным предполагать расширение Греко-Бактрийского царствадалеко на северо-восток. Происходила ли в действительности такая экспансия, сказать трудно. Другое дело — завоевательные походы за Гиндукуш, на юг современного Афганистана и в Индию, где греки и правда обосновались достаточно прочно. Завоевание Индии, по сообщениям античных авторов, было осуществлено Деметрием (рис. 24 г), сыном Евтидема и зятем Антиоха III, и неким царем Менандром, которые, по словам Страбона, покорили даже современные Синд (дельта Инда) и полуостров Катхивар. Однако одновременно с завоеванием Индии в среде греческой верхушки в глубинной Азии начинаются раздоры и какие-то сложные политические интриги, картина которых еще не ясна и по поводу которых как раз и состязаются в изобретательности все исследователи вплоть до В. В. Тарна. В Бактрии в это время власть, по-видимому, захватывает военачальник Евкратид, в борьбе с которым около 167 г. до н. э. гибнет «законный» царь Деметрий, спешно вернувшийся из Индии. Однако победитель Евкратид не смог уже объединить сильно разросшиеся греческие владения в Бактрии и Индии, хотя одно время казалось, что это ему удастся. Наместники Деметрия в разных областях Бактрии и Индии начинают борьбу за самостоятельность. Другие, подобно Менандру, добились этого еще при Деметрии, и нам известны монеты с именами примерно двух десятков новых «царей»: Антимаха, Филоксена, Лисия, Теофила, Архебия, Антиалкида, Аминты, Аполлодота, Стратона, Зоила, Никия, Гиппострата и т. д. На севере из-под власти греков окончательно освобождается Согд. На западе часть их бывших владений захватывают парфяне. В довершение ко всему Евкратид около 155 г. до н. э… т. е. через десять с небольшим лет после победы над Деметрием, погибает от руки собственного сына. Владения греков в Бактрии и Индии к середине II в. до н. э превращаются, таким образом, в конгломерат мелких «царств», правители которых ожесточенно борются за власть, то вступая в недолговечные союзы, то расторгая их ради новых, столь же непрочных коалиций. И вот тогда-то на Бактрию, а затем и на северную Индию обрушивается с севера волна кочевников, поглотившая всю эту свору честолюбивых и авантюристичных «наследников Александра» в глубинной Азии. Крах греческого господства в Бактрии приходится на время между 141 и 128 гг. до н. э.: в 141 г. бактрийские греки последний раз упоминаются в источниках как самостоятельная политическая сила (в этот год, по сообщению Юстина, они выступали против парфян как союзники селевкидского царя Деметрия II), в 128 г. посол китайского императора У-ди Чжан Цянь застает Бактрию уже покоренной кочевыми племенами. Таковы пока наши сведения о политической истории «греков Бактрии и Индии», касающиеся эффектной ее стороны — смены одних правителей другими. Однако для истории народов Востока и. в частности, народов Средней Азии, куда важнее было бы знать социально-экономическую и культурную историю греческих «царств» глубинной Азии. К сожалению, известные сейчас источники совсем не касаются социально-экономических сторон жизни этих стран. Вопрос о культуре и искусстве Греко-Бактрийского царства и о значении этого государства для последующей истории культуры и искусства народов Средней Азии, Индии и всего Востока привлек к себе внимание исследователей уже давно, причем по своей ожесточенности споры между учеными по этому вопросу мало чем уступают дискуссиям по вопросам политической истории греческих парей глубинной Азии. Исследователям прошлого столетня и начала XX в. (да и кое-кому из наших современников) представлялось само собой разумеющимся, что греческие цари Бактрии и Индии должны были непременно сыграть крупную роль в распространении на Востоке лучших достижений античной культуры и искусства. О том же, казалось бы. свидетельствовали монеты этих царей, поистине изумительные произведения медальерного искусства древнего мира. Попятно, что ко времени деятельности наследников Александра в глубинной Азии — селевкидских и греко-бактрийских царей — эти исследователи сразу же приурочили и замечательные памятники «гандхарского» искусства, расцвет которого, однако, как это вскоре выяснилось, относится к тому времени. когда этих царей давно уже не существовало (на «гандхарском» искусстве и связанном с ним круге вопросов мы остановимся в пятой главе). Но, хотя новых памятников прекрасного эллинского искусства, которое так хотели увидеть здесь эти исследователи, найти никак не удавалось, преувеличенное представление о культуртрегерской миссии греческих завоевателей изжить было нелегко. Окруженный ореолом славы эллинский царь в Азии оставался для многих историков все таким же, каким его представлял себе еще 125 лет назад К. Лассен, когда писал о «стоящем в Бактрии, на скрещении путей, греке, который правой рукой мог перелистывать Веды брахманов (Индии) и наски маздеистов (Средней Азия и Ирана), а левой потрясать засовы, которыми заперты были ворота Великой Китайской стены и вход в Срединное царство». В соответствии с такими представлениями даже многие крупные ученые приписывали предполагаемому «греко-бактрийскому искусству» выдающуюся роль в развитии то искусства Центральной и Восточной Азии (как это делал Э. Мейер, один из крупнейших историков античного мира), то парфянского и сасанидского искусства Ближнего Востока (как это утверждал Э. Херцфельд, видный специалист по истории и археологии Ирана). Недавно, в канун второй мировой войны, еще одна попытка выявить, наконец, какие-нибудь новые высокохудожественные памятники «греко-бактрийского искусства» была предпринята большим знатоком как античности, так и Востока — известным советским историком культуры и искусства древнего мира К. В. Тревер. Ее работы по изучению культуры и искусства Греко-Бактрийского царства явились ценным вкладом в науку, так как, тщательно собрав все известные перед войной данные, она дала блестящий историко-культурный и художественный разбор монет греко-бактрийских царей и убедительную характеристику культуры греческой верхушки Бактрии как эллинской, испытавшей, однако, воздействие со стороны Лидии, Средней Азии и Ирана, а возможно и Китая. Но когда, исходя из предвзятого положения, что в Греко-Бактрийском царстве должно было расцветать высокохудожественное синкретическое эллинско-восточное искусство, К. В. Тревер отнесла к этому искусству большую хрупну хранящихся в Эрмитаже изделий, ее постигло серьезное разочарование. Выявленные ею «памятники греко-бактрийского искусства» в свете исследований последующих лет оказались в основном относящимися к более поздним периодам, в то время как другие просто были изготовлены вне территории Бактрии. В чем же причина неудач многих исследователей культуры и искусства Греко-Бактрийского царства прошлого и нынешнего столетия? Эти неудачи прежде всего объясняются тем, что в течение более чем двухсот лет наука располагала одним-единственным вещественным источником но культуре и искусству таинственного царства греков в глубинной Азии — монетами греко-бактрийских царей. Источник же этот, позволяя в известной мере судить о культурных запросах греко-бактрийской верхушки, невольно своим особым характером поддерживал тот предвзятый подход к изучению культуры и искусства всего Греко-Бактрийского царства, о котором мы уже говорили выше. Избавление от этого предвзятого и, как оказалось, ошибочного подхода пришло лишь после начала широких археологических, работ в Бактрии; результаты же этих работ прочно вошли в науку совсем недавно, уже после того, как К. В. Тревер сформулировала основные положения своих исследований. Эти археологические работы показали, что достижения эллинской культуры в период существования Селевкидского и Греко-Бактрийского царств не затронули еще ни быт, ни культуру, ни искусство широких слоев местного населения глубинных областей Азиатского континента. Стало ясно, что сами цари «греков Бактрии и Индии» в отличие от Александра не только не обучались у Аристотеля, но и вообще вряд ли имели время и возможность глубоко вникать в культурные и научные достижения той эпохи. Постоянно враждующие друг с другом, опасающиеся нашествия кочевников, родственных основной массе подвластного им населения Бактрии и близлежащих областей и районов, вынужденные все время лавировать между многими противоборствующими силами, предводители греческих военных отрядов, захватившие власть в глубинной Азии, меньше всего были заинтересованы в том, чтобы народы их царств или даже верхушка этих народов осваивали культурные достижения античного мира. И действительно, как показали раскопки, эллинистическая культура Средней Азии и Индии достигла своего расцвета как раз тогда, когда власть греко-бактрийских царей была низвергнута. Отрицать воздействие античной культуры и искусства на культуру и искусство Востока вообще и Средней Азии в частности нет никаких оснований. Однако ныне уже ясно, что творческое восприятие замечательных культурных достижений античного мира проходило здесь совсем не в тревожное столетие существования Греко-Бактрийского царства и обучались этим культурным достижениям народы Средней Азии и Индии вовсе не у греко-бактрийских царей, а у ремесленников, освоивших традиции античной культуры и искусства. О том, были ли эти ремесленники греками, римлянами, эллинизированными жителями стран Восточного Средиземноморья, индийцами или бактрийцами, побывавшими в мастерских античных умельцев, судить еще рано. Но можно уже с достаточной определенностью сказать, что эти ремесленники работали в основном не при дворах греческих царей, а в ставках и городах восточных владык, свергнувших иноземное эллинское иго. Среди таких владык, принявших на вооружение достижения античной культуры и искусства, были могущественные парфянские цари и кушанские государи, повелители двух держав, современных Римской империи. Но, прежде чем познакомиться с этими державами, рассмотрим те сведения, которыми располагает сейчас наша наука о кочевых среднеазиатских племенах, чьими потомками были как парфянские, так и кушанские государи.
Глава III
На просторах степей и в заоблачных высях

[За Яксартом] живут скифские народы. Персы дали им общее название саков от ближайшего племени.Рядом с земледельческими областями Средней Азии, непосредственно связанные с ними, жили, по словам древних авторов, многочисленные племена скотоводов и кочевников. Эти племена не только многократно совершали стремительные набеги на земледельческие области Средней Азии, но, пересекая огромные пространства, обрушивались также на Иран и восточное Средиземноморье, Китай и Индию. Их нашествия не раз сокрушали казалось бы сильные государства, а упорное сопротивление завоевателям стоило жизни даже столь могущественному врагу, каким был основатель Ахеменидской державы. Древние авторы охотно описывали войны Ахеменидов со среднеазиатскими кочевниками. Так, рассказывая о столкновении Кира с соседними с Бактрией кочевыми племенами — саками «царя» Аморга (так называемыми саками-амюргиями), Ктесий описывает все перипетии этой борьбы. On рассказывает, что Кир первоначально победил Аморга и взял его в плен. Однако жена Аморга Спаретра, собрав огромную армию — 300 тысяч мужчин и 200 тысяч женщин, — нанесла персам поражение, после чего произошел обмен пленными и Аморг вновь обрел свободу. Позднее, при описании последнего похода Кира, Ктесий упоминает Аморга уже как предводителя отряда саков — союзников ахеменидского царя. В этом рассказе древнегреческого автора исторический факт — столкновение Кира с саками, соседями Бактрии, и признание ими каких-то обязательств по отношению к персам — оброс явно легендарными подробностями, происхождение которых еще акад. В. В. Бартольд связывал с эпическими сакскими преданиями. Еще более легендарны сведения о походе Кира на других среднеазиатских кочевников — массагетов, предпринятом этим полководцем, вероятно, после покорения Хорезма. Этот поход был необходим персам для закрепления своих успехов на севере Средней Азии и для обеспечения северо-восточных границ империи. Массагетов, обитавших в непосредственной близости от Хорезма и Согда, надо было если не покорить, то хотя бы устрашить. И Кир в 530 или 529 г. до н. э выступил против массагетов в поход, который оказался для него последним: персидская армия потерпела поражение, а Ахеменидское царство лишилось своего прославленного государя. Источники сообщают также и о войнах, которые вел с кочевыми племенами Средней Азии другой прославленный Ахеменид — Дарий I. Так, в уже известной нам Бехистунской надписи говорится о походе этого царя в страну саков. О каких саках здесь идет речь, не вполне ясно, тем более что при описании борьбы Дария I с восставшими областями в первые годы его правления о подавлении этого движения ничего не говорится. Вероятно, либо эти саки добровольно покорились власти Дария после побед его армий над другими повстанцами, либо (что более вероятно) подчинить их в тот период Дарию так и не удалось; о неудачах же ахеменидского царя Бехистунская надпись, естественно, не сообщает. И только в пятом столбце Бехистунской надписи, добавленном, по-видимому, к основному тексту на полтора-два года позднее, описан поход Дария I на саков. Пятый столбец в значительной части разрушен, что крайне затрудняло трактовку текста. Однако проведенные недавно американским ученым Г. Камероном работы по уточнению чтения этого столбца дали достаточно надежную его реконструкцию. Сведения о походе на саков следуют за сообщением о подавлении восстания в Эламе (около 520 г.). Как и обычно, события излагаются от имени царя: «Говорит Дарий царь: Затем я отправился с войском в страну саков, преследуя саков, которые носят остроконечные шапки (тиграхауда). Эти саки ушли от меня. Когда я достиг моря, я через него со всем войском переправился. Затем я убил многих саков. Одного их предводителя я захватил, он, связанный, был приведен ко мне, я его казнил. [Другой] их предводитель, по имени Скунха, — они сами схватили его, привели ко мне. Тогда я назначил над ними другого предводителя, так как мое желание было. Затем страна моей стала».Плиний Старший (I в. н. э.)

Рис. 25. Царь Дарий и побежденные предводители мятежников (последний в ряду пленников — Скунха). Рельеф на Бехистунской скале
Захвату Скунхи Дарий придавал, вероятно, большее значение, чем пленению первого (безыменного) вождя. Во всяком случае по приказу Дария изображение Скунхи было высечено на Бехистунской скале по соседству с надписью среди других важнейших врагов ахеменидского царя (рис. 25). Примечательно также, что в отличие от безыменного вождя саков Скунха не был казнен Дарием, из чего можно сделать вывод, что либо племя Скунхи ранее не подчинялось Ахеменидам и Дарий рассматривал его не как главу мятежников, а лишь в качестве «сражающегося» врага, либо объяснить действия ахеменидского царя как результат военных неудач. О том, что поход против саков протекал для персов отнюдь не безмятежно, свидетельствуют сообщения древнегреческого историка Полиэна. В своих «Стратегемах» («Военных хитростях») Полиэн дважды рассказывает о борьбе Дария с саками. В одном из рассказов говорится, что саки разделили свои силы на три отряда, которые Дарий победил поочередно. Разбив первый отряд саков, персы по приказу царя переоделись в сакские одежды и вооружились сакским оружием. Приблизившись «под видом друзей» ко второму отряду, персы застигли саков врасплох и перебили их. Третий же отряд саков, когда войско Дария настигло его, сдался персам без сопротивления. Насколько отразилась в этом рассказе Полиэна историческая действительность, судить трудно; его можно рассматривать скорее как смутный отголосок сведений о столкновении персов с кочевниками Средней Азии. Более интересен второй рассказ Полиэна — о хитрости Сирака (Ширака), восходящий, вероятно, подобно сообщениям Ктесия, к сакской эпической традиции. В этом рассказе речь идет лишь об одном эпизоде войны саков с Дарием — о ловушке, в которую заманил персидского царя сакский табунщик Сирак. По словам Полиэна, Сирак предложил царям (вождям) саков Сакесфару, Омаргу и Тамирис, собравшимся на военный совет, погубить персидское войско при условии, что цари поклянутся обеспечить его детей и потомков. Получив клятвенное обещание, Сирак тут же отрезал себе нос и уши и «изуродовал прочие части тела», после чего под видом перебежчика явился в персидский лагерь. Жалуясь на сакских царей, которые якобы изувечили его, Сирак пообещал Дарию провести персидское войско в глубь сакских земель, где можно будет напасть на врагов врасплох. Персидское войско, взяв семидневный запас продовольствия, выступило в поход. Обман раскрылся лишь тогда, когда запасы иссякли, а вокруг все еще простиралась «песчаная, безводная и бесплодная пустыня». На вопрос одного из персидских военачальников, «что побудило Сирака обмануть великого царя и завести столь многочисленное войско в такую степь, где нет ни одного ключа, не видно ни птицы, ни зверя, и откуда невозможно ни пройти вперед, ни возвратиться назад», Сирак ответил, что он таким образом спас своих земляков и погубил персов. Отважный табунщик был казнен, а персы обратились с мольбами к богу. Лишь чудом Дарию удалось спастись: пошел дождь, и персы, набрав питьевой воды, добрались до реки Бактр (Аму-Дарьи), «благословляя судьбу за свое спасение». Как и в сообщениях о войнах Кира, многое в этом повествовании, вероятно, всего лишь вымысел. Древние авторы вообще не скупились на сообщения о кочевниках Средней Азии. К сожалению, их сведения, хотя и довольно многочисленные, крайне запутанны. То они приводят разные названия отдельных племен, то суммарно называют их саками, скифами или массагетами, причем под этими расплывчатыми названиями в ряде случаев явно выступают самые различные группы. Так, например, массагеты, победители Кира, по Геродоту — кочевники, живущие за Араксом (Аму-Дарьей). Страбон же этим именем называет также первобытных собирателей и рыболовов болот и островов Приаралья. Более того, к массагетам причисляли даже оседлых земледельцев Хорезма. Персы, которым, казалось бы, надлежало лучше знать своих грозных соседей, как будто бы различали в Средней Азии три группы скотоводческих племен: саков-тьяй-парадарайя (заморских), саков-тиграхауда (с островерхими шапками) и саков-хаомаварга (приготовляющих священный напиток — хаому). Исследователи обычно сближают двух последних с упоминаемыми античными авторами скифами — ортокорибантиями (острошапочными) и саками-амюргиями. Но и здесь далеко еще не все ясно, так как, например, в приведенном выше отрывке Бехистунской надписи о походе Дария на саков неясно, саки ли это «заморские» или «острошапочные», к тому же островерхие колпаки носили различные сакские племена, а вовсе не одна какая-нибудь их группа. В итоге в научной литературе не утихают ожесточенные споры об определении и размещении этих племен, и почти каждый исследователь расселяет древних среднеазиатских скотоводов по своему усмотрению, то отдавая одним из них огромные просторы степей и гор, то заставляя несколько племен тесниться на весьма ограниченной территорий. Раздражение, вызванное бесчисленными гипотезами и недостаточностью достоверных данных, приводит иногда и к крайнему пессимизму, отразившемуся, например, в кратком, но достаточно выразительном примечании Л. Н. Гумилева (в его книге о хуннах): «Массагеты — не существовали». Но как бы мы пи были еще далеки от решения многих спорных вопросов истории этих племен, в результате исследований советских археологов, особенно раскопок послевоенных лет, и в этом случае занавес таинственности уже приоткрыт. И хотя не всегда известно, как назывались в древности те или иные племена, курганы которых раскапывают археологи, о культуре, быте, искусстве и религиозных представлениях этих племен мы уже можем судить достаточно определенно. Широкая полоса курганных могильников и других следов обитания кочевых скотоводческих племен (для простоты мы всех их условно будем называть саками) протянулась огромной дугой, огибающей центральные области среднеазиатского междуречья, от среднего течения Сыр-Дарьи до границы с Китаем. Эта полоса охватывает степи южного Казахстана и Северной Киргизии и высокогорья Тянь-Шаня и Памира. На этих необозримых просторах советскими археологами начиная с середины 30-х годов были проведены широкие историко-археологические и географические обследования. Вот что писал по этому поводу А. И. Бернштам, один из крупнейших исследователей истории и культуры саков, фактический пионер систематического изучения сакских памятников на северо-востоке Средней Азии: «Историю пастухов-скотоводов трудно изучить. У них пе было постоянных поселений и городов. Они часто меняли места пребывания и еще чаще, после успешного покорения оседлых земледельческих племен, усваивали культуру побежденных». И действительно, история кочевых племен и народностей очень сложна; для правильного понимания ее нужно изучить дороги, которыми шли кочевники, пространство, которое они занимали, границы территорий, которые они завоевывали. Изучение истории кочевников требует специфической методики исследований; раскопка курганов должна сочетаться с широкой разведкой по тем просторам, где армии конных воинов, пересекая огромпые пространства, пускались, по выражению Ф. Энгельса, в «сказочные путешествия». Экспедициям А. Н. Бернштама пришлось пройти свыше 40 тыс. км по разным маршрутам: через горы Центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая, через пустыни к северу и югу от Сыр-Дарьи, через оазисы речных долин Или, Чу, Таласа, равнины Ташкента и Ферганы. Работами этих экспедиций, а также отрядов и групп других советских исследователей ныне изучены многочисленные памятники кочевников-саков, оставленные ими в степных долинах рек Чу и Или и на высокогорных пастбищах Тянь-Шаня и Памира. Принадлежали ли эти памятники одной и той же группе племен, родственным племенным группам или различным кочевым племенам, с достаточной определенностью судить мы еще пе можем. По образу жизни и хозяйственной деятельности племена, оставившие нам курганы степей и гор северо-восточной части Средней Азии, были близки друг другу, и на настоящем этапе наших знаний наиболее правильно будет рассматривать их как единый массив племен. Районы расселения большинства этих племен — степи северной Киргизии и южного Казахстана и горы Тянь-Шаня — тесно соприкасаются друг с другом, и не исключена вероятность того, что одни и те же племена могли использовать и степные, и горные пастбища, перегоняя свои стада в разное время года с равнин в горы и обратно. Особняком стоят лишь курганы на юге Памира; их связь с памятниками Тянь-Шаня и северных степей кажется гораздо менее очевидной и географически и чисто археологически[6].
Священный могильник сакских племен
Наиболее величественными памятниками сакских племен северо-востока Средней Азии являются курганные погребения могильника Бесшатыр, который раскапывал в 1957 и 1959–1961 гг. К. А. Акишев. Могильник Бесшатыр лежит в 180 км к востоку от столицы Казахской ССР Алма-Аты в долине р. Или, которая представляет собой своеобразный естественный коридор, связывающий Среднюю Азию и южный Казахстан с Восточным Туркестаном и Китаем. Этот широкий степной проход тянется на 600–700 км с запада на восток, от прибалхашских песков до г. Кульджа. Бесшатырские курганы расположены почти в центре этого природного коридора, на правом берегу Или, на возвышенности, с которой открывается прекрасный вид на запад, юг и восток; с севера к ней подступают горы Шолак-тау. Эта местность обычно пустынна, и только в дождливые годы да ранней весной все вокруг покрывается ярким ковром трав и полевых цветов. Возможно, однако, что две с половиной тысячи лет назад дождей здесь выпадало больше и скот был обеспечен кормами больший период времени, чем теперь. Тогда здесь могли быть удобные пастбища, рядом с которыми и вырос могильник, вытянувшийся с севера на юг на 2 км.
Рис. 26. Большой Бесшатырский курган. План
Бесшатырский могильник насчитывает более 20 каменных курганов, которые по размерам их насыпей можно разделить на большие, средние и малые. Большие курганы — это «царские» усыпальницы сакских вождей с громадной насыпью диаметром от 50 до 105 м и высотой от 8 до 17 м (рис. 26). Средние курганы с насыпью диаметром 30–45 м и высотой 5–6 м воздвигались, по определению К. А. Акишева, для знатных воинов, прославившихся в битвах и военных походах и потому похороненных около усыпальниц своих вождей. Малые же курганы, насыпь которых имела 6—18 м в диаметре и 1–2 м в высоту, принадлежали рядовым воинам, совершившим тот или иной подвиг и удостоенным чести лежать рядом с вождями и знатью. За четыре года археологических работ К. А. Акишев и его сотрудники раскопали в Бесшатырском могильнике три больших, два средних и тринадцать малых курганов и досконально изучили устройство этих своеобразных пирамид среднеазиатских кочевников. В ходе раскопочных работ выяснилось, что каждый курган в Бесшатыре — сложный архитектурный комплекс, а не простая каменная наброска над могилой погребенного. Даже насыпь, которая на первый взгляд казалась элементарной по устройству, возводилась с соблюдением тщательно продуманных и разработанных правил. Насыпь Бесшатырских курганов имела форму усеченного конуса с плоской вершиной; в плане она была круглой, в разрезе же имела вид трапеции. Основание кургана возводилось из плотно уложенных (иногда в несколько рядов) камней; эта выкладка служила как бы каменным фундаментом для всей громады насыпи. В двух больших Бесшатырских курганах (Первом и Шестом) насыпь четко делилась на три слоя: верхний, состоявший из каменного покрытия, толщиной 1–3 м; средний, самый мощный, образованный землей и щебнем, и нижний — из крупного битого камня. Еще более сложной оказалась структура насыпи в Третьем кургане: здесь выявлены 17 чередующихся слоев каменной укладки и полос земли и щебня. Такая многослойность курганных насыпей должна была, вероятно, предохранить от действия влаги и разрушения деревянные погребальные конструкции (эта цель, как мы увидим ниже, была достигнута). Кроме того, многослойная структура насыпи должна была также способствовать длительному («вечному») сохранению формы самого кургана. При исследовании больших курганов было установлено, что отдельные курганы в древности были окружены невысокой каменной стеной. Кроме того, немного дальше от кургана находились каменные кольцевые сооружения — оградки, которые тянулись цепочкой, либо опоясывающей курган целиком, либо ограждавшей его с востока или юго-запада. Число таких оградок было различно. Так, у Второго кургана их было 12, у Шестого — 14, у Третьего — 42, вокруг же так называемого Большого кургана спиральным завитком тянулось 93 оградки, а еще одна, 94-я по счету, стояла отдельно, к северу от кургана (рис. 26). Оградки составлялись из крупных каменных плит-менгиров, врытых в землю торцом, и больших валунов весом в несколько сот килограммов каждый. Раскопки четырнадцати наиболее сохранившихся оградок около Большого кургана показали, что в них находились слои золы, причем в таких зольниках были найдены кусочки пережженных костей, кусок керамики, бусипа. Оградки Большого и других курганов Бесшатыра предназначались, безусловно, для культовых целей. Они были связаны с погребальным ритуалом, жертвоприношениями или поминальными обрядами. Интересно, что на менгирах и валунах некоторых оградок сохранились выбитые острым орудием изображения животных, чаще всего горных козлов с большими загнутыми рогами. Особенно выразителен рисунок на валуне одной из оградок Третьего кургана, изображающий лежащего на спине козла и стоящего рядом с ним волка (или лису) с длинным опущенным вниз хвостом и торчащими вверх ушами. Помимо кольцевых оградок неподалеку от курганов на территории Бесшатырского могильника разбросаны выкладки из камня и щебня. Исследование ряда таких выкладок, расположенных неподалеку от Большого кургана, не дало никаких находок, и археологи пришли к заключению, что это кенотафы (поминальные курганы), сооруженные в честь воинов, которые погибли в походе и не могут быть погребены обычным образом.

Рис. 27. Деревянная усыпальница Первого Бесшатырского кургана
Но вернемся к самим курганам. В них под насыпью скрывались специальные погребальные устройства, деревянные гробницы из обработанных целых бревен тянь-шаньской ели (рис. 27). Такие бревенчатые гробницы или усыпальницы воздвигались на поверхности земли и представляли собой довольно сложную деревянную конструкцию, состоящую из коридора, преддверной пристройки и собственно погребальной камеры. Длинный и узкий коридор переходил в сени; стены у этих двух входных сооружений общие, они сложены из бревен, подпертых изнутри вертикальными столбами. Но в отличие от высокого коридора (до 5 м), открытого сверху, сени на высоте 2–2,5 м были перекрыты короткими бревнами. Погребальная камера, в плане приближавшаяся it квадрату, бывала довольно велика (в Шестом кургане ее площадь равна примерно 20 кв. м). Стены камеры, как и стены входных сооружений, воздвигались из бревен, положенных друг на друга; подпорками для них служили столбы, устанавливаемые как внутри, так и снаружи камеры. Сверху (на высоте 3–4 м) камеру перекрывал накат из нескольких рядов бревен (в Шестом кургане открыто три ряда бревен наката, в Первом — восемь), поверх которых лежали еще слои кошмы и толстых камышовых циновок. Наблюдения, сделанные во время раскопок, и внимательный осмотр бревен бесшатырских гробниц убедили исследователей, что после постройки эти сооружения какое-то время стояли на поверхности земли открыто, без насыпи. Вернее, небольшая насыпь из камня и щебня окружала камеру и внешние стороны коридора, но вход в усыпальницу через коридор и сени оставался открытым. Каковы были причины этого и долго ли стояла гробница без насыпи, об этом пока можно лишь гадать. Вероятно, усыпальницы сакских вождей, как египетские пирамиды, строились еще при их жизни и какое-то время ожидали смерти своих хозяев. А возможно, что до захоронения в них труп вождя покоился в каких-либо временных сооружениях вроде погребальных шатров скифов Алтая. Но вот погребение состоялось, и коридор, ведущий к погребальной камере, перегораживался поперечными плахами на несколько отсеков, а каждый из них до самого верха забивался камнем и щебнем. Крупными камнями или бревенчатой стенкой наглухо закрывалась также дверь, ведущая из сеней внутрь гробницы. После этого над деревянной погребальной постройкой, возвышавшейся нал окружающей местностью более чем на 5 м, насыпали огромный холм из камня, щебня и земли. Сооружение больших Бесшатырских курганов требовало громадных затрат труда. Достаточно сказать, что при возведении насыпи одного только Большого кургана было использовано свыше 50 тыс. куб. м земли, камня и щебня, а бревна для погребальных построек приходилось тащить волоком 200–250 км от места вырубки в отрогах Заилийского Алатау до р. Или и затем, переправив их плотами на правый берег, доставлять до места стройки еще за 3 км (все бревна усыпальниц имеют проушины для волока и связывания в плоты и сильно истерты и сглажены с одной стороны). Но создателям величественных усыпальниц сакских вождей, как выяснилось при раскопках, всего этого было мало. Помимо сооружения деревянных гробниц и возведения над ними огромных курганных насыпей, помимо устройства каменных стен и каменных кольцевых выкладок-оградок (а ведь для них тоже нужно было доставить с ближайших гор, расположенных в 3 км от могильника, тысячи каменных плит и валунов), — помимо всего этого при возведении больших курганов Бесшатыра велись еще немалые работы по рытью каких-то таинственных подземных проходов; К. А. Акишев называет их катакомбами (см. рис. 28–29).

Рис. 28. Разрез сооружений Шестого Бесшатырского кургана 108 Рис. 29. План деревянной усыпальницы и «катакомб» Шестого Бесшатырского кургана
Одна из таких «катакомб» была изучена при раскопках Шестого кургана. Часть этой «катакомбы» обнаружилась случайно при зачистке северо-западного угла погребальной камеры. В этом углу археологи наткнулись на яму, которая уходила под деревянную стену гробницы. При дальнейшей расчистке ямы на глубине более 1,5 м от уровня пола погребальной камеры произошел обвал и перед исследователями открылись подземные ходы, вырытые в древней коренной породе. Эта подземная «катакомба» состояла из основного, направляющего хода (штольни) и семи боковых ответвлений. Все эти ходы имели полукруглый сводчатый потолок. Их ширина колебалась от 75 до 80 см, а высота — от 1,1 до 1,7 м. Во многих местах в стенах были сделаны небольшие уступчики, на которых, судя по следам копоти, в древности (скорее всего при сооружении ходов) устанавливались светильники. Общая длина всех ходов (штольни и боковых ответвлений), вырытых под Шестым Бесшатырским курганом, достигает 55 м. Напрашивавшееся само собой заключение, что все эти ходы вырыты грабителями, было вскоре опровергнуто. Мало того что ходы «катакомбы» проходили на 2 м ниже деревянной гробницы, — они, как выяснилось, не заходили в нее. Еще более показательно то, что вход в «катакомбу», расположенный у основания насыпи в северной части кургана, был оформлен деревянной конструкцией из четырех вертикальных деревянных столбов, врытых попарно у степ и перекрытых поперечными плахами, поверх которых лежали еще три продольных бревна. От этой входной конструкции в штольню вела каменная ступенька. Все это ясно показывает, что «катакомба» Шестого кургана, равно как и подобные же подземные ходы других Бесшатырских курганов (такие же ходы, только большие по размерам — высотой до 1,7 м и шириной до 1,3 м, открыты в Третьем кургане; имелись они и в Четвертом и Большом курганах), не были вырыты грабителями, а представляли собой конструктивную особенность Бесшатырских курганов и имели прямое отношение к ритуалу погребения. Но каково было их назначение, до сих пор остается тайной. Находки костей животных в подземных ходах Третьего кургана позволяют предполагать, что в «катакомбах» мог совершаться обряд поминок и жертвоприношения. Но насколько убедительно это предположение? Громадные насыпи и забитые камнем коридоры и сени не спасли большие Бесшатырские курганы от разграбления. Люди, прекрасно знавшие устройство курганов, разрыли насыпи непосредственно над коридором и, проникнув через сени внутрь погребальных камер, начисто ограбили их. В итоге археологи ни в одном из больших и средних курганов Бесшатыра не нашли ни одного захоронения, не говоря уже о сопровождавшем их погребальном инвентаре; изредка попадались лишь разрозненные кости людей (в Первом кургане — мужчины и женщины) да жалкие остатки инвентаря: кости животных (лошади и барана), части двух саней-волокуш, куски глиняных сосудов, бронзовый наконечник стрелы, кусочки золотой фольги. Однако даже эти немногие находки, как и самый факт ограбления, позволяют предполагать, что погребения сакских вождей в Бесшатыре были, вероятно, достойны их величественных сооружений: Можно говорить о существовании здесь захоронений жен (или наложниц), о наличии в погребениях саней (и, вероятно, других средств перевозки покойников), оружия, драгоценностей, посуды. О богатстве захоронений в больших и средних курганах Бесшатыра косвенно позволяют судить и находки, сделанные в одном из малых Бесшатырских курганов — кургане 25. Малые курганы, заметно уступавшие по своим размерам большим и средним и принадлежавшие, как считает К. А. Акишев, «храбрым рядовым воинам», были и по внутреннему устройству гораздо скромнее погребальных сооружений сакских вождей и знатных воинов. Их насыпи не превышали 1–2 м и под ними не было (да и не могло быть) никаких надземных построек: погребение осуществлялось в большой могильной яме, либо перекрытой деревянным накатом, либо снабженной составленным из камней ящиком — грубым сооружением для покойного. Курган 25, один из малых курганов Бесшатыра, дал тем не менее довольно обильный инвентарь. В нем оказались два погребенных воина, лежавших, вытянувшись на спине, головой на запад. У каждого с правой стороны лежали короткие железные мечи-акинаки, а с левой — остатки колчанов с бронзовыми наконечниками стрел (всего их набралось около 50 экземпляров). Кроме того, у шейных позвонков погребенных найдены сердоликовые бусы, на остатках одного из колчанов — два украшения в виде спаянных крупных золотых зерен, слева от одного из погребенных — железный умбон (центральная часть щита) и остатки самого щита, изготовленного из дерева, а также (у пояса) железные обойма и пряжка от ремня. Таковы были находки в могилах рядовых воинов. Каким же должен был быть инвентарь в погребениях знатных воинов и вождей! Думается, что по пышности и богатству царские усыпальницы Бесшатыра вряд ли намного уступали царским курганам Причерноморья и Горного Алтая. И, быть может, не так уж далек от истины К. А. Акишев, исследователь Бесшатыра, когда он для определения характера этого уникального сакского могильника привлекает сведения древних авторов о «священной области Гер-рос» европейских скифов. В этой области, по сообщениям греческих авторов, находились могилы скифских царей, которые все скифы почитали как святыню, строго охраняя их от осквернения и грабежа; местонахождение этих могил держалось в глубокой тайне. К. А. Акишев полагает, что Бесшатырский могильник был «священным Герросом» сакских племен, обитавших в долине р. Или. «Местность, где расположены огромные царские курганы Бесшатыра, — пишет этот исследователь, — была священна в течение ряда столетий, сюда приходили на поклонение, приносили многочисленные жертвы, совершали различные культовые обряды, устраивали поминки. В местах этих религиозных торжеств и обрядов были сооружены грандиозные ограды из менгиров и валунов». Величественный и во многом еще загадочный Бесшатырский могильник, несмотря на почти полное опустошение его погребальных камер древними грабителями, позволил все же судить не только о могуществе сакских вождей, но и о некоторых особенностях погребальных обрядов и обычаев, о развитии строительного искусства и архитектуры и косвенно — об образе жизни сакских племен. Анализ деревянных построек Бесшатырских курганов показал, что саки были хорошо знакомы с деревянной архитектурой, следовательно имели опыт возведения деревянных домов. Планировка бесшатырских гробниц с коридором и сенями свидетельствует скорее о подражании бытовым постройкам, чем о традициях возведения чисто погребальных сооружений. Это позволяет предполагать существование у саков деревянных жилых, а возможно и хозяйственных построек, возводимых, вероятно, на местах зимовок. Наличие же таких построек обозначало бы, что какую-то часть года саки фактически вели оседлую жизнь. Но как бы ни было велико историко-культурное значение курганов Бесшатыра, они все-таки имеют характер исключительный и к тому же разграблены. Они не дают материала для освещения многих сторон жизни, быта и культуры сакских племен северо-восточных районов Средней Азии. Чтобы составить о них более ясное представление, надо было бы рассмотреть многочисленные известные ныне погребения рядовых саков, мужчин и женщин, давшие большое число находок различных предметов: всевозможных глиняных сосудов, оружия и орудий труда, личных украшений, в том числе бронзовых браслетов, украшенных на концах головками хищных животных, т. е. дешевых и гораздо менее искусных изделий того же тина, что и знаменитые золотые браслеты Аму-дарьинского клада. Скрупулезный анализ этих погребений и их инвентаря дан в специальных научных изданиях (см. Список литературы), мы ясе в дополнение к Бесшатырским рассмотрим здесь курган 12 могильника Джувантобе (Жуантобе) в Чилекском районе Алма-Атинской области Казахстана. Этот курган был раскопан в 1956 г. алма-атинскими археологами Е. И. Агеевой и А. Г. Максимовой. Он имел насыпь из земли и гальки диаметром 10 м и высотой менее 0,5 м. Под его насыпью находились две могилы, выкопанные в земле: в одной был похоронен человек, в другой — лошадь. Рядом с покойником были найдены бронзовый нож и костяной гребень, рядом с лошадью — многие принадлежности конской сбруи: удила, подпружные пряжки, украшения в виде пронизок и бляшек. Курган 12 могильника Джувантобе ценен для нас как показатель того значения, которое придавали саки своим верным спутникам: даже на тот свет они отправлялись в сопровождении коня. Сходные верования существовали и у их причерноморских и алтайских современников. Очень возможно, что боевые кони сопровождали в последний путь сакских вождей и знатных воинов, погребенных в царских усыпальницах Бесшатыра.
«Клады» Семиречья
Интересными памятниками, которые наряду с курганами освещают культуру и искусство саков северо-востока Средней Азии, являются также «клады» культовых предметов из бронзы и железа. Все они найдены, к большому неудовольствию археологов, случайно. Ученым специалистам оставалось лишь, да и то далеко не всегда, обследовать уже разворошенную землю на месте находки и гадать, что было здесь в древности и что разрушено неосторожной рукой случайных «кладоискателей». История одной из таких находок — Иссык-кульского клада (рис. 30) известна достаточно хорошо. В один из летних июльских дней 1937 г. рабочие из с. Семеновского на севере Киргизии сооружали ферму конесовхоза «Чолпон-ата». Ферма должна была располагаться в4 км от села, в долине Кырчин, неподалеку от славящегося своей суровой красотой озера Иссык-Куль. При сооружении фермы велись земляные работы, во время которых рабочие на глубине 1,5–2 м неожиданно наткнулись на два лежащих рядом больших (более полуметра в диаметре) бронзовых котла. Оба они имели полусферическую форму и по четыре ручки, расположенные попарно крест-накрест: две горизонтальные — для переноски и две вертикальные — для подвешивания. Один из котлов, заполненный землей, стоял на ножках. Второй был перевернут вверх дном и под ним находились два бронзовых предмета с высокими ажурными коническими подставками; на них помещались «подносы», в одном случае круглый, в другом — прямоугольный. Подносы по краю были украшены скульптурными изображениями зверей: круглый — тринадцатью фигурами величественно выступающих друг за другом барсов, прямоугольный — двенадцатью группами, изображающими нападение льва на козла (сохранились лишь две такие группы, остальные десять были отломаны и унесены кем-то из рабочих). Еще глубже в земле были найдены лежащие друг на друге так называемые жертвенные столы — большие, прямоугольные, с довольно высоким бортом, с четырьмя ножками по углам и ручками для переноски. На борту большего из столов (его размеры по верху 83×79 см) на одном из углов находилось (сейчас отломанное) скульптурное изображение фигурки лежащего яка с большими рогами. Бронзовые фигурки яков украшали некогда все углы этого большого и странного стола; на каждом углу помещалось по две такие фигуры. Иссык-кульский клад был доставлен в столицу Киргизии г. Фрунзе. Ныне этот «клад» хранится в Эрмитаже вместе с еще большим бронзовым жертвенником — знаменитым Семиреченским алтарем, найденным под Алма-Атой в 1912 г., прямоугольным столом такого же типа, как и иссык-кульские; по борту его изображена процессия из двадцати пяти крылатых львов.
Рис. 30. Иссык-кульский клад
Совсем недавно, в 1953 г., еще один такой же «клад» был найден возле поселка Иссык-Энбекши Казахского района Алма-Атинской области. Здесь, в предгорьях Заилийского Алатау, школьники увидели на дне оврага торчащие из земли металлические ножки, а раскопав землю, нашли четыре котла, два блюда и два предмета с высокой ажурной конической подставкой; один из таких предметов, с круглым подносом наверху, был украшен скульптурными изображениями человека, сидящего поджав ноги, и коня, стоящего у него за спиной (рис. 31).

Рис. 31. Курильница из Иссык-кульского клада
Находки подобных «кладов» в Семиречье, т. е. в северной Киргизии и на юге Казахстана, уже никого не удивляют, равно как и находки отдельных предметов, из которых эти клады обычно состоят. Достаточно, например, отметить, что сейчас известно уже более семидесяти больших котлов, сходных с иссык-кульскими и иссыкскими, причем многие из них, так же как и жертвенники и предметы на высоких конических подставках, украшены скульптурными изображениями зверей: горных козлов, львов и т. п. Но что же это за «клады»? Для чего нужны были кочевникам-сакам громоздкие, неудобные для частых перевозок с места на место огромные жертвенные столы, большие котлы, странные предметы на высоких конических подставках? «Клады» — это наборы вещей, которыми саки пользовались лишь в дни каких-либо праздников, скорее всего религиозных. В такие праздники большие группы скотоводов съезжались в определенные, традиционные места. В этих священных местах и хранились, вероятно, необходимые для празднеств предметы, спрятанные в тайники, те самые «клады», о которых идет речь. На такой характер «кладов» указывают и входящие в их состав отдельные предметы. Большие котлы, служившие для приготовления горячей пищи, могли, конечно) применяться и не только в дни празднеств. Но обойтись без них в праздники было невозможно. Металлические столы — это действительно жертвенники или алтари. На них могли убивать жертвенного козла либо барашка или разводить яркий священный огонь. Наиболее загадочны и непонятны предметы с высокими коническими подставками. Некоторые из них (например, из Иссык-кульского клада) снабжены парой стояков-трубок с горизонтальными отверстиями, в которые мог закрепляться фитиль. Эти экземпляры использовались, вероятно, как светильники. Возможно, что и другие подобные предметы служили светильниками. В их подносы в таком случае наливали растительный жир или масло, в которые и погружали фитиль. Однако более вероятно, что эти предметы чаще использовались как курильницы. Для этого их устанавливали в шатре или палатке и, нагрев до высокой температуры, бросали на поднос семена и благовонные травы. Дым, поднимавшийся от таких курильниц, был и куревом, и опьяняющим дурманом. И нередко, наверное, из палаток или шатров, где стояли курильницы, далеко по округе разносились крики переусердствовавших «курильщиков». Ведь не зря же Геродот, рассказывая о таких курениях, сообщает, что, надышавшись душистого дыма от семян конопли, скифы «вопили от удовольствия». Таково было, по-видимому, назначение отдельных вещей, составлявших «клады» северо-востока Средней Азии. Понятно, что саки не возили их с собой по просторам степей и гор, а, пряча в укромное место, вновь и вновь пользовались ими, возвращаясь сюда в дни очередных празднеств. Понятно также, что найти эти «клады» можно только по воле случая и что, следовательно, как бы ни сокрушались археологи, «клады» и впредь будут скорее всего открывать не они, а землекопы, трактористы, любопытные школьники. Но находки таких «кладов» дают, конечно, работу и археологам. Так, именно обследование места находки Иссык-кульского клада, проведенное А. Н. Бернштамом в 1949 г. (через двенадцать лет после его открытия), позволило более определенно говорить о его назначении. Шурфы, заложенные здесь археологами, показали, что «клад» был найден близ жертвенной площадки, от которой сохранился толстый слой пепла. Это священное место саков размещалось у подножия скал, на площадке, возвышающейся над всей долиной, в которой работами той же экспедиции А. Н. Бернштама были открыты сакские курганные погребения. «Клады» сакских племен интересны и в связи с вопросом об уровне развития у саков ремесел и искусства. Глиняная посуда, найденная в сакских погребениях, сильно уступает по своему качеству керамике оседлоземледельческих областей Средней Азии. Формы ее не отличаются разнообразием: чаще всего это округлые горшки и сферические чаши. Изготовлялись они от руки. Вероятно, более развиты были ткачество и обработка кожи, однако изделия этих ремесел до нас не дошли и о качестве их мы можем только догадываться. Кое-что можно сказать об опыте саков в обработке дерева. Но лучше всего о ремесле сакских племен мы можем судить по металлическим изделиям, в первую очередь по предметам из «кладов». Многие из них, изготовленные из меди и бронзы, отлиты в специальных формах. В таких формах отливались и огромные жертвенные столы, и большие котлы, и ажурные конические подставки, и венчающие их «подносы», и, наконец, фигурки людей и животных. Отливка этих изделий, так же как и припаивание к ним фигурок, несомненно требовала большого опыта, немалого мастерства и хорошего вкуса. Особенно высокими художественными достоинствами отличаются фигурки. Основная их масса живо напоминает аналогичные изображения у скифов причерноморских степей, у ранних кочевников центрального Казахстана и Южной Сибири, у древних обитателей Алтая, т. е. у тех скотоводческих племен, которые заселяли во второй половине I тысячелетия до н. э. обширные пространства великого евразийского степного коридора, протянувшегося к северу от стран древних цивилизаций, от сердца Европы — Дунайской низменности до степей современной Монголии. Изображения людей и особенно животных у саков (рис. 32), как и у других скотоводов той эпохи, характеризуются своеобразной художественной манерой, которая получила широкую известность под названием «скифского звериного стиля» и очарование которой доставляло и доставляет истинное эстетическое наслаждение всем людям, любящим искусство.

Рис. 32. Головки козлов. Часть бронзового котла
На «Крыше мира»
Поиски археологических памятников древних кочевников Средней Азии привели советских исследователей из степных районов южного Казахстана и северной Киргизии в горные ущелья Тянь-Шаня. И по мере расширения площади разведывательных маршрутов перед археологами открывались все новые и новые курганные могильники и группы. Область распространения этих памятников явно уходила дальше на восток, в районы Восточного Туркестана, На юге же курганы саков, открытые в зеленой Алайской долине, вплотную подступали к покрытому вечными снегами Заалайскому хребту, величественной громаде гор, вздымающихся на северной границе Памира, той таинственной горной страны, которая много сотен лет манила к себе географов и естествоиспытателей, где еще недавно, всего несколько лет назад, некоторые увлекающиеся натуры хотели увидать легендарного «снежного человека». От этой «Крыши мира» археологов отделял теперь лишь Заалайский хребет. И вот в 1946 г. небольшая группа исследователей во главе с А. Н. Бернштамом начала «археологическое наступление» и на эту высокогорную область. Позади их машины, с трудом ползущей по северному склону Заалайского хребта, лежали горные долины и ущелья Алая и Тянь-Шаня, археологическое изучение которых было начато А. Н. Бернштамом в 1940 г., а затем после перерыва, вызванного войной, продолжено в 1944–1946 гг. Позади лежали степные просторы северной Киргизии и южного Казахстана, изучению которых А. Н. Бернштам посвятил многие годы полевых работ начиная с 1933 г. На археологический штурм Памира шел коллектив, во главе которого стоял талантливый и опытный руководитель, приступивший к исследованию Памира после более чем десятилетнего изучения степей и гор северо-восточных областей Средней Азии. Но понадобились еще целых три экспедиции на Памир, прежде чем науке стали известны первые данные по истории заселения этой суровой высокогорной страны. Для изучения Памира недостаточно было таланта и опыта: нужны были еще необычайное трудолюбие и упорство. И надо отдать должное сотрудникам А Н. Бернштама — Г. Г. Бабанской, Ю. А. Заднепровскому, С. С. Сорокину, Ю. А. Баруздину, Н. Г. Горбуновой и другим, которые упрямо раскапывали курганы и, не падая духом от отсутствия находок, тряслись в кузове грузовика к следующему могильнику, чтобы вновь разбирать каменные курганные насыпи и искать хоть каких-нибудь остатков захоронений и погребального инвентаря. И все это на высоте около 4 км, где не хватает воздуха даже при обычной ходьбе, ие говоря уж о работе киркой и лопатой, где днем слепящее солнце обжигает лицо, а вечером свирепый холод загоняет скорее в спальный мешок, где людей одолевает горная болезнь и слабость. Нельзя не вспомнить руководителя этих работ, больного человека с палкой, который тем не менее пять раз взбирался на суровое Памирское нагорье и безвременно умер вскоре после экспедиции 1956 г. Для того чтобы оценить труд исследователей-археологов «Крыши мира», — и еще больше, чтобы понять условия жизни древних обитателей памирских высей, — коснемся вкратце природы этого сурового и по-своему прекрасного края. Акад. Д. В. Наливкин, известный советский географ и геолог, немало повидавший на своем веку, так писал о нем: «Высоки плоскогорья Тибета и теряются они в облаках, но еще выше плоскогорья Памира. Не видно сверху дна Большого Каньона Колорадо, так глубоко врезано оно в землю, но еще глубже и красивее ущелья Пянджа. Грозен Терек, ревущий в скалах Кавказа, но он детская игрушка по сравнению с Пянджем… Безжизненны и суровы обледенелые тундры Арктики, но еще более безжизненны и суровы пустынные плоскогорья Памира». К этой красочной характеристике Памира можно добавить, что Памир делится на две части: Западный, представляющий собой мир горных хребтов и теснин, и Восточный, охватывающий огромное высокогорное плато с широкими пустынными долинами и пологими склонами сглаженных разрушением гор. В гористых ущельях Западного Памира, где когда-то росли ныне уничтоженные леса, живут и трудятся горные таджики — оседлые земледельцы, возделавшие каждый клочок пригодной для этого земли. Их поля разбросаны везде, где есть почва и сравнительно ровная поверхность. На создание этих полей пошел труд многих поколений; отсюда пришлось убрать (вынести на своих плечах) тысячи тонн камней; здесь надо было создать и укрепить террасы с ровной поверхностью, доставив на них (опять на своих плечах) землю; сюда, наконец, нужно было, нередко за много километров, провести воду. Для этого приходилось прорубать арыки в гранитных скалах, перекидывать деревянные желоба через овраги и ущелья. И все это вручную, без всякой техники, без взрывчатки, без сложных современных приборов. Как справедливо отметил автор одного из последних трудов о природе Памира, Д. М. Затуловский, все это создали «только многовековый опыт, терпение и труд — бесконечный труд». Совсем иные облик и судьба Восточного Памира. Все, кто посещал эти места, — будь то средневековые китайские паломники, идущие на поклонение буддийским святыням в Индию, немногочисленные европейские путешественники или русские и советские исследователи, — отмечают их пустынный, безжизненный характер. Восточный Памир — пустыня, где осадков зачастую выпадает меньше, чем в сухой и жаркой Сахаре, не говоря уже о песках Каракумов. Правда, на Восточном Памире нет песков. Это поднятая на огромную высоту каменистая пустыня, лишенная в летние месяцы больших ледников и снежников. Немногочисленные реки маловодны и текут в широких безжизненных долинах. Скалы и камни покрывает красивый темно-коричневый «пустынный загар», тонкая пленка вроде лака, которую образовали резкие колебания температуры и влажности (под их воздействием на поверхности камня выделились окислы железа и марганца, глинозем или кремнезем, которые и создали этот диковинный «загар» камня). Пустыню не оживляют даже озера, образовавшиеся в ее бессточных каменных котлованах. Правда, почти в самом центре этого нагорья, в 18 км к северу от поселка Мургаб, сейчас зеленеют поля, растут высокие травы, видны огородные грядки. Но это лишь опытные участки Памирской биологической станции Академии наук Таджикской ССР, достижение современной науки и творческого труда ученых, участки, возникшие здесь буквально в последние годы. До самого недавнего времени на обширных пространствах Восточного Памира обитали лишь немногочисленные кочевники-киргизы, пасущие свои небольшие стада в долинах Мургаба и других памирских рек. Казалось, чего же искать здесь археологическим экспедициям! Правда, в священных текстах «Авесты» упоминается «страна Хара Березаити» — «горы, вечно покрытые снегом», откуда берут начало реки Ардвисура и Ранка (по-видимому, Аму- и Сыр-Дарья), а в древнеиндийских Ведах содержатся намеки на то, что с горной страной севера связаны вторгшиеся в Индию пастухи-скотоводы — арийцы. На основании этих сведений некоторые кабинетные ученые помещали на Памире прародину древних иранцев, арийцев, а то и индо-европейских народов вообще. Но чего стоили эти построения, если А. Стейн, знаменитый английский путешественник, географ и археолог, проехав через Памир и описав крепости его западной части, не нашел на Восточном Памире никаких археологических памятников, — а ведь именно он открыл многочисленные памятники в Северной Индии, восточном Иране, Афганистане, Восточном Туркестане. «Чего же здесь искать?» — этот вопрос встал и перед сотрудниками экспедиции А. Н. Бернштама, когда, перевалив через Кызыл-арт и оставив справа по борту пик Ленина, вздымающийся на семь с лишним тысяч метров выше уровня моря, их машина миновала огромное озеро Кара-Куль и вновь поползла вверх к самому высокому перевалу Памирского тракта — Акбайталу. (Этот перевал лежит на высоте 4655 м, т. е. более чем на 100 м выше высочайшей горы Алтая — Белухи и лишь на 150 м ниже самой высокой точки Европы — г. Монблан.) На всем этом участке пути не было встречено ни одного кургана. А ведь к северу от Заалайского хребта курганные могильники попадались почти в каждой горной долине. И даже после того, как сотрудники А. Н. Бернштама уже испытали радость открытия, увидев, наконец, несколько каменных насыпей сначала на берегах р. Мургаб, а затем и в долинах других рек южной части Восточного Памира, перед ними вновь встал вопрос: «Стоит ли здесь искать?» Это и не удивительно: ведь в результате двух лет поисков, после раскопок четырех курганов, в активе экспедиции были всего лишь один зуб и одна фаланга пальцев человека (о времени жизни его можно было только гадать). Но А. Н. Бернштам упрямо ставил другой вопрос: «Если Восточный Памир был безжизненным и непроходимым, то против кого же были возведены мощные крепости, отмеченные еще А. Стейном (см. рис. 33), крепости, протянувшиеся с севера на юг по восточной границе Западного Памира? Неужели древние земледельцы западнопамирских теснин и ущелий, оставив свои поля, воздвигали эту цепь крепостей против мифических врагов вроде «снежного человека» или загадочных горных духов и пери?» И упорство и целеустремленность поисков победили: в третий полевой сезон, в 1948 г., в ущелье верховьев Пянджа, на северном берегу р. Памир, были раскопаны первые курганные погребения кочевников, содержащие не только останки захороненных здесь «саков Памира», но и довольно обильный погребальный инвентарь.
Рис. 33. Остатки башни крепости Каахка. Западный Памир
Работы А. Н. Бернштама в 1948, 1952 и 1956 гг., а также раскопки 1958–1959 гг., продолженные Б. А. Литвинским, открыли курганы саков и в других местах Восточного Памира и позволили нарисовать картину широкого использования саками его высокогорных пастбищ. Следует, правда, сказать, что А. Н. Бернштам ошибся, полагая, что саки, погребения которых он с таким упорством искал и наконец нашел, были древнейшими людьми, заселившими «Крышу мира». Уже в 1956 г. В. А. Ранов, участник последней экспедиции А. Н. Бернштама, открыл на Восточном Памире семь местонахождений орудий каменного века и тем самым доказал, что «Крыша мира» влекла к себе человека еще на самых ранних этапах его истории (позднее В. А. Ранов нашел здесь и стоянки первобытных людей, и оставленную ими интересную наскальную живопись)[7]. Но вернемся к «сакам Памира». Какие памятники своего существования оставили они на суровых просторах «Крыши мира», что это был за народ и каково его происхождение? Как и от саков Семиречья и Тянь-Шаня, от древних кочевников Памира не осталось никаких следов поселений; это скорее всего были кратковременные стоянки с переносными (типа юрт) или недолговечными (вроде шалашей) жилищами, и единственными археологическими памятниками, по которым мы пока можем судить об их обитании здесь, служат погребения. Это курганы с каменными насыпями или кольцевыми каменными выкладками или же сочетанием того и другого, т. е. с насыпью, обрамленной выкладкой из отдельных камней. Курганы Памира невелики: чаще всего диаметр их насыпи равен 4–6 м, а высота всего лишь 40–60 см, курган высотой 1 м и диаметром до 8 м — это уже исключение. Под курганом обычно находится вырытая в грунте могила, а в ней — лежащий на боку, скорчившись, погребенный. Иногда в могиле встречаются парные захоронения (мужчина и женщина), а иногда даже тройные (мужчина, женщина и ребенок). Тело погребенного, видимо, окрашивали в красный цвет: остатки красной краски еще и сейчас покрывают кости захороненных. Все могильники памирских саков расположены, как правило, по берегам рек, неподалеку от травостоя и мест, удобных для спуска к реке, т. е. около урочищ, где можно было и охотиться на диких животных, и пасти домашний скот. Остановимся вкратце на некоторых памирских могильниках. Могильник Тамды — первый могильник «Крыши мира», исследованный советскими археологами в 1948 г., находился у границы нашей страны, на правом берегу одного из истоков Пянджа — р. Памир, вытекающей из озера Зор-Куль. Этот могильник, расположенный на высоте более 4000 м, был самым высоким из всех известных в то время археологических памятников мира. Один из его курганов оказался погребением старика, вероятно вождя племени. Находки в этом погребении начались уже в насыпи; в ней лежали рога горного барана-архара. Могила же особенно порадовала археологов. Вместе со старым воином в ней был похоронен довольно большой набор вещей. Лошади, правда, с ним не положили, но как напоминание о ней (замена по принципу «часть вместо целого») в могиле лежали бронзовые удила и бронзовые украшения узды. Рядом с костяком погребенного был найден колчан со стрелами с бронзовыми и железными наконечниками, а то и просто с заостренными деревянными концами. Одни из стрел, по-видимому, предназначались для войны, другие — для охоты на крупных животных, третьи — для охоты на птиц, четвертые — для рыбной ловли. Несохранившаяся одежда старика была богато украшена: при раскопках были найдены бронзовая бляха в виде фигуры архара, подвески, изображающие медведей, скрепки, бляшки и нашивки. Под разными курганами в этом же могильнике было раскопано еще 18 погребений — мужчин, женщин и детей. У женщин рядом с головой стоял глиняный горшок, на шее висели многочисленные бусы (часть из них иноземного, в ряде случаев — индийского происхождения), на руки были надеты железные браслеты (железо тогда ценилось у саков дороже, чем бронза). Дети, как и взрослые, лежали под курганом в могиле, скорчившись на боку, но без вещей.

Рис. 34. Могильник Ак-беит. Восточный Памир
Интересные результаты дали также раскопки другого могильника — Ак-беита (рис. 34), расположенного далее к востоку, в верховьях речки Ок-су (исток р. Мургаб). Этот могильник, самый большой из всех сакских могильников Памира, насчитывал около сотни курганов. Исследование его велось в течение четырех полевых сезонов, последний раз — в 1958 г., под руководством Б. А. Литвинского. Впервые раскопки здесь были начаты в 1948 г. Но первые удачи пришли к археологам в необычном для Памира по погоде 1952 году. В августе с юга, с далекого Индийского океана, на Памир неожиданно прорвались сильные муссонные ветры, и археологам пришлось утром перед раскопками отгребать от своих палаток почти полуметровый слой снега, а при расчистке могил воздвигать брезентовые прикрытия от снегопада. «Трудно было, — писал А. Н. Бернштам, — окоченелыми руками расчищать костяки погребенных и упаковывать находки. Но Ак-беит вознаградил нас за все перенесенные лишения. Воины лежали в могилах прикрытые щитами с деревянным основанием и кожаным покрытием. Как правило, сверху, острием от покойника, лежали топор, клевец (боевое оружие типа топора с клинообразным лезвием), меч, кинжал. На левом боку, лицом к реке, лежал покойник в одежде с праздничными украшениями, с вооружением, а перед ним стояли бронзовая чаша, в которой, по всей вероятности, была жидкая пища, и деревянное блюдо с остатками пищи из баранины». А вот еще один могильник — Аличурский, совсем небольшой, насчитывающий всего лишь несколько курганов. Он расположен неподалеку от озера Яшиль-Куль в долине Аличур. Здесь в 1958 г. раскопано парное погребение пожилых мужчины и женщины. Мужчина (вероятно, еще один вождь) был похоронен с целым набором вооружения: рядом с ним найдены два кинжала, боевой топор, наконечники стрел. Здесь же лежала конская сбруя, в частности уздечка, украшенная бронзовыми бляхами в виде головок птиц. Женщина, несмотря на преклонный возраст, была щедро увешана украшениями: бусами, серьгами, браслетами. Но, пожалуй, наиболее интересной находкой из этого могильника был небольшой бронзовый котелок с двумя горизонтальными кольцевидными ручками и крючком-выступом в виде шеи лошади, увенчанной головой орла. Котелков такого типа в мире всего два: второй был найден в Гилгите в Северной Индии и опубликован в 1944 г. А. Стейном. В целом раскопки сакских курганов Памира дали много вещей — оружия, украшений, посуды, предметов конской сбруи (рис. 35–36). Здесь найдены и своеобразные обоюдоострые кинжалы-акинаки, известные у скифов Причерноморья, саков Семиречья, бактрийцев и персов; и многочисленные бусы — стеклянные и каменные, изготовленные на месте и привезенные издалека; и бронзовые украшения на оружии или в виде отдельных блях, выполненные в «скифском зверином стиле». Изделия из дерева, железа, бронзы, кожи, войлока, шерсти, окрашенной индиго и пурпуром, свидетельствуют о том, что саки Памира были искусны в применении и обработке многих материалов. Но нельзя не отметить, что Восточный Памир не знает и половины тех материалов, которые были встречены археологами в сакских могилах.

Рис. 35. Оружие и предметы конской сбруи из сакских курганов Восточного Памира

Рис. 36. Предметы, украшенные изображениями «скифского звериного стиля», из сакских курганов Восточного Памира
Откуда же получали эти материалы саки Памира, с кем они были связаны и откуда они пришли? Все эти вопросы невольно встали перед исследователями. К сожалению, окончательный ответ на них дать пока невозможно — слишком мало еще материала из сопредельных областей, в особенности из Восточного Туркестана и Северной Индии. Но уже сейчас напрашивается вывод, что непосредственной связи между саками Памира и саками Семиречья и Тянь-Шаня не было. Об этом прежде всего свидетельствует размещение сакских курганов на «Крыше мира». Все они как бы теснятся в юго-восточной части Памира. Больше всего их в долине р. Памир и в бассейне р. Ок-су — как на самой Ок-су, так и на ее притоках Истык, Тегермансу, Андемин-су (на берегу последнего в 1959 г. найден небольшой могильник, лежащий еще выше, чем Тамды, на высоте около 4500 м над уровнем моря). Немногочисленные сакские курганы встречены и в центральной части Памирского плато, в долине Аличура и на Мургабе. Но за Акбайталом, в бассейне Кара-Куля и вообще во всей северной части Памира нет ни одного сакского кургана, не говоря уже о могильниках. Здесь, по-видимому, простиралась в древности непроходимая «мертвая зона», отделяющая кочевья саков «Крыши мира» от мест обитания их тянь-шаньских собратьев. Древние кочевники Памира отличались от скотоводов Тянь-Шаня и Семиречья и по своему внешнему облику: анализ костных останков, в первую очередь черепов, позволил установить, что памирские саки относились к длиннолицему (долихокранному) расовому типу, в то время как саки северо-восточных областей Средней Азии были представителями иного, круглоголового «андроповского» типа, широко распространенного в древности на просторах Казахстана и Южной Сибири. С другой стороны могильники саков Памира вплотную подходили к границам Восточного Туркестана и Северной Индии и, вероятно, смыкались с курганами кочевого населения этих областей. Но их археологические памятники изучены еще крайне слабо, и судить о том, с кем из них саки Памира теснее, а с кем меньше были связаны, пока не приходится. Работами Б. А. Литвинского, В. А. Ранова, А. Бабаева и других археологов на «Крыше мира» наряду с сакскими и с древнейшими, относящимися еще ко времени каменного века памятниками, ныне открыты также памятники эпохи бронзы, что позволяет предполагать и местные корни культуры памирских саков. Однако, если даже такие корни существовали, они не исключают значения тесных связей с Востоком и Югом для культуры саков «Крыши мира».
Глава IV
Грозный соперник великого Рима

…[У парфян], по разделу мира с римлянами, теперь — власть над Востоком.В многовековой истории народов Иранского плато был огромный, охватывающий почти полутысячелетие, период, который называют «парфянским». Начинается он с возникновения около 250 г. до н. э. на юго-западных рубежах современной Туркмении и северо-востоке Ирана небольшого Парфянского царства, столетием позже распространившего свою власть на юго-запад вплоть до Вавилонии и Элама; кончается в апреле 224 г. н. э., когда последний парфянский властитель, Артабан V, потерпел решительное поражение в битве на равнине Ормиздакан в Мидии и корона иранских царей перешла к Арташиру I, правителю из династии Сасанидов, наследственных владетелей Парса (древняя Персида). Этот этап более чем вдвое превышает по времени ахеменидское «царство стран». Он продолжительнее и следующего за парфянским сасанидского периода, когда на троне величайшей державы Ближнего и Среднего Востока более 425 лет восседали сасанидские государи, носившие гордый титул «царей Ирана и не-Ирана». Но этот самый длительный этап в истории Передней Азии в то же время был и все еще остается самым темным ее периодом. Автор одной из первых сводных работ по истории Ирана Джон Малькольм в начале прошлого века писал: «От смерти Александра Македонского до воцарения Арташира Сасанида протекло около пяти веков, и это пятисотлетие в общем представляет собой не заполненный для нас пробел в истории Востока». Малькольм опирался на данные одних лишь греческих и римских авторов и при изложении истории парфян в основном останавливался на борьбе с Селевкидами, а позднее — с римлянами. И хотя с выхода в свет «Истории Персии» сэра Джона Малькольма прошло уже около 150 лет, Парфию и по сей день рассматривают во всемирной истории прежде и больше всего как вторую «мировую державу» Передней Азии, грозного соперника великого Рима. Причина такого подхода к истории Парфии кроется в том, что и сейчас науке известно все еще ничтожно мало собственно парфянских источников. Поэтому при изучении парфянской истории ученые вынуждены оперировать данными античных авторов, которых, естественно, больше всего занимала угроза парфянских вторжений в эллинистические (позднее — римские) владения в восточном Средиземноморье. Рассмотрим вкратце ход сложения этой могущественной державы и некоторые перипетии парфяно-римского соперничества, так как без этого нельзя понять роли Парфии в истории древней Средней Азии, равно как и роли древней Средней Азии в истории Парфии, а также значения тех открытий, которые сделаны советскими исследователями при изучении территорий первоначального ядра Парфянского государства на юге современного Туркменистана.Трог Помпей (рубеж н. э.)
Парфянское государство
Через семьдесят пять лет после смерти великого македонского царя из-под власти Селевкидов, его наследников в Азии, отпали, как мы уже видели, «восточные сатрапии» — Бактрия и Парфия (Парфиена). Во главе обеих этих сатрапий в то время стояли греческие наместники: уже известный нам «правитель тысячи бактрийских городов» Диодот и некий Андрагор, «сатрап Парфии». Однако, если в Бактрии господство греко-македонских завоевателей не было поколеблено, а просто приняло форму смены верховного правителя, то в Парфии оно вылилось в выступление против власти греков вообще. Андрагор, утвердившийся первоначально в Парфии и выпустивший даже монеты со своим именем, вскоре был свергнут, и власть над этой областью почти на пятьсот лет перешла в руки представителей местной восточной династии. Судя по сообщениям античных авторов, произошло это примерно так. Кочевники-парны, обитавшие где-то вблизи границ Парфии, около 250 г. до н. э. захватили долину р. Атрек, будущую парфянскую провинцию Аставену, и провозгласили одного из своих вождей — Аршака — «царем». (Это событие позднее было принято за отправную точку особого парфянского летосчисления — «аршакидской эры»; отсчет по ней велся с первого числа весеннего месяца нисан 247 г. до н. э.). Попытка новоявленного царя вторгнуться в Бактрию была успешно отражена ее первым греческим царем, Диодотом I. Тогда парны обратились к Парфии и, разгромив Андрагора, овладели этой областью, где, смешавшись с родственным им исконным местным населением — парфянами, — переняли и их имя; позднее это имя распространилось и на другие покоренные или добровольно присоединившиеся к ним родственные иранские племена. За первыми успехами парфян в собственно Парфии и близлежащих районах следуют новые успехи, и вскоре под их властью оказывается уже и Гиркания, значительная область на северо-востоке современного Ирана. Когда же Селевк II в 232–231 гг. до н. э. предпринял поход против парфян, Аршак, заключивший союз с сыном и преемником основателя Греко-Бактрийского царства Диодотом II, отступил в степи, где его конные отряды непрерывными внезапными нападениями нанесли большой урон неповоротливой, тяжеловооруженной селевкидской пехоте. До решающего сражения дело не дошло, так как из центральной области Селевкидского царства — Сирии к Селевку II пришли тревожные вести о новых династийных распрях, и он вместе с войском вернулся на Запад, поспешив заключить мир с Аршаком, согласившимся признать на словах свою вассальную зависимость от селевкидского царя. Аршак, который, по словам Юстина, «не только добился царской власти, но и устроил свое царство, отчего стал для парфян не менее достопамятным, чем для персов — Кир, для македонян — Александр, для римлян — Ромул», мастерски использовал предоставленную ему передышку. В годы атом передышки парфяне строят новые крепости, укрепляют свои поселения, усиливают армию. Рост Парфянского государства продолжался и после смерти Аршака. Так, при Артабане I (211–196 гг. до н. э.) парфяне приступили к завоеванию северо-западной части Ирана — районов древней Мидии. Их продвижение на запад и юго-запад было, правда, вскоре приостановлено в результате уже упоминавшегося нами восточного похода Антиоха III, который после первых побед над парфянами счел все же целесообразным прекратить дальнейшую борьбу и удовольствоваться новым признанием его верховенства со стороны сохранившего свой трон парфянского царя. Но уже пятьдесят лет спустя, около середины II в. до н. э., в то время как греческие царства Бактрии и Индии доживали свой недолгий век, парфянский царь Митридат I, прочно обосновавшись в Мидии, вел свои отряды еще дальше на запад, в Месопотамию, где он овладел Селевкией, второй столицей Селевкидов на Тигре, и в июле 141 г. до н. э. был признан царем Вавилонии.
Рис. 37. Монета Митридата I
Митридат I (рис. 37), которого Трог Помпей характеризует как «человека необыкновенной доблести», став твердой ногой на древних землях между Тигром и Евфратом, не смог, однако, развить свой успех на Западе, так как уже в конце 141 г. до н. э., оставив армию и вновь завоеванные области на попечение своему наместнику-полководцу, он отправился на Восток, где и прошли последние годы его жизни. Кто угрожал в это время восточным рубежам могущественной Парфянской державы, сказать трудно, но, несомненно, что эта угроза была как-то связана с событиями, которые сопровождали гибель Греко-Бактрийского царства. Скорее всего это была угроза вторжения в Парфию тех отрядов или племен, которые составляли правое крыло хлынувшей из-за Аму-Дарьи новой волны кочевников Средней Азии. Как бы то ни было, судьба новой «мировой державы» даже к концу царствования Митридата I была еще далеко не ясна. Окончательно эта судьба решилась в течение последующих двух десятилетий, в царствование сына Митридата — Фраата II, брата Митридата — Артабана II и, наконец, сына последнего — Митридата II. Фраату II в 130–129 гг. до н. э. пришлось отражать натиск деятельного и талантливого военачальника и полководца Антиоха VII Сотера («Спасителя»), предпринявшего последнюю серьезную попытку спасти гибнущее царство Селевкидов, а вслед за победой над Антиохом испытать горечь поражения в борьбе с отрядами саков. Парфянский царь сам пригласил саков в Иран для совместной борьбы против Антиоха VII, обещая им за помощь богатую военную добычу. Явившись по зову Фраата II на арену военных действий тогда, когда судьба селевкидского царя была уже решена, саки потребовали от своего «союзника» выплаты обещанной им доли добычи, но получили отказ. Обманутые в своих ожиданиях и оскорбленные надменной формой отказа, саки начали грабить и немногочисленные греческие поселения в Иране, и основную массу местного оседлого населения. Попытки парфянских войск изгнать саков не увенчались успехом, а сам Фраат II, будучи предан воинами Антиоха, которых он включил в состав своей армии, погиб в одном из сражений. В борьбе с кочевниками, опустошавшими Парфянскую державу, погиб и преемник Фраата, его дядя Артабан II. Летучие кочевые отряды появлялись в самых разных областях «великой державы», достигая границ Армении и Месопотамии, но в конце концов были оттеснены на юго-восток в древ-тою Дрангиану (на границе современных Ирана и Афганистана); эта область и поныне носит их имя — Сеистан (от «Сакастан» — «страна саков»). Окончательная победа над саками выпала на долю Митридата II, сына погибшего в борьбе с кочевниками Артабана II. В период его царствования Парфия превратилась в крупное царство, утвердилась в положении «мировой державы». Победив саков и превратив Сакастан в сатрапию Парфянского царства, расширив свои владения на Востоке завоеванием низовьев р. Мургаб и крупнейшего городского центра Мерва, а на западе — оккупацией части Армении, уступленной ему за помощь в захвате престола армянским царем Тиграном II, Митридат II первым из парфянских государей присваивает себе титул «царя царей». Этот царь был также, как это справедливо отметил акад. В. В. Бартольд, «первым государем в мировой истории, имевшим сношения как с державой востока — Китаем, так и с державой запада — Римом»: китайская династийная хроника династии Хань содержит краткую, но четкую характеристику Парфянского царства конца II — начала I в. до н. э., а из сообщений античных авторов известно о встрече на Евфрате в 92 г. до н. э. знаменитого римского полководца Суллы с парфянским послом Оробазом. В течение примерно 30 лет после смерти Митридата II (88 или 87 г. до н. э.), в то время как Рим укреплял свои позиции в восточном Средиземноморье, в Парфии шла ожесточенная внутренняя борьба между различными политическими группировками и сменилось несколько царей. При последнем из них, Фраате III, в 65 г. до н. э. произошло первое вооруженное столкновение между римлянами и парфянами: в этом году легат знаменитого римского полководца, участника первого триумвирата Помпея, Афраний вытеснил парфянские отряды с территории Кордуэпы, одной из спорных областей. Этот незначительный на первый взгляд эпизод в деятельности Помпея на Востоке, где Рим овладел уже Малой Азией и всем восточным побережьем Средиземного моря, включая Сирию, ознаменовал собой начало жестокой, затянувшейся на многие столетия борьбы за главенство на Переднем Востоке. Решительная схватка между Римом и Парфией не заставила себя долго ждать. Честолюбивый и надменный полководец Марк Лициний Красс, другой участник первого триумвирата (третьим триумвиром был, как известно, Юлии Цезарь), вознамерился повторить восточный поход Александра Македонского. Красс, незадолго до этого жестоко подавивший восстание Спартака, не просто жаждал военной славы. Соперничество между триумвирами, приведшее позднее к гражданской воине и диктатуре Цезаря, уже начиналось, и Крассу во что бы то пи стало надо было сравняться с Цезарем, покорившим Галлию, и Помпеем, утвердившим власть Рима на Переднем Востоке. Римляне, в частности Красс, плохо представляли себе возможности парфян, и эта недооценка Парфянского царства дорого обошлась Римской республике. Весной 54 г. до н. э Красс прибыл в Сирию и почти без всякой подготовки двинул свои легионы в парфянскую Месопотамию. Без особого труда оттеснив парфянского сатрапа и заняв несколько городов (в Парфии в это время еще не закончилась очередная междоусобная борьба за престол между сыновьями Фраата III), Красс столь же неожиданно, к удивлению и друзей и врагов, вернулся зимовать в Сирию. Всем в Парфии было ясно, что предстоит серьезная борьба, и царь Ород II, овладевший в то время с помощью своего талантливого военачальника Сурены властью и троном, начал деятельно готовиться к ней. Положение на востоке Парфии стабилизировалось: кочевые завоеватели Бактрии были разобщены и не представляли для парфян серьезной опасности. Саки, ранее угрожавшие Парфянской державе, прочно вошли в ее состав, и упомянутый выше Сурена, как установлено ныне, происходил из рода сакских вождей. Политическая обстановка, таким образом, давала возможность Ороду II сосредоточить все свое внимание на борьбе с Римом. Парфянский царь предполагал, что римляне, опираясь на заключенный ими ранее союз с армянским царем, изберут для похода на Иран путь через Армению, более длинный, но обеспечивающий им наибольшую безопасность от нападения парфянской конницы, выводящий к тому же в глубь Месопотамии, к жизненным центрам Парфянской державы. Поэтому основные силы парфян во главе с самим Ородом II вступили в Армению. Преградив таким образом путь легионам Красса через Армению, парфянский царь одновременно лишил римского полководца поддержки самого сильного из его возможных союзников в Азии. (Ород был, вероятно, хорошо осведомлен о позиции армянского царя Артавазда, который, как это теперь известно, действительно предлагал Крассу напасть на парфян через его страну.) В Месопотамии было оставлено относительно небольшое войско во главе с Суреной. Основную часть этого войска составляли, как сообщают источники, 10 тысяч всадников из личного отряда этого полководца. В помощь им Ород II выделил еще тысячу тяжеловооруженных конныхвоинов (катафрактариев). Сурена обеспечил своим отрядам и бесперебойную доставку стрел: для этого его армии была придана тысяча верблюдов, навьюченных огромным запасом стрел. Вопреки советам своего союзника Артавазда Армянского и простому здравому смыслу Красс избрал для своей армии тяжелый, но зато кратчайший путь в Иран — через пустынные степи Месопотамии. Римский проконсул на Востоке был настолько уверен в успехе, что даже не обратил внимания на подготовку своих легионеров к трудностям предстоящего похода и не провел никакой разведки сил и планов врага. На первый взгляд казалось, что Крассу неожиданно повезло, так как, выбрав путь через Месопотамию, он тем самым избегал столкновения с основными силами парфян. Но ведь целью его похода был решительный разгром Парфии, а не просто захват западных парфянских областей, и ему как раз и следовало бы скорее уничтожить армию своего врага. Как бы то ни было, до столкновения с основным ядром парфянской армии дело не дошло, и судьбу войны решили не главные силы парфян, а вспомогательное войско Сурены. Весной 53 г. до н. э. армия Красса перешла Евфрат. В ее состав входило 7 легионов, т. е. примерно 35 тысяч пехотинцев, 5 тысяч всадников и несколько тысяч метателей копий. Ближайшими помощниками Красса были квестор Кассий Лонгин (в будущем один из убийц Цезаря) и сын полководца, легат Публий Красс, ранее сражавшийся под командованием Цезаря в Галлии. Войска Сурены, заманивая римлян в степь, отошли на восток. Красс немедленно двинулся за ними, хотя Кассий и советовал ему идти вниз по Евфрату на Селевкию. Четыре дня шли римские воины через пустыни Месопотамии вслед за Суреной, пока, наконец, 6 мая, не успев даже отдохнуть после изнурительного похода, не столкнулись с парфянами возле г. Карры (Харран). Тяжеловооруженная римская пехота, выстроенная в каре, была атакована парфянской конницей. Парфянские конные всадники кружились вокруг неповоротливого каре, засыпая римлян тучами стрел, которые непрерывно доставляли к полю боя караваны верблюдов… Когда же Публий Красс во главе значительного отряда пехоты и конницы атаковал парфян, последние обратились в притворное бегство. Пылкий римский легат, совершенно незнакомый с тактикой степных конников, поддался на эту уловку Сурены и удалился от основных сил. Тогда-то на его отряд неожиданно обрушился решительный контрудар: натиск римлян был остановлен парфянскими катафрактариями, и вскоре отряд был окружен с флангов и тыла. Напрасно бросались на длинные пики катафрактариев молодой Красс и его легковооруженные конники — прорвать парфянское окружение они не смогли. Отряд был взят в кольцо и почти полностью расстрелян: были убиты пять с половиной тысяч из шести, среди погибших был и Публий Красс. Вся операция была проведена так умело и быстро, что Красс старший не успел даже приблизиться к месту избиения своего авангарда, покончив с которым парфяне с новой силой обрушились на главные силы римлян. Атаки парфян продолжались до наступления темноты, после чего конница Сурены как бы растворилась во мраке. Римский полководец, никак не ожидавший подобного поворота дел, был так растерян, что даже не отдал приказа, куда вести потрепанные римские отряды: его помощники сами приказали своим воинам укрыться в Каррах, под защитой городских крепостных стен, бросив при этом на произвол судьбы лагерь с четырьмя тысячами раненых. Последующая попытка Красса пробиться на север, во владения союзного римлянам Артавазда, также не удалась. Отступление римлян превратилось в бегство и закончилось гибелью римской армии. Из сорока с лишним тысяч римлян, выступивших в парфянский поход, в Сирию вернулось менее десяти тысяч (да и то большинство из них составляли солдаты из гарнизонов, захваченных Крассом в начале похода месопотамских городов). Около двадцати тысяч воинов пало в бою. До десяти тысяч пленных было поселено по приказу Орода на северо-восточных рубежах Парфии, в окрестностях Мерва. Большинство командиров, в том числе и сам Марк Лициний Красс, погибли в бою или покончили с собой. Серебряные орлы — значки римских легионов — украсили храмы Парфии. Плутарх, рассказывая о злополучном походе Красса, завершает свое повествование эффектной концовкой. По его словам, в то время как римский полководец стремился пробиться в Армению, в армянской столице Арташате Ород и Артавазд, заключив союз, праздновали свадьбу наследника парфянского царя Пакора и армянской принцессы. Все собрались на представление драмы Эврипида «Вакханки». И вот в той сцене, где по ходу действия предводительница вакханок Агава должна была выносить на тирсе голову Пентея, актер, исполнявший эту роль, вместо бутафорской вынес на сцену настоящую голову римского полководца. Так якобы царь Ород и его вновь приобретенный союзник и родственник узнали о гибели римского консула, чья голова появилась на сцене под звуки вакхической песни:
Мы несем домой
Из далеких гор
Славную добычу —
Кровавую дичь!
Родина Аршакидов
Начальный этап истории Парфянского царства, как мы успели убедиться, все еще изучен чрезвычайно слабо. Когда же, захватив весь Иран и часть Месопотамии, парфяне грозной силой вышли на арену мировой истории, их связи со Средней Азией уже не слишком привлекали к себе внимание древних авторов, видевших в Парфии лишь могущественную переднеазиатскую державу. Ко времени наибольшего триумфа этой державы — царствованию Орода II, когда после победы над легионами Красса парфяне, казалось бы, вот-вот утвердятся на побережье Средиземного моря (именно в это время Гораций в одной из своих од упоминает «парфян, угрожавших Лациуму»), от легендарного восстания, заложившего основу парфянской государственности, прошло уже около двух столетий. Столица Парфии, первоначально находившаяся неподалеку от Парфиены, в Гекатомпиле, после побед Митридата I на западе была перенесена в Мидию, в Экбатаны (близ современного иранского города Хамадан), а во время апогея парфянской мощи, при Ороде II, — еще дальше на юго-запад, в Ктесифон, новый город, возникший на левом берегу Тигра, напротив важнейшего торгово-ремесленного центра эллинистического мира Селевкии. Парфянские цари и правящая верхушка как будто забыли и о своем среднеазиатском происхождении, и о своих далеких исконных землях. Потомки среднеазиатских кочевников, приспосабливаясь к ближневосточным представлениям о «законности» царской власти, стали даже возводить свое происхождение к ахеменидским царям, выдавая за своего родоначальника Артаксеркса II (405–359 гг. до н. э.), носившего-де до вступления на престол имя Аршак. Письменные источники, повествующие о событиях в Парфии, со II–I вв. до н. э. почти не упоминают о колыбели парфянской государственности. И историкам казалось, что, став царями Ирана и перенеся политический центр державы в экономически мощные области Запада, парфянские цари навсегда порвали свои связи со Средней Азией. Эту точку зрения разделял даже В. В. Бартольд, писавший, что «внимание Арсакидов было обращено преимущественно на запад» и что «ими для поднятия культуры восточно-иранских (т. е. собственно парфянских) областей было сделано меньше, чем при Александре и Селевкидах; …Арсакиды не связали своего имени ни с одним из восточноиранских городов». Правда, время от времени источники сообщали о пребывании того или иного царя на востоке Парфянской державы, но, как правило, считалось, что они отправлялись туда либо для предотвращения нашествий кочевых «варваров», либо в надежде поживиться за счет слабевших восточных соседей, либо, наконец, под натиском победоносных римских легионов. Крах Греко-Бактрийского царства учеными XIX — начала XX в. воспринимался как гибель очага культуры в глубинной Азии, а восточные области Парфии представлялись далекой окраиной былого цивилизованного эллинского мира. Что могло привлекать на эту дикую окраину парфянских царей? Ведь те знали города Запада, вкусили плоды эллинской культуры; ведь эти цари часто официально именовали себя «филэллинами», вплоть до рубежа новой эры снабжали свои монеты надписями на чистом греческом языке, устраивали (как это известно, например, об Ороде II) представления греческих трагедий. Но вот на родине парфян развернулись археологические работы советских ученых, и стало ясно, что былые представления об исконных парфянских землях явно несостоятельны. Какова же была легендарная колыбель Парфянского царства и что нового дали ее раскопки для понимания истории и культуры одной из могущественнейших держав древнего мира? Родиной парфян, их коренной территорией, откуда они вышли, чтобы затем, разлившись по всему Иранскому плато, дойти до берегов Евфрата, были земли современного северо-восточного Ирана и южной Туркмении, земли, которые и составляли собственно Парфию; позже, после гибели Парфянского царства, при Сасанидах, эти земли стали называть Хорасан — «Восток». Эта колыбель Парфянского государства состояла из Парфиены (примерно соответствует Ашхабадской области Туркменской ССР), Маргианы (примерно Марыйская область) и нескольких более мелких районов. Парфиена с городом Нисон (иначе Парфавнисой) была одним из тех районов, где около 250 г. до н. э. и зародилось Парфянское государство. Маргиана с огромным и многолюдным городом Мервом вошла в состав Парфии позднее, после ослабления и развала Греко-Бактрийского царства. Однако сразу же после этого Маргиана прочно слилась с другими коренными парфянскими землями, так как ее население было родственно жителям Парфиены; вполне вероятно также, что легендарные парны, основатели династии и царства Аршакидов происходили именно из этой области, ранее подвластной Бактрии. Из этих-то среднеазиатских земель и вышли парфяне-завоеватели и их цари Аршакиды. И именно здесь, на землях Парфиены и Маргианы, советские исследователи с 30-х годов ведут археологическое изучение Парфии. Прежде помимо немногочисленных письменных источников об истории и культуре Парфянского царства можно было судить лишь на основании раскопок в Месопотамии, где западноевропейские археологи в течение многих лет изучали пограничный город-крепость Дура-Эвропос на Евфрате и городской квартал Селевкии на Тигре (слабее изучены Сузы и еще несколько поселений парфянского времени в Месопотамии и западном Иране). Таким образом, раскопки на юге современной Туркмении должны были разрешить сразу несколько историко-культурных вопросов: показать, какова была культура парфян на их исконных, коренных землях и каково было отношение правящей верхушки Парфянской державы к своей далекой восточной колыбели. Земли, на которых располагались Парфиена и Маргиана, как было показано в предыдущих главах, еще задолго до возвышения Аршакидов были ареной многих важных исторических событий, и не являлись, таким образом, дикой страной, лежащей вне пределов цивилизованного мира. Еще задолго до парфян, да и до походов великого македонца, здесь существовали и оседлая культура, и города, и достаточно древние культурные традиции. О том же свидетельствуют и скудные сведения античных авторов — надо только вчитаться в них внимательно и, главное, без предубеждения. Так, Маргиану наряду с Арией (область современного Герата) Страбон считал «самым лучшим местом» в восточном Иране, а согласно Плинию она славилась также высокой урожайностью ее виноградников. Столицу Маргианы Антиохию называли «Енидрос», т. е. «обильно снабженная водой», причем помимо нее при описании этой области перечислялся еще целый ряд городов. В Парфиене античные авторы также упоминали несколько поселений городского типа, причем в главном городе этой области — Нисе, по их данным, находились какие-то «царские гробницы» (последнее сообщение вызывало известные сомнения, так как было хорошо известно, что в 217 г. н. э. римляне по приказу императора разгромили и осквернили гробницы парфянских царей в Арбеллах, в Месопотамии). Интересно также отметить ту славу, которой пользовалась парфянская, вернее «маргианская», сталь: по словам Плиния, она высоко ценилась в Риме; из этой стали были, в частности, изготовлены доспехи и латы победоносных воинов Сурены. Но скупых сведений источников было, конечно, слишком мало, чтобы представить себе культуру коренных парфянских земель и культурный уровень парфян-завоевателей. Отсюда ряд ошибочных суждений, например утверждение А. Кристенсена, одного из крупнейших специалистов по истории и культуре сасанидского Ирана, что парфяне не знали искусства укрепления городов и их планомерной осады, или даже отрицание у парфян «художественного вкуса». Пионером археологического изучения коренных парфянских земель по праву следует признать А. А. Марущенко, который уже в 1930 г. приступил к разведывательным раскопкам двух городищ, известных у местного населения под названием нисийских. Эти городища — Новая Ниса (Тязе-Нусай) и Старая Ниса (Койне-Нусай), расположенные в 18 км к северо-западу от Ашхабада, возле сел. Багир, ныне стали наиболее изученными и самыми знаменитыми памятниками собственно парфянской культуры. После этого, вплоть до Великой Отечественной войны, А. А. Марущенко наряду с изучением «культуры Анау» неоднократно вел небольшие раскопки в Нисе, выяснив многие важные историко-археологические вопросы. Однако широкое изучение культуры коренных земель Парфии было осуществлено позднее, уже после войны, сотрудниками Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции во главе с пр оф. М. Е. Массоном. ЮТАКЭ, продолжая исследования Нисы и уточняя выводы своего предшественника, провела также широкие рекогносцировочные разведки по всей южной Туркмении. При этом помимо писийских городищ и огромного городища столицы Маргианы — Старого Мерва было открыто и обследовано более десятка разных памятников парфянской эпохи: городов, государственных крепостей и неукрепленных поселений. Города коренных парфянских земель были и административными центрами — резиденциями наместников и правителей, и центрами ремесла и торговли, и, наконец, мощными узлами обороны. Каждый город состоял из трех частей: цитадели, собственно города и обширной городской округи, причем каждая из них имела свои собственные крепостные стены. Крупнейшим из таких городов был Мерв, важнейший населенный пункт не только Маргианы, но и восточного Ирана вообще. Туркменское произношение Мерва — «Мару» породило название современного центра области — Мары. Однако древний Мерв отстоит от современного города более чем на 30 км: его величественные остатки лежат возле Байрам-Али, небольшого городка и железнодорожной станции, получившей свое название от выстроенного поблизости правнуком Тимура — Мирзой Санджаром в середине XV в. «нового города», который в свою очередь ошибочно был известен у местных жителей как «крепость» Байрам-Али-хана, мелкого туркменского владетеля XVIII в. Вся эта путаница имен и событий не случайна: жизнь здесь била ключом и до парфян, и при парфянах, и многие столетия после исчезновения их имен со страниц истории. Выразительным памятником интенсивной многовековой деятельности человека и высится здесь городище Старого Мерва, на самом деле представляющее собой остатки целого ряда разновременных поселений. «Старый Мерв — это не городище, но именно группа городищ, — пишет Г. А. Пугаченкова, известный археолог и архитектор, специалист по древней Парфии, — они возникли исторически, одно вслед за другим — одни угасали постепенно и медленно, другие гибли внезапно, вследствие военных катастроф: жизнь перемещалась на новые территории, оплывали древние стены, рушились покинутые дома, и ныне печальные холмы и увалы обозначают местоположение былых кварталов, общественных зданий, рыночных площадей». Древнейшее ядро Старого Мерва, возникшее еще в доахеменидский период, известно сейчас под названием Эрк-кала — «Цитадель-крепость». Эта древняя твердыня площадью около 15 га высится ныне, по выражению Г. А. Пугаченковой, «словно огромный, загадочный лунный кратер». Многогранная, почти круглая в плане, Эрккала со всех сторон окружена высоким (до 25 м) валом оплывших крепостных стен. За этими стенами, как показали археологические работы, при Ахеменидах стоял дворец правителя, сооруженный на мощной 15-метровой платформе из сырцовых кирпичей. Позднее здесь же, вероятно, были поселены воины греко-македонского гарнизона: Квинт Курций Руф сообщает об «основании» города Александрии Маргианской, что скорее всего надо понимать как свидетельство об использовании, а возможно и укреплении уже существовавшего поселения. Еще позднее здесь действовал Селевкид Антиох I. По словам Страбона, этот крупный политический деятель, «пораженный плодородием равнины, обвел ее стеной, имеющей в окружности 1500 стадий (около 230 км), и основал город Антиохию». Что касается «Стены Антиоха», то ее остатки, сооруженные по приказу селевкидского царя местными жителями из привычного местного материала — пахсы, были обследованы С. А. Вязигиным. Эта стена действительно окружала весь Мервский оазис, защищая его от сыпучих песков и, возможно, от неожиданных вражеских нападений: занять ее всю гарнизонами было, конечно, немыслимо, и на ней, по-видимому, располагались лишь на значительном расстоянии друг от друга сторожевые посты, подававшие сигнал тревоги при приближении опасности. Город же «Антиохия Маргианская» — это скорее всего тот же Мерв, уже однажды переименованный в Александрию Маргианскую, а теперь получивший еще одно новое название. Этот город, однако, не ограничивался одной Эрк-калой, а охватывал большой почти правильный квадрат, примыкающий к ней с юга. Эта территория, известная под названием Гяур-кала — «Крепость язычников», занимает более 330 га, а каждая сторона ее достигает почти 1,5 км. Древний Мерв еще до Антиоха I вышел за пределы мощных стен первоначального города. И вот эта новая лишь обживаемая еще городская территория и была использована сыном Селевка и внуком Спитамена для сооружения города, названного в его честь Антиохией. «Новый город» был окружен новой крепостной стеной (толщиной до 6 м), а всей его застройке в соответствии с канонами эллинистического градостроительства была придана четкая планировка: правильный квадрат стен, с воротами в центре каждой из них, с двумя центральными магистральными улицами, соединявшими попарно ворота и крест-накрест рассекающими весь город. К обводу крепостных стен Антиохии Маргианской была подключена и Эрк-кала, которая, по всей видимости, играла теперь уже роль городской твердыни, цитадели, «арка», как называли такие сооружения греки.
Рис. 38. Крепостная стена Мерва (реконструкция)
Какова была судьба поселенных здесь вместе с собственно мервскими жителями греческих колонистов после краха селевкидской власти на Востоке, мы не знаем. Но работы ЮТАКЭ показывают, что город на месте Эрк- и Гяур-калы продолжал жить и развиваться и при парфянах. При них, в частности, вновь были проведены крупные работы по укреплению города. Новые мощные стены окружают в то время Эрк-калу, ставшую резиденцией парфянского наместника (рис. 38). Единственный въезд в эту грозную твердыню сооружен с юга, со стороны собственно города — Гяур-калы, причем прежде чем достичь ее ворот, путник — друг или враг — должен был подниматься к ним по покатому подъему-пандусу, который тянулся вдоль крепостных стен Эрк-калы почти на треть общей длины их периметра. Пандус был сооружен так, чтобы любой поднимающийся по нему был обращен к крепостной стене правой, не защищенной щитом стороной. У самого въезда в Эрк-калу, справа от дороги, высился еще мощный сторожевой форт, во время раскопок которого сотрудниками ЮТАКЭ открыто около двух десятков разных комнат и коридоров, окружавших центральное помещение — зал; все они имели толстые и высокие (более 5–6 м в высоту) стены. На территории самой цитадели были устроены специальные печи для обжига глиняных ядер. Здесь же, на древней центральной платформе, было сооружено какое-то крупное здание (пе то дворец, не то административная постройка), а к северу от него теснились хозяйственные постройки, склады, арсенал и, возможно, казармы личной гвардии правителя. Но не грозная Эрк-кала была при парфянах центром городской жизни Мерва. Ремесленное производство, торговля, да и повседневная жизнь большинства мервцев, будь то богатая знать или городская беднота, были сосредоточены на территории Гяур-калы, былого центра Антиохии Маргианский. Крепостные укрепления этой основной части города, как и стены цитадели, в годы парфянского владычества были сильно перестроены. Сооруженную при Антиохе крепостную стену Гяур-калы, словно в футляр, заключили внутрь новых мощных кладок: новая массивная стена окружила ее с обеих сторон и сверху. Теперь стена Гяур-калы достигала 16 м в толщину, а о высоте ее позволяют судить останцы, еще поныне вздымающиеся почти на 10 м. Как показали работы ЮТАКЭ, над гребнем стен высилось больше сотни прямоугольных башен, не выступающих, однако, за фасадную линию стен. В застройке города ярко проступали черты социальной дифференциации четко отразившиеся даже на внешнем виде нынешней Гяур-калы. В западном и северо-восточном ее секторах вздымаются отдельные одиночные холмы. Это остатки богатых домов городской знати. Пустыри у подножия Эрк-калы и в южной части городища — былые городские площади и рынки. Холм, возвышающийся возле дороги, — остатки храмового строения. А вот центральную часть Гяур-калы занимает сплошная густая застройка с неразличимыми до раскопок многочисленными жилищами основной массы горожан; только места городских водоемов-хаузов бросаются здесь в глаза: их расположение отмечают большие углубления, выделяющиеся на фоне лишь слегка всхолмленного рельефа этой части былого города. Интересные результаты были получены при раскопках в северо-восточном секторе Гяур-калы, где, как выяснилось, размещались ремесленные кварталы парфянского Мерва. Люди, занимающиеся одной профессией, жили здесь на одном месте в течение многих поколений. В одном из раскопанных здесь бугров оказались остатки мастерской ремесленников-металлистов. Здание этой мастерской насчитывало около полутора десятков помещений, в которых были найдены небольшие производственные печи и крупные глиняные сосуды-хумы для воды. Здесь же были подобраны литейные формочки, глиняные тигли для плавки металла, рога и кости, из которых изготавливались рукояти и всевозможные обкладки. Еще более яркую картину дали раскопки обширного холма, лежащего близ северных ворот Гяур-калы. Как оказалось, здесь в древности лежал квартал мукомолов: многочисленные мелкие хозяйства, состоящие из небольших домов всего в три-четыре комнаты, иногда с двориком, которые часто пристроены друг к другу и лишь изредка разделены узкими проходами — переулками. В каждом из таких домов найдено по нескольку ручных жерновов и огромные хумы для зерна и муки. Здесь же находились очагп для обогрева и приготовления пиши, различная бытовая глиняная посуда, мелкие монеты, пряслица и ткацкие грузила, разнообразные бусы и дешевые бронзовые колечки: жизнь шла своим чередом, и помимо занятия мукомольным ремеслом люди здесь готовили еду, копили деньги на «черный день», заботились об одежде и украшениях. Очень важны находки в этом мире бедных ремесленников нескольких глиняных черепков с выполненными черными чернилами парфянскими надписями: они свидетельствуют о довольно широком распространении грамотности. Неподалеку от жилищ мукомолов были найдены также обжигательные печи ремесленников-гончаров. Все это говорит о развитом ремесленном производстве парфянского Мерва и о далеко зашедшей специализации отдельных городских ремесел.

Рис. 39. План Мерва парфянского времени
Парфянский Мерв — это огромный город (см. рис. 39), перешагнувший уже не только пределы Эрк-калы, но и крепостные стены Гяур-калы, а ведь площадь этих двух городищ, равная почти 350 га, и так превышала территорию многих городских центров древности и средневековья. В первые века нашей эры вокруг этих двух старых территорий городской застройки выросла обширная городская округа. Тут, вероятно, размещались обширные усадьбы знати, храмовые хозяйства, участки общинников, виноградники, бахчи, сады, поля. Весь этот огромный пригород парфянского Мерва площадью около 55 кв. км был окружен еще одной крепостной стеной, остатки которой известны ныне под названием Гилякин-Чильбурдж («Сорокабашенная»). Эта огромная стена до работ ЮТАКЭ считалась средневековым сооружением XI–XII вв. Однако изучение ее, проведенное в 1947 г. З. А. Альхамовой, показало, что возведение Гилякин-Чильбурдж восходит еще к парфянскому периоду. Общее протяжение валов этой некогда грандиозной оборонительной линии достигает 27 км, что более чем на 9 км превышает длину самого обширного кольца стен, когда-либо окружавших древний Рим. Гилякин-Чильбурдж служила, вероятно, для защиты от неожиданных набегов кочевников, и в случае более серьезной военной угрозы — первой линией обороны, которая могла на время задержать врага и дать возможность жителям пригорода укрыться под защитой основных укреплений — крепостных стен Гяур-калы, а защитникам последних лучше подготовиться к обороне. Толстые и мощные стены Мерва явно были рассчитаны на оборону и от многочисленного врага и от осадных орудий. Цветущая столица Маргианы своим бурным развитием обязана пе только тому, что она была центром богатого оазиса, по и своему расположению на важных торговых путях, в частности на трассе Великого Шелкового пути, соединявшего восточное Средиземноморье и Дальний Восток (об этой великой трансконтинентальной дороге еще пойдет речь). Через Мерв проходили также пути в Хорезм и Согд, Бактрию и Индию. И пе далеким захолустьем цивилизованного мира, а важным ремесленным, торговым и культурным центром встает перед нами этот огромный, сильно укрепленный парфянский город, важный и мощный оплот восточных рубежей Парфянской державы.

Рис. 40. План городища Койне-кала
Ниже мы познакомимся еще с одним парфянским городом южной Туркмении — Нисой, археологическое изучение которой дает возможность более подробно судить о многих сторонах культуры и искусства коренных парфянских земель. Но уже здесь следует отметить, что многие черты, с которыми мы столкнулись в Мерве, не носили случайного характера и были, по всей видимости, присущи культуре Парфии вообще. Таковы, например, и трехчленное деление города, и система его обороны, и, наконец, планировка его древнейшей и наиболее укрепленной части — цитадели (арка). Для того чтобы убедиться в этом, рассмотрим еще одно из парфянских городищ — Койне-кала у сел Гяуре (к юго-востоку от Ашхабада) (рис. 40). Площадь этого городища почти в сто раз меньше территории Мерва, цитадель расположена не на краю собственно города, а в центре его. Но в остальном это маленькое поселение оказывается как бы уменьшенной во много раз копией величественной маргианской столицы. Многогранный или круглый в плане арк Койне-калы перекликается с мощной цитаделью Мерва — Эрк-калой. Основная, собственно городская часть Койне-калы, окруженная стенами и башнями, по своему характеру сходна с мервской Гяур-калой, а сравнительно большой пригород, как и в Мерве, тянется во все стороны от центра города и также обрамлен еще одной, дополнительной линией крепостных стен. Так во внешнем облике грандиозного города и совсем небольшого городка запечатлены определенные, выработанные парфянами на их родных землях, принципы градостроительства и фортификации. О приемах, применявшихся парфянами при устройстве оборонительных сооружений, позволяют судить и те государственные крепости, которые возводились в первые века нашей эры близ восточных рубежей их державы, чаще всего на границах оседлоземледельческих оазисов. Воздвигаемые по заранее намеченному плану, эти крепости отличаются четким контуром стен, продуманной системой оборонительных сооружений, слабой застроенностью внутреннего, столь тщательно защищенного пространства.

Рис. 41. План крепости Чичанлык-тепе
Одна из таких государственных крепостей — Чичанлык-тепе (в Маргиане) почти квадратна в плане (каждая ее сторона приближается к 200 м) (рис. 41). По всем четырем углами крепости высятся выступающие за линию фасада стен мощные квадратные башни. Три стены имеют еще по четыре дополнительные башни, а четвертая, в которой помещен въезд, — три такие башни. Ворота, ведущие внутрь крепости, укреплены выступающим вперед Г-образным изгибом стены, затрудняющим доступ неприятелю: вступив в узкий проход, он оказывался здесь под двойным обстрелом — с основной линии стены и с ее Г-образного изгиба. Постройки, скорее всего казарменного типа, размещались в крепости вдоль внутренней стороны ее стен, так что обширная площадь в центре крепости оставалась свободной. Здесь могли размещаться шатры, храниться запасы фуража, стоять кони. Здесь же проводились, возможно, воинские учения, а во время военных действий спасались от опасности жители близлежащего поселения. Гарнизон крепости был, очевидно, немногочисленным (во всяком случае он был безусловно меньше, чем население любого занимающего такую же площадь укрепленного городка), и в силу этого особое внимание уделялось чисто фортификационным сооружениям — башням. Именно им в Чичанлык-тепе в отличие от крепостных стен Мерва отводилась основная роль в активной обороне крепости. Если, например, в Мерве в оборонительных боях участвовало все мужское (а иногда и женское) население, способное оборонять всю линию крепостных стен, в Чичанлык-тепе фактически защищались лишь отдельные узлы обороны — башни, на которых и размещались основные силы защитников крепости. С Чичанлык-тепе сходны и другие парфянские крепости, такие, как Дурнали или Чильбурдж (рис. 42), тезка внешней оборонительной стены Большого Мерва. Обе эти крепости также имеют правильную четкую планировку, Г-образные изгибы стен у ворот и большие незастроенные внутренние площади. Основу их обороны также составляли выдвинутые вперед многоэтажные башни: четыре особенно мощные по углам и дополнительные — вдоль фасадной стороны стен. Строители этих крепостей отнюдь не копировали какие-либо образцы. Напротив, они тонко учитывали специфические местные условия. Сооружая эти укрепленные посты на границе с песчаной степью, они явно рассчитывали, что у кочевников, их возможных врагов, нет осадных машин, а если и есть, то их трудно доставить через пески. Именно этим объясняется небольшая толщина стен при очень внушительной их высоте: очевидно, не опасаясь осадных орудий, строители крепостей учитывали, что у нападающих могут быть штурмовые лестницы.

Рис. 42. Крепостные стены городища Чильбурдж (реконструкция)
Таким образом, если города Парфии свидетельствуют о развитии в ней городской жизни, ремесел и торговли, то крепости, будучи сопоставлены с городскими укреплениями, позволяют говорить также о большом опыте населения коренных парфянских земель в возведении оборонительных фортификационных сооружений. Последнее вполне понятно, если учесть долгий исторический путь, пройденный к тому времени населением южной Туркмении, этой колыбели древнейших земледельцев Средней Азии, и пограничный характер коренных парфянских земель: ведь именно здесь находился тогда тот восточный рубеж Парфянской державы, которому в конце I тысячелетия до н. э. угрожали кочевые племена и греко-бактрийские отряды, а в первые века нашей эры — грозные армии Кушанского царства. Заканчивая на этом беглое ознакомление с археологическими памятниками коренных парфянских земель, следует отметить, что далекая восточная окраина Парфянской державы вряд ли могла рассматриваться как дикая страна осведомленными современниками Митридата I и Митридата II или же Юлия Цезаря и Октавиана Августа. И вряд ли кто-нибудь из них осмелился бы назвать ее лишенной какой-либо культуры. А ведь еще совсем недавно примерно так характеризовали и Маргиану, и собственно Парфпю, и всю древнюю Среднюю Азию в целом некоторые историки Европы. О том, сколь ошибочны подобные оценки Парфии и парфянской культуры, особенно ярко свидетельствуют нисийские городища.
Ниса и Михрдаткерт
Тязе-Нусай и Койне-Нусай — Новая Ниса и Старая Нпса, раскопки которых, как мы уже видели, были начаты в 1930 г., привлекли к себе внимание задолго до Октябрьской революции. Еще генерал А. В. Комаров, тот самый, который первым начал своеобразное «исследование» холмов Анау, заинтересовался этими городищами. Причем, если первоначально, в 1882 г., этот почитатель археологии в генеральском мундире решил, что Ниса возникла в позднее время («столетия два или три назад»), то уже через несколько лет он, различая Новую и Старую Нису (эти термины впервые были введены в науку именно А. В. Комаровым), относил возникновение первой из них ко времени после арабского завоевания Средней Азии, а жизнь и гибель второй — к «доарабскому периоду». В. В. Бартольд, заложивший основы научной истории Средней Азии, собрав все доступные ему сведения письменных источников о городе Нисе, существовавшем еще в XVIII в., считал его остатками городища в сел. Багир. Вопрос о средневековой Нисе был решен, таким образом, довольно легко и достаточно определенно. Эта средневековая Ниса, неоднократно упоминаемая письменными источниками, доживавшая свой долгий век еще тогда, когда на берегах Невы бурно росла молодая столица России, была прочно отождествлена с городищем Новая Ниса. Иное дело Ниса парфянская, четкие сведения о которой дает лишь один из древних авторов, Исидор Харакский (I в. н. э.). Вопрос о местонахождении этой Нисы долгое время оставался нерешенным. Объяснялось это тем, что в древности название Ниса, или Нисайя, применялось к разным местностям Иранского плато. Само слово «Ниса» означало «место, где осели на жительство». Понятно, что такое название могли носить самые различные области и поселения. И «Нису в Парфиене», Парфавнису Исидора Харакского, исследователи XIX в., равно как и многие ученые нашего столетия (вплоть до Ф. Парука, автора одной из основных книг по сасанидской нумизматике, вышедшей в свет в 1924 г.), помещали где угодно, но только не возле Ашхабада. И даже после работ А. А. Марущенко, когда стало ясно, что парфянская Ниса действительно находилась на землях современного селения Багир, все еще оставалось непонятным, какое же из нисийских городищ следует признать остатками парфянского города. Казалось бы, мудрить тут нечего. Старая Ниса, где А. А. Марущенко были найдены постройки парфянского времени, явно была заброшена намного раньше Новой Нисы, просуществовавшей, как мы уже знаем, вплоть до XVIII в. Эти наблюдения хорошо объясняли названия этих городищ, и очень заманчиво было, как это сделал еще А. В. Комаров, предположить, что Новая Ниса возникла после гибели Старой Нисы и была всего лишь ее преемницей. Все это было вполне логично, но умозрительные, пусть даже безукоризненные с точки зрения формальной логики, построения уже не раз начисто опровергались современной археологией. Не подтвердились они и на сей раз. Археологическое изучение городища Новая Ниса показало, что это городище возникло не только не позднее Старой Нисы, но, напротив, даже раньше ее: на месте Новой Нисы еще во II — начале I тысячелетия до н. э. существовало древнеземледельческое поселение «культуры Анау». Более того, оказалось, что Новая Ниса расцветала именно в парфянское время. Таким образом, возникнув раньше Старой Нисы и намного пережив ее, Новая Ниса была вправе претендовать на признание именно ее Парфавнисой Исидора Харакского. Раскопки Нисы, начатые ЮТАКЭ в 1946 г., все еще далеки от завершения. Однако материалы, добытые в ходе этих раскопок, столь обильны, что подробное описание их заняло бы много фундаментальных трудов. Достаточно, наверное, будет сказать, что одному лишь виду нисийских находок — черепкам с парфянскими надписями — посвящены отдельный выпуск «Материалов ЮТАКЭ», специальная книга и целая серия статей в научных журналах и сборниках (см. Список литературы). А ведь работы в Нисе продолжались много лет и найденные при этом памятники быта, культуры и искусства отнюдь не исчерпываются одними лишь надписями! Поэтому мы рассмотрим здесь, конечно, не все находки из раскопок Нисы и далеко не все выводы, сделанные на основании изучения материалов этих раскопок. Более того, мы также не сможем, как это ни заманчиво, шаг за шагом проследить тот путь исследования, который прошли сотрудники ЮТАКЭ, прежде чем сделать определенные выводы о назначении нисийских городищ и отдельных их частей и построек.
Рис. 43. План города Парфавниса
Согласно определениям М. Е. Массона, Г. А. Пугаченковой и их сотрудников по экспедиции парфянский город Ниса (рис. 43) охватывал оба нисийские городища, однако городом в прямом смысле этого слова была все же Новая Ниса. Это городище в парфянское время во многом напоминало уже знакомые нам парфянский Мерв и Койне-калу, по размерам заметно уступая первому и в не меньшей степени превосходя вторую. Как и другие парфянские города, Ниса состояла из трех основных частей: цитадели-арка, собственно города и пригородной округи. Пятиугольный в плане арк Нисы (площадью более 4 га) был сооружен на естественном возвышении — скале (позднее на его месте помещалась средневековая цитадель). Собственно город размещался к северу от этой твердыни, у ее подножия. Странная конфигурация его стен объясняется, вероятно, тем, что парфянский город унаследовал ее от стихийно развивающегося древнеземледельческого поселения: мощные городские стены с часто расположенными прямоугольными башнями, возведенные здесь в парфянское время, шли, по-видимому, по линии старого обводного оборонительного вала. За пределами арка и собственно города (занимая вместе площадь в 18 за, они и составляют городище Новой Нисы), размещался пригород, ныне занятый садами, огородами и постройками сел. Багир. Граница пригорода четко прослежена лишь на юго-западе, где сохранился вал от былой внешней оборонительной стены. Насколько тянулся пригород во всех остальных направлениях, пока установить не удалось. Вполне вероятно, что на юго-востоке он доходил до второго нисийского городища — Старой Нисы, достигавшейтакже внушительных размеров (около 14 га); это городище, по предположению М. Е. Массона, представляло собой сооружение особого рода — заповедную крепость парфянских царей, запретный для простых смертных «царский город». Точное назначение этого загадочного «города» еще не совсем ясно, но зато мы ныне знаем его парфянское название: Михрдаткерт — «Крепость (или город) Михрдата (Митридата)». Это название «царского заповедника» стало известно из найденного при раскопках Старой Нисы архива — глиняных черепков с парфянскими надписями I в. до н. э. (этим интересным находкам посвящен следующий раздел). Вся площадь основного ядра парфянской Нисы — цитадели и собственно города (ныне городище Новая Ниса) была густо застроена. Планировка отдельных домов и кварталов этой внутригородской застройки еще не определена; изучение ее крайне затруднено многометровыми слоями последующих, более поздних сооружений, перекрывающих слой парфянского времени. Однако анализ находок, встреченных в разных частях городища, позволяет предполагать, что, как и в Мерве, кварталы городской знати располагались в парфянской Нисе отдельно от жилищ бедноты и горожан средней зажиточности. Первые находились, вероятно, в цитадели и в северо-восточной части городища: здесь обнаружены остатки жилых построек с великолепной столовой посудой, службы и склады с многочисленными хумами для хранения зерна и вин; здесь же, близ стены, найдены погребальные склепы парфянской знати и пристроенная непосредственно к крепостной стене небольшая, по-видимому храмовая, постройка. В юго-западной части города, по наблюдениям М. Е. Массона и Г. А. Пугаченковой, жили в основном средние и низшие слои горожан. Помимо частных построек в цитадели Новой Нисы раскопками ЮТАКЭ были обнаружены также большие зернохранилища (скорее всего, провиантские склады, устроенные на случай осады) и какое-то крупное административное здание, в котором найдено несколько глиняных черепков с надписями — первых нисийских хозяйственных документов. Известные уже давно парфянские монеты (II в. до н. э), в надписях которых встречается слово «Ниса», позволяют предполагать, что где-то здесь находился, по-видимому, и один из царских монетных дворов.

Рис. 44. Храм на городище Новая Ниса (реконструкция)
Для характеристики культуры и искусства жителей парфянской Нисы весьма интересны уже упоминавшиеся нами пристенная постройка и небольшие погребальные склепы. Постройка, о которой идет речь (по предположению Г. А. Пугаченковой — храм) (рис. 44), была сооружена впритык к мощной городской стене в конце III или во II в. до н. э. Внутренние габариты ее известны: длина равна примерно 13 м, ширина достигает 5 но определить, было здесь несколько помещений или одно, оказалось невозможно. Гораздо определеннее можно говорить о внешнем оформлении и о конструктивных особенностях этой постройки. Ее главный фасад пролетом 18 м был обращен в сторону города. Покоилось же все здание на специальной платформе, достигающей в высоту 80 см. Эта платформа спереди и сбоку выступала за линию толстых стен здания, образуя террасу шириной 2,5 м. На этой-то террасе обнаружены базы от деревянных колонн, некогда поддерживавших плоскую деревянную кровлю. Таким образом, здание с трех сторон было окружено колонным портиком — айваном. Высота айвана была легко определена по сохранившимся в стене здания углублениям — гнездам от деревянных балок плоской кровли. Айван и вся постройка в целом выглядели особенно парадно благодаря убранству ее стен. Стена состояла как бы из двух ярусов, один из которых, вздымавшийся над кровлей айвана, был побелен гипсовым раствором (ганчем), в то время как второй, служивший задней стеной айвана, был украшен состоящей из пяти ступеней панелью, на которой размещались терракотовые полуколонки, поддерживавшие горизонтальный фриз; стена айвана была выкрашена в малиново-красный цвет, ступенчатая панель, базы и стволы полуколонн — в черный, капители — в красный, венчающий стену горизонтальный фриз — снова в черный. Лестница, ведущая с улицы на айван, помещалась в центре главного фасада, вход внутрь здания — посредине его фасадной стены. В целом вся постройка имела парадный и монументальный вид, причем сравнение ее с западнопарфянскими зданиями позволило Г. А. Пугаченковой говорить о ее своеобразном архитектурном решении. В убранстве этой раннепарфянской постройки наряду со специфически среднеазиатскими чертами (привычный для Средней Азии строительный материал — пахса и кирпич-сырец, обычное для среднеазиатской архитектуры широкое применение айванов, излюбленное и по сей день сочетание цветов красного, черного и белого) мы видим уже творчески усвоенные и приспособленные к местным вкусам античные архитектурные элементы (форма баз и капителей полуколонн, венчающий их фриз — антаблемент, ступенчатая панель). На том же участке городища Новая Ниса, где во II в. до н. э. располагалась только что рассмотренная нами эффектная постройка, во время раскопок были найдены и погребальные склепы парфянской городской знати. Здесь в течение нескольких столетий, во всяком случае с I в. до н. э. по II–III вв. н. э. размещался, очевидно, некрополь — «город мертвых». Раскопками А. А. Марущенко и ЮТАКЭ затронуто, к сожалению, всего лишь несколько погребальных склепов этого некрополя, причем все они, за единственным исключением, еще в древности были начисто разграблены. Однако даже сейчас погребальные склепы Новой Нисы представляют для нас известный интерес. Эти склепы были совсем невелики (2,0 × 2,5–3 м), и их правильнее называть погребальными камерами. Располагались они как будто бы в ряд, впритык одна к другой. Вход в камеру был низким, и попасть в нее можно было лишь на четвереньках. Внутри стены, сводчатый потолок и даже пол камеры были тщательно оштукатурены глиной, поверх которой был нанесен слой ганча, окрашенного в малиново-красный цвет. Интересно отметить, что все эти склепы возведены уже после разрушения пристенной постройки, — они фактически пристроены к ее руинам. В одной из таких камер еще в 1936 г. были найдены остатки погребения богатого парфянина. Это погребение выявилось случайно благодаря образовавшейся здесь промоине; в ней жители сел. Багир нашли бронзовый античного типа светильник, украшенный рельефным изображением козлоголового фавна. Обследовав место находки, А. А. Марущенко вскрыл погребальную камеру, в которой нашел лежащие в беспорядке человеческие кости, а также золотые нити и мелкие бляшки, некогда. нашитые, очевидно, на ткань или одежду, и медную монету Орода II. Интересно, что некоторые бляшки имели вид листьев аканфа; эти бляшки наряду с найденным здесь же светильником еще раз свидетельствуют о безусловном знакомстве богатых горожан Нисы в период расцвета Парфянской державы с эллинистической культурой и искусством и о том, что в их обиходе были предметы, экспортированные из областей античного мира. Однако, как ни интересны находки и открытия А. А. Марущенко и ЮТАКЭ на городище Новая Ниса, их научное значение меркнет перед находками и открытиями на городище Старая Ниса — в «царском городе» Михрдат-керте. При сооружении этого городища, как и при возведении цитадели Новой Нисы, был использован естественный холм. Поверхность холма была выровнена, местами на его склонах была насыпана земля и построены подпорные стены из пахсы и сырцового кирпича. Таким образом возникла пятиугольная в плане мощная платформа (высотой от 5 до 7 м), на которой и высился «царский город» (рис. 45). Укрепления этого заповедного города не уступают по своей мощи оборонительным стенам Новой Нисы. Весь пятиугольник крепости был окружен крепкой (до 8–9 м в толщину) оборонительной стеной (рис. 46) с расположенными близко друг от друга 43 прямоугольными башнями, выступающими за фасадную линию стены.

Рис. 45. План городища Старая Ниса (Михрдаткерт)

Рис. 46. Старая Ниса. Часть стены (реконструкция)
Особенно мощный характер имели угловые башни-бастионы, в одной из которых (юго-западной) располагались единственные ворота, ведущие внутрь крепости, к воротам вели покатые дороги-пандусы, идущие сначала под углом к крепостным стенам, а затем вдоль них, что крайне затрудняло штурм Михрдаткерта, так как атакующие вынуждены были на пути к воротам на значительном участке сравнительно узкой (до 4 м) дороги продвигаться под непрерывным обстрелом защитников крепости, размещавшихся на стенах и башнях. Многое в устройстве крепостных сооружений «царского города», равно как и городища Новая Ниса и других парфянских поселений, живо перекликается с укреплениями того же времени в соседних среднеазиатских областях Хорезме и Бактрии. Таковы частое размещение башен, их прямоугольный план, мощные угловые бастионы, устройство пандуса и предвратных лабиринтов. По-видимому, развитие фортификации во всей Средней Азии той эпохи шло сходным путем. Истоки ее восходили к местным среднеазиатским традициям и в то же время, как справедливо подчеркивает Г. А. Пугаченкова, ей был «присущ характер величавой мощи, вполне соответствующей значению могущественного народа, перед которым не раз бесславно отступали римские легионы». Эта «величавая мощь» фортификации парфян, само существование которой ранее отрицалось некоторыми историками, была под стать их тщательно разработанной тактике кавалерийских сражений, применение которой при Каррах так дорого обошлось армии Красса. Но вернемся к «царскому городу», стоящему в стороне от парфянской Нисы и столь тщательно изолированному от всего остального мира. С плоской кровли «южного комплекса» как на ладони открывался весь «запретный город». К северу от «южного комплекса», включавшего группу дворцовых помещений и храмовых построек, подсобных и хозяйственных комнат и открытых двориков, была видна еще одна крупная постройка— «северный комплекс», который объединял усыпальницы парфянских царей и хранилища, связанные, по мнению исследователей, с культом обожествленных погребенных венценосцев. На востоке, откуда скорее всего можно было ожидать врагов, за зеленью парка с тремя крупными водоемами-хаузами высились наиболее мощные крепостные стены, а возле них с севера на юг вытянулись казармы воинов. Таков или примерно таков (раскопки его не завершены) был Михрдаткерт, одна из резиденций парфянских царей, город усыпальниц и поминальных храмов первых Аршакидов, обиталище парфянских коронованных «богов» — живых и мертвых. Раскопки ЮТАКЭ позволяют заглянуть в некоторые из его построек и составить более ясное представление об их архитектуре и внутреннем убранстве. Одна из построек, получившая обозначение «Квадратный зал», в древности была окружена всевозможными комнатами, узкими сводчатыми коридорами и многоступенчатыми лестницами. Как они выглядели, еще не совсем ясно. Зал — это огромное квадратное в плане помещение, каждая из стен которого имеет в длину примерно 20 м, а в высоту около 10 м. Сверху его перекрывала плоская деревянная кровля с большим световым люком в центре. Кровля опиралась на четыре центральных опорных столба, «Квадратный зал» не раз перестраивался и по крайней мере дважды заметно менял свой облик.

Рис. 47. «Квадратный зал» в Михрдаткерте (реконструкция)
Как свидетельствуют раскопки, он выглядел достаточно эффектно во все периоды его существования, но особенно парадным «Квадратный зал» был в конце I–II вв. н. э. (рис. 47). Его стены были разделены на два яруса. Во втором, верхнем ярусе в нишах размещались большие глиняные статуи. Они четко выделялись на красном фоне верхнего яруса стены, разделенной на отдельные отсеки белыми полуколонками (нижняя часть стены и опорные столбы были окрашены в белый цвет). Составленные из терракотовых деталей горизонтальные фризы и пышные капители верхних полуколонн изобиловали рельефными украшениями (рис. 48), столь излюбленными в античном мире: тут были изображения листьев аканфа, палицы Геракла, львиной морды, а рядом с ними — чисто восточные зубцы со стреловидными прорезями, изображение футляра для лука — горита, «парфянские знаки». Часть статуй изображала мужчин в характерных парфянских одеждах — штанах из мягкой ткани, боевых панцирях и плащах, часть — женщин в просторных, окутывающих фигуру мантиях. Статуи были раскрашены в разные цвета, а в изображении складок одежды в виде ряда параллельных линий мастера, лепившие эти глиняные статуи, явно следовали античным художественным канонам. Однако, поскольку эти крупные (больше человеческого роста) статуи дошли до археологов лишь частично (рис. 49), мы сейчас не можем представить, каковы были 18 веков назад их лица, и, более того, сколько таких статуй мы бы застали тогда в «Квадратном зале»: то ли двенадцать, то ли двадцать.

Рис. 48. Архитектурные украшения из Нисы

Рис. 49. Раскопки «Квадратного зала». Расчистка статуй

Рис. 50. «Круглый храм» в Михрдаткерте (реконструкция)
Иной характер имела другая постройка «южного комплекса» — так называемый «Круглый храм». Это весьма своеобразное сооружение, квадратное снаружи, по заключавшее внутри круглый в плане зал. Убранство этого, также довольно крупного, помещения (его внутренний диаметр равен 17 м) несколько напоминает интерьер «Квадратного зала» (рис. 50). Степы «Круглого храма» были, правда, одноцветными (белыми), а нияшяя их часть — гладкой, но, как и в «Квадратном зале», стены четко делились на два яруса, верхний из которых, расчлененный приставными колонками, был снабжен нишами с крупными раскрашенными глиняными статуями. И, так же как в «Квадратном зале», капители приставных колонн и горизонтальные фризы здесь были составлены из терракотовых архитектурных деталей, на которых также были изображены листья аканфа, морда льва, «парфянские знаки», стреловидные прорези. Замкнутый в кольцо коридоров, скрытый в глубине мощных стен, «Круглый храм» был, по мнению сотрудников ЮТАКЭ, частью храмовой постройки и либо играл роль монументального основания для алтаря огня, либо служил святилищем, где стояла большая культовая статуя и покоились различные реликвии, в частности трофеи. И быть может, у его стен стояли захваченные при Каррах орлы римских легионов и с них свисали римские знамена.
Сокровища «Квадратного дома»
Раскопки «южного комплекса» не дали почти никакого неархптектурного материала. И сотрудникам ЮТАКЭ, работавшим в Михрдаткерте, казалось, что по составу и количеству находок им никогда не догнать куда более удачливых в этом отношении исследователей городища Новая Ниса. Но в один прекрасный день положение резко изменилось. Причиной этому послужил «северный комплекс» Михрдаткерта и, прежде всего, его основное ядро — большой «Квадратный дом» (рис. 51).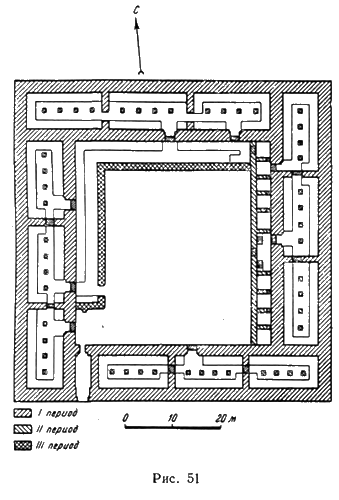
Рис. 51. План «Квадратного дома» в Михрдаткерте
Исследования ЮТАКЭ показали, что этот своеобразный дом, возникнув еще в III в. до н. э., использовался на протяжении нескольких веков и пережил несколько строительных периодов, в каждый из которых заметно менялись его план и облик. Но, несмотря на все эти перемены, общий характер и назначение «Квадратного дома» оставались как будто бы одними и теми же в течение нескольких веков. Это здание служило, по мнению М. Е. Массона и Г. А. Пугаченковой, сокровищницей богатого и разнообразного инвентаря, сопровождавшего в загробный мир погребенных в Михрдаткерте ранних парфянских царей из династии легендарного Аршака, тех самых ранних Аршакидов, которые создали Парфянское государство и превратили его в могущественную мировую державу. Перестройки «Квадратного дома» и какие-либо пополнения его сокровищ, судя по данным раскопок, прекратились на рубеже нашей эры; по-видимому, с этого времени парфянских царей стали погребать в тех самых «царских гробницах» в Арбеллах (Месопотамия), которые, как об этом сообщают античные авторы, были осквернены римлянами по приказу их императора в 217 г. н. э. Создание нового царского некрополя не означало, однако, пренебрежения старым. Старый «царский заповедник» по-прежнему тщательно охранялся и почитался, и только после краха Парфянского царства доступ в Михрдаткерт был, вероятно, открыт. «Запретный город» парфянских царей был разграблен и навсегда покинут. Тогда же, по-видимому, были в значительной части расхищены и сокровища «Квадратного дома». Что же это был за дом и какие сокровища помещали в его комнаты-кладовые парфянские цари, провожая в последний путь своих предшественников? Первоначальная основная постройка «Квадратного дома» представляла собой каре из двенадцати помещений, окружавших большой квадратный в плане двор. Наружу были обращены гладкие глухие стены толщиной более 2 м и высотой 5 м. Эта замкнутая постройка высилась в северной части «царского города» еще одной запретной твердыней. Каждая внешняя сторона ее достигала почти 60 м, а стороны внутреннего двора равнялись 38 м. Со двора здание, правда, выглядело более приветливо: здесь вдоль всех его стен тянулись крытые колонные портики-айваны. Но мало кому довелось видеть внутренний двор «Квадратного дома». Узкий и длинный вход в постройку (в юго-западном ее углу) находился под строгой охраной. Все помещения в здании были вытянуты по его периметру, по три на каждой стороне. Каждые три таких помещения сообщались между собой и имели один, два, а то и три выхода во двор. Внутри помещений, вдоль всех их стен высились широкие глинобитные суфы, а в центре, вытянувшись по оси комнаты, стояли четыре деревянные колонны, поддерживавшие плоскую деревянную кровлю. Никаких окон не было. Дверные же проемы в большинстве помещений со временем были наглухо заложены сырцовыми кладками. Во второй строительный период вдоль восточной стороны двора на месте былого восточного айвана был сооружен длинный узкий коридор, входы в который помещались в центре и в северном конце. Тонкими, в один кирпич, перегородками коридор был расчленен на девять небольших и одну несколько более крупную (центральную) комнаты. Входные проемы, соединявшие отдельные помещения этой анфилады, постепенно (вероятно, по мере заполнения комнат) наглухо замуровывались, и таким образом, все девять ее небольших составных частей оказались одна за другой изолированными от внешнего мира. Исключение составляло лишь центральное помещение, в котором были сооружены две лестницы, ведущие на крышу. Это помещение служило, возможно, кордегардией, а по его лестницам поднимались на плоскую кровлю воины-часовые, совершавшие обход здания, вверенного их охране. Предполагалось, очевидно, что и после заполнения этой анфилады рост сокровищ «Квадратного дома» будет продолжаться, и вдоль северной и западной сторон внутреннего двора был сооружен новый Г-образный коридор с высокими суфами. Интересной новинкой этого третьего в истории «Квадратного дома» строительного периода был пристенный, круглый в плане, алтарь, сооруженный с наружной стороны южной степы нового коридора. Алтарь помещался, таким образом, прямо напротив входа, ведущего с улицы внутрь «Квадратного дома». Сложен этот алтарь был из подрезанных сырцовых кирпичей и оштукатурен белым ганчем. Такая же штукатурка покрывала и всю южную стену. На белом фоне стены особенно четко выделялась украшавшая алтарь живопись — гирлянды алых цветов, перевитые черными лентами (эти изображения напоминают украшения, известные на греко-римских алтарях и саркофагах). Во время одной из перестроек «Квадратного дома» были приняты и своеобразные санитарно-гигиенические меры: из двора наружу под полом коридора и одного из северных помещений была проложена водосточная линия, составленная из нанизанных одна на другую глиняных труб — кубуров. Линии таких глиняных кубуров, служившие для подачи воды (водопроводы) или для отвода ее (канализация), были обычными для Средней Азии и в древности и в средневековье, и находки их часто отмечаются нашими археологами. Три больших северных помещения первоначальной постройки оказались совершенно пустыми, а дверные проемы, соединявшие их между собой, незаложенными, хотя выходы наружу в двух из них (в третьей такого выхода не было) были замурованы, причем на одной из таких замуровок снаружи сохранились даже оттиски печатей. В остальных комнатах первоначального здания и построек второй очереди все дверные проемы были наглухо заложены. При вскрытии же этих комнат в большинстве из них на суфах, а иногда и прямо на полу валялись, разбросанные в полном беспорядке, остатки самых разнообразных предметов. Чего только здесь не находили сотрудники ЮТАКЭ! Тут были остатки тканей и изделий из камня, стекла и дерева. Встречались предметы вооружения: короткий двулезвийный меч и тяжелая боевая секира; железные и бронзовые наконечники стрел и парадный, серебряный с позолотой, топор-клевец; пластинчатые панцири для людей и лошадей и крупный парадный щит с накладками: посредине — в форме трезубца, а по окружности — в виде двух десятков чередующихся пальметок и фигур орлов с чуть приоткрытыми крыльями. Были здесь и всевозможные бусы, подвески и амулеты, и бронзовые зеркала, и остатки металлических, костяных и стеклянных украшений от мебели, и формы-матрицы для отливки таких украшений (в одной из них можно было изготовить театральную комическую маску мима для украшения ручки кресла, в другой — медальон с изображением дикой свиньи с пятью сосущими ее поросятами, в третьей — рельефную гроздь винограда). Здесь же были найдены и многочисленные мелкие статуэтки и фигурки, изготовленные из металла (чаще всего серебра) или из полуобожженной глины, покрытые сплошной или частичной позолотой. Среди таких фигурок встречены изображения орлов; скачущего крылатого сфинкса с женской головой и грудью; Эрота, готового взлететь; Афины в тяжелом парфянском шлеме. Археологам достались и многочисленные серебряные монеты Александра Македонского, селевкидских царей, Евтидема Бактрийского, царя Понта Амизоса, ранних Аршакидов. Наряду с подлинными монетами этих государей в «Квадратном доме» были найдены и фальшивые их копии, изготовленные из свинца, меди или железа и лишь снаружи покрытые серебряной оболочкой. Интересно, что все такие подделки, найденные здесь, были разоблачены: все они были разрублены пополам или надрезаны еще в древности. Особую группу находок из «Квадратного дома» составляют разбитые части мраморных статуй западного, скорее всего сирийского, происхождения. Среди найденных здесь кусков этих замечательных скульптур встречены фрагменты рук и ног, босых и обутых в мягкие облегающие сапожки. Но наиболее ценны сохранившиеся полностью или собранные из отдельных кусков головка Афродиты и две стоящие женские фигуры. Одна из них, высотой в полметра, изображает величавую богиню, одетую в длинный хитон, ниспадающий до самого пола эффектными складками. Другая (по размеру немного превосходящая первую) изображает полуобнаженную молодую женщину со слегка склоненной головой (рис. 52). Волосы переданы разделенными на прямой пробор и облегающими голову крупными, словно влажными прядями. Левая рука отведена и приподнята; по-видимому, эта рука была согнута в локте и поддерживала волосы, правая же была опущена вниз. Поза этой статуи напоминает хорошо известные в эллинистическом искусстве изображения Афродиты. Образ богини, отжимающей мокрые волосы, явно стоял как образец перед безвестным скульптором, высекавшим нисийскую фигуру. Но художник придал ей и характерные восточные черты: тяжелая линия бровей, глубоко посаженные глаза, рисунок носа и рта сильно отличают скульптуру от античных статуй.

Рис. 52. Мраморная статуя из Михрдаткерта
Еще одна интереснейшая группа находок из «Квадратного дома» открылась перед сотрудниками ЮТАКЭ осенью 1948 г. В ту осень раскопки «Квадратного дома» начальник ЮТАКЭ М. Е. Массон поручил небольшой группе своих учеников во главе с Е. А. Давидович, ныне широко известной как крупный специалист по нумизматике Средней Азии. 26 сентября коллектор этой группы Т. Якушева обнаружила в одном из восточных помещений «Квадратного дома» мелкие куски и части каких-то растрескавшихся изделий из слоновой кости селе различимыми рельефными изображениями. Как пишет М. Е. Массон, «находка вызвала среди сбежавшихся отовсюду членов 1-го отряда (так называлась группа Е. А. Давидович) восторг и энтузиазм. Однако, когда подошедшим начальником отряда при участии коллекторов была сделана попытка осуществить хотя бы поверхностную расчистку найденных объектов с помощью ланцета и кисточки, это оказалось затруднительным; фрагменты крошились, кость расслаивалась и в ряде случаев превращалась в пыль. Вместе с тем частичная расчистка показала, что в земле находятся какие-то крупные рогообразные сосуды типа ритонов со скульптурными украшениями». В ожидании реставраторов раскопки на этом участке были законсервированы, и именно тогда разразилось катастрофическое ашхабадское землетрясение 1948 г. К счастью для археологов ЮТАКЭ и археологии Средней Азии, «Квадратный дом», вернее раскопанная его часть, практически не пострадал. Вполне понятно, однако, что о продолжении раскопок в те дни нечего было и думать; оставив в Багире двух археологов для охраны лагеря и, главное, ритонов, все сотрудники ЮТАКЭ включились в «раскопки» иного рода: вместе с уцелевшими жителями Ашхабада и постоянно прибывавшими отовсюду отрядами добровольцев, спешивших на помощь народу Туркмении, археологи раскапывали руины домов, спасая людей, пострадавших от этого колоссального по своей разрушительной силе землетрясения. Но постепенно жизнь входила в обычную колею, и перед сотрудниками ЮТАКЭ вновь встал вопрос: «Что же все-таки делать с ритонами?» Как назло наступили еще преждевременные сильные холода. Тогда М. Е. Массон лично возглавил дальнейшие работы в «Квадратном доме». И, несмотря на холодные, с инеем по утрам, дни, прерванные было работы по раскопкам «комнаты ритонов» (рис. 53) возобновились. А вскоре, в начале ноября, в новый Багирский лагерь приехали и два реставратора из Ленинграда и Москвы.

Рис. 53. «Комната ритонов» в «Квадратном доме» Михрдаткерта (реконструкция)
Между тем, как писал М. Е. Массон, погода резко ухудшилась: «По утрам все покрывалось инеем. Леденевший за ночь брезент, под которым во дворе спала часть сотрудников, становился жестким. Несколько раз начинал идти снег. Часто дул пронизывающий ветер. Коченели руки». Б одном из самых жарких мест СССР археологам пришлось, таким образом, страдать от холодов. А предметы, которые им приходилось защищать и извлекать из земли, были, пожалуй, самыми хрупкими из всех, когда-либо открытых в Средней Азии. Как ни велики были силы стихии, словно взбунтовавшейся в ту осень, упорство людей оказалось сильнее: несмотря ни на что, многие из работ, запланированных на 1948 г. в Средней Азии, были выполнены. Выполнены были также и работы по завершению осеннего раскопочного сезона в Старой Нисе. 20 ноября найденный с огромным трудом в Ашхабаде плотник заколотил во дворе Багирского лагеря последний экспедиционный ящик. Это был большой триумф ЮТАКЭ. Ведь одних только ритонов в те дни было спасено свыше трех десятков. С наступлением первых теплых дней ранней весной 1949 г. раскопки «Квадратного дома» возобновились, и в мае все оставшиеся в земле остатки ритонов были благополучно извлечены. Но работы по спасению и изучению ритонов из Старой Нисы фактически только начинались, ибо доставленные вместе с глыбами земли, они все еще представляли собой груды кусков и кусочков разной величины и формы, чья дальнейшая судьба была далеко не ясна. И если основная работа по вскрытию и извлечению этого «клада» изумительных изделий из точеной и резной слоновой кости проходила в обстановке тяжелых последствий ашхабадской катастрофы, при постоянном ощущении постигшей людей беды, при постоянных подземных толчках долго затухавшего землетрясения, в непогоду и холод, то и окончательная расчистка и реставрация ритонов, этих замечательных произведений древнего искусства, занявшая несколько лет упорной кропотливой работы, была тоже по-своему героическим делом. Ведь нельзя забывать, что каждый из ни-сийских ритонов, хранящихся ныне в залах Эрмитажа или московских музеев изобразительных искусств и искусства народов Востока, в кабинете кафедры археологии Ташкентского университета или в Институте истории и археологии Академии наук Туркменской ССР, первоначально состоял, в лучшем случае, из сотен мелких кусочков, легко разрушавшихся при любом прикосновении, а то и при легком дуновении. И теперь, любуясь этими сосудами из слоновых бивней, мы должны отдать должное не только тем, кто извлек из земли их жалкие остатки, но и тем, кто вернул им их первоначальный облик.

Рис. 54. Ритон из Михрдаткерта

Рис. 55. Фриз ритона
Как же выглядят нисийские ритоны сейчас, после двух полевых раскопочных сезонов и трех лет реставрационных камеральных работ? Каждый ритон — это большой, обычно от 40 до 60 см в высоту, сосуд (рис. 54) той роговидной формы, которую испокон веков любили придавать кубкам для вина. Едва ли, однако, столь крупные ритоны, как нисийские, могли применяться на обычных, пусть даже царских пиршествах. Более вероятно, как это предполагает М. Е. Массон, что ритоны из «Квадратного дома» предназначались не для пиров, а для каких-то религиозных возлияний. Но как ни интересно назначение этих сосудов, их научная ценность заключается отнюдь не в этом, а в украшавших их сотнях разнообразных по сюжетам резных изображений. Нижние части ритонов завершались скульптурными полуфигурами кентавров, крылатых грифонов, обнаженной богини с арфой. Еще более интересны и разнообразны барельефы фризов (рис. 55), тянувшихся по верху ритона, и маленькие головки, украшавшие карниз над фризом. В сценах, запечатленных на фризах одной из групп нисийских ритонов, можно увидеть изображения божеств античного пантеона: Зевса, Геры, Посейдона, Афины, Аполлона, Афродиты и др. На барельефах фризов других ритонов изображены ритуальные сцены — жертвоприношения, ритуальные возлияния, вакхические пляски. Не все эти рельефные изображения выполнены одинаково художественно. Некоторые из них безусловно вышли из-под резца первоклассных мастеров, другие были изготовлены менее искусными ремесленниками. Не ясно также, где были сделаны нисийские ритоны, — в Парфии ли, в Иране или Месопотамии. Но скорее всего изготавливали их (или значительную их часть) негреческие мастера; уж слишком вольно обращались они с античными сюжетами, вводя зачастую в них элементы иных, скорее всего восточных, преданий. В целом же ритоны из Нисы — это замечательный клад интереснейших произведений искусства, новая страница в изучении эллинистической культуры вообще. Без них нельзя ныне изучать ни вопросы парфянской идеологии и культуры, ни вопросы сложения и развития эллинистического восточного искусства. Предназначавшиеся для парадного употребления, украшенные инкрустацией из кусочков разноцветного стекла, а также серебром и позолоченной бронзой, вырезанные из драгоценных слоновых бивней, нисийские ритоны составляли лишь часть тех богатейших сокровищ, которые некогда хранились в опечатанных глиняными печатями комнатах-кладовых «Квадратного дома». Этот дом, по мнению исследователей Нисы, был «храмовой сокровищницей — хранилищем при могилах старших Аршакидов и вместилищем, наряду со всем прочим, царских посвятительных даров». И вполне вероятно, что и мраморные сирийские статуи, и не дошедшие до нас золотые и серебряные изделия, от которых сохранились лишь отдельные детали, и великолепные ритоны были в свое время доставлены сюда по приказу одного из двух великих парфянских царей, носивших имя Митридата и давших свое имя городищу Старая Ниса, запретному Михрдаткерту. И до чего бы хотелось любому археологу побывать в этом «царском городе» до того, как грабители пробрались после крушения Парфянской державы в кладовые «Квадратного дома», и вынесли из них предметы из золота, драгоценных камней и вообще все то, что представляло в их глазах какую-нибудь ценность! Однако мы рады и тому, что эти грабители не унесли с собой десятки культовых ритонов, куски мебели и статуй, ибо наука получила здесь богатый материал.
Архив «винного ведомства»
В том же 1948 г., когда группа Е. А. Давидович наткнулась на первый ритон в Михрдаткерте, другой отряд ЮТАКЭ, изучавший соседнее городище, Новую Нису, открыл ценнейшие памятники иного рода — первые в Парфиене хозяйственные документы. Для того чтобы лучше понять ту радость, которую испытала начальник Ново-нисийского отряда М. И. Вязьмитина, когда впервые в жизни увидела парфянский документ, надо учесть, что до начала работ ЮТАКЭ в СССР не было известно, если не считать монет и отдельных печатей, ни одной подлинной парфянской надписи. На той же территории Парфянского царства, которая расположена за пределами Средней Азии, находки таких надписей хотя и встречались, но были чрезвычайно редки. К этому времени наиболее важным и крупным парфянским документом оставался найденный случайно еще во время первой мировой войны в местечке Авроман (Курдистан) пергамент, содержащий купчую на землю. Этот документ насчитывал 23 парфянских слова, 15 из которых, однако, были именами участников или свидетелей заключенной сделки. Помимо этого знаменитого документа «Авроман III» известна была еще краткая парфянская приписка к другому документу — «Авроман I», основной текст которого был составлен по-гречески, и одна нечитаемая надпись из Парса. Что же касается парфянских монет, то примерно до рубежа нашего летосчисления их надписи (так называемые легенды) были греческими, и лишь с I в. н. э. они становятся парфянскими. Однако языковый материал монетных легенд столь ограничен, что все слова, содержащиеся в них, не дали даже полного парфянского алфавита. Во время раскопок на Старой Нисе, в одном из хозяйственных помещений «южного комплекса», за два года до новонисийской находки, в 1946 г., археологи ЮТАКЭ открыли, правда, хум конца II — начала III в., со следами парфянской надписи на стенке, но из-за плохой сохранности прочесть ее так и не удалось. На этот же раз в руках у М. И. Вязьмитиной был документ с четко различимыми буквами и даже строчками. Документ этот на первый взгляд был несколько необычен, — перед М. И. Вязьмитиной был всего лишь глиняный черепок, кусок стенки большого хума, но на обеих его сторонах виднелась нанесенная черной тушью надпись в 11 строк, и, несмотря на необычный, казалось бы, материал, не было сомнения, что это именно документ. Археологи знают, что документы на черепках — отнюдь не редкость: такие обломки глиняной посуды (по-гречески «острака», ед. число — «остракон»), служили на Древнем Востоке чуть ли не самым обычным материалом для всякого рода хозяйственных документов, ученических упражнений, а то и писем. Итак, первый парфянский документ в Парфиене был найден. Но нашли его совсем не археологи. Сотрудникам ЮТАКЭ этот остракон принесла 10 сентября 1948 г. багирская колхозница туркменка. Она же привела археологов к месту находки. Оказалось, что остракон найден в южной части нисийской цитадели — арка, там, где, по предположению археологов, находилось какое-то большое административное здание, а может быть, и дворец. Отсюда в течение многих десятков лет багирские крестьяне брали землю для удобрения своих полей. В результате этих-то не рекомендуемых ни в одном из археологических руководств «раскопок» в южной части цитадели Нисы возник огромный разрез культурных слоев. Из его срезов торчали то здесь, то там куски глиняных сосудов, остатки стен, а в одном месте — даже часть комнаты с нишей. Тщательное изучение срезов этого многолетнего «неархеологического раскопа», проведенное сотрудниками ЮТАКЭ, дало в их руки еще пять черепков с парфянскими надписями. К сожалению, все они были найдены не в каком-либо помещении большого дома, а вне его, т. е. уже в древности их выбросили оттуда за ненадобностью. Закладывать здесь специальный раскоп в поисках новых острака было, таким образом, несколько рискованно, тем более что слой с открытыми документами залегал ниже мощных многометровых наслоений. Энтузиазм археологов был, правда, столь силен, что они готовы были своротить горы. Но через неделю после того, как найдены были эти пять острака, разразилось ашхабадское землетрясение, после чего все раскопки ЮТАКЭ, за исключением работ по спасению ритонов, были, понятно, полностью свернуты. Небольшие разведочные раскопки, произведенные в цитадели Новой Нисы в следующий полевой сезон, не дали новых документов. А между тем в тот же сезон 1949 г. С. А. Вязигин к востоку от «комнаты ритонов» в старой разведывательной траншее подобрал черепок с надписями точно такой же, как открытые годом раньше в Новой Нисе. Когда же, планомерно расширяя площадь раскопок Михрдаткерта, сотрудники ЮТАКЭ добрались до хозяйственных построек, близ которых проходила эта старая разведывательная траншея, новые парфянские документы посыпались как из рога изобилия. Центр открытий парфянских документов переместился, таким образом, из цитадели Новой Нисы в запретный «царский город» Михрдаткерт.
Рис. 56. Черепок с парфянской надписью из Нисы
Две с половиной тысячи парфянских документов (рис. 56), найденных при раскопках на городище Старая Ниса, — таков ныне состав того внушительного собрания, которое можно назвать «архивом винного ведомства» Михрдаткерта. Парфянские острака этого архива, как и документы из Новой Нисы, найдены отнюдь не в специальных, предназначенных для них хранилищах. Все они были выброшены и впоследствии использованы совсем не по прямому назначению: эти многочисленные черепки подкладывали под хумы, чтобы придать им большую устойчивость, ими мостили полы и укрепляли основания стен. Текст на некоторых документах был стерт. Многие из острака были повреждены или разбиты. Но обилие найденных документов все же открыло перед исследователями широкие возможности: они смогли многократно проверить правильность чтения ими тех или иных знаков, букв и слов, установить особенности языка и осветить многие вопросы, которые нельзя решить на основе одних лишь чисто археологических материалов. И хотя ныне, при современном уровне развития археологической науки и ее исследовательских методов, вряд ли кто-либо осмелится отстаивать правоту И. Бунина, писавшего:
Молчат гробницы, мумии и кости, —
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы на мировом погосте
Звучат лишь Письмена,—
SNT IC XX XX XX I HMR ZNH HDT MN Pryptkny «Год 100+20+20+20+1 вино это новое из Фрияпати- LYD РНТ’ кана, (что) в распоряжении сатрапа».Только одно единственное слово в этом документе — название имения «Фрияпатикан» читалось именно так, как оно было написано, весь же остальной текст был передан при помощи гетерограмм. Вот в этой-то традиционной канцелярской премудрости и должны были разобраться дешифровщики нисийских документов, именно «дешифровщики», а не «дешифровщик», так как для прочтения этой сплошной «шифровки» нужно было содружество по крайней мере двух ныне обособившихся филологических наук: иранистики (парфянский язык принадлежит к иранской языковой группе) и семитологии (арамейский — один из семитских языков). Инициатором создания такого коллектива дешифровщиков был М. М. Дьяконов, человек больших и разносторонних способностей, автор фундаментального сводного «Очерка истории древнего Ирана» и поэтических переводов бессмертной «Книги царей» Фирдоуси, популярных брошюр и подробных отчетов о раскопках на юге Таджикистана; полиглот, тонкий ценитель искусства и интересный собеседник. Созданная М. М. Дьяконовым «бригада дешифровщиков» включала молодого ираниста В. А. Лившица и одного из крупнейших у нас в стране специалистов по семитическим языкам и истории Древнего Востока вообще — И. М. Дьяконова, брата инициатора дела. Безвременная смерть М. М. Дьяконова в 1954 г. прервала его работы над подготовкой полной публикации нисийского архива, но основы дешифровки парфянских документов Михрдаткерта были заложены при его активном участии и два первых исследования этих документов были опубликованы совместно тремя учеными — И. М. и М. М. Дьяконовыми и В. А. Лившицем. Приступая к изучению нисийских документов, М. М. Дьяконов и его товарищи по работе, на чью долю вскоре достались основные трудности дешифровки, столкнулись с тем, что им надо было обосновать не только свои переводы, но и свое определение языка найденных текстов. Обилие арамейских слов при ограниченном количестве документов (первое исследование было посвящено всего лишь семи острака, найденным в 1948 и 1949 гг.) делало выводы «дешифровщиков» несколько спорными, и в науке разгорелась целая дискуссия о языке нисийских документов, который отдельные ученые сочли чисто арамейским. В эту дискуссию включились как советские, так и зарубежные филологи, и в печати разных стран появились «переводы арамейских ниспйских текстов». И только углубленное изучение всей массы архива «винного ведомства» позволило И. М. Дьяконову и В. А. Лившицу убедительно доказать свою правоту. Анализ огромного количества сходных текстов выявил в них столь грубые нарушения законов грамматики и орфографии арамейского языка, которые были бы немыслимы, если бы нисийские писцы составляли эти тексты не по-парфянски, а по-арамейски. Более того: им удалось найти в текстах чисто парфянские предлоги и глаголы, парфянские окончания, приписанные к гетерограммам, и неоднократные замены в сходных текстах арамейских гетерограмм парфянскими словами: писцы уже нередко отходили от мертвых традиционных гетерограмм (или не могли вовремя вспомнить их) и вместо чуждых арамейских буквосочетаний РНТ, HLH, HDT или TYQ писали живые парфянские слова: «сатрап», «уксус», «новый», «старый». Некоторые из этих текстов, казалось бы, можно прочесть по-арамейски. Но переводы их с арамейского звучат неубедительно и непонятно. Вот как, например, прочитал в 1953 г. один из нисийских документов немецкий историк Ф. Альтхейм: «Евтихий. От господина принесем мы к тебе, а он примет 206». А вот чтение того же текста И. М. Дьяконовым и В. А. Лившицем, сделанное с учетом применения арамейских гетерограмм в парфянском языке: «В этом сосуде из виноградника узбари, называемого Хиндукан, вина 16 мари». Даже тогда, когда документов еще было мало, второй перевод все равно звучал и понятнее и убедительнее. Теперь же, когда правильность его подтверждается сотнями и сотнями аналогичных по характеру «учетных карточек», «перевод» Ф. Альтхейма выглядит лишь забавным курьезом. На этом можно бы было закончить рассказ об архиве «винного ведомства» Михрдаткерта, если бы не новый документ, только что исследованный И. М. Дьяконовым и В. А. Лившицем. Этот документ — перечень поступлений вина в разные дни двух месяцев неизвестного (дата не сохранилась) года — содержит ценнейший материал для суждения о парфянском календаре Средней Азии и Ирана и о связанных с календарем религиозных представлениях. В этом документе приводятся также новые имена и титулы, в том числе «атуршпат» — «жрец огня». Но, пожалуй, особый интерес представляет дважды встреченный в этом документе странный титул «тагмадар». Окончание этого титула никого не удивляет, так как «дар» — суффикс, хорошо известный в иранских языках; с его помощью образованы, в частности, такие слова, как «сардар» — «начальник» или «фирмандар» — «командир». Но что такое «тагма»? Такого слова нет ни в парфянском, ни в каком-либо ином иранском языке. А между тем некогда это слово было достаточно хорошо знакомо по всей Передней Азии: им древние греки обозначали «строй», «войско», «отряд», «полк». Позднее, в эпоху эллинизма и в римское время, это же слово греки и эллинизированные жители областей Ближнего Востока применяли для обозначения римских легионов. «Тагмадар», таким образом, могло значить что-то вроде «глава римских воинов-легионеров». Оба тагмадара, упомянутых в нисийском документе, носят чисто парфянские имена — Фрабахтак и Фрафарн. Кто же такие эти парфяне — начальники отрядов римских воинов, и почему вдруг здесь, вдали от Передней Азии, в колыбели Парфянского государства, мы сталкиваемся с какими-то римскими отрядами? Окончательный ответ на эти вопросы дать пока нельзя, но исследователи вправе предполагать, что перед нами осязаемый отзвук тех событий, о которых мы уже говорили в первом разделе этой главы: отзвук борьбы, которую вели за гегемонию в Передней Азии великий Рим и его грозный восточный соперник, и тех побед, которые одержали парфяне в I в. до н. э. над легионами Красса и Марка Антония. Тагмадары нисийского документа — это скорее всего те парфяне, которые были поставлены во главе переселенных на восток отрядов пленных римских легионеров; парфянские военачальники или чиновники, которые были главами поселений римских воинов на коренных парфянских землях, где эти пленные легионеры использовались и для сельскохозяйственных работ. И вполне вероятно, что в подчинении этих парфян-тагмадаров находился не один участник битвы при Каррах или сражения у стен Фрааспы.
Глава V
Загадочное Кушанское царство

Время — вещь необычайно длинная — были времена — прошли былинные. Ни былин, ни эпосов, ни эпопей…Римляне, долго и упорно пытавшиеся сокрушить своего основного соперника на Востоке, уже в I в. н. э., завоевав Египет и выйдя к Индийскому океану, обратили пристальное внимание на восточные рубежи Парфянского царства. И там, в глубоком тылу Парфии, они нашли себе потенциального военного союзника и достойного торгового партнера — могущественную Кушанскую державу. Это государство, сыгравшее крупную роль в истории древнего мира и в развитии культуры и искусства народов Востока, долгое время фактически оставалось вне поля зрения исторической науки. Изучение этого царства началось более столетия назад, когда к нумизматам Лондона и Парижа, Вены и Петербурга стали поступать странные монеты с изображением каких-то бородатых царей и всевозможных — индийских, иранских и античных — божеств и с надписями, выполненными греческим алфавитом, но на неизвестном языке. Тогда же английские офицеры, чиновники колониальной службы, инженеры, врачи, а то и просто любознательные путешественники стали привозить из пограничных районов северо-западной Индии (нынешнего западного Пакистана) статуи и рельефы, в которых несомненные черты античной скульптуры органически переплетались с восточными, чаще всего индийскими. Ученым понадобилось немало времени, чтобы установить, что и эти монеты, и эта удивительная скульптура принадлежали одной и той же эпохе, одному и тому же царству и что и те и другая представляли собой первые ставшие известными современной науке вещественные памятники Кушанской державы (рис. 57, 58). Однако многочисленность таких монет и широкое их распространение — их находили даже в восточной Бенгалии и у нас в Приуралье[8] — сразу же показали, что эти монеты чеканило обширное и сильное государство. Сопоставление данных, полученных при изучении этих монет, и немногочисленных свидетельств древнекитайских хроник и античных авторов позволило, наконец, выяснить, что этим государством было Кушанское царство. Выяснилось также, что в период расцвета, в I–III вв. н. э., это царство было одной из тех четырех могущественных империй, которые в то время протянулись от Британских островов на западе до берегов Тихого океана на востоке, охватив все древнейшие очаги цивилизации.В. Маяковский

Рис. 57. Статуя Канишки из сел. Мат (Матхура)

Рис. 58. Монеты кушанских царей: Канишки (а) и Хувишки (б)
Стали известны и общие контуры политической истории Кушанского царства, но, увы, лишь самые общие. Так, удалось определить, что основали это государство потомки кочевых племен, окончательно сокрушивших власть греко-бактрийских царей. По сообщению китайских хроник, кочевые завоеватели, покорив Бактрию, не то разделились на пять отдельных владений, не то подчинили себе пять существовавших здесь ранее княжеств. Как бы то ни было, примерно через сто лет после завоевания Бактрии правитель одного из этих владений, носившего название Кушания, подчинил себе четыре других владения и образовал сильное государство — Кушанское царство. Имя этого владетеля, судя по монетным легендам, произносилось как Кудзула Кадфиз. Его сын и преемник Вима Кадфиз (или Кадфиз II), следуя по стопам греко-бактрийских царей, завоевал центральную Индию. При третьем же кушанском государе, Канишке, наиболее известном из всех кушанских владык, держава переживала период наибольшего расцвета. К его царствованию относят, в частности, завоевание Восточного Туркестана и триумф кушан в Индии, ему же приписывают перенос политического центра империи в районы к югу от Гиндукуша. Упадок Кушанского царства и разгром его армиями соседних государств и новыми волнами кочевников приходятся на правление Васудевы, кушанского царя, при котором правящая верхушка империи была уже сильно индианизирована, о чем свидетельствует, в частности, само имя этого государя. В ходе последующих исследований выяснилось, что Кушанское царство неоднократно вело войны с двумя другими империями того времени — Парфией и ханьским Китаем — и сохраняло дружественные отношения с третьей — Римской империей. Выяснилось также, что между четырьмя империями древнего мира существовали дипломатические, экономические и культурные, связи. Из столицы империи Хань через земли Кушанского и Парфянского царств к берегам римского Средиземного моря протянулась тогда первая в истории человечества трансазиатская караванная дорога — Великий Шелковый путь, а из завоеванного Октавианом Августом Египта к морским воротам кушан — портам западной Индии пролегла регулярная водная трасса, по которой отважные мореплаватели, используя сезонные ветры муссоны, на 15 веков раньше Васко да Гамы бороздили воды Индийского океана. В дельте Нила, в прославленной Александрии, была в то время колония кушанских купцов, а на берегу полуострова Индостан недавно раскопана торговая римская фактория. Неподалеку от Кабула, в древнем Беграме, сотрудники французской «Археологической делегации в Афганистане» при раскопках кушанского дворца нашли обломки предметов из китайских лаков, индийскую резную кость и многочисленные изделия ремесленников римских провинций Египта и Сирии — стеклянные, гипсовые, металлические. В свою очередь кушанские монеты встречены на территории Римской империи, а при раскопках Помпей найдена резная индийская кость кушанского времени. Из сообщений древних авторов известно, также, что римская знать высоко ценила индийские специи и щеголяла в шелках, доставляемых по Великому Шелковому пути. Самые отдаленные области тогдашнего культурного мира были, как оказалось, тесно связаны между собой, и важным звеном этих связей была могущественная среднеазиатско-индийская Кушанская держава. О политическом значении ее достаточно определенно свидетельствуют и сообщение китайского лазутчика в Индо-Китае[9], и сведения о неоднократном обмене посольствами между римлянами и кушанами, в частности об участии кушанских послов в качестве почетных гостей в триумфе императора Траяна после его победы над даками. Однако, несмотря на свидетельства о важной роли Кушанского царства в жизни древнего мира, история его все еще изучена чрезвычайно слабо. Объясняется это тем, что до нас не дошли не только никакие местные (среднеазиатские и индийские) сочинения кушанского времени, но даже какие-либо местные предания. От некогда могущественной империи, таким образом, не сохранилось «ни былин, ни эпосов, ни эпопей». До самого недавнего времени круг местных письменных источников по истории кушан ограничивался помимо монет всего лишь короткими посвятительными надписями, оставленными кушанскими царями и их наместниками в Северной Индии на каменных статуях и других предметах, связанных с буддийским культом. Свидетельства же иноземных (китайских, античных и др.) источников настолько отрывочны, что также не позволяют решить многие кардинальные вопросы кушанской истории. В результате сейчас можно скорее говорить о существовании в нашей науке сложной «кушанской проблемы», чем о связной истории Кушанского царства.
«Дата Канишки»
Одной из важных частей кушанской проблемы была и все еще остается хронология правления кушанских царей. Практически вся эта хронология и сейчас является спорной. О двух первых кушанских государях у нас есть, правда, довольно определенные известия китайской летописи, которая сообщает, что основатель империи Кудзула Кадфиз подчинил себе четыре остальных владения кочевых завоевателей Бактрии «по прошествии ста с небольшим лет» после падения власти греко-бактрийских государей. Гибель же последних относится, как мы уже видели, примерно к третьей четверти II в. до н. э. Таким образом, деятельность Кудзулы Кадфиза, превратившегося из владетеля небольшого княжества в Бактрии в могущественного государя огромного царства, охватившего при нем помимо Бактрии почти весь современный Афганистан и Северную Индию, принято датировать концом I в. до н. э. — первой половиной I в. н. э. По сообщению той же китайской летописи, Кудзула Кадфиз жил очень долго (он «умер в возрасте 80 лет»), а наследовал ему его сын Вима Кадфиз (Йадфиз II), правление которого относят ко второй половине I в. н. э. Но если эти даты, за точность которых поручиться трудно, все-таки более или менее определенны, то последующая хронология кушанских царей Канишки, Хувишки и Васудевы целиком спорна, тем более что, судя по надписям, кушанские государи носили нередко одинаковые царские имена и, по мнению ряда исследователей, было два или три Канишки, два Хувишки, два или три Васудевы… По сообщениям армянских и китайских источников, можно, правда, заключить, что в конце 20-х годов III в. н. э. царствовал кушанский государь Васудева, но какой это был Васудева — Первый, Второй или Третий? Кушанская хронология была бы в значительной мере определена, если бы удалось решить вопрос всего лишь об одной дате — дате воцарения Канишки, самого известного из кушанских государей. Этот вопрос важен также потому, что большинство статуй, рельефов и других памятников кушанского искусства, на которых имеются надписи, датируется годами «эры Канишки». Мы знаем, например, что кушанский храм, раскопанный французскими археологами в Сурх Котале (Северный Афганистан), был восстановлен в 31 г. «эры Канишки», а статуи, найденные в Матхуре (в Северной Индии), созданы в 10, 17, 20, 50-м годах этой эры. Годами этой же эры датированы многие надписи царей — преемников знаменитого кушанского государя. Но с какого года велось исчисление «эры Канишки», мы не знаем, и из-за этого остаются неясными не только датировка тех или иных памятников культуры и искусства, но, как мы уже видели, и почти вся хронология кушанской истории. Понятно поэтому, что вопрос о «дате Канишки» вот уже почти столетие занимает умы исследователей. Еще в конце XIX в. ученые расходились в определении времени воцарения Канишки более чем на пять столетий — от III в. до н. э. по III в. н. э. Вопрос о «дате Канишки» настоятельно требовал своего разрешения, и 50 лет назад в Лондоне была созвана специальная конференция, посвященная всестороннему обсуждению этого вопроса. Однако установить «дату Канишки» так и не удалось: были лишь отвергнуты чрезмерные крайности, и царствование этого государя стали относить к концу I — первой половине II в. н. э. Интересно отметить, что в дискуссии тогда не участвовали ни русские, ни индийские исследователи. Время шло, открытия следовали за открытиями, заметная роль Кушанского царства в истории древнего мира вырисовывалась все яснее и яснее, исторические судьбы этого царства начали интересовать все более широкие слои общественности как на Западе, так и на Востоке, а вопрос о «дате Канишки» казался все столь же далеким от разрешения, как и во времена первой дискуссии. И вот весной 1960 г. в Лондоне была созвана новая международная конференция, посвященная этой дате. Руководил ее подготовкой индийский ученый проф. А. К. Нарайн, а в списке докладчиков наряду с английскими и другими «западными» исследователями значилось несколько индийских ученых, проф. К. Еноки из Иокогамы, известный археолог и востоковед С. П. Толстов и автор этих строк. В ходе оживленной дискуссии были вновь рассмотрены немногочисленные сведения письменных источников и все известные ныне данные — археологические, нумизматические, искусствоведческие. Одна из наиболее интересных попыток решения проблемы была предпринята С. П. Толстовым, который обратил внимание на то, что в найденных его экспедицией хорезмийских документах конца III — начала IV в. н. э. упоминаются 215, 220, 232-й годы. Опираясь на эти находки и привлекая ряд побочных данных, С. П. Толстов поддержал предложенное уже давно рядом ученых отождествление «эры Канишки» с известной, начинающейся с 78 г. н. э. так называемой сакской эрой. Система доказательств С. П. Толстова привлекает внимание смелостью и оригинальностью постановки вопросов, но, увы, слой, в котором найдены хорезмийские документы, не может быть датирован с точностью до 25 лет. Это значит, что документы с одинаковым успехом могут быть использованы для отождествления «эры Канишки» с «сакской эрой» (78 г. н. э.) и для подтверждения гипотезы А. К. Нарайна, считающего началом «эры Канишки» 104 г. н. э. Да и вообще документы из Хорезма вовсе не обязательно датированы по «эре Канишки». В целом, по мнению участников конференции, окончательно решить вопрос о «дате Канишки» пока еще не удалось. И все же итоги конференции 1960 г. оказались обнадеживающими, так как в ходе дискуссии выявился, наконец, вполне реальный путь к раскрытию этой загадки — путь углубленных исследований археологических памятников кушанского времени в Индии, Афганистане и Средней Азии. Стало ясно, что в ближайшее время будет осуществлен решительный «штурм» всей кушанской проблемы. Хочется отметить, что в этом штурме особенно ответственной будет роль советских ученых, так как. пожалуй именно в древних культурных центрах Средней Азии, изучение которых ведется с неослабным вниманием из года в год, удастся установить соотношение кушанской, римской, а, возможно, и дальневосточной хронологий. Во всяком случае археологические материалы из Средней Азии уже сейчас можно увязывать не только с находками в Афганистане и Индии, но и с античными памятниками северного Причерноморья. Когда таких материалов накопится больше, — а после каждого полевого сезона их количество заметно возрастает, — можно будет установить, каким памятникам, относящимся в Индии, Афганистане и Средней Азии ко времени Канишки, соответствуют те или иные четко датирующиеся по римской хронологии античные памятники. Не исключена также вероятность обнаружения надписи, которая будет содержать необходимые ученым сведения. А ведь степень вероятности такой счастливой находки тем больше, чем шире размах археологических работ. Во всяком случае не надо быть пророком, чтобы предсказать, что до следующей конференции, которая положит конец спорам о «дате Канишки», пройдет гораздо меньше времени, чем прошло между двумя первыми дискуссиями.Где же северный рубеж империи?
Советских исследователей древней Средней Азии в кушанской проблеме прежде всего интересует вопрос о роли среднеазиатских областей в истории Кушанского государства и о значении этого государства для истории народов Средней Азии. Следовательно, необходимо было установить, какие из среднеазиатских областей и в какое время входили в состав Кушанского царства, или, иначе говоря, определить, где и когда проходил северный рубеж этой империи. Определить же это оказалось весьма нелегко. Наиболее уверенно можно говорить о связи кушан со Средней Азией на начальном этапе развития их государственности. Согласно твердо установившемуся в науке мнению, кушаны, господствующий род или племя, давшие свое имя одной из могущественнейших держав древнего мира, были потомками кочевников, которых китайские летописцы называли да-юечжи («большие юечжи»). Обитавшие во II в. до н. э. в Восточном Туркестане, да-юечжи около 165 г. до н. э. потерпели поражение в борьбе с хун-нами (их потомки — гунны несколько веков спустя опустошительным смерчем пронеслись через степи Евразии в страны Западной Европы). Покинув после этого поражения восточнотуркестанские степи (по мнению некоторых исследователей, да-юечжи ранее переселились туда из северных районов Средней Азии), эти кочевники обосновались в Семиречье, к северу от Тянь-Шаня, на древних сакских землях. Однако вскоре, около 160 г. до н. э., под натиском усуней, других кочевников, поддержанных хун-нами, да-юечжи вынуждены были двинуться дальше на запад, в Фергану. В 128 г. до н. э. Чжан Цянь, посол китайского императора У-ди, отправившийся в далекий путь с целью заключить военный союз против хуннов, застал ставку вождя да-юечжи уже в Бактрии, на северном берегу Аму-Дарьи, на землях, которые до этого входили в состав Греко-Бактрийского царства. Более того, по сообщению Чжан Цяня, китайского «первооткрывателя стран Запада» (т. е. Восточного Туркестана и Средней Азии), да-юечжи в это время покорили и южную, левобережную Бактрию, основной центр греческой власти в глубинной Азии. Падение Греко-Бактрийского царства произошло после 141 г. до н. э. (последнее упоминание этого царства античными авторами). Таким образом, в любом случае да-юечжи обосновались в Бактрии через 20, а то и 30 лет после их вынужденного отступления из Семиречья. И даже если не принимать во внимание возможность среднеазиатского происхождения да-юечжи и того, что население Восточного Туркестана в тот период было родственно среднеазиатским народам, связь этих кочевников со среднеазиатскими областями была достаточно тесной: ведь еще до их расселения в Бактрии жизнь целого поколения да-юечжи протекала на территории собственно Средней Азии — Семиречья, Ферганы, областей среднеазиатского междуречья. Но, завоевав Бактрию, да-юечжи на «сто с небольшим лет» совершенно выпали из поля зрения истории. Когда же Кудзула Кадфиз начал консолидацию кушанской мощи и кушаны вновь попали на страницы китайских летописей, их связь со среднеазиатскими областями оказалась для исследователей куда менее ясной, тем более, что пока неизвестно точное местоположение первоначального владения Кудзулы Кадфиза — княжества Кушании. В. Томашек, известный австрийский востоковед, издавший в 1877 г. ценный труд по истории Средней Азии, помещал княжество Кудзулы Кадфиза в самом центре среднеазиатского междуречья, в Согде, на берегу Зеравшана, на полпути между Бухарой и Самаркандом. По сведениям арабских географов и китайских летописцев, здесь в средние века действительно существовали город и княжество, носившие название Кушании. Такое представление о Кушанском государстве в течение чуть ли не столетия переходило со страниц одного научного труда в другой, перебралось в сводные книги по истории СССР и народов Средней Азии, утвердилось в справочниках и энциклопедиях. А между тем для подобной локализации первоначального владения первого кушанского государя не было достаточных оснований, так как, во-первых, она противоречит прямому указанию древних авторов, помещающих это владение в Бактрии, и, во-вторых, полностью теряет всякую убедительность, если учесть, что помимо Кушании на Зеравшане в Средней Азии известно еще по крайней мере две Кушании: одна к югу от предыдущей — в долине р. Кашка-Дарьи, а вторая — даже в Фергане. Следует также добавить, что все эти Кушании упоминаются лишь в средневековых источниках и что, таким образом, их правильнее, видимо, связывать отнюдь не с начальным этапом сложения кушанской государственности. Но если первоначальное ядро государства Кудзулы Кадфиза находилось в левобережной Бактрии, где-то на севере современного Афганистана, если известны его походы на юг и на запад, если известно, что его преемник осуществлял дальнейшее завоевание Индии, если, наконец, известно, что со времени Канишки центр империи переместился из Бактрии на юг от Гиндукуша, то невольно встает вопрос: не связаны ли кушаны со Средней Азией одним лишь происхождением и существовала ли вообще какая-нибудь связь между Кушанской державой и среднеазиатскими областями? Ответ на этот вопрос мы теперь можем дать уже вполне определенно: связь между кушанами и среднеазиатскими областями существовала и в период расцвета Кушанской державы. Ряд областей Средней Азии входил в ее состав, образуя ее северную часть. И хотя вопрос о подчинении кушанам тех или иных районов Средней Азии еще спорен, главное можно считать доказанным: северный рубеж Кушанской империи безусловно проходил по искони среднеазиатским землям. Где же проходил этот рубеж? Письменные источники ничего не сообщают о походах кушанских царей на север от Аму-Дарьи. Однако анализ ряда данных позволяет предполагать, что в какое-то время под власть Кушанского царства попали и северная (правобережная) Бактрия, и Согд, и Хорезм, а возможно, также Чач (район современного Ташкента) и Фергана. Так, в надписи удачливого соперника позднекушанских государей сасанидского царя Шапура I (241–272 гг.) при описании побежденных им стран названо и Кушанское государство, границы которого охватывают Согд и горы Чача. О власти кушан в Согде напоминают и две Кушании (о них уже говорилось выше) — на Зеравшане и на Кашка-Дарье. О том же свидетельствуют сообщения «Шах-наме» Фирдоуси, а также ряд других косвенных свидетельств. Подчинение кушанам Чача косвенно подтверждается сообщением древнеиндийского трактата «Сутра-аламкари» о существовании здесь в кушанский период буддийского монастыря (насаждение буддизма в Средней Азии, как и в Восточном Туркестане, в то время согласно буддийским преданиям являлось следствием поддержки, которую оказывали ему кушанские цари; в том, что эти указания буддийских преданий вполне заслуживают доверия, мы еще убедимся ниже). Но наиболее определенные сведения о северных рубежах Кушанской державы дают археологические и нумизматические материалы. Так, работы С. П. Толстова над монетными находками из Хорезма привели его к выводу о вхождении этой далекой северо-западной области Средней Азии в состав Кушанского царства. Этот вывод достаточно убедителен, и с ним согласились почти все исследователи. Дело в том, что в ходе работ Хорезмской экспедиции на развеянных ветрами и засыпанных летучими песками поселениях, в раскопах крепостей и городищ и в их окрестностях собрано около двух тысяч всевозможных монет, характеризующих денежное хозяйство Хорезма с последних веков до нашей эры по VIII в. н. э. Среди этих находок почти совсем нет денежных знаков нехорезмийского чекана: здесь встречены всего лишь две парфянские и четыре сасанидские монеты. Единственным и весьма характерным исключением являются монеты кушан: их в Хорезме подобрано уже около семидесяти, причем есть памятники, которые дали одни лишь кушанские монеты. Более того, как установил С. П. Толстов, на время хождения в Хорезме этих монет приходится перерыв в местном чекане: нам известны хорезмийские монеты докушанского времени и затем — хорезмийские монеты послекушанского периода. Уникальность находок в Хорезме чужестранных монет легко объяснима: ведь он расположен в низовьях Аму-Дарьи, в окружении степей и пустынь, в стороне от остальных оседлоземледельческих областей Средней Азии. Распространение же здесь кушанских монет и одновременный перерыв местного чекана можно объяснить лишь так, как это сделал С. П. Толстов, т. е. вхождением Хорезма в состав Кушанского государства. Кстати, подобное объяснение подкрепляют также находки в Хорезме буддийских статуэток и некоторые переклички в его материальной культуре с тем, что мы знаем о кушанской Бактрии. Нумизматические находки из Согда пока не дают такой яркой картины, как в Хорезме, но и они вполне согласуются с гипотезой о вхождении этой центральной области среднеазиатского междуречья в состав Кушанского царства. Интересно, что ко II в. н. э. относится также переселение в Индию семьи согдийского купца, из которой вышел первый буддийский проповедник в Южном Китае, Кан Сэн-хуэй (первая часть имени указывает на его происхождение: страной Кан китайцы называли Согд), и появление нескольких согдийских монахов-буддистов в монастыре «Белая лошадь» в Лояне. Анализ находок кушанских монет в Согде и Хорезме позволяет, правда предположительно, говорить и о времени подчинения этих среднеазиатских областей кушанским государям. Оказалось, что распространение разных кушанских монет в Средней Азии следует вполне определенной закономерности. Так, здесь совершенно нет монет основателя Кушанского царства, первого царя кушан Кудзулы Кадфиза, правившего, как мы уже знаем, довольно долго и выпустившего много разнообразных монет (при нем кушаны еще не выработали своего монетного типа и подражали чеканам различных властителей: греческих царей Бактрии и Индии, парфянских государей, римских императоров). Однако в центре державы — левобережной Бактрии и в завоеванных Кудзулой Кадфизом землях современного южного Афганистана и Северной Индии такие монеты отнюдь не редкость. На территории же среднеазиатских областей распространение кушанских монет, судя по их находкам, началось лишь при Виме Кадфизе (причем, скорее всего, в конце его царствования) и при Канишке, т. е. после того как внимание кушанских властей, ранее всецело поглощенных завоеваниями в Индии, обратилось на север. К этому же времени, кстати, относятся и первые сообщения об активных действиях кушан в Восточном Туркестане. Картина распространения кушанской власти в Средней Азии рисуется в общих чертах так: независимые от кушан на первых этапах бурного роста их мощи основные земледельческие области Средней Азии входят в состав Кушанской державы в период ее расцвета, и на время ее северными рубежами становятся окраины Хорезма и Чача. Эта картина, однако, нуждается еще в подкреплении новыми материалами, и подчинение кушанам Хорезма и Согда, а тем более Чача и Ферганы (о господстве кушан в последней свидетельствует лишь существование в ней города Кушании) предстает пока лишь как гипотеза, вполне обоснованная, но все-таки не более чем гипотеза. Более определенно можно говорить о вхождении в Кушанское царство северной (правобережной) Бактрии. Работы советских археологов в этой южной среднеазиатской области неоспоримо показали, что по характеру материальной культуры, языку, письменности, искусству, религии, по безраздельному господству здесь в кушанский период (во всяком случае, начиная со времени Бимы Кадфиза) чекана кушанских государей северная часть Бактрии составляла единое, нераздельное целое с ее южной (зааму-дарьинской) частью и в культурном, и в хозяйственном, и в политическом отношении, и наряду с нею была опорой Кушанской державы вплоть до ее падения. Поэтому северную границу Бактрии — современный Гиссарский хребет можно уже не предположительно, а определенно рассматривать как северный рубеж Кушанского царства до завоевания кушанами Согда, Хорезма и других среднеазиатских областей и после утраты ими этих далеких северных владений. Входя в состав Кушанской державы, народы древних среднеазиатских областей принимали активное участие, как мы еще увидим, в развитии сложившегося на землях этого государства замечательного «гандхарского» искусства. Здесь также получил — при поддержке кушанских властей — широкое распространение буддизм. Входя в состав Кушанской державы, среднеазиатские народы приняли участие и в широких международных связях той эпохи. Выше мы уже упоминали о том, что Великий Шелковый путь проходил через земли Кушанского царства. Здесь следует уточнить, что в значительной части он проходил как раз по среднеазиатским владениям кушанских царей. Помимо этого пути и морской дороги из портов западной Индии в римский Египет работами советских исследователей открыта и еще одна важная международная трасса той эпохи — караванный путь из Средней Азии через евразийские степи к античным городам северного Причерноморья. По этим трем основным путям, связывавшим в то время Восток и Запад, попадали в Среднюю Азию кушанского периода довольно многочисленные иноземные монеты и изделия искусных мастеров. Таковы найденныепри раскопках в погребениях Ферганы и Тянь-Шаня китайские монеты и шелковые ткани, монета римского императора Нерона из раскопок городища Хайрабад-тепе (неподалеку от Термеза) и большой клад римских монет из Ура-тюбе (на севере Таджикистана), глиняные римские светильники, найденные на городище древнего Самарканда Афрасиабе (рис. 59), и египетские печати и украшения времени римского господства над долиной Нила. Интересно отметить, что в Средней Азии того периода, как и в индийских владениях кушан, изготовлялись подражания римским изделиям. К числу таких подражаний относятся, в частности, разные типы глиняной посуды, открытые в Хорезме, Бактрии и Согде. Влияние римских вкусов сказалось и на найденных в Хорезме (и в Беграме) костяных заколках и «стилях» для письма, увенчанных скульптурным изображением сжатой в кулак руки, и на крупном бронзовом позолоченном медальоне с выполненным в высоком рельефе изображением Диониса, обнаруженном на городище кушанского времени в Душанбе.
Рис. 59. Глиняные римские светильники из Самарканда
Археологические исследования, развернувшиеся на территории советских среднеазиатских республик, доказали большое значение кушанского периода в истории народов древней Средней Азии. Археологические материалы из Бактрии, Согда, Хорезма и Ферганы позволяют утверждать, что с этим периодом связано, в частности, значительное развитие ирригации. Многие ныне пустынные земли этих районов в кушанский период были цветущими оазисами. Разведки, проведенные в верховьях Зеравшана, в центральном Таджикистане, показали, что в то время земледельческие поселения появились даже в самых далеких уголках этого, казалось бы, дикого горного края, в верховьях реки Матча, неподалеку от Зеравшанского ледника. Наряду с ростом земледелия «вширь» заметно совершенствовалась и земледельческая техника. В Согде, на городище Тали-Барзу (близ Самарканда) в слое кушанского времени найден обломок самого раннего в Средней Азии железного сошника от сохи-омача, важнейшего сельскохозяйственного орудия, просуществовавшего в ее быту вплоть до XX в. В Хорезме работами С. П. Толстова и В. А. Андрианова установлены существенные перемены в устройстве оросительной сети. На смену архаическим каналам и полям более ранней эпохи, рассмотренным нами во второй главе, здесь приходят более совершенные каналы (менее широкие и более глубокие, чем прежде). Они проложены не по краю, а по середине поля и имеют отводные арыки, отходящие в обе стороны от главной магистрали под острым углом. Такая система была более практична, чем отведение арыков почти под прямым углом и лишь в одну сторону от магистрального протока. Высокого уровня достигла в кушанский период и городская жизнь Средней Азии. Многочисленные городища этого времени, исследованные в разных среднеазиатских областях, подобно парфянским, имели мощные стены с прямоугольными башнями, четкую прямоугольную правильную планировку и сооружались по единому, заранее продуманному плану. Большое место в жизни городов занимали ремесло и торговля, о чем свидетельствуют открытия металлических и гончарных мастерских и значительное число монетных находок, а также высокое качество глиняной посуды, металлических поделок и ювелирных изделий, происходящих из различных среднеазиатских областей. Мы еще не можем сказать, был ли бурный подъем экономики Средней Азии и культурный расцвет ее основных областей результатом вхождения в одну из величайших империй того времени. Но если даже он произошел независимо от кушан, он несомненно должен был привлечь к себе внимание кушанских владык, которые вряд ли удержались бы от желания подчинить себе цветущие земледельческие области. Таким образом, даже сам факт хозяйственного и культурного расцвета Средней Азии в кушанский период косвенным образом свидетельствует в пользу локализации северного рубежа Кушанской империи на северных границах среднеазиатского междуречья.
* * *
Политическая история Кушанского царства, как мы успели убедиться, изучена еще слабо. Еще хуже освещена источниками, а следовательно, и изучена, его социально-экономическая история. И когда ученые говорят об этом могущественном, но все еще загадочном царстве, то они рассматривают обычно его вклад в историю культуры и искусства народов Востока, и прежде и больше всего — два основных достижения народов Кушанского царства в развитии искусства и культуры: создание так называемого гандхарского искусства и участие в распространении буддизма.Удивительная скульптура
Более ста лет назад, в те же годы, когда европейские ученые-нумизматы с недоумением рассматривали неведомые ранее кушанские монеты, любителей старины и специалистов-искусствоведов заинтересовали странные каменные рельефы и статуи, которые, как было сказано выше, привозили из северо-западных пограничных провинций Индии английские офицеры, чиновники, путешественники. Многое в этой удивительной скульптуре напоминало ученым известные еще со школьной скамьи античные статуи, но большинство изображений несло на себе следы несомненно восточного, часто индийского происхождения. Вскоре стало ясно, что на рельефах чаще всего изображены сцены из буддийских легенд и преданий и что, таким образом, это не античное, а буддийское искусство. Но чем же объяснить его несомненную связь со скульптурой античного Средиземноморья? Западноевропейским ученым XIX — начала XX в. казалось, что ответ на этот вопрос ясен: все эти удивительные статуи и рельефы были объявлены культурным наследием походов Александра Македонского, а их творцами признаны греки, потомки сподвижников великого полководца, обосновавшиеся на завоеванных им территориях глубинной Азии и впоследствии якобы ставшие основной культурной опорой буддийских государей древней Индии и Афганистана. Статуи же и рельефы получили наименование памятников греко-буддийского искусства. Не обошлось тогда и без политических спекуляций: представители колониальных властей стали упорно проводить параллели между Александром и его преемниками, с одной стороны, и европейскими колонизаторами — с другой, доказывая, что и те, и другие в одинаковой-де степени несли народам Азии «свет европейской культуры». «Греко-буддийские» памятники стали необычайно модными, в результате чего в частных собраниях и музеях Западной Европы, а позднее и Америки, скопилось несколько тысяч образцов «греко-буддийского» искусства, добытых путем поистине грабительских раскопок всех попадавшихся под руку древних храмов, монастырей, дворцов. Ученым часто стоило огромного труда выяснить, откуда поступали эти памятники, и точное место находки многих из них так и осталось неизвестным; удалось лишь установить, что больше всего статуй и рельефов было найдено в древней области Гандхара (в районе современного Пешавара), по имени которой «греко-буддийское» искусство получило свое второе и, пожалуй, наиболее распространенное название — гандхарское. С годами ученым все больше и больше открывалось огромное значение этого древнего искусства для истории художественной культуры многих народов Востока. Так, выяснилось, что творцы гандхарского искусства разработали многие каноны и принципы, которых впоследствии в течение веков и даже тысячелетий придерживались скульпторы и живописцы Индии и Тибета, Средней и Центральной Азии, Цейлона и Индонезии, Китая и Японии и вообще всех тех многочисленных областей и стран, где когда-либо существовали буддийские общины. Выяснилось, в частности, и то, что именно в гандхарском искусстве впервые появились изображения Будды в образе человека (ранее его присутствие передавалось символическими изображениями, например в виде колеса и т. п.), которые по сей день служат образцами для буддийского искусства. Значение гандхарского искусства в развитии художественного творчества народов Востока ныне общепризнано. Иначе обстоит дело с вопросом о его датировке и происхождении. Ненаучный характер сборов многих образцов гандхарского искусства очень затруднял (и затрудняет) его изучение. Однако по мере развития археологии в Индии и Афганистане стало ясно, что в основном эти памятники относятся ко времени расцвета Кушанского царства, т. е. отстоят от эпохи походов Александра не менее чем на 300–400 лет. И вот во взглядах ряда западных ученых произошел резкий перелом, и гандхарское искусство из «греко-буддийского» было переименовано в «римско-буддийское», а роль, которую раньше приписывали грекам, теперь отдали римлянам. Дело дошло до того, что отдельные авторы стали рассматривать гандхарское искусство (и искусство Кушанского царства вообще), как провинциальную школу римской скульптуры, созданную якобы выходцами из восточноримских областей, поступившими на службу к кушанским государям Северной Индии. Мнения разделились, и ныне в мировой науке ведутся ожесточенные споры между приверженцами обеих теорий. И интересно отметить, что в ходе этих споров наиболее серьезные исследователи (как, например, известный искусствовед, глава французской «Археологической делегации в Афганистане», проф. Д. Шлюмберже) все с большей надеждой обращаются к советской археологии Средней Азии, ожидая от нее веского, а возможно, и решающего слова. Гандхарское искусство, как и искусство Кушанского царства вообще, долгие годы фактически оставалось вне поля зрения русских и советских исследователей. Объяснялось это очень просто: ни в одном из музеев дореволюционной России не было, если не считать монет и печатей, никаких памятников культуры и искусства Кушанского царства. Поэтому живой интерес к гандхарскому искусству возник у нас лишь в 30-х годах, когда в результате широких археологических исследований в Средней Азии в руки советских ученых стали поступать первые памятники кушанской эпохи. Одним из таких памятников был дворец в Топрак-кале. Ниже мы подробнее ознакомимся с этим замечательным археологическим памятником. Сейчас же лишь отметим, что он существовал со второй половины (или конца) III по начало IV в. н. э. Возвел этот дворец, вероятно, один из первых независимых хорезмских царей, вышедших из повиновения кушанским государям; от ослабленной военными неудачами Кушанской державы в середине III в. начали отделяться ее окраинные владения. При раскопках топрак-калинского дворца были открыты парадные залы и богатые жилые помещения, украшенные росписями и скульптурой. Росписи Топрак-калы напоминают и «фаюмские портреты» римского Египта, и древнюю живопись индийских храмов, а в вылепленной из сырой глины и раскрашенной скульптуре дворца хорезмийских царей использованы те же стилистические приемы, что и в гандхарских статуях. Находки в Топрак-кале ярко продемонстрировали крупную роль кушанского искусства в последующей истории художественной культуры народов Средней Азии и показали, как в глубине Азии, на бывшей далекой северо-западной окраине Кушанской державы, местные мастера усваивали кушанские художественные традиции. Таким образом перед нами как бы приоткрылся занавес, скрывавший тот процесс усвоения и переработки лучших достижений иноземного искусства, который ранее породил гандхарское искусство. Но относящиеся к иному времени и иным условиям памятники Топрак-калы не могли ответить на вопрос о времени и месте зарождения гандхарского искусства: они продолжали его традиции, а не породили ее. Ближе к истокам этого искусства стоит другая замечательная находка советских археологов — знаменитый айртамский фриз, высеченный из мергелистого известняка — мягкого камня, разработки которого находятся неподалеку от г. Термеза, на юге Узбекистана. На фризе на фоне пышной листвы аканфов изображены фигуры людей с музыкальными инструментами и гирляндами цветов. В целом этот фриз несомненно близок к лучшим образцам гандхарского искусства. Найден он на земле древней Бактрии, основного ядра греческих владений и первоначального центра Кушанской державы. Некоторые исследователи на основании стилистического анализа относили айртамский фриз к I или даже II в. до н. э. Если бы эту датировку можно было обосновать, то айртамский фриз стал бы ценным доводом в пользу «греко-буддийской» теории происхождения гандхарского искусства. Однако такая датировка айртамского фриза весьма сомнительна, и, по-видимому, более прав руководитель раскопок в Айртаме М. Е. Массон, который относит его к I в. н. э. К сожалению, и эта датировка недостаточно обоснована, что объясняется целым рядом обстоятельств, и, в частности, тем, что знаменитый фриз был открыт на самой заре археологического изучения Средней Азии советскими исследователями. Толчком к его открытию послужил случай.
Рис. 60. Первый «камень» Айртамского фриза
В октябре 1932 г. пограничники с катера «Октябренок», патрулировавшего афганскую границу, заметили в воде на дне Аму-Дарьи, возле урочища Айртам, какой-то странный камень. Не без труда «камень» был вынут на берег, а фотографию его (рис. 60) послали в Ташкент, и вскоре в Айртаме начала раскопки экспедиция во главе с М. Е. Массоном. В результате этих раскопок были открыты остатки небольшого здания, а в нем обнаружены остальные семь кусков айртамского фриза. Предполагалось, что работы в Айртаме будут продолжаться еще не один год. Однако после небольших раскопок, продолженных лишь в 1936 г., работать здесь археологам больше не удалось. К тому же дневники, чертежи и другие материалы по раскопкам Айртама погибли в годы войны. В итоге айртамский фриз, лучший пока образец кушанского искусства в СССР (ныне он хранится в Эрмитаже), хотя и побудил наших ученых заняться изучением гандхарского искусства, не смог стать достаточно веским аргументом для решения вопроса о его происхождении. Но как бы то ни было, находки в Топрак-кале и Айртаме включены уже в научный арсенал исследователей гандхарского искусства, а заключения советских ученых об этих находках широко используются в дискуссиях наших зарубежных коллег. Внимание всех исследователей искусства Востока привлекают теперь и замечательные памятники Нисы, рассмотренные нами в предыдущей главе. Особо пристальное внимание исследователей гандхарского искусства привлекли глиняные статуи Нисы, те самые крупные статуи людей и божеств, которые украшали залы нисийских построек. Эти статуи, вылепленные из сырой глины и стилистически удовлетворяющие всем правилам эллинистической скульптуры, были несомненно изготовлены на месте, в древней Парфиене, на искони среднеазиатской земле, неподалеку от границ Бактрии. Находки этих статуй показали, что в западные районы Средней Азии не только попадали произведения античного искусства, изготовленные (как, например, мраморные фигуры) в средиземноморских областях, но здесь изготовлялись местные «эллинистические» статуи. Находки нисийской глиняной скульптуры позволили предполагать, что подобных же открытий можно ожидать и к востоку от Парфии, на территории Бактрии, где позднее сложилось Кушанское государство. Слово теперь было за учеными, изучающими Бактрию. Работы в Бактрии разворачиваются все шире и шире, и похоже, что слово, которого ждут исследователи гандхарского искусства, вот-вот готово уже прозвучать. Во всяком случае из сообщений Г. А. Путаченковой известно, что возглавляемая ею экспедиция ташкентского Института искусствознания раскапывает в селении Халчаян (на юге Узбекистана) небольшой дворец (или храм), украшенный глиняными статуями, среди которых встречены и изображения местных царей (рис. 61), и фигуры божеств, и людей античного облика. Эти статуи, по мнению Г. А. Пугаченковой, относятся к концу I в. до н. э., ко времени, предшествующему деятельности Кудзулы Кадфиза. Остается лишь набраться терпения и ждать завершения раскопок в Халчаяне, а может быть, и других таких же открытий.

Рис. 61. Голова глиняной статуи из Халчаяна
Но уже сейчас мы вправе утверждать, что главный вопрос, связанный с гандхарским искусством, решен. Это искусство создали не греки и не римляне, а народы Кушанского царства, освоившие и использовавшие в своем художественном творчестве наряду с местными, индийскими и среднеазиатскими также и иноземные — античные (греко-римские) традиции живописи и скульптуры. Спор ныне может идти лишь о том, чьи традиции были освоены в первую очередь: эллинистические (в первоначальном ядре Кушанского царства — Бактрии) или римские (в последующем центре этого царства — Северной Индии). Для времени же расцвета гандхарского искусства можно, очевидно, говорить о знакомстве его творцов как с первыми, так и со вторыми.
В чем правы буддийские предания
Всякий раз, когда заходит речь о культурном значении Кушанского царства, наряду с вопросом о создании гандхарского искусства обязательно ставится вопрос и о развитии буддизма. Начало распространения этой религии за пределы ее родины — Индии буддийские предания связывают с Куша неким царством. Согласно этим преданиям буддийская религия пользовалась поддержкой и покровительством кушанских властей и в особенности знаменитого Канишки, (который якобы превратил буддизм в официальную религию своей державы и даже был инициатором созыва буддийского собора, заложившего основы учения «Большой Колесницы» (Махаяна), т. е. того самого буддийского учения, которое было позднее распространено в Средней и Центральной Азии и на Дальнем Востоке, С именем Канишки связывают и крупные буддийские постройки, возведенные в районе Пешавара. Буддийские предания говорят и о крупной роли кушанских буддистов в распространении этого религиозного учения. Они же донесли до нас имена двух монахов, выходцев из кушанской Бактрии, трудившихся над переводом и толкованием буддийских текстов. Это Гхосака, монах из столицы Бактрии — Балха, и Дхармамитра, уроженец города Тармита (Термез) на северном берегу великой реки Паксу (Вахш — Аму-Дарья). Но беда в том, что сведения буддийских (как и иных) преданий во многом вызывают сомнения, а приводимые ими легендарные подробности еще более затемняют истину. Вызывали серьезные сомнения и сообщения буддийских легенд о распространении буддизма. И действительно, как можно было, казалось, верить этим легендам, если на оборотной стороне монет Канишки, якобы покровительствовавшего буддизму, и его сына и преемника Хувишки мы встречаем изображения примерно тридцати всевозможных божеств (рис. 62). Среди них много ираносреднеазиатских вроде бога солнечных лучей Митры, божества луны Мах, богини плодородия Наны, бога аму-дарьинских вод Вахша; и греко-римских, таких, как Гелиос, Селепа, Сарапис и, по-видимому, обожествленный Рим — Рома; есть и индийские — Шива и Вишну. И лишь на нескольких из этих монет помещено изображение Будды. Все это как-то плохо вязалось с утверждениями буддийских легенд. Во всяком случае было ясно, что их нужно подтвердить какими-нибудь новыми материалами. Такие материалы могла бы дать археология Бактрии. Но буддийские археологические памятники этой области как раз до последнего времени оставались почти не изученными.
Рис. 62. Оборотные стороны кушанских монет с изображением божеств
В южной, левобережной Бактрии (в современном Афганистане) был исследован лишь один буддийский монастырь в Кундузе, причем французские археологи, исследовавшие в 1936 г. его остатки, опубликовали о нем лишь краткий отчет, не решив даже вопроса о его датировке. В северной, правобережной Бактрии буддийским святилищем была, возможно, постройка, в руинах которой экспедиция М. Е. Массона нашла знаменитый айртамский фриз. Но и она, как мы уже видели, не была изучена достаточно полно и назначение ее также остается еще неопределенным. Именно из-за такого положения дел вопрос о том, правы ли буддийские предания, относящие проникновение буддизма за пределы Индии к кушанскому времени, пришлось решать экспедиции на Кара-тепе («Черный холм»), как называют ныне местные жители остатки буддийского пещерного монастыря в Старом Термезе. История изучения этого монастыря насчитывает уже более тридцати лет. Еще в конце 20-х годов экспедиция московского Музея восточных культур, работавшая в Термезе, обратила внимание на холм Кара-тепе, в толще которого прослеживались какие-то занесенные сыпучими песками пещеры. Эти пещеры обследовал и местный термезский археолог Г. В. Парфенов, и сотрудники Эрмитажа В. Н. Кесаев, Б. Б. Пиотровский, А. С. Стрелков. Наконец в 1937 г. отдельная группа Термезской комплексной археологической экспедиции начала раскопки загадочного памятника. Но материалы всех этих работ не были изданы. Не был опубликован и подробный отчет руководителя работ на Кара-тепе в 1937 г. Е. Г. Пчелиной. Однако те немногие сведения, которые стали известны из информационной заметки Е. Г. Пчелиной и общих обзоров работ Термезской экспедиции, позволяли предполагать, что Кара-тепе — действительно остатки буддийского пещерного монастыря, первого ставшего нам известным памятника такого рода в Бактрии (ив Средней Азии вообще). В 1960 г. мне посчастливилось познакомиться с Е. Г. Пчелиной, которая подробно рассказала о своих раскопках и показала мне все имеющиеся у нее материалы. И вот осенью 1961 г. наша экспедиция (организованная Отделом Востока Государственного Эрмитажа по договоренности с Узбекской Академией наук) впервые увидела Кара-тепе. Этот довольно большой холм высится в северо-западном углу огромного городища — Старого Термеза, лежащего в 10 км от современного города. Как показали работы Термезской комплексной археологической экспедиции 1936–1938 гг., возглавляемой ветераном среднеазиатской археологии М. Е. Массоном, Старый Термез возник не позднее последних веков до нашей эры и погиб после того, как в 1220 г. полчища Чингиз-хана, оставляя за собой пожарища и руины, прошли через древние среднеазиатские земли в области современного Афганистана, Ирана, Индии. Расцвет же в жизни Старого Термеза приходился как раз на время существования Кушанской державы. Тогда-то в его предместье под защитой крепостных стен, но в стороне от оживленной части города и был сооружен кара-тепинский монастырь.

Рис. 63. План раскопа из Кара-тепе
После трех полевых сезонов перед нами раскрылся большой квадратный в плане двор, обрамленный крытыми колоннадами — айванами (рис. 63). Их плоские деревянные кровли и колонны были, вероятно, украшены резьбой, а стены по сей день сохранили следы ярко-красной раскраски. С юга во двор выходило небольшое наземное святилище, состоявшее из замкнутого центрального помещения, огибавшего его с трех сторон обходного коридора и монашеской кельи. Со двора в центральное помещение вела дорожка, выложенная белоснежными плитами мергелистого известняка. Его порог был сооружен из блоков того же камня и украшен изображениями цветов лотоса, а на стенах по сторонам от входа были нарисованы выполненные разноцветными красками человеческие фигуры; от них сохранились, к сожалению, лишь части ног и подолы одежды. Стены и пол центрального помещения были выкрашены в красный цвет, а в центре его в древности стояли, очевидно, статуи. Однако при раскопках ни статуй, ни каких-либо остатков их мы здесь не нашли. Куски крупных гипсовых статуй, в том числе рука с характерным для буддийской скульптуры положением пальцев (рис. 64), были найдены лишь при раскопках двора, и нам еще предстоит решить вопрос, где первоначально стояли эти крупные (не менее чем в натуральную величину) фигуры и куда делись их остальные части.

Рис. 64. Рука гипсовой статуи из Кара-тепе
На западе двор примыкал к склону холма, и здесь прямо в глубь его были пробиты два входа, оформленные величественными арочными нишами. Эти входы вели в огромный пещерный комплекс. Четыре длинных сводчатых коридора, окружавших центральное культовое помещение, складская комната в одном из углов и небольшая жилая келья у одного из входов — таким предстал перед нами этот подземный ансамбль, целиком высеченный в песчаниковой породе холма Кара-тепе. Примерно таковы же и другие раскапываемые нами пещерные комплексы. На стенах их коридоров мы увидели остатки разнообразных орнаментальных расписных бордюров, а в центральном помещении и на полу коридоров подобрали многочисленные, но, к сожалению, мелкие куски каменных рельефов с изображениями листьев аканфа, людей, животных. различных растительных узоров. Все это лишь жалкие остатки былого убранства древнего монастыря, но и они позволяют судить о его роскоши и богатстве. Здесь же были обнаружены куски каменных зонтиков — чатра, украшавших культовые сооружения — ступы и коробочки со «святыми» реликтами — реликварии. Рядом с ними лежали глиняные крышки всевозможных коробок и сосудов, украшенные рельефными изображениями лотоса (рис. 65), а также разбитые на части глиняные сосуды с дарственными надписями, выполненными черной тушью на «священном» языке буддистов— санскрите. Здесь же, наконец, были найдены многочисленные глиняные плошки-светильники (рис. 66), самый массовый вид посуды, встреченной на Кара-тепе. Эти светильники были незаменимыми спутниками жизни древних обитателей Кара-тепе. Они освещали бедные монашеские кельи и длинные обходные коридоры для культовых процессий, их мерцающий свет озарял статуи и рельефы центрального помещения, где совершались основные культовые обряды.

Рис. 65. Крышки из Кара-тепе

Рис. 66. Глиняные светильники из Кара-тепе
Среди всех этих и иных бытовых находок изредка попадались нам и монеты кушанских царей, позволившие наряду с учетом всех прочих данных определить время возникновения, расцвета и гибели кара-тепинского монастыря. Возник он скорее всего в конце I — начале II в. н. э. и просуществовал примерно до IV в., после чего жизнь теплилась лишь в отдельных его частях. Пещеры долго были доступны случайным посетителям, и при исследовании их мы находили здесь и отдельные черепки XI–XII вв. и настенные арабские надписи. И только после монгольского нашествия большинство пещер оказалось засыпанным так, что в течение последующих семи столетий в них никогда уже не ступала нога человека. Три полевых сезона, проведенных к тому же небольшой экспедицией, это срок, недостаточный для полного исследования даже незначительного памятника, а ведь Кара-тепе — огромный холм, хранящий не менее нескольких десятков наземных и пещерных сооружений. Но даже те материалы, которые нам удалось добыть, показывают, в чем правы буддийские предания. Буддийский монастырь в Старом Термезе, одном из городских центров Бактрии, действительно возник в кушанское время. Более того, сооружение этого крупного монастыря с большим числом огромных пещерных сооружений (раскопанные нами коридоры одного из пещерных комплексов достигают 18 м в длину при ширине и высоте 2,5–3 м) требовало уймы времени и труда и так же, как и длительное существование этого монастыря в непосредственной близости от кушанского Термеза, было бы немыслимо без поддержки кушанских властей. Проникновение буддизма в Бактрию при кушанах, таким образом, ныне можно считать доказанным, так же как и проникновение вместе с ним характерных для Индии языка, письменностей, культовых предметов. Характерно, однако, что планировка кара-тепинских сооружений с широким применением системы обходных коридоров вокруг центрального культового помещения чужда древней архитектуре Индии. В то же время подобная планировка была широко распространена в культовой архитектуре Средней Азии, и, очевидно, именно здесь она и была впервые использована для буддийских построек.
Забытая письменность, неизвестный язык
Одна из сложностей изучения «кушанской проблемы» заключается в том, что основными письменными источниками по истории Кушанского царства служат крайне скудные сообщения иноземных авторов: китайских, греко-римских и т. п. Однако из тех же источников известно, что в Кушанском царстве существовали своя письменность и литература. Как показало изучение надписей на кушанских монетах и печатях, правящая кушанская верхушка первоначально пользовалась греческим языком. В индийских владениях кушанские цари и их наместники использовали также индийские языки и письменности. Но наряду с этим известно, что при кушанах, во всяком случае со времени царствования Канишки, надписи на монетах и печатях стали выполняться на каком-то местном языке, особым, весьма своеобразным алфавитом. Этот алфавит, получивший название «кушанского письма», основан на греческих буквах. В Кушанском царстве, таким образом, произошло примерно то же, что и у славян: была создана своя собственная письменность путем использования греческого алфавита. Изучение монет и печатей дало возможность таким образом определить характер кушанской письменности. Сообщения же китайских и арабских авторов позволили предполагать ее применение в Бактрии вплоть до монгольского завоевания. Но если о забытой кушанской письменности мы все же имели хоть какое-то представление, то об языке кушанской Бактрии судить было фактически невозможно, так как надписи на кушанских монетах содержали слишком мало языковых данных; они состояли лишь из титула «царь царей», имени государя и слова «кушан». Термин «царь царей» (шао шаоно) и последовательность в расстановке слов позволяли лишь определить, что это один из языков иранской группы. Проходили годы и десятилетия, а никаких новых материалов для изучения кушанской письменности и их таинственного языка в руки исследователей так и не поступало. И вот пять лет назад в Афганистане во время работ по сооружению дороги был найден каменный блок с греческими буквами. Эта находка обратила внимание французской «Археологической делегации в Афганистане» на расположенное здесь, в местности Баглан, городище Сурх Котал, где с тех пор и ведутся систематические раскопки. В результате раскопок в Сурх Котале в руки исследователей попала, наконец, первая большая (в 32 строки!) надпись «кушанским письмом» (рис. 67), и притом еще повторенная трижды.
Рис. 67. Надпись из Сурх Котала
Надпись из Сурх Котала была высечена на каменной плите и блоках четкими греческими прописными буквами. Как будто дело теперь было за малым: все буквы надписи ясны — садись и читай. Но прочесть эту надпись оказалось совсем не просто. Первый исследователь сурхкоталской надписи, молодой иранист Андре Марик смог прочесть в ней лишь несколько слов, в частности имя царя Канишки. В последующих исследованиях надписи из Сурх Котала приняли участие крупнейшие языковеды — иранисты многих стран, в том числе Вальтер Хеннинг, выдающийся немецкий ученый, бежавший в свое время из гитлеровской Германии, и Эмиль Бенвенист, признанный глава парижской лингвистической школы. Их усилиями установлен общий смысл надписи из Сурх Котала: это повествование о ремонтных работах в храме, возведенном первоначально царем Канишкой, а затем пришедшем в запустение. Но наряду с этим чтением предлагалось и совсем иное: немецкий ученый, специалист по древнеиранской религии Хельмут Хумбах, попытался увидеть в ней поэтические гимны в честь бога солнца Митры. Хумбах, правда, оказался в одиночестве, но и в общепризнанном сейчас чтении Хеннинга и Бенвениста некоторые места надписи из Сурх Котала все же оставались спорными, а то и просто непрочитанными. Не решен еще и вопрос, как обозначать язык сурхкоталской надписи. Марик предполагал, что это язык кочевников-тохаров, одного из кочевых племен, разгромивших власть греков в Бактрии (известно, что в конце кушанского периода Бактрия называлась Тохаристаном — страной тохаров). Хеннинг же считает, что кочевые завоеватели Бактрии переняли древний местный язык. Оба сходятся лишь в том, что этот язык («тохарский», по Марику, или «бактрийский», по Хеннингу) был распространен в кушанской Бактрии и служил официальным языком правящей верхушки Кушанского государства. Находки в Сурх Котале заметно продвинули вперед изучение забытой письменности и загадочного языка Кушанской державы. Но, как ни велико научное значение этих находок, ясно, что для дальнейшего развития кушановедения необходимы новые надписи и документы. Более того, казалось странным, что все открытые ранее надписи кушанским письмом происходили лишь из южной (левобережной) Бактрии, с территории нынешнего Афганистана, в то время как в Советском Союзе был известен один-единственный памятник этой загадочной письменности — резная каменная гемма-печать, хранившаяся в собраниях Эрмитажа и содержащая два слова (имя и титул ее владельца) (рис. 68, справа).

Рис. 68. Геммы-печати с надписями кушанским письмом (слепки)
Следует сказать, что советские исследователи в послевоенные годы наряду с западными учеными приступили к поискам кушанских надписей, и ко времени открытия в Сурх Котале у нас были опубликованы небольшая надпись на глиняном сосуде из Душанбе и странная, не поддающаяся чтению надпись (скорее всего, имитация надписи) на бронзовом колокольчике из южного Таджикистана. Было издано также еще несколько резных каменных гемм-печатей, выявленных все в тех же неисчерпаемых эрмитажных собраниях. Однако все эти надписи, равно как и подобные им единичные находки в Афганистане и Пакистане, не могли идти ни в какое сравнение с сурхкоталскими, которые в течение пяти лет оставались не только главным, но фактически и единственным связным кушанским текстом. Зная это, каждый, наверное, поймет тот радостный трепет, который охватил сотрудников экспедиции на Кара-тепе, когда весной 1962 г. мы сначала нашли черепок с двенадцатью буквами «кушанского письма» (рис. 69), а затем разглядели на стене одного из коридоров пещерного комплекса процарапанную по штукатурке многострочную надпись.

Рис. 69. Черепок с надписью «кушанским письмом» из Кара-тепе
Но наряду с радостью пришла и тревога: у нас тогда не было с собой ни специалиста-реставратора, ни достаточного количества закрепляющих веществ, чтобы, укрепив штукатурку, срезать ее со стены и доставить в музей или другое научно-исследовательское учреждение. Что только ни делали мы со своей уникальной находкой: с величайшей осторожностью зачистили все ее остатки, долго и упорно пытались скопировать и сфотографировать ее и в конце концов вновь засыпали песком, отложив тем самым до следующего полевого сезона исследование всего этого пещерного коридора. Наши труды не пропали даром, хотя фотографии, выполненные в почти полной темноте и к тому же в узкой и неудобной щели раскопа, не удались, а копия надписи, продемонстрированная специалистам в области иранской филологии, позволила им лишь подтвердить наше определение: читать надпись по этой копии они отказались, так как не были уверены, что художник в ряде случаев не принял за часть надписи трещины на штукатурке и, напротив, не упустил отдельных деталей букв, сочтя их естественными трещинами. Однако уже сам факт находки большой надписи кушанским письмом, первой на территории нашей Средней Азии и второй (после надписи из Сурх Котала), имел большое значение. И когда осенью 1963 г. наша экспедиция вновь приехала в Термез, в ее составе были уже и В. А. Лившиц, известный нам по дешифровке нисийских надписей, и специалист-реставратор Р. М. Цыпина. Надпись, засыпанная более года назад, была расчищена вновь, и вот тогда-то рядом с нею по мере раскопок пещерного коридора стали открываться всё новые и новые надписи. По-видимому, вскоре после того, как монастырь пришел в запустение, около середины IV в. н. э., буддийские паломники, а то и просто любопытные путники, осматривая покинутые сооружения, превратили входные части этого пещерного комплекса в своеобразную «книгу посетителей», выцарапывая на стенах всевозможные надписи. Все эти надписи, вернее все то, что от них осталось, были тщательно зарисованы под непосредственным контролем В. А. Лившица, а около десятка наиболее сохранившихся надписей было снято со стены и доставлено в реставрационную мастерскую П. И. Кострова в Эрмитаж. Сразу же было ясно, что прочесть эти надписи будет не легко: в отличие от сурхкоталской некоторые из них сохранились не полностью, написаны они не прописными, а курсивными («письменными», соединявшимися между собой) буквами, да к тому же обычно их пересекают многочисленные выбоины и трещины. Но как бы то ни было, в научный обиход поступил теперь новый материал, который безусловно позволит сделать новый шаг в изучении некогда забытой письменности и загадочного языка Кушанской державы. Если же говорить о наших, советских ученых, то надписи из Кара-тепе — это первые (если не считать мелких находок) памятники кушанской письменности, которые стали их достоянием и сразу же сделали их обладателями ранее невиданного научного богатства. И, приступив к использованию этого богатства, пытаясь по-настоящему овладеть им, советские ученые-иранисты сразу же активно включились в изучение памятников «кушанского письма» вообще. Да это и понятно, так как для того, чтобы прочесть надписи из Кара-тепе (как и любые новые надписи на малоизвестном языке), нужно было тщательно изучить не только все слова, содержащиеся в открытых ранее текстах, но и те грамматические особенности исследуемого языка, которые можно было выявить по прежним находкам. Более того, необходимо было понять палеографию, т. е. характер написания отдельных знаков, букв и их сочетаний. Приступив к анализу кушанских надписей, В. А. Лившиц вчитался в знаменитый сурхкоталский текст, устранил почти все неясности, которые оставались в переводах этого текста, предложенных А. Мариком, В. Хеннингом, Э. Бенвенистом и другими исследователями, и дал его первый связный перевод на русский язык. Это уточнение перевода надписи из Сурх Котала — ценный вклад в кушановедение, сделанный благодаря кара-тепинским находкам. А что же дают сами надписи Кара-тепе? На этот вопрос точного ответа пока пет, так как работа по их дешифровке еще только началась. Однако кое-что сделано уже и в этом отношении. Так, В. А. Лившпц дал (пока, правда, предположительное) чтение и наиболее ранней из надписей Кара-тепе, выполненной тушью на ту лове глиняного сосуда, и отдельных фраз из двух текстов, выцарапанных на стенах пещерного коридора, Надпись на черепке довольно обыденна, хотя она и носила, очевидно, характер заклинания: «Этот [сосуд] пусть невредимым буд[ет]». Куда более многозначительно звучат Фразы, разобранные в настенных текстах. В одной из них В. А. Лившиц читает «блистательный бог Митра», в другой — «к верховным правителям парода». Но обший характер текстов, из которых оказались вырваны эти фразы, пока не ясен в отличие от еще одной надписи, процарапанной на стене входной ниши второго кара-тепинского пещерного комплекса. Разбор этой надписи был начат еще во время раскопок, когда, сидя рядом с художницей, копировавшей надпись, я вдруг ясно и четко увидел имя «Хормузд», хорошо известное по надписям на монетах и резных каменных печатях. Но что значило оно здесь, — имя ли верховного божества среднеазиатского и иранского пантеона (Ахурамазда, упоминание которого мы уже встречали в надписях ахеменидских царей), или происходящее от имени божества (так называемое теофорное) имя какого-нибудь человека? Это сначала не было ясно. Выяснилось это лишь тогда, когда гостивший в Ленинграде известный венгерский иранист, проф. Я. Харматта, рассматривая копию надписи, строчкой ниже прочитал еще одно личное имя. Этим именем было «Бурзмихр», в состав которого также входит имя божества — Михра (Митры), но которое безусловно являлось именем простого смертного; его, в частности, носит один из «наместников» кушанского царя Хувишки в тексте из Сурх Котала. Следующим и, пожалуй, вешающим шагом в выяснении общего характера этой кара-тепинской надписи было чтение В. А. Лившицем часто встречающегося в ней странного сочетания знаков, напоминающего трижды повторенную русскую букву «о». В. А. Лившиц прочитал это сочетание знаков как соединительный союз «и»; в «кушанском письме» он обозначался как «одо», где греческая буква «д» (дельта) изображалась почти неотличимо от «о». В итоге мы теперь можем сказать, что перед нами какой-то список людей, скорее всего перечень посетителей кара-тепинского монастыря. Что же касается прочитанных в этой надписи имен, го это первые ставшие известными современной науке имена живых людей первых веков нашей эры, запечатленные на памятниках северной (правобережной) Бактрии.
Глава VI
В низовьях могучего Окса

…в окруженном пустынями Хорезме, как в окруженной морями Англии, вся жизнь носила своеобразный уклад и даже заимствованные извне черты обнаруживали особую живучесть.Одной из наиболее ярких страниц в увлекательной летописи археологического изучения Средней Азии безусловно является исследование Хорезма. Ныне земли этой древней культурной области входят в состав Кара-Калпакской АССР, Хорезмской области Узбекистана и северной Туркмении. Но в древности, да и в эпоху средневековья, все они — и те, на которых жизнь не прерывалась, и те, которые вновь осваиваются лишь впоследние десятилетия, и наконец, те, которые все еще мертвы и пустынны, — все эти «земли древнего орошения» составляли территорию далекой северо-западной окраины земледельческой Средней Азии, область древнего Хорезма, лежащую в низовьях великой среднеазиатской реки, известной ныне под названием Аму-Дарьи, в средние века — как Джейхун, в древности — как Окс или Вахш. На заре цивилизации, в то время когда на юге Туркмении делала свои первые шаги культура ранних земледельцев, здесь, в низовьях могучего Окса, обитали еще племена первобытных собирателей, охотников и рыболовов. Однако вскоре, не без воздействия южных соседей, контакты с которыми поддерживались тогда и через степи, и по древнему руслу Аму-Дарьи Узбою (по этому руслу воды Аму текли ранее в Каспийское море), здесь также начали развиваться земледелие и скотоводство, и древний Хорезм (или Хорасмия, как называли его древние греки) пошел по тому же пути исторического развития, что и остальные оседлоземледельческие области Средней Азии. Чрезвычайная скудость сведений, сообщаемых о древнем Хорезме письменными источниками, не позволяет пока обрисовать его древнейшую политическую историю. Но уже сейчас можно говорить, что Хорезм входил одно время в состав и ахеменидского «царства стран», и могущественного Кушанского царства. Можно также утверждать, что, будучи тесно связан с обитавшими в низовьях Сыр-Дарьи и других близлежащих районах скотоводческими «скифскими» племенами и находясь в стороне от земледельческих областей южной Туркмении и центра среднеазиатского междуречья, Хорезм умело использовал малейшее ослабление крупных держав древности, чтобы выйти из подчинения их государям. Так было в конце V — начале IV в. до н. э, когда Хорезм отпал от Ахеменидского царства. Так было и в III в. н. э., когда он выделился из состава Кушанского государства. Более известна история средневекового Хорезма, бывшего в IX–XII вв. важным центром экономических связей между странами арабского халифата и народами Восточной Европы и Западной Сибири, а позднее, в канун разрушительного монгольского нашествия, — ядром недолговечного, но могущественного государства Хорезмшахов, владевшего значительной частью Средней Азии, Ирана и даже Закавказья. Однако известность, которую приобрел в последнее время Хорезм, связана не только с расцветом его могущества в начале грозного XIII века или с перипетиями его древней истории. Эту известность Хорезму в значительной мере принесла крупная экспедиция, которая работает на его землях с 1937 г., и руководитель экспедиции член-корр. АН СССР С. П. Толстов. Один из пионеров широкого археологического изучения Средней Азии, страстный и энергичный последователь, человек огромного научного и организаторского таланта, наделенный к тому же богатой фантазией и несомненным литературным дарованием, С. П. Толстов не только создал сильный и крепкий экспедиционный коллектив, но и увлек своей бурной, неукротимой любовью к столь милому его сердцу Хорезму историков и языковедов, поэтов, журналистов и кинорепортеров. В результате помимо исследовательских работ и ярких научно-популярных очерков самого С. П. Толстова ныне опубликованы многие ценные научные статьи его сотрудников и учеников, а также очерки, стихотворения и повести, авторы которых, каждый в меру своих литературных способностей, отдавали должное древнему Хорезму и его исследователям. И понятно, что открытия Хорезмской экспедиции приобрели поэтому необычайно широкую известность. Эта экспедиция еще в предвоенные годы провела археологическую разведку по обоим берегам Аму-Дарьи и открыла множество различных и разновременных памятников. В послевоенные годы полевые исследования Хорезмской экспедиции приобрели еще больший размах. Раскопочные работы затронули здесь не только мелкие усадьбы и замки, но и крупные крепости и городища, а применение автомашин и авиации значительно расширило площадь разведочных маршрутов. В последние годы наряду с изучением древнего Хорезма экспедиция С. П. Толстова приступила также к исследованию «скифских» памятников древней дельты современной Сыр-Дарьи, Яксарта и Таиаиса древних авторов. Работами Хорезмской экспедиции ныне введены в научный обиход многие памятники неолита и эпохи бронзы, времени существования Ахеменидского царства, империи Александра, государств Селевкидов и Аршакидов, Кушанской державы, поры раннего и развитого средневековья. В этой главе мы познакомимся с двумя памятниками древнего Хорезма — упоминавшимся ранее дворцом III — начала IV в. н. э в Топрак-кале и рядовым могильником VII–VIII вв. на городище Ток-кала.В. В. Бартольд
Заброшенный дворец хорезмийских царей
«Древний мертвый Хорезм отовсюду окружает Хорезм современный, живой», — писал С. П. Толстов, рассказывая о своей первой экспедиции в эту древнюю среднеазиатскую область. И подтверждал это заключение описанием многочисленных памятников, расположенных за пределами нынешнего оазиса, на покинутых «землях древнего орошения». Вот какую картину увидел он, например, поднявшись на крепостную стену средневекового городища Большой Гульдурсун, лежащего на границе орошенных земель правобережья Аму-Дарьи, в 26 км к северо-западу от г. Турткуля: «…отсюда, с пятнадцатиметровой высоты, перед нами открылась грандиозная, незабываемая панорама древнего, покоренного пустыней Хорезма, перед которой померкло еще недавно столь яркое впечатление от гульдурсунских развалин. Впереди нас, разливаясь необозримым морем на запад, на восток и на север, лежали мертвые пески. Лишь далеко на северном горизонте сквозь дымку дали рисовался голубоватый силуэт Султан-Уиздагских гор. И повсюду островками лежали бесчисленные развалины замков, крепостей, укрепленных усадеб, целых больших городов. Бинокль, расширяя кругозор, открывал все новые и новые руины, то казавшиеся совсем близкими, так что можно было видеть стены, ворота и башни, то отдаленные, рисующиеся нечеткими силуэтами». Среди многочисленных и разновременных археологических памятников древнего Хорезма городищу Топрак-кала по праву принадлежит одно из самых почетных мест. Это городище в течение пяти лет (1946–1950) было основным объектом раскопочных работ Хорезмской экспедиции. А работы эти привели к открытию первого (и пока единственного) дворца хорезмийских парей, дали в пуки исследователей первые в Хорезме находки древней степной живописи и скульптуры и первые в науке документы на хорезмийском языке. С. П. Толстов, рассказывая об экспедиции 1938 г., так описывает свое знакомство с этим замечательным городищем, расположенным среди ныне заброшенных, покрытых солончаками земель правобережного Хорезма: «…Наскоро выбрав место для ночлега и предоставив проводникам развьючивать верблюдов и готовить ужин, мы отправились на развалины. Вблизи вздымающаяся на двадцатиметровую высоту серая громада трехбашенного замка производила подавляющее впечатление. Весь огромный массив замка состоял из бесчисленных сводчатых помещений, расположенных в различных ярусах, частью разрушенных, частью целиком скрывающихся в глубине массива. С южной башни, грозно нависающей вертикальным срывом рухнувшей южной стены, открывалась панорама города: прямоугольник грандиозных, поднимающихся на высоту 10–15 метров стен, превращенных временем в вал, со следами многочисленных башен. Как стены, так и пространство внутри них были покрыты той же безжизненной черновато-сероватой коркой пухлого солончака. Как и на окружающей городище местности, местами на внутреннем пространстве крепости торчали странные конические бугры, увенчанные султанами корявых сухих сучьев. И вдруг в косых лучах заходящего солнца на серой поверхности городища четко выступил рисунок древней планировки: от ворот в южной стене протянулась узкая темная полоса главной улицы; в стороны от нее разошлись симметричные переулки, очертившие четким контуром огромные дома-кварталы, распадающиеся на бесчисленные прямоугольники комнат». В 1940 г. сотрудники Хорезмской экспедиции вторично посетили Топрак-калу. Решено было начать здесь большие стационарные раскопки, и в том году была проведена подготовка к ним: был снят детальный топографический план всего городища, произведена разведывательная шурфовка на территории города, собрано много десятков хорезмийских монет (количество монет, встреченных на городище Топрак-кала в 1938–1940 гг., было столь велико, что С. П. Толстов образно назвал его «гигантским нумизматическим кабинетом»). Начало больших раскопок намечалось на следующий, 1941 год, но осенью этого года многие сотрудники Хорезмской экспедиции уже сражались с оружием в руках на фронтах Отечественной войны. И только в 1945 г. археологи вновь поднялись на величественные остатки трехбашенной цитадели Топрак-калы и заложили здесь два небольших раскопа. Многолетние стационарные исследования Топрак-калы начались (рис. 70).
Рис. 70. Раскопки дворца в Топрак-кале (снимок с самолета)
Из приведенного выше описания первого знакомства С. П. Толстова с этим замечательным памятником мы уже знаем, что Топрак-кала — большое, прямоугольное в плане городище. Четкая правильная планировка этого древнего хорезмийского города с многочисленными прямоугольными башнями, особенно мощными по углам, и сложным лабиринтом у городских ворот живо напоминает нам города и крепости Парфиены и Маргианы, а также кушанские поселения Бактрии. Тщательное изучение микрорельефа городища и данные аэрофотосъемки позволяют предполагать, что вся южная часть Топрак-калы занята примерно десятком огромных жилых массивов — кварталов, отделенных один от другого главной улицей, которая идет от городских ворот в южной крепостной стене точно на север, и перпендикулярными к ней переулками. Жилые кварталы, судя по тем же данным, насчитывали до 150–200 комнат. Почти в каждом из таких кварталов высится один или несколько бугров, скрывающих остатки башен. Иначе выглядит северная часть городища. В его северо-восточном углу видна большая ровная площадь, лишенная каких либо заметных построек. С. П. Толстов полагает, что здесь находилась базарная площадь города. Северо-западный угол Топрак-калы занимает цитадель, состоящая из двора со сложной планировкой и уже знакомого нам величественного трехбашенного замка — основного объекта раскопочных работ Хорезмской экспедиции.

Рис. 71. План дворца в Топрак-кале
Этот грандиозный замок-дворец могучей громадой вздымался над всем древним городом (рис. 71). Ко времени начала раскопок он представлял собой величественный холм, центральный массив которого площадью 6400 кв. м (80×80 м) возвышался над окружающей местностью более чем на 16 м. К основному квадрату замка были пристроены три мощные (также квадратные в плане) башни: две по северным углам первоначальной постройки, третья — посреди южной стены. Стороны каждой из башен были лишь вдвое меньше каждой из сторон центрального массива; каждая такая башня занимала площадь 40×40 м. По вышине же башни значительно превосходили основную часть замка; они и ныне сохранились на 25-метровую высоту. Помещения замка были сооружены на высокой 12-метровой платформе обычной для древнего Хорезма конструкции: этот мощный цоколь состоял из перекрещивающихся глинобитных стен, между которыми располагались кладки из сырцовых кирпичей, положенных без раствора и пересыпанных песком. Эта огромная, потребовавшая большого труда, платформа должна была предохранить царственный замок и от подпочвенных вод, и от обычных в Средней Азии землетрясений. Высокие и глухие стены трехбашенного замка с гладкими выступами и пилястрами придавали, вероятно, всему сооружению вид суровой и неприступной твердыни. Поверху дворец (или какая-то часть его) был украшен гипсовой скульптурой; во всяком случае при раскопках южной части дворца здесь была найдена крупная, примерно в полтора раза больше натуральной величины, гипсовая голова мужчины в «скифском» головном уборе (шапке в виде остроконечного колпака). Долгие годы сотрудники Хорезмской экспедиции никак не могли найти вход, который вел бы из города во вздымающийся над ним царский дворец. И, как это часто бывает, нашли его лишь в самом конце раскопок, в 1950 г., посреди северной стороны замка. Прежде же чем добраться до входа, находившегося на 12-метровой высоте над уровнем городской площади, обитателям и посетителям топрак-калинского дворца нужно было пройти немалый путь. Этот путь начинался к югу от «Восточного двора», откуда вверх под прямым утлом к восточной внешней стене замка шел покатый подъем — пандус. Почти в центре пандуса помещалась сторожевая башня; ее оплывшие остатки и сейчас видны к югу от «Восточного двора». Миновав бдительную царскую стражу и поднявшись наверх, на площадку монументальной дворцовой платформы посредине восточного фасада замка, можно было войти в длинный коридор, вернее, анфиладу узких помещений; эти помещения, соединявшиеся арочными проходами и украшенные разноцветными стенными росписями с растительными узорами, огибали весь северо-восточный угол дворца и вели к основному входу во внутренние дворцовые помещения. Центральный массив топрак-калинского дворца насчитывал множество различных помещений, часть из которых размещалась в два этажа. Помещения второго этажа, однако, сохранились только в северо-западном углу, возле башни, так что более полное представление мы имеем лишь о главном, первом этаже. Все дворцовые помещения можно разделить на несколько групп, ограниченных мощными стенами и представлявших как бы самостоятельные комплексы определенного назначения. В северной части дворцового массива, к западу от главного входа, располагалась группа жилых и хозяйственных комнат. В первом этаже здесь раскопаны узкие сводчатые помещения, одно из которых во всяком случае служило для размещения части дворцовой охраны. Среди сохранившихся помещений второго этажа находилась комната с росписями, получившая у археологов название «зала арфистки». Это помещение, раскопанное в самом начале широких работ на Топрак-кале, в 1946 г., представлялось тогда громадным и чрезвычайно пышным. Сейчас, после того как в топрак-калинском замке открыты поистине огромные парадные помещения, «зал арфистки» кажется уже сравнительно небольшим и не столь уж парадным. Но, как бы то ни было, «зал арфистки» заслуживает внимания. Это довольно обширная комната со следами четырех деревянных колонн; на них опиралась плоская кровля. Полторы тысячи лет назад в этом помещении особенно привлекало, очевидно, внимание посетителей богатое убранство стен. Ныне от этого убранства сохранилось, правда, весьма немногое. Но и то, что было найдено здесь в 1946 г. (а надо сказать, что это были первые открытия такого рода в Хорезме), ошеломило исследователей. Судя по остаткам штукатурки с красочными рисунками, можно было заключить, что все стены помещения некогда покрывала орнаментальная расписная сетка, составленная из пересекающихся полос, украшенных листьями аканфа, розетками и сердечками. Ромбические же поля, образованные этим пышным узором, занимали живописные изображения музыкантов.

Рис. 72. «Арфистка». Роспись из Топрак-калы
По одному из таких наиболее полно сохранившихся изображений — молодой женщине с арфой (рис. 72) — все помещение и получило свое условное название. Круглолицая с покатыми плечами женщина как бы перебирает пальцами струны большой треугольной арфы. На арфистке одежда с круглым воротом и складками, переданными в виде параллельных линий. На руках — браслеты. Все изображение напоминает памятники гандхарского (и кушанского вообще) искусства. Интересно, что в этой же комнате были найдены изображения, выполненные и в совсем иной манере и традиции. Такова часть лица женщины, переданного в фас с прямо смотрящими широко прорезанными черными глазами и густыми сросшимися бровями (рис. 73), — изображение, глядя на которое, невольно вспоминаешь знаменитые «фаюмские портреты» римского Египта и другие художественные памятники античного мира римского времени.

Рис. 73. Часть лица женщины. Роспись из Топрак-калы
В северо-восточной части дворца помещалось другое парадное помещение, назначение которого в отличие от «зала арфистки» вряд ли вызывает сомнение. Это торжественный дворцовый зал со своеобразной портретной галереей хорезмийских царей, названный поэтому «залом царей». Этот огромный (площадью 280 кв. м) приемный зал топрак-калинского дворца был изолирован от всех внутренних дворцовых помещений: он связан лишь с внешними северными помещениями, куда вел специальный коридор, состоящий из нескольких колен. Стены «зала царей» покрывала многокрасочная живопись с изображением красных и белых лилий по желтому и синему фону и различные барельефные украшения в виде гирлянд из цветов и плодов. Ио основу его внутреннего убранства составляли не росписи, а глиняная раскрашенная скульптура — еще один новый вид памятников изобразительного искусства древнего Хорезма, открытый впервые в 1947 г. «Портретная галерея» хорезмийских царей как раз и представляла собой скульптурные воспроизведения государей Хорезма, правивших страной после ее освобождения от кушанской власти. Вдоль стен «зала царей» тянулась высокая су фа, разделенная ажурными решетками на ряд секций, в каждой из которых были размещены скульптурные группы: цари, окруженные женами, принцами, приближенными, и божества-покровители. К сожалению, до нас не дошло ни одного изображения лица хорезмийских царей из топрак-калинской галереи. Но о том, что это были именно цари, достаточно определенно свидетельствуют находки двух головных уборов, тождественных с индивидуальными коронами двух хорезмийских царей, известными по изображениям на монетах. Характерно, что корона, представленная в чекане наиболее раннего из послекушанских царей Хорезма (его имя С. П. Толстов читает как «Вазамар»), найдена в крайнем отсеке «портретной галереи»; отсюда, очевидно, полагалось начинать ее осмотр. Статуи сидящих царей (примерно вдвое больше натуральной величины) сопровождали стоящие мужские, женские и детские фигуры (гораздо меньшего размера). От этих стоящих фигур сохранилось довольно много различных фрагментов: торсов, рук, ног, голов. В передаче тела и еще более — складчатой одежды (рис. 74) — в статуях Топрак-калы ясно видны те же самые приемы, которые мы уже отмечали в скульптурах Кушанского царства, следующих замечательным традициям античного искусства.

Рис. 74. Глиняная статуя из Топрак-калы
Среди голов, найденных в «зале царей», особенно выразительны две: женская голова из самого крайнего, начального отсека «галереи», признанная (условно, конечно) за изображение «супруги царя Вазамара» (рис. 75), и голова юноши (скорее всего, часть статуи одного из хорезмийских принцев). Хотя эта голова (рис. 76) была вылеплена из столь непрочного материала, как сырая глина, и дошла до нас сильно поврежденной, глядя на нее, мы вполне можем оценить высокое мастерство древнего среднеазиатского скульптора, умело передавшего облик молодого энергичного представителя правящей династии послекушанского Хорезма.

Рис. 75. Голова «супруги Вазамара» из Топрак-калы

Рис. 76. Голова принца. Часть глиняной статуи из Топрак-калы
К западу от «зала царей» находился главный проход во внутренние покои дворца. Преддверием к этим покоям был так называемый алебастровый зал, большое помещение (вероятно, открытый внутренний дворик), украшенное лепными и резными гипсовыми (алебастровыми) узорами растительного характера. На севере «алебастровый зал» сообщался с главным входом, на юг же от него шла анфилада комнат, из которых можно было, в частности, попасть в еще два парадных помещения восточной части дворца: «зал побед» и «зал воинов». В первом из них на всех четырех стенах сохранились части горельефов, изображавших сидящего царя и две женские фигуры, стоящие по обе стороны от него, причем та из них, которая находилась перед царем, была передана как бы парящей в воздухе. Подобное расположение персонажей хорошо известно по парфянским и хорезмийским монетам, на которых изображены сцены венчания победоносного царя античной богиней побед Никой, отождествленной на Востоке с местным иранским божеством Хваниндой. Как называлась эта богиня в древнем Хорезме и за какие победы призвана она была возложить венок славы на голову хорезмийского царя, пока не известно. Но общий смысл сцен, изображенных в «зале побед» топрак-калинского дворца, достаточно ясен, равно как и то, что здесь сохранялись заимствованные из античного искусства, но приспособленные к местным условиям художественные образы и приемы.

Рис. 77. «Зал воинов» в Топрак-кале (реконструкция)
Очень интересен и не менее эффектен был и «зал воинов» (рис. 77), украшенный стоящими в нишах большими статуями царей и помещенными между нишами на специальных подставках фигурками воинов в чешуйчатых (вероятно, железных) панцирях, с плетеными камышовыми щитами. «Зал воинов» — не только богато украшенное, но и весьма обширное помещение: его площадь превышает 60 кв. м. Однако его внутреннее устройство и план полностью повторяли обычные для топрак-калинского дворца устройство и планировку жилых комнат. У одной из длинных стен располагался большой очаг-камин, а напротив была устроена круглоарочная ниша. Точно такие же по устройству, хотя и гораздо меньшие по размерам, очаги-камины и ниши были встречены в обычных, «рядовых» жилых комнатах. Как и там, в «зале воинов» в противоположной входу стене помещалась дверь, ведущая в небольшую замкнутую комнату-каморку. Все это дало С. П. Толстову основание предполагать, что «зал воинов» представлял собой «не что иное, как царскую опочивальню, жилой покой самого хорезмийского царя». С этой пышной «царской опочивальней», вернее с украшавшими ее фигурками воинов, связана очень смелая и заманчивая, хотя и весьма спорная, гипотеза С. П. Толстова, получившая широкую известность не только в научной но и в научно-популярной литературе. Это нашумевшая в конце 40 — начале 50-х годов история о неграх — воинах личной гвардии хорезмийских царей. История этой истории такова. В полевой сезон 1948 г. по лагерю Хорезмской экспедиции на Топрак-кале вдруг прошел слух о диковинных находках — глиняных головах каких-то темнокожих персонажей — негров, «черных, губастых, с курчавыми волосами». Это первое представление впоследствии пришлось несколько изменить: «негры» оказались не черными, а смуглыми (черным цветом на их лицах отмечена не кожа лица, а борода), кудрявых волос на сохранившихся кусках статуй нет, что же касается «губастости», или, как значилось в научных отчетах, «гротескно утрированных, вздутых губ», то скорее всего эти персонажи держали во рту трубки или какие-либо иные предметы. В литературе — и в популярных очерках, изданных массовыми тиражами, и в солидных научных трудах — получила широкое распространение гипотеза о том, что в «зале воинов» дворца хорезмийских царей III в. найдены несомненные изображения «людей негроидного типа, хотя и с несколько смягченными особенностями». Эти «негроиды» были признаны воинами личной гвардии хорезмийских царей. А из двух этих положений были сделаны выводы и «о структуре вооруженных сил, на которые опиралась власть хорезмийских царей». «Их гвардия, — писал С. П. Толстов, — комплектовалась из далеких чужеземцев — либо обитателей южной Индии, связь с которой хорезмийцы несомненно поддерживали со времени кушанов, или еще более далекой восточной Африки. Гвардия эта, вероятно, составлялась из купленных невольников». В этих гвардейцах-невольниках стали видеть ценное свидетельство о рабстве и рабах в древнем Хорезме и всей Средней Азии в целом. Позднее антропологическое изучение черепов из древ-них хорезмийских памятников, произведенное Т. А. Трофимовой, привело ее к выводу, что «темнокожие воины-гвардейцы» Топрак-калы хотя и воспроизводят облик людей индо-дравидоидного типа, по внешнему виду были сходны с людьми примерно того же времени, погребенными на Калалыгыр I, которых, однако, нет никаких оснований считать рабами или невольниками. По мнению Т. А. Трофимовой, и те и другие могли быть как выходцами из индийских владений Кушанской державы, так и потомками древнейших темнокожих племенных групп дравидоидного типа, обитавших в Средней и Передней Азии с IV–III тысячелетий до н. э. Таким образом наметился и несколько иной путь к решению загадки о «неграх» из Топрак-калы. Но кто знает, не выявятся ли какие-либо новые, еще неведомые нам пути к ее разрешению? Но продолжим наше ознакомление с топрак-калинским дворцом и как бы заглянем в западную часть его основного массива. Здесь среди многих дворцовых помещений открыты еще два больших парадных зала. Один из них, названный «залом оленей», был украшен барельефами, изображавшими пасущихся оленей; другой — расположенными попарно фигурами. Эти фигуры (от них сохранились лишь ноги и подолы одежд) размещались, однако, совсем иначе, чем в «зале побед» или «зале царей», где мы встречались уже с групповыми изображениями: здесь все они составляли танцующие пары — мужчину и женщину. На основании найденных здесь же фрагментов голов С. П. Толстов предполагает, что танцующие были изображены в масках и что в целом сцены этого «зала танцующих масок» следует связывать с каким-то дионисийским культом, некогда распространенным в древнем Хорезме. Из западной части дворца можно было попасть во внутренние жилые покои царской семьи, расположенные в южной половине замка. Путь в этот «комплекс гарема», как назвал его С. П. Толстов, вел через еще один зал, украшенный особым, весьма своеобразным способом, не известным ранее ни на Востоке, ни на Западе: все его стены имели круглые циркульные ниши (диаметром 1,2 м), расписанные геометрическим орнаментом. Из «зала с кругами» во внутренние комнаты «комплекса гарема» вело пять дверей. Комнаты эти представляли собой как бы уменьшенную и менее пышную копию царской опочивальни — «зала воинов». У одной из длинных стен находился очаг-камин, а напротив него — круглая арочная ниша. Позади каждой такой комнаты располагалась замкнутая небольшая каморка. Стены комнат «комплекса гарема» украшали росписи, в том числе изображения людей и пышные многоцветные орнаменты. В одной из таких опочивален, шутливо названной «комнатой червонных дам», найдены, например, изображения женщин, помещенные на светлом фоне, покрытом излюбленными, по всей видимости, в искусстве Хорезма того времени красными сердечками (рис. 78).

Рис. 78. «Червонная дама». Роспись из Топрак-калы
Если направиться из «зала с кругами» не во внутренние покои царской семьи, расположенные к югу и юго-востоку от него, а на запад, по длинному и узкому коридору, стены которого были покрыты гипсовыми плитками, то взору открываются многочисленные двери, ведущие в маленькие, грубо оформленные комнаты. Эти простые и бедные помещения, при раскопках которых найдено большое количество костей животных и глиняной посуды, служили, вероятно, жилищами обслуживающего дворцового персонала (по мнению С. П. Толстова, рабов). Таковы были парадные и жилые помещения, расположенные в северной, южной и западной частях трехбашенного топрак-калинского замка. Эти помещения дали в руки ученых огромный (и по разнообразию, и по количеству, и по научной значимости) материал, который позволяет изучить искусство и быт величественной резиденции хорезмийских царей. В этих помещениях были найдены многочисленные целые и поломанные глиняные сосуды; куски бумажных, шерстяных и шелковых тканей; части кожаной обуви; разнообразные остатки пищи — кости домашних и диких животных, косточки урюка, персиков и винограда, семена пшеницы, ячменя, проса, дыни. Здесь было найдено большое количество монет. Здесь, наконец, были получены ценнейшие данные по архитектуре и первоклассные, высокохудожественные образцы стенных росписей и глиняной раскрашенной скульптуры. Для еще более полной характеристики культуры древнего Хорезма не хватало лишь надписей. И они не заставили себя ждать. Рассматривая помещения топрак-калинского дворца, мы до сих пор не касались узкой полосы комнат, протянувшихся вдоль восточного фасада замка, в его юго-восточном углу. Эти помещения были отгорожены от «зала побед», покоев «комплекса гарема» и других жилых и парадных апартаментов центральной части дворцового массива глухой капитальной стеной и составляли отдельную хозяйственно-производственную часть царской резиденции в Топрак-кале. На севере, к востоку от «зала побед», здесь разместились мастерские по изготовлению луков и других предметов вооружения, а в несохранившихся помещениях второго этажа, насколько позволяют судить упавшие оттуда предметы, — склады оружия и военных доспехов. В юго-восточном углу замка, к востоку от комнат «комплекса гарема», уже в 1947 г. была найдена маленькая деревянная бирка с нанесенной черной тушью надписью из четырех букв. Раскопки здесь были продолжены в 1948 и 1949 гг., и в результате науке стал известен первый хозяйственный архив древнего Хорезма. Всего здесь было найдено около сотни документов, упавших в три угловые юго-восточные комнаты арсенала из разрушившихся помещений второго этажа, где, очевидно, и размещался дворцовый топрак-калинский архив. Архив этот состоял из документов двух типов: текстов на деревянных дощечках и текстов на коже (рис. 79). Документы на дереве дошли до нас в довольно хорошем состоянии, однако их, к сожалению, всего лишь 18. Документы второго типа сохранились куда хуже: только 8 фрагментов уцелели непосредственно на коже, остальные же — всего лишь отпечатки на глиняных натеках, некогда покрывавших отдельные документы (кожа, на которой были написаны эти тексты, истлела и до нас не дошла). Плохая сохранность большей части топрак-калинских документов затрудняет их изучение, так как требует долгой и кропотливой предварительной реставрационной работы. Работа по дешифровке 26 доступных для исследования текстов уже началась.
 а
а
 б
б
Рис. 79. Документы из Топрак-калы: на дереве (о), на коже (б)
Первоначально тексты из Топрак-калы изучал сам С. П. Толстов. Хорезмийский алфавит, как и парфянский (это было известно еще по монетам хорезмийских царей) был основан на арамейской письменности, к тому же, как и тексты из Нисы, топрак-калинские документы оказались обильно насыщенными арамейскими идеограммами. Опыт, полученный при дешифровке нисийского архива, оказался здесь очень кстати. К работе над документами из дворца хорезмийских царей вскоре по просьбе С. П. Толстова приступил также В. А. Лившиц (ныне они сообща готовят полное издание хорезмийских текстов). Каково же было содержание топрак-калинских документов? Полный перевод их еще не получен, но общий характер обеих групп документов можно уже, по-видимому, считать установленным. Тексты на дереве — это, вероятно, списки семей или лиц, подлежащих налоговому обложению или повинности. Эти тексты содержат много имен хорезмийцев III в. н. э. и интересные термины родства или зависимости: в документах перечисляется, возможно, состав большесемейной общины, и, вслед за ее главой, значатся семьи его детей, жены (или жен), а может быть, и их слуги. Документы же на коже скорее всего представляют собой сводные хозяйственные документы, отмечавшие ряд поступлений, полученных в течение определенного периода: в их тексте часто повторяются арамейская идеограмма, означающая предлог «от», и цифровые обозначения каких-то предметов или продуктов, а также в ряде случаев идеограмма со значением «год» и числовое определение этого года (летосчисление здесь велось по неизвестной еще эре, которую С. П. Толстов пытался, как мы уже видели, отождествить с «сакской эрой» и «эрой Канишки»). Заканчивая беглое описание величественного дворца хорезмийских царей в Топрак-кале и сделанных при его раскопках замечательных открытий и находок, следует еще сказать несколько слов об особенностях этой грандиозной постройки. Как на это указывает С. П. Толстов, «великолепное художественное решение стоявшей перед строителями задачи — создание подавляющего своим величием памятника — сочетается с крайней неудовлетворительностью ее решения со строительно-технической точки зрения». Еще при жизни замка, а жил он, видимо, относительно недолгий срок, его стены пришлось подпирать всевозможными стенками и контрфорсами. Более того, изредка прибегали к закладке кирпичом целых помещений. Как и небывалые по размерам, но недолговечные здания, выстроенные в необычайно короткие сроки самым известным из среднеазиатских владык — грозным Тимуром, дворец хорезмийских царей в Топрак-кале сооружался, вероятно, в спешке и должен был своим грандиозным видом прославить величие царей, освободившихся от иноземной власти и претендующих на венец из рук самой богини победы. Так в архитектуре топрак-калинского дворца отразились политические события III в. н. э.
Рядовой некрополь северного Хорезма
Городище Топрак-кала с величественным трехбашенным замком, служившим резиденцией хорезмийских царей III — начала IV в., своим расцветом обязано, вероятно, краху власти кушан над далекой северо-западной окраиной их некогда могущественной державы. Иначе отразилось освобождение Хорезма от власти кушанских владык на судьбе небольшого безвестного поселения, лежащего в дельте Аму-Дарьи, на холме Ток-тау, в 14 км к северо-западу от современной столицы Кара-Калпакской АССР г. Нукуса (рис. 80). Это укрепленное поселение возникло здесь на высокой северо-западной части холма над обрывом, у подножия которого в то время нес свои мутные воды один из дельтовых протоков Аму-Дарьи (ныне здесь сухое русло).
Рис. 80. План городища Ток-кала
Впервые, как показали исследования А. В. Гудковой, вершина холма Ток-тау была обжита еще в IV или III в. дон. э., когда здесь, близ северных рубежей Хорезма, возник целый ряд пограничных крепостей, сооруженных, по-видимому, по единому государственному плану обороны суверенного Хорезмийского государства. Выделившись из состава Ахеменидского царства где-то на рубеже V и IV вв. до н. э., Хорезм в течение нескольких столетий успешно сохранял, кажется, свою независимость и от греческих государей, властвовавших в южных и центральных областях Средней Азии, и от грозных кочевых племен среднеазиатского Севера. Однако в конечном счете мощное передвижение кочевников северных районов Средней Азии на юг и на юго-запад смело оборонительную линию хорезмийских крепостей, и ярким свидетельством этой военной катастрофы служит слой со следами пожара и запустение Ток-калы (так называют ныне древнее поселение на холме Ток-тау). Заброшенное укрепление вновь было обжито в кушанское время, когда в приаральской дельте Аму-Дарьи почти полностью восстанавливается вся система древних крепостей и укрепленных поселений. Но и на сей раз жизнь здесь оказалась тесно связанной с политической обстановкой. И когда власть кушан над Хорезмом прекратилась, поселение на Ток-кале (как и многие другие поселения этого северного района) было заброшено. Расцвет Топрак-калы сопровождался, таким образом, запустением северных окраин былого кушанского Хорезма. Наиболее интересные материалы из раскопок относятся пе к первому (IV–II вв. до н. э) и не ко второму (I–III вв. н. э) периодам жизни на Ток-кале, а к третьему, который приходится уже на эпоху раннего средневековья, канун арабского завоевания. В этот период, в VII в. н. э., на холме Ток-тау, к востоку от заброшенных руин былого укрепления, возникло новое поселение, частично обнесенное новой, толстой оборонительной стеной. Это поселение, один из многих известных ныне населенных пунктов восточной части при-аральской дельты Аму-Дарьи, входило в состав северного Хорезма, судьба и культура которого в VI–XI вв. несколько отличались от судьбы и культуры южной части этой древней среднеазиатской области. В политическом отношении северный Хорезм в то время был независим от южного, а этнически и культурно он более тесно был связан с низовьями Сыр-Дарьи и с согдийскими землями среднеазиатского междуречья. Поселению Ток-кала VII–VIII вв. н. э. и принадлежал тот интересный некрополь, которому посвящен этот раздел. Некрополь, о котором идет речь, располагался за пределами ток-калинского поселения, на северном и восточном склонах холма Ток-тау (на южной части этого холма в IX–XI вв. существовало еще одно, четвертое по счету, поселение, на сей раз лишенное, однако, каких-либо оборонительных стен). Этот некрополь небольшого, неизвестного нам даже по имени, поселка VII–VIII вв. в отличие от топрак-калинского дворца представляет собой не уникальный историко-культурный памятник, а один из обычных могильников рядового поселения северного Хорезма раннесредневекового (домусульманского) периода. Несмотря на эту свою обыденность, могильник Ток-калы оказался ценным в научном отношении археологическим объектом, заметно обогатившим наши представления о культуре и искусстве раннесредневекового Хорезма и связанным, как выяснилось, с интересным кругом важных историко-культурных вопросов. Но прежде чем перейти к непосредственному ознакомлению с материалами некрополя Ток-калы, рассмотрим, хотя бы в самых общих чертах, тот своеобразный, одно время казавшийся таинственным, погребальный обряд, с которым столкнулась при исследовании этого могильника А. В. Гудкова. Во время своих многолетних работ в составе Хорезмской экспедиции, еще до раскопок Ток-калы, А. В. Гудкова не раз встречала небольшие глиняные или алебастровые ящички разной формы, служившие для захоронения костей покойника (именно костей, а не всего трупа). Эти погребальные ящички-костехранилища — астоданы (если называть их иранским термином) или оссуарии (как обозначают их по-латыни) долгие годы были одной из загадок среднеазиатской археологии, и только совместными усилиями многих исследователей, как археологов, так и иранистов-востоковедов, удалось установить, что захоронения в них соответствуют рекомендациям «священных текстов» «Авесты» и отражают широко распространенные в древности среди многих народов Средней Азии и Ирана религиозные верования и представления. Выяснилось, что до захоронения в оссуариях останки покойного проходили своеобразную «очистительную» процедуру. Люди, хоронившие кости своих родственников в оссуариях, поклонялись четырем «священным стихиям» — огню, воде, земле и воздуху. Они верили также, что весь мир создан двумя творцами: божеством добра и света — Ахурамаздой (это древнее божество мы уже встречали и при Ахеменидах, и при парфянах, и в кушанское время) и духом зла и тьмы — Ангроманью, антиподом Ахурамазды. Первому из этих божеств-творцов приписывалось, в частности, сотворение разума и твердой основы — костяка человека, второму — его бренного тела. Считалось, что после смерти человека его труп, как созданный духом зла, разлагается и оскверняет все вокруг. И во избежание осквернения «священных стихий» труп нельзя ни сжечь, ни утопить, ни закопать в землю, ни даже оставить надолго на открытом воздухе. В то же время «священные тексты» предписывали тщательно сохранять кости покойника, ибо в будущем умерший должен якобы воскреснуть (вера в грядущее воскрешение свойственна почти всем религиям человечества). Так и возник на востоке Ирана и в Средней Азии странный на первый взгляд обычай выставлять трупы на съедение хищным животным или птицам, а «очищенные» таким образом кости собирать и тщательно сохранять. Способы хранения костей покойников у разных народов были различны. Так, в некоторых областях Ирана их помещали, вероятно, в вырубленных в скалах небольших нишах. В парфянских же могильниках западных областей останки усопших сохраняли в небольших сводчатых гробницах, напоминавших уже известные нам нисийскпе склепы. Величественны и угрюмы костехранилища современных последователей древнеиранских религиозных культов — парсов, потомков обосновавшихся в Индии беженцев из Ирана, где их преследовали после арабского завоевания приверженцы новой, победоносной религии — ислама. Эти мрачные костехранилища, известные как «башни молчания», угрюмо высятся в окрестностях Бомбея, на зеленых малабарских холмах. Сложенные из камней, «башни молчания» перепиской религиозной общины Индии имеют наверху специальную площадку, куда выставляют трупы, а в центре ее — глубокий колодец, где покоятся кости многих поколений верующих. Стаи хищных птиц постоянно вьются над этими суровыми башнями, ожидая очередного трупа, а люди, ведающие погребениями, каждый раз после «очищения» костей покойника птицами и омовения их дождями поднимаются на страшную площадку и опускают то, что осталось от усопшего, в центральный колодец. В Средней Азии в канун арабского завоевания, в VI–VIII вв., кости покойников почти повсеместно хранили в специальных ящиках-оссуариях, причем наиболее ранние известные ныне оссуарии встречены как раз в Хорезме, который, таким образом, есть основание рассматривать как родину «оссуарного» обряда погребения.Довоенные еще раскопки Г. В. Григорьева на городище Кафыр-кала (под Самаркандом), исследования 1949 г. и последующих лет в Пенджикенте (с ними мы еще познакомимся в следующей главе) и работы ашхабадского археолога С. А. Ершова в 1954–1956 гг. в районе Байрам-Али показали, что на территории Согда и на землях древней Маргианы оссуарии помещали в специальных погребальных сооружениях— наусах. В других случаях, как, например, в замках согдийских колонистов в Семиречье, оссуарии были найдены в непосредственной близости от жилых помещений: во дворе или в специальной комнате или пристройке. В Хорезме находки оссуариев встречались неоднократно. Так, в 1938 г., во время первого посещения С. П. Толстовым Топрак-калы, возле ее южной крепостной стены было найдено целое кладбище оссуариев. Такое же кладбище было отмечено и на руинах круглого в плане храма Кой-Крылган-кала, и на развалинах недостроенной резиденции ахеменидского наместника Хорезма — Калалы-гыр I. Таким образом, было известно, что, начиная с первых веков нашего летосчисления и вплоть до арабского завоевания VII–VIII вв., некоторые заброшенные древние городища использовались жителями близлежащих поселений для размещения оссуариев. Известны были также сходные с семиреченскими находки оссуариев в отдельных укрепленных земледельческих усадьбах южного Хорезма. Но вплоть до раскопок А. В. Гудковой на Ток-кале ясного представления о рядовом «оссуарном» могильнике в Хорезме мы все же не имели.

Рис. 81. План северо-западного раскопа на Ток-кале
Исследования некрополя Ток-калы еще не закончены, в наблюдения археологов будут еще внесены уточнения и изменения. Пока же раскопки дали такие сведения. Некрополь, охватывавший поселение Ток-кала с севера и востока, состоял из большого числа наусов. Один из них открыт на южном краю могильника (на раскопе V), два других — на северо-западной его окраине (на раскопе IV) (рис. 81). Более интересны наусы северо-западного раскопа. Один из них представлял собой однокомнатную постройку— склеп (размером примерно 16 кв. и). Это небольшое сооружение было полностью сложено из сырцовых кирпичей: из них были возведены стены науса, его пол, широкая суфа, идущая вдоль трех стен внутреннего помещения. По всему помещению к моменту его вскрытия были разбросаны кости и обломки более чем десяти гипсовых (алебастровых) оссуариев. Еще три сохранившихся целиком оссуария стояли на суфе. Все оссуарии имели вид прямоугольных ящичков на четырех ножках с четырехскатной уплощенной сверху крышкой. Здесь же находился глиняный хум (заменивший, вероятно, оссуарий) с черепом и несколькими длинными костями. Еще более интересен второй наус — полуподземное двухкамерное сооружение (размером 11×6 м). Для сооружения этого науса в грунте холма был выкопан котлован глубиной примерно 2 м. К обрезам котлована были пристроены сырцовые стены. Наус состоял из двух помещений, соединенных проходом. В стенах малого помещения было специально сделано десять ниш (рис. 82). Были ли такие же ниши в большей комнате, сказать трудно, так как стены ее сохранились лишь на незначительную высоту. В большем помещении на полу были найдены разбитый гипсовый оссуарий и выброшенные из него кости. Меньшая же комната была сплошь завалена разбитыми оссуариями, их крышками, черепами, отдельными человеческими костями. После того как верхний слой обломков был снят, под ними открылись новые, целые и битые оссуарии. Всего здесь находилось более полусотни гипсовых, два керамических, один каменный оссуарий, а также детское захоронение в глиняном горшке.

Рис. 82. Ниши с оссуариями в наусе № 2 Ток-калы
По словам А. В. Гудковой, «расположение оссуариев в камере имеет весьма хаотический вид. От некоторых оссуариев найдены только небольшие обломки, а остальные их части отсутствуют. Крышки керамических оссуариев находились не на своих местах, и одна была разбита, а крышка каменного, весящая не менее 15 кг, была брошена на оссуарии в середине камеры. Создается впечатление, что первоначально в северной части камеры оссуарии ставили более или менее по порядку, а потом уже наспех, как попало. Вся эта картина наводит на мысль о том, что оссуарии здесь прятали, о внезапном прекращении использования науса и его последующем осквернении. Слой чистого насыпного песка поверх оссуариев в малой камере и на полу — в большой говорит о том, что следы учиненного разгрома были поздней специально ликвидированы, может быть теми, кто хоронил умерших на этом кладбище». В соответствии с предписаниями «священных текстов» и сообщениями древних авторов в определенные дни «поминания предков» родственники умерших приносили в наусы «для их душ» пищу и питье; остатками этих приношений являются, очевидно, обломки глиняной столовой посуды и кости птиц и рыб, найденные также в малом помещении науса.

Рис. 83. Роспись оссуария № 1 из Ток-калы
Картину похоронных обрядов древних хорезмийцев существенно дополняют росписи, покрывавшие стенки, а в ряде случаев — и крышки ток-калинских оссуариев. Вот какова, например, сцена, изображенная на стенке и крышке одного из них (рис. 83). Сюжет ее — оплакивание умершей. Покойница лежит в центре композиции, головой влево, на ложе с изголовьем. Слева от нее помещена группа размещенных в два ряда женщин, а справа — мужчин. И те и другие рвут на себе волосы и царапают лица. Именно о таких проявлениях горя во время оплакивания покойников у древних народов Средней Азии сообщают китайские и арабские источники. Интересно, что у трех мужчин, изображенных во втором ряду на крышке оссуария, и, возможно, у женщины, самой левой на стенке оссуария, обнажены плечи и верхняя часть груди, по-видимому, специально для ритуального самоистязания. Верхняя часть одежды у них на груди передана неровным черным контуром, изображающим, вероятно, разорванную в клочья материю. Очень детально прорисована одежда (женская — просторная, иногда с верхней накидкой — безрукавкой, иногда с прямоугольной вставкой или вырезом на груди, мужская — с двумя отворотами и стягивающим талию поясом); прически (длинные косы у женщин, короткая стрижка у мужчин), украшения. Все действие изображено на фоне какой-то постройки; верхний ее край обозначен горизонтальной полосой, а в центре, за ложем умершей, помещена дверь, увенчанная полумесяцем с диском и двумя листовидными завитками. На переднем плане в центре изображена еще какая-то стилизованная фигура, возможно алтарь или жертвенник. Снизу вся сцена ограничена горизонтальной орнаментальной каймой, идущей по внешней стороне ножек оссуария.

Рис. 84. Роспись оссуария № 2 из Ток-калы
Сходная с этой сценой картина изображена на стенке другого оссуария из Ток-калы, в деталях, однако, заметно отличающаяся от первой (рис. 84). Умерший (здесь это мужчина) лежит на ложе без изголовья, головой вправо. Оплакивающие частью стоят, частью сидят. Среди последних справа от ложа сидит, распустив волосы и подняв руки, женщина в черном, возможно вдова умершего. Изображения на оссуариях из Ток-калы отнюдь не отличаются высокой художественностью. Это довольно безыскусные рисунки, передающие некоторые «бытовые» подробности «обыденных сцен» оплакивания, общих по своему содержанию, но различных по отдельным деталям. «Рисунок на оссуариях, — пишет А. В. Гудкова, — очень прост, условен и в то же время, видимо, традиционен. Выполняется он в большинстве случаев путем прорисовки контура черной тушью с последующей закраской фигур внутри, без применения цветовых переходов и полутонов. Анатомические пропорции и правильность ракурсов человеческих фигур не соблюдаются. Условно и соотношение первого и второго планов, свободно сочетаются фронтальное изображение и вертикальная проекция. Мастер, видимо, вовсе не добивался полного правдоподобия изображаемого. Его задача заключалась в том, чтобы вызвать представление о широко известных и всем понятных явлениях. Тем не менее росписи очень выразительны и эмоциональны. Они, без сомнения, представляют собой образцы очень демократичного и живого народного искусства, не связанного канонами парадной живописи». Известный интерес представляют также символы, встречающиеся на некоторых из ток-калинских оссуариев, в частности украшение одной из крышек; в центре ее помещено изображение полумесяца (с диском внутри), лежащего на небольшом диске или шаре, от которого в стороны вверх отходят расширяющиеся к концам ленты. Этот символ заставляет вспомнить не только изображение входа на одном из рассмотренных нами ток-калинских оссуариев, но и весьма своеобразный рисунок, украшающий серебряное блюдо, найденное в 1951 г. вдали от Хорезма и Средней Азии, у д. Бартым в Пермской области (рис. 85, 2). Ю. А. Рапопорт, специально изучавший это блюдо, убедительно показал, что на нем изображен оссуарий, стоящий на троне с ножками в виде львов, причем оссуарий одного из тех типов, которые были распространены именно в Хорезме. Роспись, украшавшая крышку ток-калинского оссуария, совершенно аналогичная верхушке оссуария, изображенного на бартымском блюде, еще раз подтверждает вывод о среднеазиатском происхождении этого блюда (этот вывод был сделан еще О. Н. Бадером и А. П. Смирновым при первой публикации бартымской находки) и о хорезмийском характере изображенного на блюде оссуария (как это доказывал Ю. А. Рапопорт).

Рис. 85. 1 — крышка оссуария с росписью (Ток-кала); 2 — изображение оссуария на блюде из Бартыма; 3–4 — хорезмийские оссуарии VII–VIII вв.
Утверждение о среднеазиатском (или даже более узко — хорезмийском) происхождении найденного в далеком Закамье серебряного сосуда не удивляет никого из археологов, так как это не первая и, вероятно, не последняя находка такого рода: сейчас известно уже более десятка среднеазиатских (хорезмийских и согдийских) металлических изделий, найденных в степных и лесных районах Восточной Европы, где нередки также находки хорезмийских монет, причем на многих изделиях были высечены или процарапаны согдийские и хорезмийские надписи. Характерно, что даже на одном из византийских блюд, найденном в Прикамье, обнаружена бухарская надпись; это блюдо, как и многие другие, прежде чем попасть в Приуралье, побывало в Средней Азии. Эти археологические «свидетельства», равно как и сообщения письменных источников, согласно говорят о той торговле, которую вела в VI–VIII вв. Средняя Азия, и в первую очередь ее северо-западный форпост Хорезм, с богатыми пушниной приуральскими племенами. Эти данные подтверждают также сведения о тех постоянных торговых путях, которые шли в то время из Средней Азии, через Хорезм, в степи и леса Восточной Европы (эти пути функционировали и позднее, в период развитого средневековья). Раскопки некрополя Ток-калы, давшие нам первые известные в науке оссуарии с росписями, обогатили, таким образом, наши представления о погребальных обычаях и обрядах, об искусстве и торговых связях древнего Хорезма. Однако значение раскопок некрополя на Ток-кале этим не ограничивается, так как благодаря именно этим раскопкам был открыт второй «архив» древнего Хорезма. Хорезмийский язык и хорезмийская письменность ко времени находок на Ток-кале были представлены, казалось бы, весьма широким кругом памятников. Еще четверть века назад С. П. Толстов, сравнив легенды хорезмийских монет с надписями на найденных в Приуралье серебряных сосудах, показал, что шесть из них были хорезмийскими. К этим памятникам письменности древнего Хорезма позднее прибавились, как мы знаем, списки и описи из хозяйственного архива хорезмийских царей в Топрак-кале, а также короткие надписи на отдельных фрагментах керамики, найденные на Кой-Крылган-кале и других городищах и замках древнего Хорезма. Самыми последними и, по-видимому, наиболее ценными из таких находок были два документа (на коже и на дереве) из раскопок Е. Е. Неразик в замке VIII в. Якке-Парсан. Однако надписи на монетах и на керамике были слишком лаконичны, чтение надписей на «закамском серебре» трудно и во многом спорно, а о документах из Якке-Парсана сам С. П. Толстов писал, что их дешифровка — «дело будущего». Топрак-калинские же документы, дав в руки исследователей многие ценнейшие данные, в силу своей специфичности оказались бедны и по своему словарному составу, и по грамматике: в них, например, почти совершенно отсутствуют глаголы. Обогатив современную иранистику невиданным ранее обилием надписей, Топрак-кала в то же время дала лишь 19 из 22 букв арамейского алфавита. Понятно, что находки на Ток-кале нескольких целых оссуариев и более 40 оссуарных обломков, содержащих в отличие от топрак-калинских документов связные тексты, явились важным толчком к дальнейшим исследованиям. Отметим, что надписи из Ток-калы позволили В. А. Лившицу и С. П. Толстову, приступившим к их изучению, значительно расширить паши знания словарного запаса и грамматических форм хорезмийского языка. Эти надписи позволили также осветить интересный вопрос об основных закономерностях развития хорезмийского письма за многовековой период — от времени составления топрак-калинских текстов (III — начало IV в.) вплоть до арабского завоевания VII–VIII вв., ко времени которого относится могильник на Ток-кале. Так изучение палеографии ток-калинских надписей показало своеобразие хорезмийской письменности, которая в отличие от других основанных на арамейском алфавите письменностей Ирана и Средней Азии в течение столетий сохраняла «архаический» характер, т. е. претерпела гораздо меньше изменений, чем все остальные письменности арамейского происхождения. Таким образом, в письменности, как и в изобразительном искусстве, в окруженном пустынями Хорезме «даже заимствованные извне черты обнаруживали особую живучесть». Это своеобразие древнего Хорезма, подмеченное В. В. Бартольдом еще до начала широких археологических работ в Средней Азии, по мере их разворота получает, следовательно, все новые и новые подтверждения. Возможно, что еще одним подтверждением правоты этого замечательного исследователя служит и летосчисление, применявшееся в Хорезме в течение по крайней мере полутысячелетнего периода. Но, прежде чем говорить о загадочном хорезмийском летосчислении, рассмотрим тексты ток-калинских надписей. Все ток-калинские надписи — это «надгробные тексты», составленные в связи с кончиной и захоронением в оссуарий того или иного жителя небольшого поселения на Ток-кале. Содержание их довольно однотипно и отличается лишь отдельными деталями и, конечно, именами умерших (и датой их погребения или смерти). Вот как звучит одна из таких эпитафий в переводе В. А. Лившица и С. П. Толстова: «Этот оссуарий [содержит] тело Вахун-така. Душа [его пусть будет препровождена в прекрасный рай]». А вот на другом костехранилище: «Этот оссуарий женщины (?) Шахак, [дочери]… ва. Пусть [душа ее отправится] из полного опасностей [мира] в [мир безопасный?]». В этих надписях нет дат, но в других обозначается год, а иногда также месяц и день. Таковы, например, надписи «Год 738. Этот оссуарий Вазасвадипа (?). [Пусть] в прекрасный рай [будет препровождена его] праведная душа». Или «Год 690, месяц мири, день ахумен. Этот оссуарии [содержит] тело Арваздв…на, сына Хравардика». Датированные надписи (а их на Ток-кале около двадцати) позволяют лучше изучить хорезмийский календарь и связанные с ним религиозные представления: месяцы и дни часто носят имя того или иного божества. Позволяют они также вновь коснуться вопроса о хорезмийском летосчислении. Археологическая датировка могильника на Ток-кале, устанавливаемая на основании керамики и монет, указывает, что эра, по которой датированы надписи на ток-калинских оссуариях, — это та самая эра, с которой мы уже встречались, рассматривая архив из Топрак-калы. По ней же, как это ныне удалось установить, датированы и некоторые надписи на серебряных чашах, найденных в Приуралье. Великий средневековый ученый-энциклопедист, уроженец Хорезма Бируни, трудам которого современная наука обязана многими ценнейшими сведениями в самых разных областях знаний, писал о существовавшей в древнем Хорезме системе летосчисления — «эре Африга». Эта эра, названная по имени хорезмийского царя начала IV в., должна была, как предполагали, начинаться примерно тогда, когда был заброшен дворец в Топрак-кале: Афригу, по Бируни, приписывалось возведение новой резиденции в г. Кят; эта резиденция была уже в средние века начисто смыта Аму-Дарьей, коварной и своенравной кормилицей Хорезма. Сопоставив сведения Бируни с данными, полученными в Топрак-кале, С. П. Толстов предположил, что «эра Африга» сменила старую, иноземную по его мнению, эру топрак-калинских документов, которую он отождествлял с кушанской «эрой Канишки» и также применявшейся в Кушанской державе «сакской эрой», начинавшейся в 78 г. н. э. Как мы уже говорили, отождествление «эры Канишки» и «сакской эры» весьма спорно. Не доказана еще и идентичность таинственной эры топрак-калинских документов с какой-либо из этих эр. Но, как показали находки на Ток-кале, эта загадочная эра была признана в хронологической системе Хорезма и после разрушения Топрак-калы и отнюдь не вытеснена какой-либо иной эрой. Ныне можно также считать установленным, что началом этой хорезмийской эры была какая-то дата I в. н. э, так как надписи Ток-калы, датированные 658–753 гг. этой эры, по археологическим данным, относятся к VII–VIII вв., а возможно, и началу IX в. н. э. В результате находок на Ток-кале ясный, как казалось ранее, вопрос об «эре Африга» ныне остается открытым. Что же касается устанавливаемой по истинным хорезмийским надписям эры, то, если она действительно окажется тождественной с кушанской «сакской эрой», ее многовековое применение в Хорезме будет еще одним ярким штрихом в характеристике своеобразного пути развития этой древней культурной области Средней Азии.
Глава VII
«Финикияне Средней Азии»

Культурная деятельность [согдийцев]…вдоль караванных путей Средней Азии мало уступает культурной деятельности финикиян вдоль путей морской торговли.В клинописных надписях ахеменидских царей и священных текстах «Авесты», в рассказах соратников Александра Македонского и отчетах китайских лазутчиков, в древнетюркских надгробиях и сочинениях ученых Арабского халифата постоянно упоминается центральная область среднеазиатского междуречья — Сугуда, Согд или Согдиана. Это страна, которая была родиной Апамы, почитаемой во всей Азии царицы, дочери Спитамена, жены Селевка и матери Антиоха I, страна, где, по словам китайских источников, жили искусные земледельцы и ремесленники, отважные и предприимчивые купцы, замечательные музыканты и танцоры, — цветущая и богатая страна, жители которой, по сообщениям авторов раннего средневековья, отличались не только споим трудолюбием, но и завидной отвагой. Древнейшая история этой прославленной среднеазиатской области и ее знаменитой столицы — Самарканда (Мараканды античных источников) изучена еще слабо, хотя отдельные эпизоды ее нам более или менее известны (о них речь у нас уже шла). Роль согдийцев на международной арене особенно возросла, вероятно, в поздне- и послекушанское время, когда в их руки фактически перешел весь восточный участок Великого Шелкового пути — от Мерва до Дуньхуана (небольшого городка близ западной оконечности Китайской стены). Из последнего до нас дошли найденные А. Стейном в одной из замурованных древних сторожевых башен знаменитые согдийские «старые письма». Эти письма, относящиеся к началу IV в. н. э., содержат, в частности, переписку между молодой согдийской женщиной из Друапа (так по-согдийски назывался Дуньхуан) и ее матерью, живущей в Самарканде. «Старые письма» живо передают и политическую обстановку в Восточном Туркестане, и быт согдийских колонистов, расселившихся вдоль древних торговых путей, и личные переживания молодой женщины, сначала ненавидящей своего опекуна — купца, а затем тяжело страдающей в разлуке с ним. Накануне арабского завоевания и в первые столетия после него согдийцы — это поистине «финикияне Средней Азии». Их язык в это время — общепризнанный язык международных общений на широчайших просторах от Мерва до Монголии и от Хорезма до Северной Индии. В Мерве, например, среди найденных надписей на глиняных черепках встречена согдийская учебная надпись (из письменных источников известно и о существовании в Мерве согдийского базара). В Монголии, в столице уйгурского государства Карабалгасуне (на р. Орхон), текст, высеченный по приказу хана на величественной стеле, был выполнен помимо уйгурского также на китайском и согдийском языках. Причем, если китайская надпись могла быть невольной данью грозной мощи южного соседа уйгуров, то согдийскую нельзя рассматривать иначе как добровольное признание культурной значимости этого небольшого среднеазиатского народа, не только слабого в военном отношении, но даже потерявшего свою политическую независимость: ко времени составления карабалгасунской надписи Согд прочно вошел в состав Арабского халифата. В тот же период согдийские надписи засвидетельствованы на некоторых типах монет Хорезма и Северного Тохаристана (правобережной Бактрии), а в Северной Индии, в Ладаке, до сих пор сохранилась наскальная надпись, высеченная по-согдийски самаркандским купцом, направлявшимся к тибетскому государю. Для VII–VIII вв. можно говорить о постоянных поселениях и колониях согдийцев в Семиречье и Восточном Туркестане, Монголии и Северном Китае (в Ордосе). В династийных хрониках того времени постоянно упоминались также многие согдийцы — религиозные проповедники, удачливые политические авантюристы, живописцы, музыканты и танцоры, деятельность которых протекала на территории современного Китая. От согдийской письменности ведет свое происхождение уйгурский алфавит, который в свою очередь составил основу монгольского и маньчжурского письма (уже одно это, если даже не говорить о вкладе согдийцев в материальную культуру и искусство ряда народов Востока, достаточно ярко свидетельствует об их большом культурном значении в жизни Центральной и Восточной Азии и полностью подтверждает высокую оценку их деятельности, данную В. В. Бартольдом). Согдийские влияния заметны и на далеком Западе, хотя на их пути туда непреодолимой, казалось бы, стеной лежало Сасанидское (Новоперсидское) царство. Насколько сасанидские цари Ирана препятствовали торговой (и, вероятно, культурной) деятельности согдийцев на западе, ясно видно из сообщений византийского автора Менандра о событиях 60-х годов VI в. В эти годы согдийцы дважды пытались завязать регулярные торговые и культурные связи с центральными областями Ирана. Уже первое посольство из Средней Азии во главе с согдийцем Маниахом было принято при дворе сасанидского царя крайне недоброжелательно: привезенные согдийскими купцами шелка были куплены, но затем их демонстративно сожгли в присутствии послов. Последним после этого, конечно, ничего не оставалось как вернуться на родину. Еще печальнее закончилась вторая попытка: царь Ирана приказал отравить послов. Сасанидским властям не удалось, однако, полностью преградить согдийцам дорогу на запад. Из сообщений того же Менандра известно, что согдийские посланцы, воспользовавшись древними степными путями, идущими в обход Прана по северному берегу Каспия, установили непосредственный контакт с Византией. Среднеазиатское посольство, возглавленное все тем же Маниахом, прибыло прямо в Константинополь. В ответ на это в 568 г. византийский император отправил своего посла в Семиречье в ставку тюркского кагана (в то время среднеазиатские области признавали свою вассальную зависимость от кочевого древнетюркского каганата). Вслед за этим много лет между Средней Азией и Византией осуществлялся весьма оживленный обмен посольствами и караванами. Вещественными свидетельствами этих связей служат неоднократные находки в Средней Азии и непосредственно в Согде византийских монет и отдельных предметов, равно как и выявление в западноевропейских хранилищах согдийских шелковых тканей, иногда даже с согдийскими надписями. Сказанного достаточно, чтобы понять роль согдийцев в жизни древней и раннесредневековой Средней Азии и их большое культурное значение в истории того времени. А между тем вплоть до начала 30-х годов нашего столетия в Средней Азии, на родине этого замечательного народа, о согдийцах, казалось, не осталось никаких воспоминаний. Здесь не было известно ни согдийских документов (ни даже кратких надписей), ни памятников их искусства и культуры или хотя бы предметов их быта. Трудно предполагать, что согдийцы, оставившие глубокий след в истории и культуре многих народов, не создали ничего значительного у себя на родине, в Согде. Вернее было считать, что их памятники здесь еще не открыты. Что же касается забвения их нынешним населением центральной части среднеазиатского междуречья, то его легко объяснить тем, что, пройдя через сложные политические события арабского завоевания VII–VIII вв. и последующих периодов среднеазиатского средневековья, древние народы Средней Азии влились в состав таджикского, туркменского, узбекского и других современных среднеазиатских народов; при этом у них изменились многие черты культуры, религия и даже язык. И только в глубинном районе горных верховьев Зеравшана — в Кухистане (в центральной части современной Таджикской ССР, к северу от г. Душанбе), в неприступном ущелье р. Ягноб сохранился небольшой горный народ, который, как это выяснили иранисты-языковеды, донес до наших дней своеобразный язык — непосредственный преемник языка древнего Согда. Недостаточная изученность согдийской культуры и искусства бросалась в глаза. Победа революции в Средней Азии привела к небывалому культурному развитию и росту национального самосознания и, как следствие этого, — к росту интереса местных жителей к историческому прошлому своей страны и своего народа. Отношение к истории и археологии отныне было уже далеко не таким, как во времена открытия Аму-дарьинского клада. В этих новых условиях любые интересные находки непременно привлекали к себе внимание. Не остались без внимания и случайные находки в затерянных среди гор Верхнего Зеравшана, в Кухистане («стране гор») руинах древнего замка. Эти находки, послужившие первым толчком к «прорыву» нашей науки в ранее неведомую область — культуру и искусство исконных земель древних согдийцев, ныне получили всемирную известность как «открытия в замке на горе Муг».В. В. Бартольд
Горный замок князя Диваштича
В апреле 1933 г. в штабе советского востоковедения — Институте народов Азии Академии наук СССР (в то время он назывался Институтом востоковедения) стало известно о находке первой в Средней Азии рукописи на согдийском языке. Фотографию этой рукописи привез нашему крупнейшему иранисту, профессору (ныне члену-корреспонденту АН СССР) А. А. Фрейману А. И. Васильев, ученый секретарь Таджикской базы Академии наук СССР. Он же рассказал ленинградским востоковедам об обстоятельствах этой ценной находки. Рукопись, представлявшая собой лист шелковистой бумаги с 23 строчками текста, была найдена в Кухистане на вершине черно-зеленой, лишенной растительности горы, мрачно высящейся над ущельем Зеравшана в 3 км от небольшого таджикского сел. Хайрабад. История открытия рукописи такова. Весной 1932 г., т. е. за год до появления в Институте востоковедения сенсационной фотографии, таджик пастух Джур-Али Махмад-Али из сел. Хайрабад замешкался со своим стадом на вершине той самой мрачной горы, о которой мы уже упоминали, и вынужден был там заночевать. Место, где его застигла темнота, пользовалось у местных жителей недоброй славой. Молва связывала его с домусульманскимн жрецами — магами («мугами»), которым приписывались колдовские чары. Иметь же дело с местами, где обитали наделенные злой силой «муги», считалось небезопасным. Понятно, что ночлег на вершине Кухи-Муг («горы Муг») отнюдь не обрадовал Джур-Али Махмад-Али. Но делать было нечего, и пастух стал готовиться к ночевке. На ровной скалистой вершине горы Муг единственной защитой от ветра был невысокий землистый холм. У его подножия хайрабадский чабан развел костер. II вот тогда-то не то коза, примостившаяся на бугре над костром, зацепилась за какой-то сверток, не то сам пастух обратил внимание на странный предмет, торчащий из земли на склоне холма, — только в руках у Джур-Али Махмад-Али оказался документ с непонятными надписями. Прочесть этот документ не смогли ни в родном кишлаке чабана — Хайрабаде, ни в крупнейшем в округе сел. Урмитан, ни в районном центре Варзи-Минор (позднее Захматабад, ныне Айни). В конце концов секретарь Варзиминорского райкома партии Абдулхамид Пулоти привез эту таинственную находку в столицу Таджикистана, где востоковед С. И. Климчицкий впервые высказал предположение, что это согдийский документ. Такая же мысль мелькнула у А. М. Беленнцкого, нынешнего руководителя Таджикской археологической экспедиции. Вот тогда-то этот документ был сфотографирован, с тем чтобы его фотокопии можно было передать всем ведущим специалистам-востоковедам. Одну из таких фотокопий и положил на стол перед А. А. Фрейма ном в апреле 1933 г. А. И. Васильев, приведя тем самым в смятение весь Институт востоковедения в Ленинграде. В июне того же 1933 г. А. А. Фреймам был уже в столице Таджикистана и с радостным трепетом вглядывался в текст первого происходящего из коренных согдийских земель согдийского документа. Археологов-профессионалов в Таджикистане в то время еще не было. По интерес к горе Муг был столь велик, что откладывать дальнейшие исследования оказалось неразумно: из Кухистана приходили вести о том, что к этой горе началось буквально паломничество ответственных (и безответственных) лиц, готовых собственными силами продолжить раскопки загадочных развалин. Поэтому, несмотря на наступление осенней непогоды, руководящие органы Таджикистана направили в Кухистан экспедицию во главе с Л. Л. Фрайманом. 31 октября небольшая экспедиция (помимо Л. А. Фреймана в нес вошли известный нам А. И. Васильев, успевший уже побывать на горе Муг, и сотрудник Таджикской базы В. А. Воробьев) тронулась в путь. До Самарканда доехали по железной дороге, далее же отправились на арбе. Сейчас, когда древнюю столицу Согда и лежащий в 60 км к востоку от нее небольшой районный центр Таджикской ССР — г. Пенджикент связывает широкая лента асфальтированного автошоссе, по которому регулярно, несколько раз в день, курсируют рейсовые автобусы, трудно даже поверить, что совсем недавно, еще во время войны, здесь шла лишь захудалая колесная дорога, основным видом транспорта была арба, и поездка занимала не полтора часа, а более полутора суток. Однако колесная трасса из Самарканда в Пенджикент, по которой ехали на арбе осенью 1933 г. А. А. Фрейман и его сотрудники, была еще верхом совершенства по сравнению с тем, что ждало их к востоку от Пенджикента. Ныне и здесь, в горных верховьях Зеравшана, вдоль берега этой почитаемой согдийской реки проложена хорошая автострада, ведущая с запада на восток в самое сердце Кухистана, к Айни, где она соединяется с автодорогой Душанбе — Ленинабад, пересекающей «страну гор» с юга на север. Но тридцать лет назад вскоре за Пенджикентом (у нынешнего сел. Дашты-Козы) кончался даже колесный путь: дальше шла узкая горная тропа, по которой можно было пробираться только пешком или верхом на лошади (или осле). Отдельные участки этой тропы шли по оврингам — страшным навесным дорогам. По такой тропе и пришлось ехать экспедиции А. А. Фреймана. Сам А. А. Фрейман, известный всему научному миру как кабинетный ученый, стоически перенес все тяготы пути. Экспедиция работала недолго: 23 ноября, «уже под снегом и дождем», как записал А. А. Фрейман, опа отправилась в обратный путь. Однако именно эти пятнадцать дней тяжелых и напряженных работ и были настоящим научным открытием замка на горе Муг. Методика раскопок замка на горе Муг сейчас может быть названа несовершенной. Но находки экспедиции А. А. Фреймана превзошли по своей научной значимости всякие ожидания. Не говоря уже о том, что в результате этих работ были открыты остатки небольшой замковой постройки (позднее, в 1946 г., ее исследование было продолжено и завершено Таджикской археологической экспедицией А. Ю. Якубовского), экспедиция вывезла с горы Муг около четырехсот предметов быта и культуры и 76 рукописных документов (74 согдийских, один арабский и один древнетюркский) на коже, бумаге и деревянных палках. Это была первая большая (полученная к тому же во время целенаправленных, произведенных учеными, раскопок) коллекция памятников культуры древнего Согда и древней, домусульманской Средней Азии вообще. Это был первый несомненный согдийский архив (найденные ранее в Восточном Туркестане документы считались согдийскими только предположительно; их окончательное определение стало возможно именно после находок в замке на горе Муг, на исконных согдийских землях). Первый краеугольный камень наших знаний о древнем Согде был заложен. Что же представлял собой замок на горе Муг и какова была его история? Говоря о ночлеге чабана Джур-Али Махмад-Али на голой вершине горы Муг, мы уже отмечали там небольшой землистый холм. Этот холм образовали засыпанные рухнувшей кровлей и верхними частями стен, овеянные ветрами, замытые дождем и снегом и превратившиеся в конце концов в простой бугор жалкие остатки былого укрепления. В результате работ экспедиции А. А. Фреймана и последующих раскопок 1946 г. в этом землистом бугре четко выявились нижние части степ и вся планировка древней постройки: пять параллельных, вытянутых с юга на север узких сводчатых комнат, соединенных на севере четырьмя арочными проходами. Выяснилось, что это здание составляло лишь основную постройку небольшого горного замка: к зданию примыкал двор, окруженный, очевидно, крепостной стеной. Все укрепление располагалось на мысу: с севера и с запада этот горный мыс омывает Зеравшан, с востока — речка Кум, впадающая в него. В целом все это небольшое укрепление отнюдь не производит впечатления сильной ключевой крепости. Через гору Муг не проходит (и, вероятно, никогда не проходила) никакая важная трасса. Единственная, по-видимому, тропа, по которой можно было попасть сюда, вела с юга, по ущелью речки Кум; эта тропа была не более чем ответвлением караванной дороги, идущей через сел. Кум, лежащее на 6–8 км южнее. Замок на горе Муг мог быть всего лишь одним из звеньев цепи горных наблюдательных укреплений, окружавших сел. Кум, близ которого и поныне высятся грозные руины крупной крепости.
Рис. 86. Плетеная сетка для волос с горы Муг
Между тем экспедиция 1933 г. нашла здесь настоящие научные сокровища. Среди многочисленных бытовых находок из замка на горе Муг были образцы китайских и согдийских шелковых тканей и плетеные кружевные сетки для волос (рис. 86); деревянные изделия, такие, как деталь ткацкого станка, поварешка и части какой-то обтянутой кожей шкатулки; мягкий кожаный сапог и часть также кожаного фартука с отпечатками некогда нашитых на него металлических пластин; отдельная пластина от такого защитного доспеха и бляхи от пояса; деревянные и камышовые, покрытые яркой раскраской древки стрел и маленький изогнутый ножик виноградаря; обломки китайской лаковой посуды, грубые лепные глиняные котлы и верхняя часть миниатюрного стеклянного флакона. Научное значение многих из этих находок особенно велико, так как ни в Пенджикенте, ни в других раскапываемых археологами в Средней Азии согдийских поселениях не сохранились (из-за более влажного, чем на горе Муг, климата) ни ткани, ни деревянные изделия. Еще большую научную ценность имели находки в замке на горе Муг согдийских монет, давших первый толчок к изучению нумизматики Согда VII–VIII вв., и части деревянного, обтянутого кожей, парадного щита с красочным изображением всадника (рис. 87) — первого найденного памятника древней, до-мусульманской живописи Средней Азии вообще (вспомним, что в то время науке не были еще известны ни стенные росписи, ни глиняная скульптура).

Рис. 87. Парадный деревянный щит с горы Муг (верх и низ обрублены)
Но самую громкую, всемирную известность принесли горе Муг все-таки памятники письменности, те самые 76 рукописных документов, о которых мы уже говорили выше. Большая их часть (согдийские тексты) была, правда, дешифрована лишь в самые последние годы, четверть века после того, как они были найдены. Но один из мугских документов, написанный по-арабски, был прочитан уже в 1934 г. И именно он раскрыл загадку небольшого горного замка на горе Муг и рассказал о существовании крупного, неведомого ранее, согдийского княжества. Эта мастерская дешифровка изъеденного червями и временем арабского документа была осуществлена акад. И. Ю. Крачковским, замечательным арабистом, имя которого известно далеко за пределами СССР. В своей книге «Над арабскими рукописями», чудесном гимне трудолюбию в науке и верному служению ей, И. Ю. Крачковский посвятил арабскому документу с горы Муг специальный раздел, где подробно и увлекательно рассказал о ходе исследования и о научном значении этого «письма из Согдианы». «Смятый, слежавшийся в земле за двенадцать веков кусочек кожи, — писал он, — не мог скрыть своих тайн от острого анализа палеографа, не мог отмалчиваться при очной ставке с историком». «Письмо из Согдианы, — писал он далее, — оказалось не только выдающимся, исключительным памятником арабской палеографии, но и первостепенным историческим источником». И действительно, именно этот документ, будучи умело сопоставлен со всеми известными науке сведениями арабских авторов о ходе завоевания Средней Азии, послужил первым шагом к разгадке того сложного клубка событий, которые были связаны с мугским замком и его сокровищами. Как это установил И. 10, Крачковский, «письмо из Согдианы» было действительно письмом, адресованным одному из видных арабских военачальников — эмиру ал-Джарраху, сыну Абдаллаха, занимавшему пост наместника халифа на Востоке (в Хорасане) с конца 717 по апрель 719 г. Автором же его был некий Дивасти, вернее Диваштич, который, как оказалось, был владетелем Пенджикента, самого восточного из согдийских княжеств в долине Зеравшана. Выяснилось, что в 722–723 гг. Диваштич возглавлял антиарабское движение согдийцев. Не имея достаточных сил для немедленной вооруженной борьбы с арабами, Диваштич, по сообщению одного из авторов конца VIII — первой половины IX в. ал-Мадаини, покинул со ста семьями (вероятно, знатными) свой удельный город Пенджикент и направился в горы. Здесь, возле сел. Кум, пенджикентцев настиг отряд арабов и верных им местных среднеазиатских воинов (в частности, из Бухары и Хорезма). В открытом бою (по-видимому, на том небольшом плато, где ныне лежат поля и сады современного сел. Кум, преемника согдийского поселка) пенджикентцы были разбиты и оттеснены в крепость Абаргар, находившуюся, по данным Мадаини, в 6–8 км от селения, на мысу, с трех сторон омываемом «рекой Согда» (т. е. Зеравшаном). И расстояние, указанное Мадаини, и топографическая особенность крепости, с трех сторон окруженной водой (правда, не одним Зеравшаном, но еще и речкой Кум), позволяют отождествить «крепость Абаргар» с «замком на горе Муг» и, таким образом, видеть в этом замке последнее убежище мятежных пенджикентцев и их князя. Выяснилось также, что после того, как арабы осадили замок, Диваштич сдался на милость победителя (нимало не беспокоясь, между прочим, о судьбе ста семей своих последователей). Пенджикентский владетель был послан к новому арабскому наместнику, Саиду ал-Хараши, который, по словам Мадаини, сначала «притворно принял его ласково и с почетом», а затем приказал распять мятежного согдийского князя на погребальном склепе-наусе. Между тем брошенные своим предводителем на произвол судьбы, запертые в небольшом замке на уединенной горе пенджикентцы также вступили в переговоры с арабским военачальником. По словам Мадаини, они просили мира и обещали сдать замок при условии, что победители «не причинят вреда ста семьям их с женами и сыновьями». Вскоре мир был заключен, причем сообщается о том, что имущество побежденных было продано с аукциона, а деньги поделены между арабским военачальником и его воинами. О том же, что сталось со злополучными семьями ста пенджикентцев, арабский историк, к сожалению, умалчивает. Выяснилось также, что владетель Пепджикента Диваштич на политической арене первой четверти VIII в. был одной из видных фигур. Он даже одно время претендовал на трон «великого князя» Согда — самаркандского государя, а его казнь стоила Саиду ал-Хараши поста наместника: по данным одного из источников, последний был смещен именно за свой неблаговидный поступок со сдавшимся арабам пенджикентским князем. Так вдруг, благодаря замечательным открытиям на горе Муг и блестящей эрудиции акад. И. Ю. Крачковского, нам стала известна еще одна страничка истории Средней Азии — эпизод из истории арабских завоеваний в Согде конца первой четверти VIII в. Мало того, впервые в науке прозвучало не только имя Диваштича, одного из активных участников событий того времени, но и название владения этого политического деятеля — княжества Панча (Пепджикентского), неведомого ранее согдийского удела. Последующая дешифровка А. А. Фрейманом, В. А. Лившицем, О. И. Смирновой и М. И. Боголюбовым «согдийских документов с горы Муг»позволяет во многом уточнить наши представления о языке, хозяйстве, правовых отношениях, а отчасти и политической обстановке в Согде конца VII–VIII вв.

Рис. 88. Мугский документ об аренде мельницы
Вот как, например, предстает перед нами сдача в аренду Диваштичем водяных мельниц некоему Махиану, засвидетельствованная специальным документом, составленном на куске кожи и опечатанном глиняной печатью (рис. 88). Этот «договор» (в переводе В. А. Лившица) звучит так: «Этот год — когда согдийского царя, самаркандского государя Диваштича один год есть. Месяц жимтич, день апвах. И получил Махиан, сын Дапатшира, от царя Диваштича, сына Иодхшетака, в [местности] Тутп-скат(?) три мельницы со всеми каналами, строения [и] жернова, на таком условии: пусть имеет Махиан эти мельницы на срок одного года в аренде, и пусть Махиан отдает в [течение] одного года царю Диваштичу с этих трех мельниц в качестве арендной платы за один год 460 кафчей (т. о. около 3 680 кг) муки выверенными (?) кафчами. И ее [муку] каждый месяц, согласно договоренности, пусть он отдает. А если Махиан это условие не соблюдет, эту муку полностью не отдаст, то ложь и нарушение закона да будут на Махиане. И также если царь Диваштич поручит чиновнику государя [т. е. своему чиновнику] в соответствии с законом, чтобы он для царя ту муку полностью взыскал, то тогда за всю [муку] Махиан с сыновьями и со [всем его] родом пусть будет в ответе и [все] выплатит. И были здесь (т. е. при составлении договора в качестве свидетелей): Апвахиан, сын Аротфарича… сын Нанич [и] Иркай, сын Хватенч. Запечатан [этот] документ подлинной глиняной печатью. А написал [его] Сйамич (?), сын Тишича, по приказу Махиана». Не менее интересен и «брачный контракт» в 90 строк, самый большой по объему текст мугского собрания. Это документ на коже, составленный по случаю выдачи замуж владетелем Навеката (в Семиречье) Чером, сыном Вахзанака, некоей Дугдончи, дочери Вйуса. Этот Чер, опекун Дугдончи, к тому же бывший ранее ее мужем, выдаст ее за знатного тюрка Ут-тегина, тщательно оговаривая ее права на имущество и свободу. По договору, в случае развода Дугдонча получает обратно и приданое, и еще какую-то плату. Ут-тегин обязуется также не приближать к себе «без ведома любимой, почитаемой (видимо, главной) жены» Дугдончи никакую «другую жену, или служанку, или [другую] такого рода женщину», а в случае нарушения этого запрета обязуется уплатить Дугдонче 30 динарских драхм (сумму весьма внушительную) и затем отослать такую неугодную «главной жене» соперницу прочь. Оговаривается также, что в случае, если Ут-тегин за что-либо попадет в рабство или в зависимое положение, Дугдонча останется свободной и не будет нести ответственности за его преступления или прегрешения. Документ содержит также много других интересных деталей. Заключен этот контракт был в «Месте Законоположений» (было уже тогда в Согде и такое учреждение) «перед главой Вахгоканом, сыном Вархумана», в присутствии трех свидетелей в 10 год царя Тархуна, в месяц масвогич, в день асманроч, т. с. 25 марта 710 г. Интересно, что на документе имеется приписка, указывающая, что это экземпляр Дугдончи. Договор гарантировал права Дугдончи на многие годы; она, очевидно, тщательно хранила его более 10 лет, и лишь чрезвычайные обстоятельства принудили ее расстаться с этим столь важным для нее контрактом в недобрый час сдачи арабам последнего горного убежища мятежных пенджикентцев. Огромное научное значение имеют и письма Диваштича и его приближенных, в частности тот самый документ, который был найден на горе Муг первым, весной 1932 г., пастухом Джур-Али Махмад-Али, Этот документ ныне бесследно пропал. К счастью, в Государственном архиве Таджикской ССР удалось найти четкую фотокопию этого документа, оказавшегося написанным по-согдийски письмом известного арабского чиновника Абд ар-Рахмана ибн Субха «согдийскому царю, самаркандскому государю Диваштичу» с выговором за предпринятую пенджикентским князем попытку связаться с арабским эмиром непосредственно, не поставив в известность об этом его, Абд ар-Рахмана ибн Субха. Документы с горы Муг открыли перед нами, таким образом, многие картины жизни и быта древнего Согда. Для того же, чтобы получить о них еще более яркое представление, спустимся с вершины мрачной горы, нависшей над узким ущельем Зеравшана, вниз по реке, туда, где в 70 км западнее горы Муг и на столько же к востоку от Самарканда раскинулся, утопая в зелени садов и огородов, современный районный центр Таджикской ССР г. Пенджикент, донесший до наших дней древнее название стольного города самого восточного на Зеравшане, согдийского княжества, постоянной резиденции князя Диваштича.
Удельный согдийский город
Древний Пенджикент — так называется в научной литературе расположенное на южной окраине современного Пенджикента городище, остатки согдийского города V–VIII вв. Этому небольшому городу ныне посвящены сотни научных и популярных статей. Его название известно сейчас не только ученым, но и художникам, писателям, кинооператорам, учителям. И вряд ли найдется такой обобщающий труд по истории культуры и искусства Востока, вышедший в свет за последние 5—10 лет, где не было бы упоминания материалов из раскопок в Пенджикенте. А между тем еще в 1946 г., когда в Таджикистане развертывались широкие археологические раскопки, о существовании древнего Пенджикента знали лишь очень немногие, да и само название «Пенджикент» встречалось в работах наших историков, археологов и востоковедов чрезвычайно редко. Согдийский город Пенджикент (точнее, Панчакенд) был совершенно забыт, а его остатки — городище древнего Пенджикента — оставлены без внимания. Но вот появились «письмо из Согдианы» и вся коллекция документов с горы Муг, и домусульманский Пенджикент стал медленно выступать из забвения и неведения: на его городище дважды побывал известный советский археолог, один из первооткрывателей культуры древнего Согда, Г. В. Григорьев, местный археолог В. Р. Чейлытко начал на его территории раскопочпые работы, правда бессистемные, и — увы, мало результативные. Однако еще в 1946 г. многое в характеристике городища оставалось фактически неизвестным, и если бы не большой опыт и тонкое историческое чутье А. Ю. Якубовского, который после первого года широких разведочных работ из многочисленных городищ Таджикистана выбрал в качестве основного объекта раскопок возглавляемой им экспедиции именно это городище, кто знает, когда бы еще открылись перед нами широко известные сейчас памятники культуры и искусства древнего Пенджикента. Ранней весной 1945 г. в Москве собралось Всесоюзное археологическое совещание. На нем и было решено создать крупную экспедицию для всестороннего изучения территории Таджикистана, который к тому времени еще оставался «белым пятном» на археологической карте нашей страны. Руководить этой экспедицией было поручено А. Ю. Якубовскому. Год спустя, разбившись на три отряда, сотрудники экспедиции приступили к разведочным работам. Летом 1946 г. Верхнезеравшанский отряд, возглавляемый начальником экспедиции, впервые появился на тихих тенистых улицах Пенджикента. В этом отряде довелось работать и автору настоящих строк. Дорога, ведущая на юг, в селение Кош-тепе, привела отряд к источнику Кайнарсу, вытекавшему из-под горы, на вершине которой виднелся оплывший холм древней цитадели, а еще выше тянулась небольшая горная гряда. С трудом поднявшись на эту гряду, мы огляделись вокруг. На севере, за широким каналом Токсан-кариз, проходящим по самому краю первой зеравшанской террасы, расстилался сплошной зеленый массив садов, огородов и окрестных полей. Среди этого зеленого моря терялись не только отдельные пригородные дома-усадьбы, но и большинство построек современного города. Еще дальше к северу светлой, сверкающей на солнце, полосой извивался Зеравшан, а за ним грозной стеной вставали разноцветные голые скалистые громады Туркестанского хребта. Налево вдаль уходила выжженная желтая степь второй зеравшанской террасы, по которой на запад, в Самарканд, тянулась за горизонт лента автодороги. Направо же гряда за грядой вырастали горы Зеравшанского хребта, увенчанные покрытыми вечными снегами синими остроконечными пиками. И на фоне гор к востоку от цитадели, за извилистым оврагом, по которому проходит дорога на Кош-тепе, окруженное четким валом древних крепостных стен лежало пенджикентское городище. Отсюда, с высоты горного кряжа, была видна линия стен, ворота, выносные башни, какие-то высокие холмы, занимавшие всю территорию древнего города. К востоку от городских стен находились отдельные бугры — остатки загородных домов и усадеб, а южнее этого пригорода — несколько десятков мелких холмиков: пенджикентский некрополь (рис. 89).
Рис. 89. План городища древнего Пенджикента
Долго бродили мы в тот раз по выжженной солнцем земле древнего Пенджикента, собирая подъемный материал и радостно вскрикивая, когда вдруг (а случалось это, к сожалению, крайне редко) кто-нибудь из нас помимо черепков битой посуды приносил А. Ю. Якубовскому что-нибудь менее обычное: позеленевшую медную монету или же небольшую глиняную фигурку. II как сейчас помню ту зависть, которую вызвала у пас, студентов (да, думаю, что и пе у одних пас), находка архитектора В. Л. Ворониной, ныне доктора исторических наук, — часть глиняного сосуда с оттиснутым еще до обжига изображением изящной женской головки. И, чем дольше бродили мы по пенджикентскому городищу и чем больше становились наши сборы, тем увереннее А. Ю. Якубовский твердил нам, что здесь надо копать «широкими площадями», копать много лет. Относительная однотипность больших всхолмлений и почти полное отсутствие в собранном нами подъемном материале поливной (глазурованной) керамики, получившей! широкое распространение в Средней Азии в IX–X вв., убеждали А. Ю. Якубовского, что древний Пенджикент погиб в VIII в., в грозные годы арабского завоевания, жизнь в нем прекратилась быстро, а дома, разрушаясь и оплывая, постепенно превратились в схожие между собой крупные землистые холмы. Вопрос о раскопках древнего Пенджикента был решен, и в следующий полевой сезон, в 1947 г., работа закипела: раскопки забытого согдийского города начались. С тех пор каждый год встают из земли всё новые древние постройки — храмы, монументальные жилые дома городской знати и жилища бедноты, зачищаются улицы и переулки. И каждый полевой сезон приводит к открытию новых стенных росписей, скульптур, бытовых предметов. В 1953 г. умер А. Ю. Якубовский. Год спустя не стало его заместителя и преемника на посту начальника экспедиции М. М. Дьяконова. Но по-прежнему широким фронтом ведутся раскопки в Пенджикенте: дело, начатое А. Ю. Якубовским, продолжают его ученики во главе с А. М. Беленицким; все шире открываются перед ними картины жизни древнего Согда и все глубже познают они его быт, искусство, идеологию и культуру. Многочисленные группы экскурсантов посещают теперь городище древнего Пенджикента. Сюда приходят учащиеся пенджикентских школ и студенты педагогического техникума; колхозники, приезжающие в Пенджикент по своим делам из горных селений Кухистана; геологи и ботаники, сотрудники научных экспедиций в Зеравшанскую долину; туристы со всех концов Советского Союза, заворачивающие сюда после посещения Самарканда. Как мы видели, уже подъемный материал позволил А. Ю. Якубовскому отнести гибель древнего Пенджикента к VIII в. Начавшиеся здесь раскопки не только подтвердили такую датировку гибели города, но и показали, что его основной слой, отражающий расцвет древнего Пенджикента, относится к VII–VIII вв. Таким образом, и расцвет, и гибель древнего Пенджикента приходятся на бурный период арабских завоеваний, история которого отражена и арабскими авторами, и китайскими источниками, и древнетюркскими (так называемыми руническими) надгробными надписями. Ныне, как мы уже знаем, новые сведения о политических событиях того времени дают также письма, найденные на горе Мут. В свете всех этих данных центральная область среднеазиатского междуречья Согд предстает перед нами в VII–VIII вв. как сложный конгломерат отдельных владений, крупнейшее из которых — Самарканд признается, во всяком случае на словах, ведущим политическим центром: его правитель, своеобразный «великий князь» Согда, носит тот самый титул «согдийского царя, самаркандского государя», на который одно время претендовал Диваштич. Фактическое же владение этого удельного князя — Пенджикент (вернее, Панч) — было всего лишь рядовым и отнюдь не первостепенным согдийским княжеством. Во всяком случае ни китайские, ни древнетюркские источники о нем не сообщают абсолютно ничего, а арабские тексты, довольно красочно повествующие не только о многих перипетиях борьбы за Бухару и Самарканд, Фергану, Чач и Хорезм, но и о ходе военных кампаний в целом ряде мелких среднеазиатских княжеств, содержат лишь одно-единственное упоминание Пенджикента — эпизод борьбы с Диваштичем. Поэтому крупная роль пенджикентского князя в политических событиях первой четверти VIII в. пока остается неожиданной и плохо объяснимой. Более того, туманной остается пока и вся политическая история Пенджикентского княжества. Раскопки на цитадели древнего Пенджикента, произведенные в 1947 г. А. И. Тереножкиным, и многолетние работы в западной части пенджикентского городища Б. И. Маршака показали, что укрепленное поселение согдийцев возникло здесь примерно в конце V — начале VI в. Материалы раскопок и косвенные данные письменных источников позволяют также полагать, что в 20-х годах VII в. это поселение стало центром отдельного согдийского владения, история которого, таким образом, ко времени гибели Диваштича насчитывала уже целое столетие. Но о том, какими событиями было насыщено это столетие в жизни забытого согдийского владения, пока судить чрезвычайно трудно, тем более что два вида источников, которые могли бы в какой-то степени пролить свет на его историю, все еще слабо подкрепляют друг друга. Источники, о которых идет речь, — это сообщения Мадаини и мугских документов, с одной стороны, и данные бронзовых монет, выпускавшихся правителями Пенджикентского владения — с другой. Сведения Мадаини мы уже приводили. Из согдийских же документов с горы Муг можно заключить, что до Диваштича, управлявшего Пенджикентом в течение по крайней мере 14 лет (один из документов мугского собрания датирован 14-м годом его правления), здесь царствовал не менее полутора десятков лет некий Чыкин Чур Бильга, судя по имени тюрок (15-м годом его правления датирован «Договор о продаже земельного участка»). Зная, что правление Диваштича закончилось в 722–723 гг., мы должны относить его воцарение в Пенджикенте к 708–709 гг., а начало правления Чыкин Чур Бильги датировать 694–695 гг. Таковы те сведения, которые пока дают нам по политической истории Пенджикентского владения письменные источники. Рассмотрим теперь данные, которыми обогатила нас согдийская нумизматика, возникшая в результате находок на горе Муг и утвердившаяся как особый раздел нумизматики после раскопок древнего Пенджикента. (Ко времени находок на горе Муг во всех музеях мира насчитывалось едва ли более двух-трех десятков бронзовых монет, которые, как это стало ясно после обнаружения в мугском замке пяти аналогий им, выпускались в Согде в VII — первой половине VIII в. Ныне же собрание согдийских монет из Пенджикента приближается к полутора тысячам экземпляров). Пионер изучения этого нового раздела науки О. И. Смирнова среди многочисленных пенджикентских находок наряду с монетами самаркандских царей, имевшими хождение по всему Согду, выделила также 332 монеты владетелей Пенджикента. Это сходные с самаркандскими плоские бронзовые кружки с квадратным отверстием в центре: отверстия позволяли нанизывать монеты на веревочку или деревянный прутик. На одной стороне этих монет помещены родовые знаки — своеобразные гербы правящего рода. На обороте тонкой вязью тянется согдийская надпись. «Князь Панча» или «Господин, князь Панча», — так начинаются эти надписи. Далее же идут имена владетелей, выпускавших монеты. О. И. Смирнова выделила четыре типа пенджикентских монет (рис. 90). В надписях на наиболее раннем из них значится некий Амогйан; в двух других — какие-то женщины-царицы, в четвертом — владетель Бидйан. Последнего можно, по-видимому, сопоставить с Чыкин Чур Бильгой, если читать на монете букву «д» как «л» или, наоборот, «л» в мугском документе как «д». Монет «Бидйана» в Пенджикенте особенно много, что также можно легко объяснить длительностью его правления. Но почему же здесь нет монет с именем Диваштича? Вот в эту-то загадку и упирается ныне решение многих вопросов истории Пенджикента.

Рис. 90. Монеты пенджикентских владетелей
Не ясны еще также и причины гибели древнего Пенджикента. В первые годы работ Таджикской экспедиции, когда все наши знания об этом городе ограничивались знакомством с трагической судьбой Диваштича, считалось само собой разумеющимся, что центр Пенджикентского владения погиб вместе со своим князем. И, когда при раскопках первого на пенджикентском городище монументального здания были раскрыты следы сильного пожара, а в погребальных склепах-наусах — следы их ограбления и осквернения, то все это рассматривалось как результат разгрома, учиненного арабами, которые, расправившись с Диваштичем, уничтожили и его столицу. Но по мере того как росло число раскопанных помещений и увеличивались монетные находки, становилось все яснее, что конец древнего Пенджикента не был единовременной катастрофой, вызванной неудачей антиарабского выступления 722–723 гг. Группы, работавшие в разных раскопах, обнаружили, что на вскрываемых ими участках жизнь прекратилась отнюдь не в одно и то же время. Выяснилась весьма сложная картина: некоторые помещения и группы комнат оказывались заброшенными гораздо раньше соседних, в других раскрывались следы ремонтов и перестроек, а третьи были возведены на остатках разрушенных или заброшенных ранее. Изучение всех этих данных и анализ монетных и других находок позволил, наконец, говорить, что многие сооружения древнего Пенджикента действительно погибли скорее всего в 722–723 гг., но что наряду с этим в других сооружениях жизнь продолжалась и после событий, связанных с карательной экспедицией арабов против Диватитича, и прекратилась лишь в 770 г. или вскоре после этой даты (770-м годом датируются наиболее поздние монеты из основного слоя древнего Пенджикента). С какими конкретными политическими событиями связан этот последний удар, окончательно сокрушивший былую столицу Диваштича, еще не ясно. Из сообщений арабских авторов известно, что в 767–768 гг. в Хорасане вспыхнуло очередное антиарабское движение во главе с Устадом Сисом, охватившее также соседние области. Можно предполагать, что это движение перекинулось и в Согд и что древний Пенджикент погиб при подавлении его. Не менее вероятно, однако, и то, что окончательный разгром и гибель древнего Пенджикента могли быть связаны со знаменитым антиарабским и антифеодальным движением Муканны, начавшимся в 776 г. и охватившим все среднеазиатское междуречье и, в частности, Самарканд и верховья Кашка-Дарьи, т. е. районы, расположенные в непосредственной близости от Пенджикента. Известно, что арабские армии дважды совершали в то время крупные карательные операции в Согде и районе Самарканда — в 776 и 778 гг. В один из этих походов и мог быть уничтожен древний Пенджикент. Какое из всех этих предположений более правильно, покажут будущие исследования. Пока же отметим лишь, что, судя по наблюдениям, сделанным при раскопках, в покинутых зданиях погибшего города долгие годы находили себе приют какие-то люди. В первое время после гибели города, в самом конце VIII и начале IX в., они заселяли помещения, сохранившие сводчатые перекрытия. Местами эти помещения были еще достаточно высоки, но нередко их новые обитатели вынуждены уже были ходить пригнувшись, а то даже и просто проползать под низкими, грозившими обвалом сырцовыми потолками. Позднее, в IX, X и XI вв., отдельные люди разводили свои костры уже просто среди руин, под защитой полуразрушенных стен старых зданий. Еще позднее, в XV–XVI вв., цитадель древнего Пенджикента, господствовавшую над всей окружающей местностью, какой-то феодал облюбовал для своей ставки; от нее остались найденные при раскопках в 1947 г. следы от шатров и обломки богатой глиняной посуды. Но все эти случайные обитатели древнего Пенджикента не могли существенно изменить облик городища, и окончательно заброшенные остатки его зданий все более разрушались и оплывали, приобретая форму огромных холмов, в которых с большим трудом можно было угадать очертания древних построек. В таком, весьма еще не полном виде предстает сейчас перед нами история древнего Пенджикента и его городища, и, конечно, не эти обрывки истории одного из рядовых удельных центров Согда VII–VIII вв. принесли широкую мировую известность Пенджикенту и его исследователям. Древний Пенджикент ныне наиболее изученный город домусульманской Средней Азии; в результате почти двадцати лет регулярных раскопок раскрыта уже примерно пятая часть его территории. Это обстоятельство, имеющее огромное научное значение, не могут, понятно, не учитывать в своих работах все историки, археологи и востоковеды, занимающиеся изучением Средней Азии и близлежащих стран. Но даже эта, чисто научная, сторона раскопок древнего Пенджикента была бы не в состоянии привлечь к согдийскому городу внимание широких слоев общественности. Причина особого интереса к Пенджикенту объясняется, очевидно, теми замечательными открытиями памятников искусства, которые были здесь сделаны.
В древнем Пенджикенте
С высоты горной гряды, идущей почти точно с севера на юг по второй надпойменной террасе Зеравшана, видна как с птичьего полета общая панорама пенджикентского городища. На север от этой гряды, над источником Кайнар-су, расположен большой холм с высящейся на его вершине древней цитаделью. Окруженная мощной системой оборонительных крепостных стен, с большим внешним двором и глухим каре замковых построек, замыкавших внутренний дворик, с башней, попасть в которую можно было, по-видимому, лишь с помощью подъемной лестницы, цитадель древнего Пенджикента могла служить надежным убежищем семьи правителя как при нападении врага, так и в случае каких-либо волнений городских низов или мятежной знати. Раскопки, начатые здесь в 1947 г. А. И. Тереножкиным и давшие возможность судить об общем характере постройки, временно были прекращены (они возобновятся, вероятно, в ближайшие годы). За цитаделью лежит овраг, отделяющий ее от собственно городской территории. Склоны оврага и близлежащие холмы выжжены солнцем и неприветливы. Так же безрадостны были они, видимо, и во времена Диваштича. Но слева от дороги, по верху оврага высились тогда мощные городские стены, ныне превратившиеся в валы, а за ними тянулись к небу большие, часто многоэтажные, здания. В полукилометре от источника Кайнар-су расположены главные городские ворота в южной крепостной стене. Перед ними — древний ров и предвратный лабиринт, а по ту сторону ворот — территория собственно города, «шахристана», как называют такую центральную часть среднеазиатского города вслед за письменными источниками современные исследователи. Сейчас здесь вздымаются большие и высокие холмы. На некоторых из них ведутся раскопки, и видны многочисленные вскрытые помещения и отвалы выброшенной земли. Другие все еще хранят в своих глубинах остатки былых домов. Между холмами, сначала на восток, а затем на север тянется ложбина — древняя городская улица, идущая от главных ворот к центральной площади Пенджикента. Возле этой площади, расположенной в северо-восточной четверти городища, группировались наиболее богатые постройки: храмы, кварталы жилищ знати, а возможно, и административные здания. Здесь же, вплотную к этим монументальным сооружениям, примостились жалкие постройки городских низов: мастерские, лавки и небольшие бедные жилища. Здесь, вокруг центральной городской площади, ведутся наиболее интенсивные раскопки, и в рабочее время она напоминает картину большой стройки; бульдозер, передвигающий отвалы — горы выброшенной из раскопов земли; ленточные транспортеры, отбрасывающие землю из раскапываемых помещений; самосвалы, снующие по городищу; многочисленные сотрудники и рабочие с лопатами и кетменями, теодолитом и рулетками, чертежными досками и дневниками, ножами, кисточками. Сейчас фронт работ передвинулся уже к югу и юго-востоку от площади. Сначала же раскопки велись к западу от нее, там, где в 1947 г. А. М. Беленицкий начал исследовать большой подковообразный холм, оказавшийся центральной частью храмового комплекса. К северу от него высился еще один, похожий на подкову, холм, который, как выяснилось при раскопках, также некогда был храмом. Оба храма были сходны по планировке и общему виду. Остатки же их, к счастью для археологов, чудесно дополнили друг друга. Один из храмов погиб в огне большого пожара, уничтожившего большинство стенных росписей, по сохранившего до наших дней часть деревянных архитектурных деталей: обгорелые и обуглившиеся, они благополучно пролежали двенадцать веков под рухнувшими на них остатками глиняной кровли и верхушками сырцовых стен. Второй же храм был заброшен, и его деревянные архитектурные детали превратились в прах, но зато ни ветры, ни дожди не смогли сделать здесь того, что в первом храме сделал пожар: не смогли уничтожить стенных росписей. Так, благодаря удачному для археологов стечению обстоятельств здесь были получены данные, достаточные для убедительной реконструкции согдийских храмовых построек (рис. 91).
Рис. 91. Второй пенджикентский храм (реконструкция)
Оба пенджикентских храма выходили на центральную площадь древнего города, на восток, навстречу первым лучам восходящего солнца, обожествленного в образе грозного и милостивого, могучего и праведного Митры, старого языческого божества, известного еще в «Авесте» и почитаемого как в Кушанском и Парфянском царствах, так и в пределах Римской империи: римские легионеры, переняв этот культ у парфян, донесли его до далеких Британских островов. Каждый храм имел три входа, ведущих с площади в большой храмовый двор. Каждый вход был оформлен открытым колонным портиком-айваном. Средний айван, в котором находился, очевидно, основной вход в храмовый комплекс, в северном пенджикентском храме оказался украшенным глиняными рельефами, притом столь неожиданными, что их открытие сначала всерьез озадачило исследователей. Рельефы тянулись вдоль всего айвана, переходя с одной стены на другую и разрываясь лишь в центре дверным проемом. Снизу рельефы доходили до поверхности суфы, окаймляющей все помещение! и подымались до самой верхушки сохранившихся остатков стен. Лучше дошла до нас левая, южная половина рельефов. Здесь, начиная от края южной стены почти до самого входа, располагалась единая композиция: водный простор со спиральными завитками волн, ограниченный слева и справа бугристыми берегами (в древности передача воды была подчеркнута раскраской в синий цвет; однако сейчас от этой краски сохранились лишь слабые следы). В воде плавают всевозможные существа. Здесь и человеческие фигуры, и различные рыбы, и дельфины, и морское божество с трезубцем в руке, как бы встающее из вод. Особенно же выразительны страшный дракон с разинутой пастью, высунувший голову из подводного грота (у левого края рельефа), и могучий тритон, фантастическое существо с телом человека и плавниками вместо ног (правее головы дракона) (рис. 92).

Рис. 92. Тритон и голова дракона. Часть глиняного рельефа из пенджикентского храма

Рис. 93. Фигура с подставкой. Часть глиняного рельефа из пенджикентского храма
Правее описанной сцены, неподалеку от входа в храмовый комплекс, из суфы по пояс выступала фигура человека, поддерживавшего какую-то громоздкую подставку (рис. 93). Остатки второй подобной фигуры были найдены и по другую сторону от двери. По-видимому, оба эти изображения служили украшением входа: на подставках скорее всего размещались фигурки, держащие в протянутых навстречу друг другу руках венок или ветви, которые венчали наличник двери (сходные композиции оформления входа известны во многих памятниках эллинистического Востока). В целом рельефы входного айвана пенджикентского храма с первого взгляда действительно производят впечатление чего-то совершенно чуждого и непонятного для раннесредневековой Средней Азии. Ведь дельфины водятся лишь в морях, удаленных от Пенджикента и Согда на тысячи километров, а образы морских божеств и тритона ведут нас в античную мифологию. Да и в изображении фигуры с подставкой, в передаче руки, ключиц, складок одежды четко проступают античные художественные приемы. В чем же здесь дело? Разгадка, однако, вскоре была найдена. Как это выяснил А. М. Беленицкий, рельефы такого же характера встречались и в Индии. Так, там известен, например, каменный рельеф IV–V вв., по сюжету, композиции и стилю сходный с пенджикентским. Эти индийские находки, а также уже знакомые нам открытые в Хорезме глиняные статуи как бы протягивают непрерывную нить от кушанского искусства Индии и Средней Азии I–III вв. к пенджикентскому глиняному фризу VI–VIII вв., который в свою очередь свидетельствует, что в Согде еще в период раннего средневековья были живы кушанские культурные традиции и художественные образы, восходящие к непревзойденным образцам античного искусства. Индийские находки позволили объяснить и назначение пенджикентских изображений. Дело в том, что упоминаемый выше каменный рельеф, как это видно из надписей, был посвящен божествам вод индийских рек Ганга и Джамны. По аналогии с ним можно предполагать, что скульптурные глиняные изображения на стенах входного айвана пенджикентского храма были посвящены божеству вод «многочтимой реки Согда» (т. е. Зеравшана), протекающей возле Пенджикента, Самарканда и Бухары и по сей день орошающей оазисы центральной части среднеазиатского междуречья. За айваном с раскрашенными глиняными рельефами находилась входная дверь, ведущая внутрь храмового комплекса, в большой двор, огражденный каре стен и различных помещений. Вдоль внутренних стен двора тянулись высокие суфы. защищенные от палящего солнца всевозможными навесами и тентами- Здесь, по-видимому, был своеобразный форум древнего Пенджикента: место, где можно было посидеть, услышать последние распоряжения властей, обсудить новости. В центре двора располагался хауз — водоем, обсаженный деревьями, в зеркальной водной глади которого отражались стройные колонны и расписные стены основной храмовой постройки. Сама эта постройка была поднята на высокую платформу, с широким айваном, в глубине которого был виден открытый на восток четырехколонный зал (этот зал пе имел восточной стены и как бы сливался с айваном здания). В задней стене зала помещалась дверь, ведущая в «святая святых» — замкнутую комнату святилища, где стояла, очевидно, статуя божества. По сторонам же от этой двери, как будто охраняя ее, в глубоких стенных нишах стояли какие-то глиняные изваяния; до нас они, к сожалению, не дошли, и мы можем судить о них лишь по отдельным мелким находкам. Капители колонн (а возможно, и стволы их), балки и подбалки деревянной кровли были покрыты тонкой резьбой и раскрашены яркими красками. И в тон деревянным архитектурным деталям сквозь пролеты колонн четко виднелись покрывавшие все плоскости стен, и айвана, и зала красочные стенные росписи. Большая их часть безвозвратно погибла, но и то, что дошло до нас, свидетельствует о необычном обилии и разнообразии росписи. И не зря, конечно, М. М. Дьяконов назвал как-то древний Пенджикент «морем согдийской живописи».

Рис. 94. «Сцена оплакивания». Роспись из пенджикентского храма (прорисовка)
Вот перед нами, например, одна из наиболее известных пенджикентских росписей, так называемая «сцена оплакивания» (рис. 94). Глядя на нее, невольно вспоминаешь куда менее профессиональные, менее изящные и менее изощренные, но столь же выразительные «сцены оплакивания» на оссуариях из Ток-калы. Покойник (или покойница) также помещен здесь в центре композиции, в специальном погребальном павильоне или шатре. За ним, как в росписях ток-калинских оссуариев, виднеется стена здания (или города). Вокруг покойного истязают себя плакальщицы и плакальщики: одни рвут на себе волосы, другие надрезают мочки ушей, третьи царапают щеки. Но вглядимся повнимательнее в изображенных людей. Часть из них — светлокожие, с овальными лицами, — несомненно согдийцы. Лица других выкрашены в желто-коричневый цвет, в них подчеркнуты выступающие скулы и удлиненные раскосые глаза. Это, по-видимому, тюрки и другие пароды монголоидного типа. Усопшего (или усопшую) оплакивают, таким образом, обе известные согдийскому художнику человеческие расы: европеоиды и монголоиды, т. е. весь известный ему мир. О том, что перед нами не простой умерший, свидетельствуют и фигуры божеств, также принимающих участие в этой «всемирной скорби». Их изображения помещались слева и справа от центральной группы. Справа находились божества мужские (эта часть росписей сохранилась плохо), слева — женские. Их изображения по размеру заметно превышают фигуры людей. Вокруг их голов видно сияние — нимб, а у самого правого из женских божеств из одного плеча выходят две руки: эта богиня явно представлялась многорукой. Кого же это оплакивает вся согдийская вселенная: согдийцы и тюрки, боги и богини? В разных предположениях на этот счет недостатка нет, но скорее всего в росписи пепджи-кентского храма изображено все-таки оплакивание местного полубога-полугероя, олицетворяющего вечно умирающую и всегда возрождающуюся вновь природу, а сам храм с рельефами, посвященный водным богам, с росписью, изображающей оплакивание «умирающей» природы, с айванами и центральным залом, открытыми первым лучам восходящего солнца, был сооружен для отправления древнего языческого культа — поклонения обожествленным силам природы. С высоты храмовой платформы, из тенистого айвана основной постройки была хорошо видна центральная городская площадь, а за нею — огромный, вытянувшийся с севера на юг вдоль ее восточного края массив разноэтажных жилых построек. Это так называемый «объект III» (каждое здание, раскапываемое в Пепджикенте, получает такое условное обозначение: рассмотренные нами храмы — «объекты I и II»; жилой квартал знати в юго-восточной части городища, у самой крепостной степы — «объект VI»), Каждый из жилых объектов с первого взгляда представляет собой бессистемное нагромождение различных помещений. Но при более внимательном подходе в каждом из них можно различить определенные группы комнат, составляющие изолированные друг от друга жилые комплексы, нечто вроде современных квартир. В состав такой «квартиры» знатного пенджикентца обязательно входили большой парадный зал, своеобразная гостиная, помещение с винтовой лестницей или пандусом, ведущим в комнаты второго этажа и на крышу, и, наконец, до десятка сводчатых коридорообразных помещений. Среди последних были высокие и довольно широкие (до 4 м в ширину) парадные коридоры и кладовые с вкопанными под пол огромными глиняными сосудами-хумами, и небольшие, плохо освещенные, каморки для слуг или рабов.

Рис. 95. Девушка и юноша на конях. Роспись из Пенджикента
Большие парадные коридоры часто служили прихожими для парадного зала. Вдоль их стен тогда размещались суфы, на которых в ожидании приема коротали время терпеливые гости или просители. Стены и сводчатые потолки таких помещений нередко были украшены росписями. Так, в одном из коридоров объекта III сохранилась чудесная живописная сцена — знатные юноша и девушка верхом на конях (рис. 95). Они едут рядом, стремя в стремя, эти ожившие перед нами согдийцы VII–VIII вв. Девушка держится свободно и независимо. Именно так и должна была выглядеть согдийская женщина, для которой составлялся брачный контракт, сходный с мугским договором уже знакомой нам Дугдончи. Это изображение, ныне выставленное в одном из залов Эрмптажа, в здании бывшего Зимнего дворца русских царей, пленяет изяществом рисунка и сдержанностью цветовой гаммы: художник использует только две краски — черную и белую, уверенно нанося ими контур по матово-красному фону. Это изображение заметно отличается от многоцветных, а часто и пестрых росписей других парадных коридоров и залов.

Рис. 96. Парадный зал в доме знатного пенджикентца (реконструкция)
Несколько сводчатых помещений ведет к широкому арочному проему, открывающемуся в парадный зал. В древности такие проемы скорее всего были завешены тканью. Самый зал был, вероятно, светлым, залитым солнечными лучами, богато украшенным покоем (рис. 96). Вход располагался посредине одной из степ, а слева и справа от пего тянулись широкие суфы, покрытые плотными тканями или коврами. Прямо напротив входа суфа расширялась, образуя площадку — почетное сиденье для хозяина и наиболее уважаемых гостей. Стены зала снизу доверху покрывала многокрасочная роспись, а стройные деревянные колонны и плоскую кровлю украшала разнообразная резьба. Где-то здесь же стояли еще и деревянные резные статуи. Некоторые из них сохранились. Среди таких удачных находок была статуя танцовщицы, напоминающая индийские скульптуры (рис. 97). Танцовщица изогнулась, положила на бедро левую руку (от руки, правда, сохранилось лишь плечо и длинные тонкие пальцы) и, очевидно, подняла вверх правую. Ее фигуру украшали ожерелья и подвесные бубенчики, а вокруг бедер были обвиты, вероятно, разноцветные ленты. Сейчас танцовщица черна, как уголь; да она и на самом деле обуглена. Ее нашли в одном из залов объекта III, погибшем в огне пожара. И именно огонь спас для нас это замечательное произведение древнего согдийского резчика. Не будь статуя обуглена, она не пролежала бы во влажной пенджикентской земле и нескольких столетий. Она бы сгнила, и на том месте, где она стояла, археологи нашли бы лишь горсть праха.

Рис. 97. Резная деревянная статуя из Пенджикента
Иначе обстоит дело с открытой в Пенджикенте настенной живописью. Всюду, где в грозные дни прошлого бушевали пожары, от живописи остались лишь жалкие следы. Зато в тех парадных помещениях, до которых огонь пе добрался, удалось расчистить многие метры стенных росписей. Особенно богатым росписями оказался объект VI, заброшенный, вероятно, после событий начала 20-х годов VIII в., но не затронутый пожарами. Стены помещений этого объекта, как и всех остальных зданий древнего Пенджикента, возведены из обычного для Средней Азии той эпохи материала — кирпича-сырца и пахсы, нарезанной обычно на крупные блоки. На эти стены наносилась глиняная штукатурка. Ее покрывали тонким слоем гипса, служившего основой для росписей. В наше время сохранить такие росписи оказалось чрезвычайно трудно — вскоре после вскрытия они начинали сохнуть и блекнуть. Когда в 1947 г. при раскопках первого пенджикентского храма — объекта I были открыты первые куски стенных росписей, А. Ю. Якубовский напомнил, как погибла живопись, найденная в 1913 г. в Самарканде: она рассыпалась вскоре после вскрытия, и лишь беглый набросок художника, присутствовавшего при раскопках, дает о ней некоторое представление. Для того чтобы сохранить пенджикентскую живопись, пришлось много и упорно поработать реставраторам Эрмитажа во главе с П. И. Костровым. Приехав в Пенджикент, этот крупный специалист и страстный энтузиаст своего дела разработал сложный метод работы с росписями. Острым скальпелем и мягкой кисточкой расчищали реставраторы каждый сантиметр росписей, пропитывая их специальными химическими составами. Сохранить росписи было нелегко, по еще сложнее было снять их со степ и отдельными кусками доставить для дальнейшей обработки в реставрационные мастерские Эрмитажа. Предосторожности оказались далеко не напрасными, ибо даже под крышей музея росписи ожидала новая, страшная опасность. Выяснилось, что в стенах пенджикентских зданий скопилось большое количество подпочвенных солей, и, когда куски штукатурки были вынуты из земли, эти соли под воздействием колебаний влажности и температуры начали выступать на поверхность росписей. Соли проступали из малейших трещин в штукатурке, разрастаясь кристалл за кристаллом в виде микроскопических кустиков, грозя разорвать красочный слой и уничтожить живопись. Тогда на помощь реставраторам пришли химики. Сейчас при реставрационной мастерской П. И. Кострова создана лаборатория электродиализа, где установлено специальное оборудование, с помощью которого через древнюю штукатурку пропускается электрический ток, удаляющий соли без вреда для живописи. Но вернемся к парадному залу в доме знатного горожанина древнего Пенджикента и рассмотрим красочное убранство его стен, точнее композиционные принципы дошедших до нас образцов стенных росписей. Сопоставление остатков росписей в парадных залах объектов III и VI (а таких залов раскопано уже более десятка) не оставляет сомнения, что живопись в них размещалась по одному твердо установленному канону. Центром композиции всегда служила огромная, во всю высоту стены, фигура какого-то персонажа, сидящего на своеобразном троне в виде лежащего льва. К сожалению, росписи в центральных частях стен сохранились хуже, чем в углах, и до нас недошло ни одного достаточно полного изображения этого центрального персонажа. Поэтому мы можем лишь гадать, было ли это изображение передачей какого-то божества, мифического предка обитавшей в данной «квартире» семьи или какого-либо царя или героя. Помещалось же такое изображение всегда над «почетным сиденьем», непосредственно напротив входа. Здесь же, по сторонам от центрального изображения, размещались две фигуры музыкантов. Одной из таких картин была знаменитая «пенджикентская арфистка» (рис. 98): на матово-черном фоне необычайно изящно изображена стоящая в полный рост женщина, которая играет на изогнутой арфе. Все же остальные поверхности стен снизу доверху были заняты тянувшимися широкой лентой живописными полосами-ярусами, состоящими из серий рисунков, связанных между собой единым сюжетом. Эти красочные повествования во всех открытых залах рассказывают примерно об одном и том же: о боевых подвигах, победных пиршествах и торжественных приемах. Но нельзя не отметить, что герои этих повествований в каждом зале свои собственные, отличные от изображенных в других залах. Это, по-видимому, не случайно, и мы вправе предполагать, что росписи зала были по сюжету связаны с семьей, живущей в том или ином жилом комплексе («квартире»), повествуя о подвигах ее предков или покровителей.

Рис. 98. «Арфистка». Роспись из Пенджикента
Лучше всего повествовательный характер пенджикентских росписей виден в так называемом «синем зале» объекта VI, где изображения были нанесены на синий, лазуритовый фон. В этом зале остатки росписей сохранились на всех стенах, причем в северо-западном углу росписи достигали высоты более чем 3,5 м над поверхностью суфы. Здесь и сейчас видны остатки трех сюжетных ярусов живописи (высотой примерно 1 м каждая), отделенных друг от друга пояском крупных белых перлов по черному фону. Кроме того, по низу стен, непосредственно над суфой, тянется невысокий (до 60 см высотой) нижний ярус-бордюр, который также состоял из ряда сюжетных сцен. Наиболее хорошо сохранился первый (не считая нижнего бордюра) ярус живописи, начинавшийся слева от входа в зал и состоявший из идущих одна за другой сцеп, которые занимали левую (северную) часть входной (западной) стены, всю северную стену и левую (северную) половину восточной стены, доходя до размещавшейся на этой стене центральной композиции (с огромной фигурой и музыкантами). Все эти сцены повествуют о подвигах какого-то еще неведомого нам сказочного богатыря. В первой из них герой верхом на гнедом коне, во главе небольшой дружины, направляется вправо, навстречу опасностям и подвигам. На том же коне, с тем же вооружением и в той же одежде мы видим этого витязя и во всех остальных сценах. Вот правее, в углу, он схватился в единоборстве с другим всадником: тот поднял над головой обнаженный меч, но герой набросил на него аркан и вот-вот сбросит его наземь. В двух следующих сценах витязь сражается с фантастическим чудовищем, частым персонажем народных сказаний. Это крылатый дракон с головой льва, телом змеи и человеческими руками. Более того, он, видимо, еще и огнедышащий; во всяком случае, из ран на его теле вырываются языки пламени. В первой из этих сцен (рис. 99) дракон как будто бы побеждает: своим змеиным телом он обвил ноги богатырского коня, а самого витязя схватил за плечи. Однако все, конечно, окончилось благополучно: в следующей сцене дракон изображен поверженным ниц, а витязь — гордо скачущим вперед, на новые подвиги. В северо-восточном углу «синего зала» сохранилась сцепа еще одного подвига: схватка с демонами-дивами (рис. 100). Согдийский художник изобразил этих свирепых существ в полном соответствии с народными легендами. На голове у чудовищ рога, ноги у них козлиные, в волосах у одного из демонов человеческий череп, в носу у другого — большое кольцо. Особенно свирепы выражения лиц у двух демонов, летящих в бой на крылатой двухколесной колеснице.

Рис. 99. Бой героя с драконом. Часть росписи «синего зала» в Пенджикенте

Рис. 100. Демоны. Часть росписи «синего зала» из Пенджикента
Если подняться на восточную стену древнего Пенджикента, то с ее вершины будут хорошо видны разбросанные к востоку от шахристана отдельные дома и усадьбы пенджикентского пригорода, а к югу от них, по обе стороны дороги на Кош-тепе, — однокомнатные погребальные склепы-наусы. Раскопки в пригороде открыли немало интересных сооружений: винодельню, стекольную мастерскую и т. п. Исследование же пенджикентского некрополя привело к открытию большого числа наусов с оссуариями, дарственными сосудами и другим инвентарем. Но обо всем не расскажешь! Тогда надо было бы рассказать и о многом другом: о находке в одном из домов, к югу от центральной площади, нескольких десятков глиняных печатей, некогда скреплявших какие-то документы, сгоревшие при пожаре, и о надписях на глиняных сосудах, в том числе о процарапанной по сырой глине до обжига сосуда индийской надписи, и о системе канализации, состоявшей из линий гончарных труб, найденных во дворе второго пенджикентского храма. А. ведь Пенджикент хотя и наиболее изученный, но все же далеко не единственный памятник согдийской культуры, раскапываемый советскими археологами. Он также и не единственный «поставщик» памятников изобразительного искусства древнего Согда. Наряду с ним, например, огромное научное и художественное значение имеет городище Варахша, лежащее на противоположном, западном краю долины Зеравгаана; на этом городище экспедиция Академии наук Узбекской ССР во главе с В. А. Шишкиным открыла стенные росписи, не только не уступающие, но в ряде моментов даже превосходящие по качеству исполнения живопись древнего Пенджикента. Говоря о росписях и скульптуре Согда, следовало бы упомянуть также о других находках: Л. И. Альбаумом — живописи в замке Балалык-тепе в северном Тохаристане, Н. Н. Негматовым — великолепного резного дерева в сел. Шахристан в древней Уструшане, В. А. Булатовой и И. Ахраровым — интересной глиняной скульптуры буддийского храма в Куве в Фергане. Следовало бы, конечно, рассказать и об открытых на далеком северо-востоке Средней Азии, в долине реки Чу в Семиречье, буддийских храмах, и о христианской церкви на городище Ак-Бешим, построенных, по-видимому, согдийскими колонистами. Но обо всем этом, наверное, будет сказано в другой раз и в других книгах.
(Вместо заключения)
На перекрестке мировых путей

История встает во весь свой рост И смотрит в окна ваших светлых комнат.В предыдущих главах мы рассказали о тех новых сведениях и находках, которые были получены нашей наукой, и тех выводах, к которым она пришла, изучая историческое прошлое народов Средней Азии. Попробуем подвести некоторые итоги. Раскинувшаяся между Памиром и Каспием, к югу от бескрайних казахских степей, советская Средняя Азия была, как мы видели, одним из древнейших центров цивилизации на территории нашей страны. Будучи освоена первобытными людьми еще в эпоху древнекаменного века (палеолита), Средняя Азия в IV–III тысячелетиях до н. э. стала родиной древнейших в СССР оседлых земледельцев, чьи поселения в южной Туркмении представляли собой крайний северо-восточный форпост великих передневосточных цивилизаций. В период грандиозных изменений в жизни древнего человечества, в конце эпохи бронзы и начале железного века, в то время когда в начале I тысячелетия до н. э из среды оседлых земледельцев, собирателей и охотников выделился большой массив кочевых племен, родственные скифам северного Причерноморья и ранним кочевникам Южной Сибири саки, массагеты и другие кочевники распространились по степным просторам южного Казахстана и северной Киргизии, по горным пастбищам Тянь-Шаня и Памиро-Алая, проникнув на безжизненное высокогорное плато Памира. Когда же в VI в. до н. э. на Ближнем Востоке возникла первая в истории человечества «мировая держава» — древнеперсидское (ахеменидское) «царство стран», то уже ее основатель, легендарный Кир, на пути к мировому господству наряду с вавилонянами и египтянами должен был сокрушить и среднеазиатские народы: бактрийцев (населявших современный северный Афганистан и южные районы Узбекской и Таджикской ССР), согдийцев (жителей центральных районов Узбекистана и Таджикистана), хорезмийцев (обитателей низовьев Аму-Дарьи, в современных северной Туркмении, Кара-Калпакии и Хорезмской области Узбекистана), парфян и маргианцев (в южном Туркменистане) и упомянутых ранее кочевников среднеазиатского Севера и Востока. И хотя этот жестокий завоеватель и талантливый полководец нашел себе смерть именно в Средней Азии, в битвах с кочевниками, ее основные области вошли в состав созданной им империи и вместе с другими покоренными странами участвовали и в сооружении грандиозных дворцов Персеполя, Суз и Пасаргад, и в бесславных походах на материковую Грецию. Вместе с другими народами «царства стран» пережили они и завоевания Александра Македонского, сокрушившего в последней трети IV в. до н. э. Ахеменидскую державу и пытавшегося продвинуться из Средней Азии и современного Афганистана дальше на юго-восток, на завоевание Индии. Бывшая в течение тысячелетий местом столкновения переднеазиатской цивилизации с культурными традициями массива племен Великого Евразийского степного коридора, Средняя Азия после походов Александра служит также мостом между двумя этими мирами и цивилизацией Индии. И когда после окончательного распада империи Александра в Бактрии образуется чрезвычайно своеобразное государство во главе с греческими царями, то эти «греко-бактрийские государи», переступив через Гиндукуш и завоевав Северную Индию, не только вступают во всевозможные контакты с владетелями Ирана и Ближнего Востока, индийскими раджами и племенными вождями северных кочевников, но и устанавливают какие-то не совсем еще ясные для нас связи с оазисами Восточного Туркестана, а уже в конце II в. до н. э. прокладывают караванный путь из Средней Азии в Китай. В первые века нашего летосчисления, когда все передовые в культурном отношении области Евразии, от Британских островов до берегов Тихого океана, оказываются под властью четырех империй, поддерживающих между собой постоянные и сложные политические, торговые и культурные связи, Средняя Азия входит в состав двух таких империй, возглавленных выходцами из ее южных областей: Парфянского царства и Кушанской державы. И хотя центр первой из них сразу же после ее образования переместился в северный Иран, а затем в Месопотамию, а политическое ядро второй в эпоху ее расцвета находилось уже к югу от Гиндукуша, среднеазиатские области играют в это время заметную роль и в мировой торговле, и в мировой политике, и в мировых культурных связях. Через среднеазиатские земли пролегает Великий Шелковый путь, протянувшийся до столицы Китая. Среднеазиатские области участвуют в разносторонних контактах с кушанской Северной Индией и в то же время — в сношениях с римским миром: степные дороги соединяют Среднюю Азию с античными городами северного Причерноморья, караванный тракт через Парфию — с Месопотамией и Сирией, водные пути из морских ворот Кушанского царства — западных портов Индии — с завоеванным римлянами Египтом. К далеким лесным племенам Приуралья проникают тогда из Средней Азии, в обмен на пушнину, металлические сосуды, а монеты знаменитого кушанского царя Канишки попадают не только в Прикамье, но и в далекое Приднепровье. Не прекращается участие среднеазиатских народов в истории культурных и торговых связей и после гибели древнего мира, когда на руинах четырех «мировых империй» древности возникают новые государственные образования. Выдвинутый далеко на северо-запад Хорезм продолжает поддерживать контакты с народами Восточной Европы и Урала, а «финикияне Средней Азии» — согдийцы по-прежнему водят свои караваны на Дальний Восток, в Иран и в Индию, пытаются через степи северного Прикаспия и южной России установить связи с Византийской империей. Как и ранее, жители Средней Азии чувствуют себя на перекрестке мировых путей, жадно вбирая в свои культуру и искусство культурные и художественные достижения многих народов Запада и Востока, Юга и Севера, и в свою очередь щедро знакомят их со своими достижениями. И как символ Средней Азии того времени, высится возле древней Кушании чудесное здание, поразившее китайского летописца, здание, на северной стене которого «красками написаны императоры Срединного государства [Китая], на восточной — тюркские ханы и индийские владетели, на западной — государи Босы [Персии] и Фолинь [Рима]». И нельзя не согласиться с акад. В. В. Бартольдом, когда он, анализируя это сообщение, писал: «Такого города, где в одном и том же здании находились бы изображения государей Рима, Персии, Средней Азии, Китая и Индии, наверное, не было ни в какой другой стране». Такова общая картина истории Средней Азии до периода арабского завоевания. В этой картине еще немало пробелов, да и то, что кажется нам сейчас ясным, не всегда доказано с достаточной убедительностью. Многие находки ждут еще своего объяснения, многие памятники предстоит еще открыть. Впереди новые полевые сезоны, новые исследования и новые открытия.П. Антокольский
КАРТЫ
1. Южная Туркмения в эпоху неолита и бронзы. 2. Средняя Азия и древний Восток в VII–V тысячелетиях до н. э. 3. Средняя Азия и древний Восток в IV–III тысячелетиях до н. э. 4. Ахеменидское царство 5. Царство Селевкидов 6. Парфянское царство 7. Древний мир во II–IV вв. н. э.





СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
К введению
А. Н. Бернштам, Среднеазиатская древность и ее изучение за 30 лет, — ВДИ, 1947, № 3. А. Н. Бернштам, Советская археология Средней Азии, КСИИМК, вып. 28, 1949. Б. А. Литвинский, Археологическое изучение Таджикистана советской наукой, Сталинабад, 1954. Б. А. Лунин, Из истории русского востоковедения и археологии в Туркестане. Туркестанский кружок любителей археологии (1895–1917), Ташкент, 1958. М. Е. Массон, Краткий очерк истории изучения Средней Азии в археологическом отношении (ч. 1), — Труды САГУ, вып. 81, Ташкент, 1956. С. П. Толстов и В. А. Шишкин, Археология, Сб. «25 лет советской науки в Узбекистане», Ташкент, 1942. A. Ю. Якубовский, Из истории археологического изучения Самарканда, — ТОВЭ, т. II, Л., 1940.К главе I
B. М. Массон, Энеолит южных областей Средней Азии, ч. 1, «Свод археологических источников», М.—Л., 1962. В. М. Массон, Средняя Азия и древний Восток, М.—Л., 1964. В. И. Сарианиди, Энеолит южных областей Средней Азии, ч. IV, «Свод археологических источников», М.—Л., 1965. И. Н. Хлопин, Энеолит южных областей Средней Азии, ч. II, «Свод археологических источников», М.—Л., 1963. И. Н. Хлопин, Геоксюрская группа поселений эпохи энеолита, М. — Л., 1964.* * *
В. М. Массон, Древние земледельцы на юге Туркменистана, Ашхабад, 1959.К главе II
Б. А. Литвинский, Средняя Азия в составе Селевкидского государства, ИТН, т. 1. Ю. А. Рапопорт и М. С. Лапиров-Скобло, Раскопки дворцового здания на городище Калалы-Гыр I в 1958 г., — Мат. ХЭ, выл. 6, М., 1963. В. Я. Ставиский и В. А. Лившиц, Средняя Азия под властью Ахеменидов, ИТН, т. 1. B. В. Струве, Восстание в Маргиане при Дарии I, — ВДИ, 1949, № 2. C. П. Толстов, По следам древнехорезмийской цивилизации, М. — Л., 1948. С. П. Толстов, По древним дельтам Окса и Яксарта, М., 1962. К. В. Тревер, Памятники греко-бактрийского искусства, М.—Л., 1940.* * *
М. М. Дьяконов, У истоков древней культуры Таджикистана, Сталинабад, 1956.К главе III
К. А. Акишев, Культура саков долины реки Или (VII–IV вв. до н. э.), в кн.: К. А. Акишев и Г. А. Кушаев, Древняя культура саков и усуней долины реки Или, Алма-Ата, 1963. A. Н. Бернштам, Историко-археологические очерки центрального Тянь-Шаня и Памиро-Алая (МИА СССР, № 26), М.—Л., 1952. B. А. Литвинский, Археологические открытия на Восточном Памире и проблема связей между Средней Азией, Китаем и Индией в древности (XXV Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР), М., 1960.* * *
А. Н. Бернштам, В горах и долинах Памира и Тянь-Шаня, сб. «По следам древних культур. От Волги до Тихого океана», М., 1954.К главе IV
И. М. Дьяконов и В. А. Лившиц, Документы из Нисы I в. до н. э. Предварительные итоги работы (XXV Международный конгресс востоковедов), М., 1960. М. Е. Массон, Народы и области южной части Туркменистана в составе Парфянского государства, — «Труды ЮТАКЭ», т. V, Ашхабад, 1955. М. Е. Массон и Г. А. Пугаченкова, Мраморные статуи парфянского времени из Старой Нисы, — «Ежегодник Института истории искусств. 1956», М., 1957. М. Е. Массон и Г. А. Пугаченкова, Парфянские ритоны Нисы (Труды ЮТАКЭ, т. IV), Ашхабад, 1959. Г. А. Пугаченкова, Пути развития архитектуры южного Туркменистана поры рабовладения и феодализма (Труды ЮТАКЭ, т. VI), М»1958. Труды ЮТАКЭ, т. I–II, Ашхабад, 1949–1953.* * *
Г. А. Пугаченкова, Старый Мерв. Путеводитель по городищам и памятникам, Ашхабад, 1960.К главе V
Т. В. Грек, Е. Г. Пчелина, Б. Я. Ставиский, Кара-тепе — буддийский пещерный монастырь в Старом Термезе, М., 1964. М. Е. Массон, Происхождение безымянного «царя царей, великого спасителя», Труды САГУ, вып. XXIII, Ташкент, 1951. М. Е. Массон, Находка фрагмента скульптурного карниза первых веков н. э., Ташкент, 1933. Г. А. Пугаченкова, К иконографии Герая (О некоторых вопросах раннекушанской истории), — ВДИ, 1965, № 1. Б. Я. Ставиский, Средняя Азия в кушанский период, ИТН, т. 1. Б. Я. Ставиский, Средняя Азия, Индия, Рим. К вопросу о международных связях в кушанский период, сб. «Индия в древности», М., 1964. См. также указанные выше работы: С. П. Толстов, По следам древнехорезмийской цивилизации; его же, По древним дельтам Окса и Яксарта; К. В. Тревер, Памятники греко-бактрийского искусства.* * *
М. Е. Массон, Скульптура Айртама, — жури. «Искусство», 1935, № 2. Г. А. Пугаченкова, Скульптура Халчаяна, — журн. «Искусство», 1964, № 6.К главе VI
А. В. Гудкова, Ток-кала, Ташкент, 1964. С. П. Толстов, Древний Хорезм, М., 1948. С. П. Толстов и В. А. Лившиц, Датированные надписи на хорезмийских оссуариях с городища Ток-кала, — СЭ, 1964, № 2. Труды ХЭ, т. I–II, М., 1952–1958. См. также указанные выше работы С. П. Толстова: «По следам древнехорезмийской цивилизации» и «По древним дельтам Окса и Яксарта».* * *
С. П. Толстов, Древний Хорезм, сб. «По следам древних культур», М., 1951.К главе VII
Сб. «Живопись древнего Пенджикента», М., 1954. Сб. «Скульптура и живопись древнего Пенджикента», М., 1959. О. И. Смирнова, Каталог монет с городища Пенджикент, М., 1963. Согдийский сборник, Л., 1934. Согдийские документы с горы Муг, вып. I–III: а) А. А. Фрейман, Описание, публикации и исследования документов с горы Муг, М., 1962. б) В. А. Лившиц. Юридические документы и письма, М., 1962. в) М. И. Боголюбов и О. И. Смирнова, Хозяйственные документы, М., 1963. Труды ТАЭ, т. I–IV (МИА СССР, № 15, 37, 66 и 124), М.—Л., 1950–1964.* * *
А. М. Беленицкий и Б. Я. Ставиский, Новое о древнем Пенджикенте, сб. «Археологи рассказывают», Сталинабад, 1959. А. Ю. Якубовский, Древний Пянджикент, сб. «По следам древних культур», М., 1951. См. также указанную выше книгу М. М. Дьяконова «У истоков древней культуры Таджикистана».СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВДИ — «Вестник древней истории» ИТН. т. 1 — История таджикского народа, т. 1, М., 1963 КСИИМК — «Краткие сообщения Института истории материальной культуры Академии наук СССР» Мат. ХЭ — Материалы Хорезмской экспедиции МИА СССР — «Материалы и исследования по археологии СССР» САГУ — Среднеазиатский государственный университет СЭ — Советская этнография ТАЭ — Таджикская археологическая экспедиция ТОВЭ — «Труды Отдела востока Государственного Эрмитажа» ХЭ — Хорезмская экспедиция ЮТАКЭ — Южно-Туркменистанская археологическая комплексная экспедиция.INFO
Борис Яковлевич Ставиский МЕЖДУ ПАМИРОМ И КАСПИЕМ (Средняя Азия в древности)
Утверждено к печати Секцией восточной литературы РИСО Академии наук СССР
Редактор Н. Б. Бондырева Художник Л. С. Эрман Художественный редактор И. Р. Бескин Технический редактор Л. Т. Михлина Корректоры А. Ю. Давыдова и Г. В. Стругова
Сдано в набор 27/VII 1965 г. Подписано к печати 28/II 1966 г. А-01439. Формат 84 × 108/32 Печ. л. 10,25 + 0,5 п. л. вкл. Усл. п. л. 18,06 Уч. изд. л. 17,86, тип. заказ 3027 Тираж 7000 эка. Изд. № 1382 Цена 90 коп.
Главная редакция восточной литературы издательства «Наука» Москва, Центр, Армянский пер., 2
2-я типография издательства «Наука» Москва Г-99, Шубинский пер., 10
Последние комментарии
45 минут 15 секунд назад
53 минут 30 секунд назад
7 часов 5 минут назад
7 часов 9 минут назад
7 часов 20 минут назад
7 часов 26 минут назад